Николай Феоктистович Шубкин Повседневная жизнь старой русской гимназии Из дневника словесника Н. Ф. Шубкина за 1911–1915 годы
Предисловие
В современном мире насчитывается свыше пятидесяти тысяч профессий. Каких тут только нет: и сохранившихся от первобытно-общинного строя, и вызванных к жизни прихотями и потребностями людей, и порожденных научно-технической революцией. Среди них занятия, задача которых создавать, хранить и передавать из поколения в поколение духовные ценности. В этой группе одна из главных — профессия словесника, преподавателя русской литературы.
Урок литературы — это урок эстетики, первое прикосновение человека к пониманию мира красоты. Урок конкретного обществоведения, который дает возможность осознать связь своей жизни с судьбами народа. Урок эстетики, который ненавязчиво позволяет ощутить свою причастность к боли, местам, духовным потрясениям людей, прошедших по этой земле до тебя, и тем самым пробуждает и укрепляет совесть — ядро нравственного самосознания.
Социальное, эстетическое, нравственное. В гармоничном утверждении этих начал в человеке — ключ к пониманию истинного назначения словесника.
Автор публикуемого дневника — Николай Феоктистович Шубкин с 1907 по 1937 г. преподавал литературу и русский язык в гимназиях и средних школах города Барнаула. Он родился в 1880 г. в семье землемера-самоучки из алтайских горнорабочих. Его отец, видимо, был человеком деятельным, ибо после освобождения от крепостной зависимости по реформе 1861 г. выучился, стал землемером — должность по тем временам нужная и важная — и был даже удостоен звания почетного гражданина города Барнаула.
Однако его жалованье позволяло семье с трудом сводить концы с концами. За неимением у родителей средств на обучение Николай Шубкин, помечтав об университете, поступил в 1901 г. в Санкт-Петербургскую духовную академию, где студенты получали стипендию, по отделению русского языка и литературы. В духовных академиях изучали не только богословские учебные дисциплины — такие как Священное писание, библейская история, догматическое и нравственное богословие, гомилетика, общая церковная история, история славянских Церквей и русской Церкви, церковная археология и литургика, история западных исповеданий, история русского раскола и др., но и историю, русскую литературу и ее историю, логику, психологию, педагогику, теорию словесности и историю иностранных литератур, русский и церковнославянский языки (с палеографией), философию и ее историю, немецкий, греческий, еврейский языки и т.п. Благодаря этому выпускники могли избрать духовную или светскую карьеру.
Н. Ф. Шубкин выбрал вторую и после окончания академии поступил преподавателем русской литературы в Барнаульскую женскую гимназию. Он высоко ценил общественное значение труда словесника. Этому были подчинены и дневники, которые он вел.
«Личный дневник» — наиболее оберегаемый им документ, где он касался вопросов интимных и духовных, пропал целиком. Из «Дневника отца», в котором он с удивлением и тревогой фиксировал все, что касалось особенностей развития детей, сохранились лишь отрывки. Много лет Н. Ф. Шубкин вел «Дневник словесника». В нашей семье сохранилось 8 общих тетрадей, охватывающих период с 1911 по 1915 г. Это специализированный дневник. Он характеризует главным образом профессиональную деятельность педагога. Духовные вопросы отец воспринимал как интимные и касался их только в своем личном дневнике. Нужно отметить, что все эти дневники он вел для себя. Он никогда о них не говорил и не предназначал для печати.
Перечитывая эти тетради теперь — спустя восемьдесят лет, — я подумал, что они, может быть, имеют определенную общественную ценность, поскольку детально и непредвзято характеризуют жизнь, проблемы и взгляды русского интеллигента в годы, о которых мы знаем, пожалуй, меньше, чем о начале XIX в.
«Дневник словесника» — это социологический документ. Для такого суждения есть веские основания. Дело не только в том, что он показывает, как осознавали себя, свою деятельность, свою «трапу русские интеллигенты тех лет. Немаловажно, что здесь речь идет о простых людях, «пролетариях умственного труда» в далекой сибирской глуши, которые каким-то безошибочным чутьем понимали, что, какова бы ни была эпоха, — это их эпоха и, какова бы ни была страна, — это их страна, что подобно тому, как крестьянину нельзя перестать выращивать хлеб, им нельзя прекращать учительствовать, обучать и воспитывать молодежь.
Россия и состояла из миллионов рассеянных по всей необъятной территории работящих, самостоятельных людей, которые жили своей жизнью и делали свое дело. Это важно подчеркнуть, ибо слишком мы приучились к социально-политическим дефинициям и ярлыкам. Забываем при этом, что часто эти расхожие словечки схватывают крайности, завихрения, а то и противотоки, «обратные течения» возле берегов. Их реальное воздействие на ход истории может быть равно отношению тончайшей затвердевшей корочки, на которой разместилась вся наша цивилизация, к гигантскому раскаленному телу Земли. Стержень, основной напор, определявший исторический поток, составлялся совсем не из самовыраженцев и честолюбцев, мелькавших на авансцене, а из миллионов людей, которые сеяли, пахали, рубили дома, добывали зверя и руду, растили детей, учили грамоте, обустраивали землю.
Это не только крестьяне, от которых пошли мы все, не только рабочие, руками которых создана наша внешняя жизнь — одежда, обувь, столы, кровати, дома, улицы, но и те, кто творил жизнь духовную. У них еще не произошло подмены цели средствами. Их интересовало реальное упорядочение и улучшение жизни — материальной, социальной, духовной. Они не очень заботились о том, чтобы прогреметь, выделиться, «попасть в историю». И они действительно в нее не попадали.
О них, об этих людях, по определению Ф. М. Достоевского, «часто незаметных, никому неизвестных, именно потому, что они ничего не ищут для себя», от которых после смерти нередко ничего не оставалось, кроме благодарной памяти близких, очень трудно писать. Может быть, даже труднее, чем о крестьянах той поры, ибо как рок тяготеют над всей нашей отечественной интеллигенцией какие-то смутные подозрения. И это относится не только к столичным салонным поэтам и профессорам, а чохом, без всяких там презумпций невиновности, ко всем прошедшим по этой земле отрядам работников умственного труда. Это недавно еще раз засвидетельствовал С. П. Залыгин. Один из героев его романа «После бури» однажды вдруг открыл «предательство» интеллигенции в том, что теории народного устройства ей дороже самого народа, и решил действовать. «…Если уж вы сами догадались, так я вам объясню, — говорит он, — и я филологический бросил, а на юридический пошел из-за этого же — чтобы судить профессоров! Сперва думал, только профессоров, ну, а потом решил: нет, всю интеллигенцию надо судить».
Между тем такая огромная страна, как Россия, просто не могла существовать без врачей и учителей, инженеров и техников, землемеров и статистиков, без специалистов в самых разных сферах материальной и духовной жизни. Они не были святыми, они ошибались и грешили. Но отнюдь не были они прибитыми жалкими ничтожествами или «предателями», возлюбившими теорию больше народа, а часто людьми самостоятельно и широко мыслящими, соразмерявшими свои дела с нуждами и судьбами страны, совестливым и, с чувством собственного достоинства. Но если жизнь тогдашней деревни благодаря очень важной работе наших писателей все более полно и жизненно отражается в литературе, то предреволюционный учитель еще ждет своего художника-исследователя. И кто знает, может публикация этих материалов подтолкнет, поможет ему?
«Дневник словесника» любопытен и как социально-педагогический документ, рисующий как бы изнутри жизнь предреволюционной школы в заштатном сибирском городке. Тут и организация учебного процесса, и финансирование гимназии, и взаимоотношение с местными властями, округом, министерством. Здесь и педагог на уроке, его взаимоотношение с учениками, классными дамами, коллегами. Поскольку тогдашняя гимназия не только готовила молодежь к поступлению в вузы, но и вела подготовку учителей для народных школ, особое внимание уделяет автор проблемам обучения и воспитания будущих учителей-словесников. В «Дневнике» сомнения, творческие поиски педагога, неудачи и радости — все, что сопутствует великому учительскому делу. «Самое дело, — записывает Н. Ф. Шубкин после многих полных горечи страниц, — мне с каждым годом все больше нравится. Временами я прямо влюблен в него». Старшеклассники, абитуриенты, молодые педагоги, да и вообще все, кто всерьез задумывается о нашей современной школе, извлекут из этих записок реалистическое представление о том, как видели учительскую профессию наши предшественники, как понимали они свое назначение.
В то же время публикуемые записки — это «Дневник словесника» — преподавателя русской литературы. В нем почти на каждой странице разговор об интерпретации произведений великих деятелей русской культуры, интерес к творчеству которых растет у нас с каждым годом, споры о наследстве которых не затухают не только на ««границах литературных журналов, но и дома, на работе, в школах, вузах. С этой точки зрения «Дневник словесника» — документ литературный, представляющий интерес для критиков, публицистов, писателей, особенно тех, кто хотел бы глубже войти в атмосферу тех лет.
Не научившись сопереживать тому, что в прошлом духовно потрясало человечество, нельзя воспитывать себя как человека нравственного. Но можем ли мы хотя бы немножко понимать людей другой эпохи, наших предшественников, наших предков (слово-то само пишется с трудом: так оно испорчено современным жаргоном), когда мы далее не представляем себе, как они жили, какие вопросы их волновали, какие идеалы их вдохновляли.
Скажите, например, откуда взялась в России идея бескорыстного служения своему народу? Ведь это не фикция. Она была знаменем целых поколений русской интеллигенции. Может быть, она порождена комплексом вины, отчетливо проявившимся у дворянской интеллигенции в XIX в.? Но у автора этого дневника не было и не могло быть этого комплекса, ибо он сам из народа: его отец был крепостным рабочим. Тогда, возможно, эту идею породила русская литература с ее высокими нравственными и социальными идеалами? Ее мощное воздействие, обострявшее нравственное чувство, испытали на себе все отряды интеллигенции.
А может быть, эта идея народнического происхождения? Оценка таких исторических движений, конечно, весьма трудная задача, и нельзя судить о них лишь по работам их идейных противников или по их собственным декларациям. Нужно помнить, как дифференцировалось народничество: одни пошли делать революцию, другие стали культурными работниками, отнюдь не отказываясь от идеалов своей молодости. Важно, чтобы тайные съезды, конспиративные квартиры, нетерпение лидеров, расколы, бомбы не заслонили культурный, психологический, нравственный результат народничества. А он значителен. Земство, врачи, статистики, народное учительство, осененные идеей служения народу, — вот внешне незаметное ответвление корневого ствола, которое глубоко проросло в народную толщу и которое много определяло в реальном росте в предреволюционные годы. Я далек от того, чтобы утверждать, что читатель найдет в публикуемых записках ответы на эти вопросы, но они витают над «Дневником словесника», заставляя вновь и вновь задумываться: «А сохранилась ли эта нравственная традиция сегодня?»
В записках Н. Ф. Шубкина — будни словесника. Но читатель, естественно, постарается извлечь из них то, что помогает ему лучше понять свое «социальное происхождение», характерные нравственные черты народа.
В этой сфере одним из главных предметов спора, который продолжается уже целый век, — вопрос о трудолюбии русского народа. Есть давно насаждавшаяся точка зрения, что все российские беды имеют одну главную причину — русскую лень, что одна страсть у Иванушки — русская печь. Решительно отвергая эти взгляды, Ф. М. Достоевский требовал учитывать исторические и социальные условия: «Когда русский человек если и лежал на печи или только и делал, что играл в карты, то единственно потому, что ему не давали ничего делать, не пускали его делать, запрещали ему делать. Но чуть лишь у нас раздвинулись заборы, то русский человек тотчас же обнаружил скорее лихорадочное беспокойство и нетерпение в стремлении к делу и даже неустанность в деле, чем желание лезть на печку».
Только, видно, слабо раздвинулись заборы, поскольку сорок лет спустя (1916 г.) М. Горький говорит о том, что у нас «труд не даст радости еще и потому, что он подневолен, ограничен надзором со стороны командующих нами людей, им же несть числа… Помешать работающему всегда легче, чем помочь ему. У нас мешают работать с особенным удовольствием. Тому, кто может и хочет работать, приходится побеждать кроме равнодушия азиатски-косного общества еще острое недоверие администрации, которая привыкла видеть в каждом сильном человеке своего личного врага. Здесь человеку дела неизбежно всячески извиваться, обнаруживая гибкость ума и души, — гибкость, которая иногда и самому ему глубоко противна, но без применения которой дела не сделаешь. И человек расточает ценную энергию свою на преодоление пустяков. Лучеиспускание человеческой энергии в пустоту общественной косности — огромный убыток, который ничем и никем не возмещается»[1].
Я думаю, читатель не раз вспомнит эти слова, читая «Дневник словесника». И вместе с тем он подивится поразительному трудолюбию, «неустанности в деле» людей, посвятивших себя одной из самых возвышенных профессий — преподаванию русской литературы.
Но почему автор «Дневника» пишет: «В современной школе для меня места, видимо, нет»? Почему эти записки полны неудовлетворенности и горечи? Что мешало педагогу тогда?
Перечень препятствий на пути работающего русского интеллигента так велик, что более уместен был бы вопрос: «Что не мешало?»
Среди всех этих преград есть одна, заслуживающая особо пристального внимания. Это чрезмерная централизация управления народным просвещением. Ее нельзя рассматривать как чисто российское изобретение. Отчасти это плод заимствования из стран, которые многие привыкли считать непревзойденными образцами плюрализма, но где в действительности власть стремилась до мелочей регламентировать жизнь школы. На это еще 100 лет назад указывал вы дающийся русский педагог К. Д. Ушинский: «Централизация учебной части во Франции доведена до крайности, и не только одно училище служит вернейшим повторением другого, но все они действуют разом, по команде, как хорошо дисциплинированная рота… Каждый чиновник министерства, взглянувши на часы, может сказать с уверенностью, что в этот час во всех гимназиях Франции переводится или разбирается с одними и теми же комментариями (которые также ежегодно определяются министерством) одна и та же страница Цицерона, или пишутся десятками тысяч рук сочинения на одну и ту же тему»[2].
Я совсем не склонен утверждать, что без чиновничества, без аппарата может обойтись управление народным образованием (или какой-либо другой сферой социальной жизни). Чиновничество необходимо в определенных пределах. Но подчеркнем, в определенных пределах. Они обусловлены, во-первых, масштабами, ибо аппарат, как об этом свидетельствуют не только горько-юмористические произведения вроде «Закона Паркинсона» или «Принципа Питера», но и вполне реальный человеческий опыт, имеет тенденцию к разрастанию без конца и края. Во-вторых, он, как Тень в пьесе Евгения Шварца, склонен к постоянному преувеличиванию своей роли, к подмене целей деятельности организации, к безграничному расширению своей власти, к порабощению специалистов-людей, для обслуживания которых он создан. При этом оказывается, что главная сила его не в умении помочь, а в способности навредить.
К этому следовало бы добавить особенности формирования чиновничества в условиях российских. «Всякий знает, — писал Достоевский в «Дневнике писателя», — что такое чиновник русский, из тех особенно, которые имеют ежедневно дело с публикой: это нечто сердитое и раздраженное, и если не высказывается иной раз раздражение видимое, то затаенное угадывается по физиономии. Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер. Особенно это наблюдается в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают билеты и проч. Посмотрите на него, вот он занят делом, «при деле». Публика толпится, составился хвост, каждый жаждет получить свою справку, ответ, квитанцию, взять билет. И вот он на вас не обращает никакого внимания. Вы добились, наконец, вашей очереди, вы стоите, вы говорите — он вас не слушает, он не глядит на вас: он обернул голову и разговаривает с сзади садящим чиновником, хотя вы совершенно готовы подозревать, что он это только так и что вовсе не надо ему справляться. Вы, однако, готовы ждать и — вот он встает и уходит. И вдруг бьют часы и присутствие закрывается — убирайся публика! Сравнительно с немецким у нас чиновник несравненно меньше часов сидит во дню за делом. Грубость, невнимательность, пренебрежение, враждебность к публике потому, что она публика, и главное — мелочное юпитерство. Ему непременно нужно выказать вам, что вы от него зависите: «Вот, дескать, я какой, ничего-то вы мне здесь, за балюстрадой не сделаете, а я с вами могу все, что хочу, а рассердитесь — сторожа позову и вас выведут». Ему нужно кому-то отомстить за какую-то обиду, отомстить вам за свое ничтожество»[3].
А теперь давайте мысленно перенесем этого мстителя на ниву народного просвещения, назначим инспектором в округ, директором гимназии или председателем педсовета, а вместо публики поставим русское учительство. Тогда мы получим довольно реалистическое представление о той злокачественной социальной опухоли, с которой каждый божий день сталкивался педагог, от настроения и пищеварения которой он целиком зависел, которая бесконтрольно и нагло работала на себя, мешая другим заниматься общественно важным и нужным делом. «Дневник» воспроизводит саму эту атмосферу казенщины, перестраховки, карьеризма, подхалимства в сфере образования, которая была характерна и тогда, когда министром народного просвещения был Шварц и когда на смену ему пришел Кассо.
«Вчера проверял первый представленный мне реферат об «Очерках бурсы», — пишет Н. Ф. Шубкин. — Охарактеризовав дореформенную русскую школу, референтка в заключении говорит, что и в современной школе немало еще пережитков бурсы и что, может быть, грядущим поколениям эта школа будет казаться такой же несовершенной, какой кажется нам дореформенная бурса». Действительно, жесткая казарменная регламентация жизни учащихся, тотальный контроль за ними — все, что было так характерно для дореформенной бурсы, в значительной мере сохранилось. И хотя число школ росло, школа оставалась казенной. Следствие этого — жесткое деление на воспитателей и воспитуемых, стена между учителями и учениками. Эта стена не только в педагогических стереотипах, но и в сознании самих учащихся, и, поскольку ее опоры общесоциальные, а не внутришкольные, разрушить ее чрезвычайно сложно.
Бюрократизм в просвещении ведет к заорганизованности, к нелепым попыткам регламентировать все и вся, к подавлению самодеятельности и самоорганизации учащихся. Признается только один способ организации — сверху. Стремление к господству над мыслями, душами и телами учеников представляет собой своеобразный пережиток крепостничества в школьном деле. А это ведет, во-первых, к воспитанию пассивных, лишенных инициативы навыков самоуправления людей. Во-вторых, такая система с малых лет и в массовом масштабе воспроизводит отчуждение учащихся от школы, от совместного труда и совместной ответственности, от общества. В-третьих, это неминуемо ведет к тому, что единственным доступным средством самозащиты могут быть слепые вспышки гнева, истерии, ненависти, которые грозят превратиться в социально наследуемые черты характера. К тому же женским гимназиям приходится жить на частные средства и они вынуждены выискивать богатых меценатов. Тут уже не до того, чтобы считаться с их нравственными качествами, — были б деньги. А от попечителя зависела не только хозяйственная обеспеченность гимназии. Ему принадлежат и другие важные права, в том числе выбор начальницы гимназии.
«Дневник словесника» описывает жизнь в трудное время, когда как в центре, так и в провинции активизировалась черная сотня[4] — «союзники», как называли их тогда. Они имели свои многочисленные газеты, местные организации, тесно срастались с бюрократией, оказывали сильное влияние на власть предержащих — и как увидит внимательный читатель — на функционирование школьных заведений. Больше десятка статей было опубликовано в черносотенных газетках, в которых поносились барнаульская женская гимназия и автор публикуемого дневника. Все это еще более осложняло жизнь педагога, которому надо было противостоять и разнузданному идеологическому нажиму черной сотни.
Один за другим проходит перед читателем «Дневника» целая череда руководителей гимназии. Вот назначается председателем педагогического совета женской гимназии некто Б-ский — «карьерист до мозга костей, строящий все на связях и протекции, а потому надменный с низшими и заискивающий с высокими», который не гнушается доносами, слежкой, провокациями. Его заменяет регистратор духовной консистории, горький пьяница. Следующий начальник Ш-ко — убежденный борец против проникновения в гимназию «кухаркиных детей», любитель сыска и декламации. Директор мужской гимназии, который «окончательно превращается в жандарма» и снимает допросы с родителей, чтобы скомпрометировать одного из них. При всех различиях эти начальники едины в своем непрофессионализме, в неустанном гонении на любое полезное педагогическое начинание.
И невольно читатель задаст себе вопрос: что за удивительный механизм функционирует здесь, который безошибочно отбирает из огромного числа честных, деятельных, способных педагогов людей, наименее подходящих для выполнения своих функций? Почему всплывают далеко не лучшие представители рода человеческого? Почему педагоги не имеют к подбору начальников никакого отношения? Неужели учителя сами не в состоянии выделить из своей среды руководителей?
Все дело, видимо, в том, что власть боится, не хочет поступиться далее самым малым — делегировать, хотя бы частично, право принятия решений в области образования, опасаясь прихода людей самостоятельных и просвещенных. Она сознает важность своей привилегии — раздавать должности, хлебные места тем, кто больше «уважает», говоря точнее, кто самоотверженнее лакействует. Ведь кто пойдет за безыдейной и бездарной властью без пряника и кнута? Наконец, сфера просвещения кажется для власть предержащих очень подходящей еще и потому, что здесь — по их представлению — не требуется никакого профессионализма, здесь может занимать должность любой. Сюда можно отправить и кума, и свата, и лизоблюда, и просто ни на что не годного человека.
Сознание, что целиком и полностью как назначением, так и существованием своим чиновник зависит от связей в округе, министерстве, в свою очередь укрепляло в нем убеждение, что закон для него не писан. «Здесь в каждой школе, — отмечает автор, — есть своя власть, одаренная большими полномочиями. И эта власть в лице директора или председателя, как у нас, держит всю «вверенную ему» школу в своем кулаке».
Полное отсутствие правосознания, равного для всех подчинения закону, слепое подражание высшему начальству, которое с особенным удовольствием при всяком удобном случае демонстрирует, что законы не для него, что я, как хочу, так и ворочу, — характерно для всех этих спущенных сверху на ниву просвещения деятелей. «Законно или нет, это мне знать!» — без обиняков объявляет педагогам председатель женской гимназии.
«Положение современного педагога, — пишет Н. Ф. Шубкин, — поставленного между либеральным обществом, с одной стороны, и между начальством, опирающимся на черносотенное меньшинство, нередко вырабатывает из учителей двуличных политиканов провокаторского типа. Почти каждый неглупый педагог, желающий сделать карьеру, принужден вести двойную игру, угождая и обществу, и начальству. И какие некрасивые истории разыгрываются подчас на этой почве!» Весь «Дневник словесника» — как бы иллюстрация к этим словам.
На такой почве произрастала и проблема «кухаркиных детей» — допуска в гимназию менее обеспеченных учеников. Против их допуска в среднюю школу решительно настроено начальство. Директор мужской гимназии систематически донимает таких учеников дополнительными расходами, стараясь выжить их из гимназии. Те же взгляды открыто проповедует и председатель женской гимназии, утверждая, что единственный недостаток современной школы — допуск в нее «кухаркиных детей», которые не способны к культуре и понижают уровень школ. «Это его любимый конек, — свидетельствует автор «Дневника», — на котором он не прочь выступать даже и перед учащимися, не считаясь с тем, что значительная часть их как раз и принадлежит к этим самым «кухаркиным детям», из среды которых выходит столько дельных и серьезных культурных работников и хороших учеников».
Проблемы элитарной школы, социальной селекции, ее открытые и замаскированные механизмы — все эти актуальные проблемы современной социологии образования очень живо освещаются автором дневника. Его социальная позиция отчетлива: «Долго ли будет еще держаться этот взгляд на культуру как на дело чисто барское?»
Такова вкратце та, опутавшая со всех сторон школу, паутина власти бюрократов, нуворишей, те условия, в которых приходилось трудиться словеснику, те силы, которые постоянно стремились превратить его работу в сизифов труд.
Многие, видимо, не позавидуют жизни педагога — каждодневной, изматывающей все силы борьбе, без шумных побед, без звона литавр и наград, за то, чтобы честно делать свое дело, несмотря ни на что. Знакомясь с записками, постоянно ощущаешь, что педагогу как чуждая, враждебная сила противостоит правительство, синод, министерство, округ, председатель, наконец, классные дамы — эти щупальцы организованного соглядатайства, которые доносят о каждом слове учителя. Какое же надо иметь терпение, упорство, какую веру и верность своим идеалам, чтобы противостоять этому и делать дело — сеять разумное, доброе, вечное!
Иной читатель может подумать, что картины провинциальной школьной жизни, рисуемые в «Дневнике», кажутся такими безысходными потому, что у общества вроде бы нет в распоряжении никаких противовесов, рычагов, инструментов, чтобы вовремя умерить амбиции начальства и ограничить произвол. Такой взгляд чрезмерно драматизирует картину. Он упускает из виду реальные изменения, которые, мало-помалу накапливаясь, все-таки меняли школу. В стране подспудно вызревали и шли крупные перемены. И хотя результаты их оказывались весьма противоречивы, крепло сознание, что школа нуждается в решительной реформе. Эти настроения перестают быть монополией радикальных слоев. К тому же не все завоевания первой русской революции полностью ликвидированы. Еще не разогнана Дума и там произносятся порой весьма острые речи, которые публикуют газеты. Для учителей организуются поездки за границу, что дает им возможность расширить свой культурный кругозор, познакомиться с опытом преподавания в других странах. Сохраняется определенная степень гласности.
Однако правительство стремится свести на нет права, завоеванные народом. Об этом немало важных подробностей содержит «Дневник». Чего стоит, например, циркуляр священникам, гласивший, что духовенство должно быть в курсе политических дел, но при этом их следует понимать в освещении черносотенных газет, для чего всему духовенству предписывалось получать местные черносотенные газеты, позаимствовав для этого даже церковные средства. Министерство просвещения требует запретить учителям поездки за границу. Усиливается цензура, наступление на свободу печати. Закрыта гимназическая библиотека, книги отправляются на просмотр в жандармерию, налагается запрет на подписку «левых» газет и журналов — обо всем этом рассказывает автор «Дневника», недвусмысленно показывая, как это мешает педагогу выполнять свои социальные функции, как это сказывается на общественной нравственности.
Все это, конечно, вызывало отпор со стороны активных культурных сил страны, которые понимали, к каким опасным последствиям для народа и государства ведет такая политика. «Управляющие нашей жизнью, — пишет именно в те годы М. Горький, — тоже люди не более нас энергичные и не более умные, но, кажется, даже и они начинают сознавать, что воспитали в народе свойства, с которыми необходимо бороться. Эти свойства — слабое развитие инициативы, подъяремное отношение к труду, нечестное — к общественным средствам и отсутствие у людей сознания личной их ответственности за хаос, безобразие и грязь нашей жизни. Чтобы вылечиться от этих пагубных недостатков, необходимо иметь возможность свободной личной и общественной деятельности»[5]. Растущее понимание пагубности проводившейся политики для воспитания и просвещения народа являлось так же своеобразным противоборствующим фактором.
Другим важным противовесом отмеченным выше тенденциям в школьном деле был рост культурных сил страны, ширящееся понимание роли народного просвещения. Еще А. С. Пушкин говорил, что просвещение спасет Россию. Эти взгляды разделяли и развивали Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, а в начале XX в. происходит их своеобразная инфильтрация в широкие круги русского общества. В немалой степени это обусловлено тем общим душевным настроем, который был характерен для интеллигенции.
«Казенные жителя в казенной школе», — с горечью писал Ф. М. Достоевский. Но если с тех пор в чем-то школа реально изменилась, то это прежде всего за счет притока идеалистов, т. е. людей с нравственными и гражданскими идеалами, воспринимавшими свою деятельность не как службу, а как служение народу. Поэтому вряд ли следует воспринимать взгляды и нравственные позиции автора «Дневника словесника» как уникальные.
Всеобщий поиск цельного мировоззрения, стремление подчинить ему всю свою жизнь, ориентация личной жизни на социальное служение, нравственные оценки, игравшие исключительную роль, презрение к личному богатству, готовность к самопожертвованию — эти черты русского интеллигента все отчетливее проявляются в учительской среде и через нее начинают воспроизводиться во все увеличивающихся масштабах. Как тревожит автора «Дневника», что молодежь вступает в жизнь без цельного мировоззрения, что ученицы хотят писать сочинения о действительно важных проблемах, о смысле жизни, а школа им не дает даже задуматься об этом и сама не хочет отвечать на их вопросы. И как радуется он, когда семена, брошенные на уроках словесности, прорастали в жизни и деятельности его воспитанниц. «Вчера вечером, — записывает он, — были у меня в гостях две бывших ученицы первого моего выпуска… Умные, развитые девушки, сознательно пережившие минувшие бурные годы, они были в VIII классе уже людьми с определенными убеждениями, которые умели отстаивать и в разговорах, и даже в своих гимназических сочинениях. Не к диплому и далее не к высшему образованию стремились они, а к живой работе на пользу народу, хотя бы и с тяжелыми жертвами лично для себя». Они организуют детскую колонию, работают на полях как крестьяне, а потом учат собранных в колонии бедных ребят. Им приходится сталкиваться с огромными личными трудностями и лишениями, но, как свидетельствует Н. Ф. Шубкин, «их любовь к живому делу не угасла». Преданность своему делу, верность своим убеждениям безусловно были принципиально новым важным явлением, которое исподволь меняло русскую школу, являясь своеобразным противовесом отжившим реакционным тенденциям.
Эти новые, невиданные прежде качества вырабатывались русским учителем в борьбе не только с внешними обстоятельствами, но и с самим собой. Ни малейшего самодовольства, тем более высокомерия. Скорее, напротив, «самоедство» — весьма критическое отношение к себе, стремление предельно честно оценивать себя и свои поступки. Верно ли я поступил на уроке сегодня? Не был ли я в чем-то чем-то виновен перед своими учениками? Может, я был не прав? — эти вопросы постоянно задает себе автор, делая записи в «Дневнике словесника». В этом лишенном какой бы то ни было гордыни понимания себя, в постоянном преодолении своих недостатков видит автор «Дневника» важнейшее условие самосовершенствования.
Это не игра в скромность, а органическая, жизненная позиция, которая следует образцам поведения тех соотечественников, которых справедливо называли тогда властителями дум. Мне кажется, например, очень точной и важной та характеристика, которую давала своему отцу в 1911 г. Т. А. Сухотина-Толстая: «В одном письме папа к Гусеву пишет: «Вы лучше меня». Это навело меня на следующую мысль: единственная причина, почему книги и жизнь отца настолько выше общего уровня и приковали к нему внимание всего спета, это та, что он всю жизнь искренне сознавал и изо всех сил боролся со своими страстями, пороками и слабостями. Его громадный талант, гений доставили ему заслуженную литературную славу среди так называемого «образованного общества», но что всякий крестьянин изо всякого глухого угла знал, что мог обратиться к нему за сочувствием в делах веры, самосовершенствования, сомнений и т.п., — этому он обязан тем, что ни одного греха, ни одной слабости себе он не пропустил, не осудив ее и не постаравшись ее побороть.
Натура же у него была не лучше многих, может быть, хуже многих. По он никогда в жизни не позволил себе сказать, что черное — белое, а белое — черное или хоть бы серое. Остроумное сравнение числителя дроби с наличными качествами человека и знаменателя с его мнением о себе более глубоко, чем оно кажется. У папы был огромный числитель и маленький знаменатель и потому величина была большая»[6].
Огромная духовная и социальная роль русской литературы в ту нюху умножилась непосредственным влиянием личности писателя. В 1911 г., когда Н. Ф. Шубкин начинает свои записи, прошли лишь месяцы после ухода Льва Толстого из Ясной Поляны и из жизни. Его произведения вновь и вновь перечитывают соотечественники; его призывы, события его жизни у всех на устах. Его дух как бы парит над страной. Если XIX в. во Франции проходит под знаком «комплекса Наполеона», то Россия начинает XX в. с «комплексом Льва Толстого», завороженная, заколдованная его художественным гением, его идеализмом, его непрестанными мучительными поисками истины и веры. В той или иной мере его могучее воздействие коснулось всех политических направлений, всех слоев общества. И, конечно, его мысли, его споры с самодержавием, со Святейшим Синодом, с теологами и философами, с официальной школой — это мощная поддержка идеализма учительства.
Публикуемые ниже записки — подлинный документ своей эпохи. И вместе с тем это напоминание о непреходящей ценности социально-нравственных функций, исполнять которые призваны люди этой профессии, этой судьбы.
Из дневника словесника Н. Ф. Шубкина за 1911–1915 годы
1911–1912 Учебный год
Я уже пятый год педагогом. Немало тяжелых минут пришлось мне пережить в связи с этой деятельностью. Но все-таки я люблю это дело. Люблю свой предмет — словесность и желал бы быть хорошим учителем, полезным для своих учениц.
Пусть же этот дневник помогает мне разобраться в моей работе, пусть копит он крупицы опыта, которые часто затериваются и забываются без всякого следа.
Начало учебного года
Уже больше месяца как начались занятия. Пока чувствую себя бодрым и довольно уравновешенным. А это для учителя очень важно.
Но в общем не с приятных вещей начался этот год. Весной, когда я уже уехал, здесь сильно нашумел один родитель — адвокат фон К-с, дочь которого оставили на второй год. Он кричал на начальницу, жаловался попечителю и грозил, что будет у ног государя. А теперь директор получил из округа для отзыва три его пространных жалобы-доноса на весь педагогический персонал. И чего только нет здесь! И истинно русские указания на «жидовско-польскую аристократию», которой будто бы покровительствует начальница, и намеки на взятки, на которые будто бы выстроен мой дом (перешедший мне еще от покойного отца), и целый ряд всевозможных ложных фактов вроде того, что я говорил, что оставлю его дочь «своему товарищу К.», с которым я учился еще в младших классах средней школы и с которым с тех пор никаких дел не имел. Теперь директору приходится разбираться во всех этих нелепых инсинуациях и снимать с нас показания. Все это было бы возмутительно, если бы не было так глупо!
Умер Столыпин… Вокруг его имени начинается националистическая вакханалия, которая отозвалась и у нас. С удивительной скоростью, — скорее, чем всякие деловые ответы, — пришли из округа подписные листы на сооружение ему памятника. В реальном и частной гимназии «страха ради иудейска» подписались все. Но у нас все-таки большинство не подписалось. Неужели и за это влетит? Неужели даже и в этом педагог не может быть хоть немного независим!
Почему же Илиодор мог безнаказанно даже отказаться от панихиды? А против памятника восстает даже «Русское знамя»!
29 сентября
Сегодня день «забастовок». По приходе в V класс я услышал голоса, толкующие об общем отказе. Когда стал записывать в журнал, бойкие девочки А. и Б. стали обращать мое внимание на доску, где было, очевидно, написано об отказе. Но я как будто не слыхал и стал записывать отказы отдельных учениц, подошедших к столу. Тогда зашумели и остальные, говоря, что отказываются все. Я немного разгорячился и отослал всех на место, сказав, что это «безобразие», так как урок особенного ничего не представлял (было задано наизусть стихотворение Кольцова «Лес»). Была вызвана одна ученица, которая и ответила урок, причем в затруднительных случаях многие ей подсказывали. Я отметил эти факты, говорящие о том, что ученицы на самом деле знают урок. А в конце урока, когда уже вполне успокоился, еще раз вернулся к попытке отказа, объяснил, что такое злоупотребление нравом отказа вредит тем из их подруг, которые имеют действительно уважительные причины для отказа, и пригрозил, что в случае другого подобного отказа я не буду принимать отказов и от отдельных учениц.
В перемену стали меня осаждать восьмиклассницы, заявляя, что урок по педагогике показался им слишком трудным и они не могут его отвечать (в предыдущий раз я им рассказывал об ощущениях, что и было задано). Я возражал, что надо было повнимательнее записывать, что я говорил, и посерьезнее разобраться в этом. Когда пришел в класс, на столе лежала бумажка с надписью: «Милый Н. Ф.! Не сердитесь на нас за наш отказ». Об отказе же речи не подымалось. Я стал спрашивать, и обе спрошенные ученицы ответили удовлетворительно, причем одна, оказывается, даже проштудировала этот отдел по Челпанову, что я и поставил другим в пример.
Расстались, в общем, вполне мирно. Причиной для отказа и в том, и в другом случае была некоторая трудность урока (в V классе несколько затруднял язык стихотворения, а в VIII классе новизна самого предмета — психологии), но трудность вполне преодолимая, что и обнаружилось на деле. Поэтому я и счел необходимым не давать хода таким отказам. И в том и в другом классе ученицы, видимо, сами осознали неосновательность общего отказа. Но всего лучше то, что дело окончилось мирно.
30 сентября
С прошлого года я ввел обычаи вывешивать в старших классах портреты писателей, преимущественно тех, которых проходим в этом классе. Висел тогда в нескольких классах и портрет Л. Толстого. Но ныне директор вывешивать этот портрет запретил даже и в VIII классе, где проходится Толстой. Лично директор против Толстого ничего не имеет, но боится, чтобы не вышло какой истории, так как ждет ныне ревизора из округа. Как это ни нелепо по существу дела, но при наших порядках все возможно.
Программа, по которой я занимаюсь по словесности, несколько отличается от обычных программ. В VI классе, например, все 2-е полугодие я посвящаю изучению иностранной литературы (эпоха Возрождения и Шекспир, эпоха абсолютизма и Мольер, эпоха «Бури и натиска» и Шиллер, эпоха реакции и «мировой скорби» и Байрон); а в VIII в последние два года проходил Герцена, Л. Толстого, Некрасова, Гл. Успенского и Чехова, причем обращал внимание на эволюцию народничества и на связь художественных произведений с общественной жизнью. В прошлом году мои программы хотя и были утверждены в округе, но пришли с карандашной пометкой окружного инспектора о несогласии их с учебными планами Министерства, причем были подчеркнуты Шиллер и Байрон в VI классе, а в VIII классе все избранные мной писатели, особенно же Успенский и Чехов. В виду этого ныне пришлось «подчистить» свои программы. Но в VI классе я только указал на связь иностранных писателей с историей русской литературы, а в программе VIII класса пришлось оставить только Герцена, Л. Толстого и Некрасова, указав, что они имеются в новых программах мужских учебных заведений и в учебнике Сиповского; Успенского же и Чехова пришлось выпустить, хотя надеюсь, что все-таки можно будет их пройти.
Когда в начале года я спрашивал учениц, кого они желают проходить в VIII классе, то с большинством выбранных мной писателей согласились; некоторые возражения встретил Гл. Успенский, т<ак> к<ак> обилие у него публицистического элемента делало его изучение для прежних восьмиклассниц несколько затруднительным. Вместо него выдвигали некоторые Достоевского, но я по опыту первого года своей службы думаю, что разбираться в философии Достоевского еще труднее; при том же и история народничества без ознакомления с Успенским будет незаконченной.
1 октября
Начинается сезон пробных уроков, которые дают восьмиклассницы под моим руководством. Сегодня была у меня с конспектом первая из нынешних восьмиклассниц Т. Это глубокая, но странная натура — «с умом не по-детски развитым и с чуткой, болезненно чуткой душой». Когда я стал поправлять конспект, ей показалось, должно быть, что он составлен плохо; и она, схватив его, начала мять и готова была изорвать, говоря, что не будет совсем давать урока и учиться не будет. Едва удалось отнять у нее конспект и уговорить, что он вовсе не плох, а если и приходится делать исправления, то лишь весьма несущественные. Дело опять направилось, Т. успокоилась, и мы дружно проверили вместе остальную часть конспекта, который оказался совсем хорошим.
Для чего существуют классные дамы?
2 октября
Для чего существуют классные дамы? В теории, очевидно, отчасти для надзора за ученицами, а главным образом для надзора за учителями. Потому что чем же иначе объяснить обязательное присутствие их на уроках только учителей? Не знаю, есть ли какие положительные стороны такого узаконенного шпионства, но что есть отрицательные — это вне сомнения. Не думаю, чтобы такое явно подчеркиваемое недоверие к мужскому учительскому персоналу могло благотворно влиять на его психику. Да едва ли это может благотворно влиять и на учениц. Возможно, что в других гимназиях классные дамы отчасти следят и за дисциплиной класса; у нас же подбор их такой, что ни о каком влиянии на дисциплину и речи быть не может. Оставить класс исключительно на их попечение — дело совершенно немыслимое. И когда предлагаешь ученицам остаться и прочитать что-нибудь в присутствии классной дамы, девочки сами говорят, что у них ничего не будет, что они будут шалить, и потому просят остаться самого учителя. Перед приходом учителя в классы идет возня и шум, и классные дамы не в состоянии водворить порядок; не обращают они внимания и на разговоры во время урока, хотя бы это происходило рядом с ними. Таким образом, все дело классной дисциплины, сопряженное с различными неприятностями и отвлекающее от занятий, лежит исключительно на зрителе. Классная же дама сидит себе спокойно, посаженная ради каких-то «высших соображений». Бывает даже иногда, что в соседнем классе нет урока и там стоит шум, мешающий заниматься, и классная дама все-таки продолжает сидеть в классе, где есть зритель, предоставляя свободный класс самому себе и ясно подчеркивая этим свою настоящую роль. Правда, наши классные дамы существа вполне безобидные и сидят в классе «по воле пославших их». Но если надзор за учителями тут ни при чем, а надзор за дисциплиной и тем более, то для чего же они существуют? О воспитательном воздействии их на учениц смешно и говорить. И вся «деятельность» их сводится к еженедельной проверке дневников и к четвертному статистическому отчету, т. е. к тому, что совершенно безвозмездно исполняют и «классные наставницы» из учительниц.
3 октября
Сегодня в VI классе подошла ко мне ученица Ф., недавно перешедшая в нашу гимназию, и хотела сдать мне домашнее сочинение, которое подавали ее подруги уже дней 5 назад. Она мотивировала это тем, что в день подачи сочинения провожала родителей. Я не имел основания не верить ей, но сочинения все-таки не взял, предложив ей написать вместо него классное. Это общее требование, которое я предъявляю ко всем, не подавшим домашние сочинения в срок, и которое приучает их к аккуратности; а приучить к этому русского человека — дело нелегкое, и мне на первых порах пришлось употребить немало усилий, чтобы отучить их от надежды на отсрочки, от запоздалой подачи и т.п. Поэтому-то я и не взял сочинение у Ф. Она, правда, может быть, и не виновата. Но сделай уступку одной, и снова расстроится весь налаженный порядок. Будут говорить, что я к ней пристрастен; будут, ссылаясь на нее, и другие требовать того же.
В этом же классе я раздавал сегодня классные работы. При этом я по обыкновению останавливался на более слабых работах и разбирал разные ошибки, по большей части орфографические. Пришлось при этом вызвать некую С., девицу весьма неразвитую и мало старательную. Ошибки у ней были вопиющие, да и раньше она уже отличалась у меня то плохими ответами, то невнимательностью. Поэтому я, будучи раздражен ее отношением к делу, иронически спросил, читает ли она что-нибудь кроме учебника, если не знает как писать самые обыкновенные слова. После урока классная дама, присутствовавшая при этом, заявила мне, что, по мнению некоторых учениц, я придираюсь к С., хотя она (классная дама) этого не находит, так как такая ученица действительно может вывести из себя. Ученица, действительно, весьма неисправная, и я имел основания быть ей недовольным, когда, например, при чтении в классе былин А. Толстого оказалось, что она совсем не слушает и занимается какой-то перепиской. Но я, сделав замечание несколько раздраженным тоном, ограничился только постановкой ей в журнале В. В другой раз я не поставил ей ничего за неудовлетворительный ответ. В этот же раз оценил ее работу хотя и 2–, но вполне по заслугам. Таким образом, придирчивости в отношении к ней собственно не было. Но было недовольство, хотя и вызванное ей же самой, однако отражавшееся и на моем тоне. Это-то неумение сдержать свое раздражение и послужило поводом для неприличных толков в классе. Я вполне сознаю, что это непедагогичный прием, однако бороться со своим темпераментом все-таки трудно. Правда, это бывает не часто со мной. Но бесконечный ряд мелких неприятностей, сопряженных с учительской профессией, вызывает по временам раздражительное настроение, в проявлениях которого самому приходится раскаиваться. Особенно трудно приходится в этом отношении после целых месяцев напряженной работы, отнимающей не только дообеденное время, но и вечера, когда даже крепкие нервы не выдерживают и начинают более болезненно реагировать на все впечатления. Конечно, ученики в этом не виноваты. Но можно ли всецело винить учителей? А им не только ученики и их родители, а нередко даже и пресса ставит всякое лыко в строку, ухудшая тем и без того незавидное их самочувствие.
4 октября
Местная газета сегодня сообщила возмутительную новость из педагогического мира: в женской гимназии соседнего города Б. назначен председателем педагогического совета некто Д-в. Чтобы понять соль этого сообщения, надо знать, что это за субъект. Несколько лет назад он состоял у нас в реальном училище в должности надзирателя, или, как называют ученики, «коридорного». Потом он, пользуясь знакомством с учителями реального училища, вздумал сдать экзамены на учителя городского училища (обучался он только в училище семинарии); но, будучи человеком крайне тупым и совершенно невежественным, оказался не в состоянии благополучно одолеть экзамены, и учителя признали его сдавшим, только принимая во внимание его заявление, что учительствовать он все равно не будет. Но, заручившись свидетельством, он поступил учителем в городское училище, а потом сделался и его инспектором. У нас же в гимназии он был на самом худшем счету, состоя учителем пения и регентом гимназического хора, из которого он сделал своим неумением вести дело посмешище для города. Но звезда его уже восходила. Сумев угодить старику Л., попечителю учебного округа, он удостоился стать его кумом, и с тех пор карьера его была обеспечена. Унижаясь перед высшим начальством и пользуясь его благосклонностью, он стал крайне надменен и груб в обращении с подчиненными ему учителями. Пошли взаимные жалобы, ревизии, разбирательства; несколько учителей уже было переведено из-за него на другие места. А в это время в газетах стали появляться разоблачения о разных его художествах: о неправильном расходовании ассигнованных на училище средств, о его обращении с учениками, более пригодном для застенка, в результате чего с одним мальчиком случился даже удар, и т.п. Выступили против него некоторые. Д-в привлек их к суду; но этим только высек гам себя, так как на суде факты подтвердились, и судья не нашел в их обвинениях клеветы. Такой же позорный для Д. финал имело судебное разбирательство и в следующей инстанции, куда он перенес это дело. Тогда попечитель, не находя возможным оставлять Д-ва на прежнем месте, перевел его на ту же должность в г. Б.; но при этом, в удовлетворение его, разогнал из городского училища и весь остальной учительский персонал, недовольный Д-вым. А теперь, всего год спустя после всех скандалов, Д-в оказывается уже председателем педагогического совета в женской гимназии. Таким образом, руководство педагогической частью средне-учебного заведения, имеющего учителей с высшим образованием, оказывается в руках человека, не имеющего даже и среднего образования, и притом с такой подмоченной репутацией. Вот что значит быть кумом попечителя! Недаром же его дочка, обучающаяся в той же гимназии, с обычным для нее надменным видом заявляет, что ее не могут оставить на 2-й год, потому что она крестница попечителя. Это теперь, по-видимому, важнее всякого ценза. А между тем от председателей родительских комитетов требуется нынешним министром высшее образование!
5 октября
Сегодня в местной газете напечатано открытое письмо учителя здешней частной гимназии к начальнице ее Б. Это был молодой, полный энергии, живой и талантливый учитель, завоевавший симпатии своих учениц своим умным преподаванием и простым товарищеским отношением к ним. Враг всякой рутины, он стремился оживить всю гимназию, ратовал за новые приемы обучения; заботился о поднятии общего развития учениц и энергично боролся против той формалистики, которая уже свила себе гнездо в этой гимназии. Понятно, что это вызвало против него сильное недовольство всех педагогов в футляре с начальницей во главе. Последняя, желая избавиться от беспокойного сотрудника, начала интриговать против него и для большего веса постаралась перевести дело в другую плоскость, распуская инсинуации о слишком близком отношении его к ученицам. Смотря сквозь пальцы на поведение своих учениц вообще, она здесь не побрезговала даже и шпионством, посылая учениц же следить, с кем гуляет по вечерам их учитель, и т.п. В результате устный донос попечителю нынешней весной. А осенью А., приехавший из деревни, неожиданно узнал о своем переводе в О-скую мужскую гимназию. Но он не стал и там служить и, уехав в столицу, прислал оттуда напечатанное сегодня открытое письмо, где он обвиняет начальницу в клевете и требует для своей реабилитации суда, призывает начальницу к открытому подтверждению возведенных на него обвинений и сообщает, что он обратился с просьбой о расследовании также и в министерство. Да, нетрудно съесть нашего брата, а потом и оправдывайся!
6 октября
Читал вчера домашние сочинения VI класса, нашел, что сочинение С. (той самой, с которой и раньше бывали столкновения) написано совершенно не ей самой. Слог вполне литературный, и содержание не может тоже принадлежать этой ученице, уровень развития которой очень невысокий. Это сочинение не могла бы написать не только С., но даже и лучшие ученицы в классе. Но уличить С. в обмане никакой возможности не было. Я долго думал, как поступить, чтобы не было и поощрения таким несамостоятельным работам и в то же время чтобы не вызывать нареканий относительно придирок к этой ученице. Наконец, ввиду допущенных в сочинении орфографических ошибок я поставил ей 2 и написал: «Чье это сочинение, я не знаю, но ошибки, без сомнения, Ваши». При выдаче классу этих сочинений я совсем не разбирал этой работы и передал ее С. молча. Конечно, это вовсе не блестящий выход из данного положения, но как бы следовало поступить, я не знаю. В случае списывания с книги я обыкновенно спрашиваю, как это вышло, и «тли ученица утверждает, что заучила по книге наизусть и потом думала, что это ее собственное, то я требую снова рассказать это наизусть. Но здесь, по-моему, было не списывание, а просто это сочинение было написано кем-то другим, гораздо более развитым и умеющим писать.
7 октября
Ученицы VI класса подняли сегодня вопрос о чествовании памяти Никитина (18 октября ему будет юбилей). Мысль была, конечно, очень хорошая. Но начальница уже разрешила устройство спектакля и танцевального вечера в непродолжительном времени, а в начале ноября предстоит Ломоносовский юбилей, который, наверно, предпишут отпраздновать. Поэтому я выразил сомнение, чтобы разрешили устройство Никитинского утра (или вечера). И когда я обратился к директору, тот действительно отклонил это предложение, так как все это сопряжено с разными хлопотами и отвлекает учениц от занятий. Всего лучше бы было, по-моему, если бы такие вопросы о раз личных развлечениях для учениц решались педагогическими советами, а не единолично начальством. Данное уже начальницей распоряжение по устройству спектакля пришлось рассматривать как совершившийся факт и считаться с тем, что ученицы уже заняты этим делом. Педагоги же стоят от этого совсем в стороне; начальница никогда их не спросит, не посоветуется ни о самом развлечении, ни о времени его, — и в результате такие коллизии.
Начальница нашей гимназии
8 октября
Начальница нашей гимназии — дама с большими претензиями. Но так как по положению о женских гимназиях она является не больше как инспектором или старшей классной дамой, не имеющей никакой власти над педагогическим персоналом и над учебной частью, то ее жажда власти проявляется во всяких мелочах, и на этой почве между ней и педагогическим персоналом часто происходят столкновения, приведшие к тому, что она теперь даже не завтракает с нами, а в минувшую Пасху никто не поехал к ней с визитом. Сегодня одна из учительниц пошла объясняться с ней по поводу того, что она имеет привычку устраивать объяснения с ученицами во время урока, вследствие чего ученицы нередко опаздывают в класс и являются до того расстроенными, что не в состоянии работать. Начальница, по обыкновению, приняла это за личное оскорбление и в свою очередь начала обвинять К. И. во враждебном к себе отношении, добавив даже: «Я только в том себя упрекаю, что слишком деликатна с вами». Разумеется, к улучшению наших отношений такие факты послужить не могут, и педагоги избегают о чем-либо рассуждать с нашей «мадам».
12 октября
Несколько дней уже не брался я за дневник: не до того было. Теперь в полном ходу пробные уроки в VIII классе, и с ними вместе у меня ежедневно по 5 уроков. По вечерам тоже то исправление конспектов, то тетради, то подготовка к урокам. Вес это бы ничего, так как интерес к делу у меня есть. Ни за подготовкой к урокам, ни на самих уроках я никогда не чувствую скуки. Часто даже с удовольствием перечитываешь какие-нибудь стихотворения или прорабатываешь другой какой-нибудь материал и с интересом ждешь, как воспримут его ученицы. Но мало времени остается для самого себя и или дальнейшего самообразования. Читаешь в учебное время почти одни только газеты да журналы, и то урывками, а на остальное совсем времени не хватает. Хотел было нынче заняться немецким языком и начал переводить, но вот уже около 2-х недель как некогда взяться за книгу. Те годы занимался я еще в воскресной школе, по нынче решил оставить это дело, хотя оно и нравилось мне. Боюсь, что переутомление отзовется прежде всего на моей педагогической работе в гимназии. А следы его я уже замечаю. Мало сил у меня, и хотя я серьезно никогда почти не болею, но, очевидно, начинается малокровие. Вот уже, например, целая неделя, как я чувствую себя утомленным после уроков, иногда болит голова, плохо спится по ночам, а утром чувствуешь, что почти совсем не отдохнул. И это еще при нормальном образе жизни и отсутствии хозяйственных и семейных забот. Хорошо еще, пока это не отзывается на нервах и пока нет каких-нибудь серьезных неприятностей. В противном случае все это приводит в раздражительное настроение и готова почва для всяких педагогических конфликтов.
13 октября
Опять классные дамы! Придя сегодня в V класс, я застал там классную даму В-у, жену одного чиновника, поступившую на должность от нечего делать и пользующуюся особым расположением начальницы. В соседнем классе в это время был свободный урок, и ученицы, предоставленные самим себе, страшно шумели. Я начал было заниматься, но шум сильно мешал, и я обратился к классной даме, чтобы она лучше шла в свободный класс. Но она, отговариваясь тем, что туда должна прийти другая классная дама, продолжала сидеть в моем классе, который в ее присутствии совершенно не нуждался. Когда же она соблаговолила уйти унимать учениц, то шум ничуть не ослабел, так как эта особа совершенно не в состоянии подействовать на учениц. Я выглянул в дверь класса и увидел в коридоре целых двух классных дам, занятых, очевидно, разговором, тогда как свободный класс, сидя за запертой дверью, продолжал так же шуметь. Я, возмущенный, бросил им: «Две классные дамы, и такой шум!» Мадам же В-a, возвращаясь в мой класс с осознанием исполненного долга, возвестила: «Я обещала им поставить по четверке по поведению», на что я — уже в присутствии учениц — сказал: «А больше ничего не могли сделать?» и на утвердительный ответ классной дамы возразил: «Очень жаль!», после чего обиженная классная дама совсем удалилась.
Вообще от этих особ, кроме вреда, для дела ничего нет. Такие факты нервируют гораздо больше, чем какие-нибудь выходки учениц, а это, конечно, сказывается и на занятиях, хотя сегодня я занимался вполне спокойно.
14 октября
Начальница, желая быть чем-то вроде «короля-солнца», стремится показать ученицам, что она источник всех благ. Состоя членом благотворительного Общества «воспомоществования учащимся», она и из пособий, выдаваемых через нее этим Обществом, стремится создать себе пьедестал то читая нотации, то говоря о неблагодарности, так что ученицы иногда даже избегают обращаться в это Общество через нее. Еще недавно она заявила одной ученице, что ей отказано в пособии (эта ученица у ней не в фаворе, так как девица, чуждая низкопоклонства и прямая). На поверку же оказалось, что Общество и не разбирало ее прошения. А между тем ученица хотела уже оставить гимназию за неимением средств. И вот, когда начальницу уличили, она вынуждена была сказать об этом и ученице; а потом хвалилась, что она уговорила ее остаться. Сегодня узнал другой аналогичный факт. Учительница Н. П. рекомендовала в качестве репетиторши в одно семейство ученицу П., девушку, ныне осиротевшую и без всяких средств. П. начала уже заниматься. Начальница же, не расположенная к П., послала на ее место другую ученицу, которая в уроках не нуждалась и вообще как репетиторша стоит гораздо ниже П., у которой таким образом насильно отбили урок. Поступок, без сомнения, некрасивый, тем более что здесь произвол начальницы задевает не только частную жизнь учениц, но даже их родителей, ищущих репетиторов, и педагогов, которые ничуть не меньше начальницы могут разобраться в том, кто больше нуждается и кто способен лучше заниматься.
15 октября
Сегодня приглашала меня на именины одна ученица VII класса, в доме которых я раньше бывал, так как был хорошо знаком с ее двумя старшими сестрами, которые тоже окончили курс у меня. Но их теперь здесь нет. Идти же к В. я не счел удобным. Правда, она девушка славная и знакомством с ней учителя никогда не стали бы злоупотреблять. И если бы дело было в первые годы моей службы, когда я считал возможным бывать у учениц, смотря на них как на младших товарищей, я, конечно, не задумываясь пошел бы туда, куда хотел, так как ничего плохого или предосудительного в этом нет. Но минувшие годы убедили меня, что в отношении к ученицам надо быть крайне осторожным. Личное знакомство с той или другой из них становится сейчас же достоянием всей гимназии, а потом и всего города, вызывая всевозможные пересуды. В наших мелких провинциальных городах нет более любимого занятия, даже и среди образованной публики, чем сплетни. Достаточно пройти здесь с кем-нибудь по улице или поговорить лишний раз, как сейчас сочинят, что ты женишься, а то не остановятся даже и перед еще более гнусными сплетнями. Я лично уже достаточно свыкся с этими сплетнями, но делать (хотя и невольно) объектами их других лиц, особенно своих учениц, я вовсе не желаю. И вот поневоле приходится поступиться прежним идеалистическим представлением об отношении между педагогом и ученицами, приходится избегать личных знакомств с ними и ограничиваться только официальными отношениями.
Крест учителя-словесника
16 октября
Я как-то читал о почтальоне, которому до того надоел ежедневный однообразный труд разноски писем, что однажды на Пасхе или на Рождестве, подавленный мыслью о предстоящей разноске целых сотен поздравительных писем, он утопил в реке сумку, набитую этими письмами.
Нечто подобное испытывает и наш брат, педагог, обреченный целые вечера посвящать чтению и исправлению ученических сочинений о разных Онегиных, Чацких, Гамлетах, Макбетах, о которых писали на разные лады и в прошлом, и в позапрошлом году. Ученические работы — это настоящий крест учителей русского языка. Ни по одному из других предметов нет такого количества письменных работ, как по русскому языку и словесности. Ни у одного из преподавателей не отнимают они столько времени, заставляя сидеть за ними целые вечера и посвящать этому почти все праздники. А между тем за этот труд, поглощающий столько времени и сил, полагается лишь самое мизерное вознаграждение. За исправление работ целого класса но 20 рублей… в год! Да и то еще ныне вышло «разъяснение», что из этих сумм следует делать вычеты в пенсионный капитал.
Последнее время я все почта вечера посвящаю этой работе. Но не скоро подвигается она. Сочинения в моих классах (старших) уже большие; домашние редко меньше двух листов; а исправлять их надо всесторонне: и со стороны содержания, и со стороны плана, и со стороны стиля и орфографии. Классы притом у нас в гимназии многолюдные (редко меньше 40 человек). И даже при минимальном количестве сочинений приходится проверять в каждую четверть 10–12 работ. Но еще скучнее будет работать, когда в следующую четверть пойдут «исправления» старых работ; я требую от учениц исправлять все неправильные выражения, выписывать в исправленном виде фразы с неправильной пунктуацией и переписывать по нескольку раз исправленные орфографические ошибки. Для улучшения стиля и орфографии учениц я считаю такие исправления необходимыми; но зато сколько труда — и труда однообразного, скучного — прибывает с проверкой этих «исправлений». Самые темы, конечно, стараешься разнообразить; но в общем выбор их все-таки очень ограниченный, так как даю я обычно из курса (исключения редки; например, по одной в классе), и притом каждая тема (в начале года) представляется на утверждение окружного начальства.
Но самое больное место в сочинениях наших учащихся — это правописание. Содержание обычно особенных трудностей не представляет. Излагают тоже (за исключением нескольких наименее развитых учениц) по большей части сносно. Но орфография — это истинный бич для них. Научить писать грамотно в младших классах их не успевают; а переучивать безграмотных в старших классах — чело почти безнадежное, тем более что тут надо идти дальше — проходить литературу, и нет времени опять возвращаться к грамматике. И приходится ограничиваться только паллиативами: разбором ошибок в классе и исправлением их дома, чтобы ученицы не разучились но крайней мере окончательно. А между тем за орфографию приходится сбавлять им баллы, и почти все неудовлетворительные отметки за сочинения стоят в связи именно со слабым правописанием, от которого страдают нередко и хорошие ученицы, или плохо подготовленные на первых порах, или рассеянные. Не взыскивать же с них за орфографию нельзя, потому что иначе они вовсе не станут обращать на нее внимания (работы по другим предметам, где не обращают внимания на правописание, поражают еще большей безграмотностью); а на экзаменах им за это придется жестоко поплатиться, так как по циркулярам Министерства в экзаменационных сочинениях следует больше ценить орфографию, чем содержание (с двойкой из-за содержания можно допускать к устным экзаменам, а с двойкой за ошибки — нельзя).
Воспоминания о манифесте 17 октября
17 октября
Сегодня знаменательный день — день годовщины октябрьского манифеста о свободах. Но много уже воды утекло с тех пор, и мы еще дальше от всяких свобод, чем до 17 октября. И если не устояла перед этим последовательным ходом назад даже психика взрослых людей, ставших теперь совсем иными, чем в 1905 г., то еще яснее сказывается влияние эпохи на новых поколениях, постепенную смену которых приходится наблюдать нам, педагогам. Я помню ту молодежь, какая училась у меня в первый год моей службы. Гроза унеслась уже и тогда; но морс русской жизни еще не успокоилось. И молодежь жила отзвуками недавней бури. Она много ждала, интересовалась жизнью общественной и политической, стремилась к самодеятельности. У нее были различные кружки, издавались ученические журналы. Даже в сфере чисто научной, далекой от политики, у нее были более серьезные интересы. Восьмиклассницы, например, тогда по собственной инициативе выписывали педагогический журнал «Свободное воспитание», организовали педагогический кружок. Главным учителем их тогда была сама жизнь. Она задавала их молодым умам целый ряд вопросов, и она же предлагала на них различные ответы. Педагогам же приходилось только поспевать за запросами учеников, чутко воспринимавших все живое. Но заря новой жизни все угасала; жизнь потускнела и не стала уже расшевеливать молодые мозги. Прежние ученики кончили. На смену им шли новые поколения, не получавшие уже ни от жизни, ни от семьи никаких живых импульсов. И эти новые поколения учащихся не несли уже с собой в школу живых интересов ни к общественной жизни, ни к знанию вообще. Вместо ученика, протестующего против отметок и наград, пошел ученик, жаждущий лишнего балла. Работа «педагогов в футляре» стала теперь легче; но зато работа учителей, жаждущих влить в учеников живое содержание, стала гораздо труднее. При вялости современной русской жизни педагогу самому приходится расшевеливать учеников, и трудно подвигается эта работа, когда все кругом идет против нее. Современному ученику приходится разжевывать такие элементарные понятия, которые раньше сами носились в воздухе. Но понятия остаются понятиями, а передать детям, — видящим дома только карты и сплетни, — живые стремления, живые интересы еще труднее. Не говоря уже про какие-нибудь общественные вопросы, даже интерес к знанию вообще стал теперь слабее.
На днях пришлось мне говорить на эту тему с коллегой из реального училища, который состоит там библиотекарем. Ему как библиотекарю особенно бросается в глаза разница между чтением учеников года 4 назад и теперь. Тогда нарасхват брали из библиотеки серьезные книги, и библиотека не успевала удовлетворить этот спрос. Теперь книги, выписанные в те годы, спокойно стоят на полках, а ученики, отказываясь от всякого серьезного чтения, с жадностью хватаются за разные приключения и невероятные путешествия. Раньше, как творит этот педагог, идя в класс приходилось всесторонне обдумать материал, чтобы не попасть впросак на каком-нибудь предложенном учениками, вопросе. Теперь же этого уже не встретишь. Ученики совершенно равнодушны к тому, что им сообщают, и никто не заметит, если даже будешь говорить явную нелепицу. Попытки расшевелить их, разбудить наталкиваются на полное невнимание, и работать при таких условиях становится, разумеется, крайне трудно. У нас, в женской гимназии, дело, впрочем, не так плохо, так как ученицы в общем работают аккуратнее и добросовестнее, что я замечал еще и раньше, когда преподавал одновременно в реальном училище и женской гимназии.
18 октября
Относительно Никитинского юбилея вместо распоряжения о праздновании пришло решительное запрещение. Когда одно из городских училищ обратилось за разрешением к начальству, то получился ответ, что ввиду отсутствия на этот счет распоряжений высшего начальства просьба о праздновании юбилея отклоняется. Нечего, значит, и думать проявить собственную инициативу даже в таком невинном деле. А министерству Кассо, конечно, не до Никитиных. И сидят злосчастные педагоги, связанные по рукам и ногам. Общество вспоминает все-таки своих деятелей, печать тоже откликается на юбилеи; и только русская школа не смеет устроить без разрешения начальства ни одного культурного праздника. Так бесследно прошли у нас юбилеи Толстого, Белинского, а теперь Никитина. Так же, конечно, пройдет и юбилей Герцена. Никогда, кажется, стремление «подморозить» школу и удалить ее от русской жизни не заходило так далеко. Но против жизни трудно идти, и министерству приходится мириться с введением в школьные программы крамольных авторов, так как иначе, пожалуй, некого было бы и изучать. Зато уж все, что сверх этого, то «от лукавого». А если хотите юбилеев, то и юбилеев вам дадим. «Отпраздновали», с позволения сказать, юбилей Гоголя; отвели юбилей Полтавской битвы, носивший чисто казенный характер. Велели, скрепя сердце, отпраздновать 19 февраля. Но во избежание крамолы дали самые строгие предписания и велели запастись «литературой» Национального клуба. Произведений этих, правда, мы не получили, т<ак> к<ак> Национальный клуб как истинно патриотическое учреждение предпочел оставить деньги у себя и ничего не высылать. Но праздновали опять-таки совершенно по-казенному. И кому же в ум прийдет с одушевлением плясать под казенную дудку! Таков же будет, конечно, и Ломоносовский юбилей, если только министерство о нем не забудет.
23 октября
Опять не пришлось писать несколько дней. Да и вообще ни на что сверх обязательной работы не хватало времени. Четверть подходит к концу. Надо успеть проверить все тетради. А сверх того и практические уроки теперь каждый день. Поэтому все время занято. Приходить с 5-го урока в 3 часа. Только успеть пообедать, просмотреть газеты и немного прогуляться, как уже приходит какая-нибудь девица (а то и две) с конспектами. Потом пойдут тетради, потом подготовка к урокам. А там уже 12 часов, т. е. пора спать, так как в противном случае придется вставать с больной головой. И в результате я не мог даже просмотреть бывших у меня 3 дня новых книжек и журналов. Так и пришлось их отдать непрочитанными.
24 октября
Нередко чувствуешь с самого утра какое-то недомогание, сказывается оно и днем, и в такие дни бываешь как-то более раздражителен. Сегодня, например, учительницы заметили мне в перемену, что я выгляжу нехорошо. И когда в VII классе оказалось, что ученицы плохо усвоили урок, я начал ворчать на них; а в VIII классе даже сделал повышенным тоном выговор одной ученице, которая разговаривала с соседкой, а на мое замечание пожала плечами и начала возражать, что она говорит на тему урока.
25 октября
На днях я раздавал сочинения по педагогике восьмиклассницам, и когда, по обыкновению, начал разбирать одно из слабых сочинений, ученица, писавшая его, вдруг запротестовала, отказалась давать объяснения и демонстративно сидела при этом. Я выразил удивление ее недовольству и сказал, что если она написала глупости, то сердиться тут не на кого, а если она не может объяснить своих фраз, то можно подумать, что она не сама писала. Тогда она попробовала было отрицать, что у нее есть в сочинении такие выражения. Но когда я попросил ее посмотреть самой и она, подойдя к кафедре, убедилась в этом, то сразу изменила тон, стала говорить стоя и признала свои ошибки. Возможно, что ей показалось обидным, что я читаю ее ошибки; а особенно выражение «иллюстрированные примеры», где, может быть, была и описка в первом слове, но даже и слово «иллюстрированные» было совсем не к месту. Мне и хотелось выяснить причину таких ошибок и разобрать их неправильность. Так же я разбирал потом и ошибки другой ученицы, которая сама от души смеялась над своим сочинением. Не думал я обидеть и первую ученицу, и она потом, по-видимому, сама это сознала. По крайней мере, на следующий день она сама первая подошла ко мне с каким-то вопросом и видно было, что ничуть на меня не сердится.
26 октября
Сегодня вышла крайне неприятная история в VIII классе. Когда на уроке русского языка я стал спрашивать своих специалисток заданный им урок по грамматике, то оказалось, что они приготовили его очень небрежно. Одна, давши несколько неправильных ответов, осердилась и отказалась совсем отвечать. Другая тоже отвечала плохо, и когда я стал обращаться к другим, то оказалось, что и те тоже плохо знают, а одна даже не слышала, о чем мы говорим. Я стал недовольно ворчать на них, упрекая в нежелании работать. Тогда две ученицы, одна за другой, совсем вышли из класса. Когда же вслед за ними отправилась и третья, я попробовал ее остановить, но она не послушалась. Тогда я, возмущенный их поведением, взял журнал и, сказав: «Тогда и я не желаю с вами заниматься», ушел из класса.
До сих пор с VIII классом и со словесницами, в частности, у меня были хорошие отношения и я надеялся, что так будет и дальше. А потому этот случай крайне тяжело подействовал на меня. Виноваты, конечно, обе стороны: они тем, что действительно халатно отнеслись к грамматике; а я, вероятно, неприятно подействовал на них своим недовольным, ворчливым тоном; в результате демонстративный уход из класса и учениц, и учителя. Но хуже всего, что такие случаи могут вконец испортить наши отношения, которые для меня всего дороже. Поэтому, когда я был сегодня в театре, то знакомые сразу же видели по моему лицу, что у меня есть какая-то неприятность.
21 октября
В одну из перемен у меня было объяснение со словесницами. Одна протестовала против двойки, говоря, что раз она отказалась совсем отвечать, то надо ставить единицу. Я возражал, что она все-таки отвечала и отвечала плохо. Другая оправдывалась тем, что в учебнике этого нет, а моих объяснений она не записала. С этим я согласился и потом зачеркнул ей двойку, т<ак> к<ак> действительно поставил ей сгоряча. Остальные же ученицы заявляли, что впредь они будут как следует учить по грамматике. Вечером у меня была с сочинением одна из учениц, ушедших из класса. Свой уход она объяснила тем, что я осердился, а она не переносит, когда сердятся. Другие же в разговоре со мной мотивировали свой уход боязнью того, что я их спрошу и что останусь недоволен. Таким образом, дело постепенно разъясняется.
28 октября
Сегодня даже и ученица, обидевшаяся на двойку, видимо, успокоилась и даже не сердится на меня. А остальные и тем более. На уроке словесности я опять поговорил немного насчет этого инцидента, причем настаивал на необходимости для них основательно повторить всю грамматику. В заключение я решил сделать вместо одного урока грамматики в неделю по два (один вместо словесности), на что они отвечали, что если это нужно, то они ничего против не имеют. А чтобы это не пошло в ущерб курсу словесности, я предложил им делать по одному добавочному уроку словесности, на что они тоже согласились ввиду главным образом того, что в противном случае не успеют пройти Чехова. Таким образом, кажется, инцидент вполне исчерпан.
Вечером проверял работы своих словесниц и проверял на этот раз с удовольствием. Темы были довольно серьезные: «Славянофильство и западничество 40-х гг.» и «Взгляд Герцена на Россию и ее судьбу» (на выбор). Большинство учениц отнеслось к делу добросовестно, и мне приятно было читать их работы. Оригинального, правда, здесь ничего не было, но видно было, что они усвоили данный материал и относятся к нему сознательно. Приятно было сознавать, что это те самые девочки, которые 4 года назад переходили ко мне в V класс и писали на экзамене только диктовку. И вот они уже в состоянии разбираться во взглядах Герцена, в состоянии оценивать такие явления, как западничество, славянофильство, народничество. Наблюдение за духовным ростом учащихся и сознание, что здесь есть хоть капля и моего труда, — одна из лучших сторон педагогической деятельности, которая искупает многие темные стороны ее.
29 октября
Скоро конец четверти. А потому дома стараешься закончить проверку последних работ, в классе же почти все время приходится употреблять на спрашивание то неспрошенных, то желающих исправиться учениц. Балльная система всего острее даст себя знать в эти моменты, когда приходится выставлять четвертные баллы. Немало на этой почве бывает и неприятностей. Сегодня, например, в VI классе я спросил двух учениц, у которых было колебание в баллах (2 и 3); а потом начал рассказывать, не спросив ученицу В-ву, у которой за сочинение было 3 и 1, а устно она еще не была спрошена и, таким образом, должна была получить 2. Это ее сильно огорчило, и когда я стал расспрашивать, она изменилась в лице, а немного погодя с плачем выбежала из класса. Не спросил же я ее ввиду того, что переспросить всех все равно не было времени, на основании же письменных работ у нее выходило 2 без всяких колебаний. Но потом, принимая во внимание ее недовольство и просьбы других учениц, чтобы им дали возможность исправиться, я обещал спросить трех из них, не спрошенных раньше (и в том числе В-ву), в понедельник, назначив для этого большую перемену, т<ак> к<ак> уроков у них в эту четверть больше уже нет.
В VIII классе после урока тоже пришлось объясняться с одной ученицей Б-вой насчет отметок. Девица эта учится у нас еще первый год; она из семьи важного чиновника, но очень неразвитая, способная больше зубрить, чем понимать, и потому словесность дается ей туго. Устно она уже отвечала у меня и получила 3. Классное сочинение у ней оказалось банально списанным с учебника, а когда она начала уверять, что не списывала, я предложил ей прочесть его наизусть, если она так знает свой учебник (списана была притом та глава, которую ныне даже еще не проходили); она, конечно, не могла; и тогда я поставил ей единицу. Домашнее сочинение, хотя и не было списано, но имело целый ряд ошибок, а главное — так же как и первое, совсем не соответствовало плану; поэтому была тоже поставлена двойка; и за четверть выведено 2. Б-ва начала сегодня высказывать свое недовольство этой двойкой, опять отрицая, что первое сочинение было списано, и оправдываясь тем, что их не учи ли писать по плану и она не умеет. Было при этом наговорено, чти я не даю снисхождения, как другие учителя, хотя она и не нуждается в милости, и т. д. Но я на этот раз остался при своем мнении, т<ак> к<ак> первое сочинение действительно плагиат, а неумение писать по плану для ученицы VII класса совершенно непростительная отговорка. Но в общем оба эти случая оставили в результате весьма неприятный осадок.
Конец первой четверти
4 ноября
Вот и окончилась 1-я четверть. Прошел педагогический совет, который состоит почти исключительно в чтении статистических отчетов о процентах успевающих и неуспевающих и о числе пропущенных уроков, а потом в механическом выставлении оценок за внимание и прилежание каждой ученицы, да изредка в обсуждении каких-нибудь кар. Более же существенные вопросы (о постановке преподавания и воспитания и т. д.) совсем не поднимаются — отчасти потому, что внести что-либо новое все равно не имеем права, отчасти потому, что при этом пришлось бы затронуть своих, а это вне компетенции педагогического совета; да и отношения не хочется портить, потому что некоторые все готовы принять за личное оскорбление. Но все же и в педагогических советах жизни больше, чем в наших более высоких учреждениях, ведающих «просвещением». Вместо каких-нибудь разумных советов оттуда приходят только самые нелепые циркуляры, написанные притом так, что трудно и до смысла добраться. По содержанию же и того хуже! Здесь или разнос педагогов, сопровождаемый чуть не площадной бранью (особенно часто награждают такими бумагами мужские учебные заведения), или рекомендации какой-нибудь ни на что не пригодной книги (вроде дворянской геральдики), или какие-нибудь новые правила насчет того, на что надо надавить, что усилить, прижать. Сегодня, например, читали циркуляр о морозных днях, где округ возмущается «морозными праздниками» и требует, чтобы от занятий в такие дни освобождались только учащиеся младших классов, а старшие ученики и учителя обязательно ходили; но и младшие могут не ходить только при 35 градусах без ветра и при 30 с резким, пронизывающим ветром (раньше норма была на 5 градусов меньше); а на случай обмораживания учебные заведения должны иметь какие-нибудь мази. Таким образом, ученики должны, замерзая, все-таки идти в училище, а учителя, превратившись в докторов и оказав первую помощь, должны затем все-таки начинить их соответствую щей порцией науки.
Дальше таких циркуляров ни округ, ни министерство не в состоянии уйти в своем творчестве. Вместо заботы о некотором оживлении учебного дела идет неуклонное и беззастенчивое «подмораживание». Не дают и самим педагогам свободно пошевелиться даже в своей узкой профессиональной области. Как хотелось мне, например, в первые годы службы побывать на каком-нибудь учительском съезде или курсах, чтобы познакомиться с постановкой своего предмета в других учебных заведениях. И что же? Курсы, уже совсем подготовленные в Петербурге, не были министерством разрешены на том странном основании, что министерство само позаботится о своих учителях. Но вот прошло уже несколько лет, а министерство не сделало ни шагу взамен этих курсов, так как даже и те бюрократические курсы, которые оно учреждает при университетах, для нас, служащих педагогов, совсем недоступны. Благая идея устроить для учителей заграничные поездки, за которые я так благодарен Обществу распространения технических знаний, осуществлена тоже лишь частной инициативой. Но министерство и здесь все время ставило тормозы, а теперь, кажется, и совсем погубило это дело.
7 ноября
Вчера состоялся ученический вечер, устроенный ученицами VI и VII классов. Сначала был спектакль, а потом танцы и игры. Спектакль сошел не дурно и весело; но пьеса была довольно пошленькая (выбор нашей начальницы, которая пьесу из крестьянской жизни, выбранную ученицами, забраковала). Еще хуже, пожалуй, была пьеса на недавно бывшем спектакле в частной гимназии, где выбор сделан был фавориткой тамошней начальницы — словесницей. Вообще дело развлечений учениц составляет у нас монополию начальниц, которые одним классам беспрепятственно разрешают устраивать вечера, а другим (нелюбимым) — нет, выбирая и самое время для вечеров, и пьесы для спектаклей, ничуть не соображаясь при этом ни с учебным делом, ни с воспитательным влиянием этих вечеров. Я думаю, было бы лучше, если бы в этом принимали участие не одни только начальницы (эти гимназистки или институтки, корчащие из себя гранд-дам), а педагогические советы, где в общем более компетентных в воспитании людей. Но вообще-то ученические вечера, конечно, вещь необходимая. Какое оживление и непринужденное веселье царит на них! Так веселиться может только молодежь. И какой скукой веет, наоборот, от тех «семенных» вечеров, где танцуют взрослые. Любо посмотреть, какими веселыми, жизнерадостными парами носятся ряд за рядом наши ученицы. Везде заразительный смех, свежие, румяные лица. Хорошо, кабы с таким интересом, с таким оживлением шли и учебные занятия, чтобы «ученье» было не «мученьем», а наслаждением!
8 ноября
На днях был на очередном заседании в Обществе воспомоществования учащимся в средне небных заведениях. Средств у Общества не много, а бедноты среди учащихся сколько угодно. За одно только 1-е полугодие пришлось внести за учение больше 1000 рублей. А кроме того, необходима и одежда, и обувь, а некоторым и ежемесячные пособия. Недавно случайно узнали, например, в каком положении находится одна из наших учениц (шестиклассница А-ва). Она дочь бедного крестьянина, который не в силах ее содержать. И вот девушка за квартиру и хлеб поступила в кухарки в семью одного столяра. По утрам она встает в половине шестого, доит коров, стряпает хлебы, угощает ребят и потом идет в гимназию; а после уроков опять хозяйничает, не брезгая никакой черной работой и не получая за это даже жалованья.
Приходится удивляться, как при таких условиях она смогла еще порядочно учиться. И в подобной тяжелой обстановке находятся многие девушки из бедных семей. А между тем нам, учителям, приходится предъявлять к ним те же требования, что и к богатым детям, которых иногда даже и в старших классах тянут репетиторы.
9 ноября
Вчера отмстили Ломоносовский юбилей. За несколько дней пришло распоряжение отпраздновать его, и мне поручено было составить речь. Хотя работа была подневольная, но, принявшись за нее, я все-таки заинтересовался, потому что Ломоносов, действительно, фигура незаурядная. Речь вышла не очень большая; но главное — неприятно было читать, так как я, хотя и преподаю уже 6-й год, а все-таки не всегда могу побороть в себе смущение, которое вызывает местами что-то вроде заикания. В первый год службы это было для меня настоящим мучением; но потом такие случаи стали делаться все реже. Но публично, перед всей гимназией, мне выступать не приходилось. Однако дело сошло ладно, хотя и выходили несколько раз заминки от волнения. Потом ученицы продекламировали «Школьника» и несколько од Ломоносова, к чтению которых я подготовлял их почти целую неделю. Было и пение, а в заключение гимн, на исполнении которого настоял директор, хотя несколько лет назад, на Гоголевском юбилее, обходились без него.
10 ноября
Получил письмо от одной бывшей ученицы (прошлогоднего выпуска), которая служит теперь классной дамой в одном глухом городишке. Добрая память учениц для меня всегда приятна, и я с удовольствием читаю те письма, в которых некоторые из них делятся своими первыми впечатлениями от жизни. Моя корреспондентка на этот раз пишет о том странном чувстве, какое испытывает она, оказавшись вместо учительницы в разряде начальства, опекающего учениц. Душой она еще такая же гимназистка, и ее больше тянет в их общество, чем в общество педагогов. Но те уже смотрят на нее как на человека другого лагеря, дичатся, сторонятся ее. А она, душевно одинокая, ищет сблизиться с ними не по-начальнически, а просто по-человечески, как с подругами. И как рада она, что хотя одна из учениц стала сближаться с ней, стала делиться своим горем.
А разве не то же испытывает большинство молодых педагогов? Ведь и мне, например, так же дорого простое, человеческое отношение к себе со стороны хотя некоторых учениц. Ведь и мне хочется, чтобы во мне видели не только чиновника, но и человека. Душевное одиночество в кругу людей своего положения тоже заставляет иногда искать сочувствия среди чуткой молодежи. Но положение мужчины — учителя среди учениц ставит этому непреодолимые препятствия. Установись у меня с кем-нибудь из учениц такие отношения, как у моей корреспондентки с ее ученицей, — разве не стали бы говорить, что я «ухаживаю» за ней и т.п.? И поневоле приходится выбирать или между одиночеством и формальными отношениями или между сплетнями, которые особенно обидны при отсутствии настоящих поводов к ним.
Проблемы восьмиклассниц
11 ноября
Отношения с восьмиклассницами меня начинают не в шутку беспокоить. И страннее всего то, что это повторяется почти каждый год. Ни от одного класса не испытываю я столько неприятностей, как от VIII; ни в одном классе не приходится раздражаться чаще, чем здесь. Что за причина этого? Не думаю, чтобы во мне, потому что ведь и в других классах я тот же самый; но нельзя винить и учениц: ведь и они не могут переродиться в VIII классе. Дело, очевидно, в самом положении этого класса. С одной стороны, ученицы здесь чувствуют себя почти взрослыми, сами дают уроки, помогают классным дамам; а с другой стороны, они остаются еще на самом деле теми же гимназистками, приученными только к внешней дисциплине, не способными к самостоятельной работе и к самостоятельному поддержанию порядка при общей работе в классе. Они так же оттягивают до последних дней все домашние работы, пишут чуть не накануне подачи четвертные сочинения; а у преподавателей, придерживающихся лекционной системы, ничего не делают целую четверть, а потом перед спрашиванием надрываются над работой, сидя за ней целыми ночами и являясь в класс со слезами и истериками. К совместной работе, к порядку они тоже не приучены; и когда в классе думаешь сделать что-нибудь вроде собеседования (например, при разборе пробного урока), то начинается полный хаос, подымайся гвалт, все говорят враз, стараются перекричать друг друга; никакие попытай установить порядок ни к чему не приводят, и приходится, наконец, осердиться и вернуться к обычным занятиям, т. е. к рассказыванию и спрашиванию. Нельзя, конечно, и учениц винить в этом. Ведь в течение 7–8 лет ученья они работали только из-под малки, сидели смирно только из страха перед учителем, а к самодеятельности, к внутренней дисциплинированности их вовсе не приучали. Я помню, как поразила меня нынешним летом берлинская «свободная школа» Отто, которую посетил я в числе других экскурсантов. Не уроки удивили меня: здесь ничего особенного я не встретил. А та свободная беседа, которая происходила после уроков. Ученики всех классов вместе со всеми учителями вели правильную беседу на самые разнообразные темы. Тут и мальчики, желающие знать подробности какой-то сенсационной кражи, тут и старшие, обсуждающие вопрос об отлучении от Церкви знаменитого пастора; и все они смогут высказать свое, никто никому не мешает, все делается в строгой очереди, в порядке; видна привычка к порядку, к дисциплине, без которой невозможна никакая общая работа. Но к этому приучают их годами, к этому приучает их весь строй «свободной школы», где учащиеся чувствуют себя не стадом, а организацией, со своим внутренним самоуправлением, со своим выборным советом, с товарищеским судом. Не скоро дойдет до этого наша казенная школа, сковывающая по рукам и ногам не только учеников, но и учителей. А в результате поразительная недисциплинированность наших учащихся и неумение их самостоятельно работать, целесообразно распределять собственное время и труд.
Пока они под бдительным надзором опекающих их педагогов, до сих пор дело еще идет. Но когда в старшем классе хочешь предоставить им некоторую свободу, то результаты получаются плачевные; а когда снова вгоняешь их в прежние ученические рамки, то это тоже не нравится, так как они чувствуют себя уже более взрослыми. А между тем учителя не могут рассматривать их как студентов, которые могут бездельничать за свой страх и риск, т<ак> к<ак> с нас требуют к известному сроку отчетов, баллов и т.п. И приходится то возмущаться их неумением взять себя в руки, то прибегать к мерам репрессий вроде двоек или выговоров. Восьмиклассницы же, недовольные этим, становятся в оппозицию и тем еще более портят наши отношения. И изо дня в день растет на почве мелких недоразумений взаимное недовольство, которое иногда дает себя очень болезненно чувствовать. А между тем кто виноват?
12 ноября
Вчера во время урока я чувствовал себя как-то особенно в ударе, что бывает далеко не всегда, и хотя приходилось рассказывать в разных классах больше 3-х часов подряд, однако усталости я не чувствовал и говорил довольно плавно и живо. Но в VIII классе опять не все обошлось благополучно. Когда после рассказа урока вперед осталось свободное время, я вздумал употребить его на упражнение в объяснительном чтении одной статьи. Но ученицы, почувствовав, что официальная часть урока кончилась, подняли такой шум, что вызванная мною ученица отказалась говорить; другие начали тоже отнекиваться; тогда я вынужден был оставить свою попытку и стал продолжать официальные занятия, вызвав одну ученицу и заставив ее просто отвечать урок. Потом вышел инцидент и на уроке с моими специалистками-словесницами. Среди них есть одна, И-и, девица весьма неглупая, но крайне самолюбивая и стремящаяся постоянно чем-нибудь уязвить учителя. Недавно, например, она заявила, что находит совершенно бесполезными портреты писателей на стенах (вывешены были по моей инициативе и даже с некоторым риском портреты: Герцена, Достоевского, Некрасова, Успенскою, Чехова, Щедрина и Надсона), чем больно задела меня, хотя я и не подал виду. Сегодня же при входе моем в класс начала стонать, что все эти занятия ей надоели (на уроках она обыкновенно зевает с самым демонстративным видом, а когда я предлагал сделать дополнительный урок по словесности, она была недовольна), что нет никакой пищи для души; а вскоре начала выражать неудовольствие, что им не разрешили устроить вечер. Тогда я сказал, что духовную пищу надо самим искать, что в готовом виде она не дастся; судя же по их стонам насчет вечера, можно думать, что они ищут пищу более для ног, чем для души. Потом я начал заканчивать биографию Л. Толстого, начиная с кризиса 70-х гг., и излагал в то же время его новое учение. Материал, мне кажется, был довольно интересный; моя оппонентка же, вытащив книгу, начала ее читать и улыбаться. На: тот раз я сдержал себя в рамках полной корректности и только, прервав рассказ, спросил ее: «Может быть, я Вам мешаю своим рассказом, тогда можете идти читать домой». Ученица страшно побледнела и, сразу же положив книгу, остальное время внимательно слушала.
Но не всегда дело кончается так гладко, когда неприятности не оставляют большого следа и когда в результате чувствуешь себя вполне правым. Сегодня, например, я уже не чувствовал себя в таком бодром, уравновешенном настроении, а поводы для столкновений опять нашлись. Прозаниматься пришлось, по обыкновению, пять уроков подряд, что уже само по себе способно сильно утомить, а тут еще и разные неприятности. На первом же уроке в VIII классе (по грамматике) оказалось, что некоторые «специалистки» не имеют элементарных сведений о глаголе, хотя вчера я употребил на объяснение этого целый час, да и по учебнику это тоже им было задано. Пришлось опять поворчать на них, одной поставить 2, а другую посадить, не доспросив до конца, так как она была настолько невнимательна, что даже забыла, о чем я ее спрашиваю. На другом уроке в VIII классе (методика русского языка), когда начали разбирать статью для объяснительного чтения, поднялся опять шум, и я с трудом водворил порядок. А на последнем уроке (педагогике) ученицы начали заранее отказываться в количестве чуть не половины класса, хотя я без предварительного рассказа не задаю им ни одного урока и вчера я рассказывал им целый час. Это возмутило меня; я стал говорить, что, очевидно, рассказывать для них совершенно бесполезно, что они совсем не желают работать; а в заключение объявил, что раз они злоупотребляют отказами, то больше отказов я не принимаю. Когда затем я спросил одну ученицу и она отвечала, то одна из только что отказавшихся учениц начала ей подсказывать самым бесцеремонным образом, не обращая внимания на мои замечания. Поэтому я, окончив спрашивать первую ученицу, вызвал ту, которая си подсказывала, но она отвечать отказалась, а когда я упомянул о ее подсказках, начала категорически отрицать это, а потом ушла из класса. Девица эта умная, развитая, и ее отношение глубоко оскорбило меня. Как ни стараешься относиться к ним по-человечески, но и ответ чаще всего встречаешь именно такие поступки. Девушка, честная в отношениях к другим людям, не считает сколько-нибудь позорным нахально лгать в глаза учителю, и только потому, что учитель, т. е. человек другого лагеря, человек, так сказать, вне закона. Страшно больно действуют такие факты, такие незаслуженные оскорбления. И я сегодня весь вечер в самом подавленном состоянии духа… Я ходил по пустым, темным улицам города, и такое одиночество, такая тоска в душе! Для чего в самом деле живешь, для чего работаешь, когда не заслужить в результате даже просто человеческого отношения со стороны своих учениц? А между тем сколько сил, сколько времени поглощает этот неблагодарный труд!
14 ноября
Вчера и сегодня праздники, но отдыху почти никакого. Вчера, не выходя из комнаты, сидел за письменными работами с утра до 7 часов вечера. Немало времени употребил на них и сегодня. И в результате успел проверить только одну работу VIII класса. А там лежат еще три непроверенных работы, которыми придется заниматься уже в будни; и притом поскорее, так как на той неделе должны поступить новые.
15 ноября
Сегодня день истерик, в которых, впрочем, я не виноват. Утром собрались педагоги и восьмиклассницы в приготовительном классе, где должен был состояться пробный урок, но практикантки все нет и нет. Прождав минут 15–20, решили, наконец, разойтись, но когда пошли из этого здания, то оказалось, что практикантка сидит на кухне и горько плачет. Из-за этого она и не явилась в класс. Ученица эта дала уже удачно 2 пробных урока, так что дело это для нее знакомое. Но на этот раз напала какая-то робость, волнение, нервы расходились, и в результате урок не состоялся. Пришлось успокаивать ее, а урок отложить на послезавтра.
На последнем уроке словесности в VIII же классе вышла опять история — с той самой И-и, которой пришлось сделать замечание 12 ноября. На этот раз у нас все было мирно. Отвечала урок совсем другая ученица; И-и же, которая на днях тоже должна давать пробный урок и не раз уже сегодня толковала со мной по его поводу, начала почему-то засовывать одну свою книжку под парту; потом, видя, что я смотрю, достала ее, начала пересмеиваться с соседкой, и вдруг, закрывши лицо руками, зарыдала. Ее окружили, начали уговаривать; но И-и в истерическом припадке, не давала отнять рук от лица, не хотела идти и из класса и, плача, гнала от себя утешавших ее подруг. Наконец, когда она немного успокоилась, удалось увести ее из класса; но из коридора еще некоторое время доносились ее рыдания. Что за причина этого, трудно сказать. Утешавшей ее классной даме И-и говорила, что ей все надоело, и гимназия в том числе, возможно, что девушка переживает какой-то кризис; отчасти, может быть, связанный с тем, что ей, из-за недостатка средств, пришлось отказаться от уроков любимой ею музыки. Вдобавок же ко всему этому она, очевидно, малокровная и с несколько развинченными нервами. При свете всего этого я иначе взглянул теперь и на ее предыдущее поведение, несколько странный и придирчивый тон. Разочарование и скука, очевидно, тут не напускные, а искренние и до болезненности острые. А какие ныне слабые, чувствительные нервы! Какая болезненная молодежь! И как, наверно, отражается на них весь формализм нашей школы, все эти мелочи, которыми, иногда сам того не замечая, обижаешь их. И каким внимательным к их болезненным душам должен быть современный педагог. А между гем сверху как будто нарочно все направляют к тому, чтобы еще гуже натянуть эти и так уже туго натянутые нервы. Все усиливаются требования строгости в надзоре, в баллах; вводятся экзамены и всякий другой формализм. И за все эти легкомысленные «реформы» расплачиваются все те же бедные дети нашего нервного, больного иска, живущие в тяжелую эпоху казней и самоубийств…
25 ноября
Опять больше 10 дней не приходилось браться за дневник. Совсем не хватало на это времени. Немало пришлось опять пережить за эти дни. Крупного, правда, ничего; но ведь вся наша жизнь состоит из мелочей; от них зависит и весь тон нашей жизни.
Работа в «младших» классах (т. е. с V по VII) шла в общем сносно. Бывали моменты, когда сходили хорошо и уроки в VIII классе. Бот, например, урок, на котором были многие восьмиклассницы. Был бенефис их любимого артиста, игравшего Кина. Ученицы, под свежим впечатлением, показывают мне карточку артиста (в роли Кина). И непринужденно делятся своими мнениями о спектакле. И с ними так просто, хорошо. Вот другой урок: я рассказываю о памяти, иллюстрирую свое изложение примером из рассказа Чехова, читаю стихотворение А. Толстого. Ученицы внимательно слушают. Но это не мертвое, насильственное внимание. Нет, они сами живо реагируют на мой рассказ. Встает одна ученица и приводит в пример другой рассказ Чехова. Другая пытается тоже дать пример, но она что-то перепутала, исказила, и ее поправляют подруги. Нередко лекция переходит в живую беседу. В классе царит бодрая, деловая атмосфера. И никакой надобности в принудительной дисциплине нет. А когда я закончил, наконец, урок, то слышу, что ученицы благодарят за него и называют интересным. Как приятно было бы и для нас, учителей, почаще переживать такие минуты. Но… к сожалению, не приятных минут гораздо больше.
Разбирается практический урок И-и в том же VIII классе. Замечаний довольно много. Самолюбивой И-и, должно быть, неприятно, хотя критика вовсе не носит тона какого-либо недоброжелательства. А когда указываю на одну ошибку и я, И-и вдруг объявляет, что так написано в поправленном мной конспекте. «Полюбуйтесь-ка!» — иронически добавляет она. Но оказывается, что в конспекте вовсе не так и что то, что я говорил ей при исправлении конспекта о дождевых червях, она отнесла к червям вообще, думая, что других червей не бывает. На этот раз, несмотря на явную ложь по своему адресу, я вполне владею собой, спокойно указываю, что виновата она сама и только в заключение добавляю: «Не угодно ли теперь Вам самим полюбоваться!»
На этом дело и окончилось. Но, не сдержись я, и ученицы приняли бы сторону обиженной подруги.
В другой раз мне опять пришлось испытать обиду со стороны одной восьмиклассницы, и финал здесь вышел не такой благополучный. Взявши при начале урока книжку для записи отсутствующих, я увидал в одной фамилии грубую ошибку. Мельком взглянув на подпись двух дежурных, я спросил: «Кто это из вас «М-ва» через «а» написал?» Вопрос был задан между прочим, и никакого особенно серьезною значения я ему не придавал. Как вдруг ученица Б-ва, бывшая в тот день дежурной (вместе с другой ученицей) и отличавшаяся вообще своей безграмотностью, принимает это за какое-то оскорбление по своему адресу и спокойно, но иронически отчеканивает мне, что мой поступок «некрасив» и что я поступаю «непедагогично». Я был так ошеломлен этой выходкой, что не нашелся что либо дельное возразить ей, хотя чувствовал себя вполне правым; а Б-ва еще несколько раз повторила свои выражения. Настроение было сразу испорчено, и когда я начал спрашивать одну ученицу, то уже не мог вполне сосредоточенно заняться ее ответом. В классе же стоял шум, смех, разговоры (не имеющие, правда, отношения к данному случаю). Все это еще больше отвлекало и нервировало меня. Отвечавшая мне ученица, отчасти под влиянием этого же, начала сбиваться. Когда она пропустила один вопрос, я спросил это у другой ученицы; отвечавшая же стала возражать, что и она это говорила. Я хочу восстановить истину и говорю: «Вы говорили так-то» (возможно, что я несколько изменил ее слова, но ошибка у ней во всяком случае была). М-ва тогда резко возражает: «Это неправда!» и чуть не спиной обертывается ко мне, близкая к слезам. Я посылаю ее на место, а через минуту она уже с рыданиями убегает из класса. У учениц, вероятно, создалось впечатление, что это я своими придирками довел ее до слез. Но я и спросил ее как раз с целью поправить (за письменную работу она имела 2), и никаких сознательных придирок с моей стороны не было. Но в общем и у меня, и у учениц впечатление от урока осталось самое тяжелое. Всего же больнее было оскорбление, нанесенное мне в начале урока Б-вой. Это была пощечина, и притом пощечина, как мне кажется, незаслуженная. Жаловаться я, конечно, не пошел. Но ответить Б-вой все-таки следовало. Едва ли бы только смог я сделать это вполне спокойно.
26 ноября
Вчера смотрел в театре «Трагедию ученика». А сегодня и мне, и ученицам самим пришлось переживать тоже своего рода трагедию. 1-й урок был у меня со специалистками. Задано было по грамматике, которую они не знают и не любят. Ввиду этого, а также, вероятно, и вследствие позднего возвращения со спектакля трое из девяти совсем не явились на урок; а трое других, спрошенных мной, начали под разными предлогами отказываться, хотя урок был очень небольшой. Заниматься при таких условиях не имело смысла и я, опять поговорив о их нежелании работать даже по специальности, прервал урок и ушел из класса, поставив спрошенным ученицам три единицы (нынче в VIII классе еще в первый раз). Сидя один в учительской, я был близок к отчаянию. А из коридора раздавались звонкие голоса и смех гимназисток.
Уроки в других классах снова ободрили меня, и когда на последние уроки я пришел опять в VIII класс, то чувствовал себя уже спокойным. Восьмиклассницы, очевидно под влиянием всех последних конфликтов, как-то присмирели и в случае разговоров даже сами останавливали друг друга. Дисциплина поэтому была хорошая, и уроки шли гладко. Но чувствовалась какая-то натянутость.
Когда учителю учиться?
28 ноября
Опять сегодня не хватило времени даже на просмотр газет. Между тем хотелось бы почитать только что полученный том последних сочинений Толстого; давно уже ждет очереди интересная книга Алферова; а мысль о занятиях немецким языком уже давно пришлось оставить. Проведя в гимназии 5 уроков, я просидел потом около 2 часов на конференции. Вскоре после обеда отправился в библиотечную комиссию Школьного общества, где я состою членом. А придя оттуда, все остальное время (часа 2,5) просидел за подготовкой к урокам, не успев даже заняться проверкой тетрадей, которых у меня лежит около 80 штук, а в конце недели получатся опять новые.
То же предстоит и завтра, и послезавтра, потому что завтра надо идти в заседание совета Школьного общества, потом в Общество вспомоществования учащимся в средне-учебных заведениях. Можно бы, конечно, отказаться от участия в этих обществах, но, по-моему, это и так небольшая общественная деятельность, ниже которой стыдно спускаться. Интеллигенции в нашем городе, правда, немало; но лишь незначительная часть ее участвует в какой-нибудь общественной работе, и многочисленные общества, возникшие здесь за последние годы, обслуживаются почти одними и теми же лицами, которым приходится чуть ли не разрываться. И при такой бедности в активных работниках стыдно совершенно устраняться от всякой общественной деятельности, тем более что она способна все-таки до некоторой степени дать нравственное удовлетворение.
«Но тогда откажись от слишком большого числа уроков!» — можно, пожалуй, сказать. Но и это тоже легче сказать, чем сделать, потому что, работая для гимназии часов по 8–10 в сутки, получаешь за это лишь столько, сколько при самой скромной жизни едва хватает до следующего месяца. Отказываться же, например, от VIII класса, это значит остаться при 50 рублях в месяц. И обидно становится, когда смотришь, что столько же, а то и больше получают какие-нибудь чиновники, не имевшие иногда даже и среднего образования и занимающиеся только с 10 до 3-х, да и в эти часы иногда не знающие куда девать свободное время.
1 декабря
Сегодня на совете составляли расписание полугодичных репетиций в VIII классе. И вот с 10 декабря на протяжении больше чем недели придется прервать нормальные занятия в VIII классе и употреблять время на спрашивание и выставление баллов. При этом спрашивание не в обычной, а в особо нервирующей учениц обстановке: с зеленым сукном, ассистентами, начальством и прочими атрибутами экзаменов. Сами создаем ненормальность этого; но не нами установлено, и потому приходится подчинятся. А между тем эти репетиции — сплошная нелепость! Они имели бы еще смысл при лекционной системе или, по крайней мере, в том случае, если бы можно было в течение полугодия не аттестовать ученицу баллами. Между тем с нас требуют аттестовать их каждую четверть. Поэтому значительную часть времени приходится употреблять на спрашивание (особенно если большой класс); а теперь, например, едва окончится спрашивание для вывода четвертных баллов, начнется спрашивание на репетициях. В этом и проходит время. А между тем из-за тех же репетиций приходится совершенно останавливать занятия, которые, без сомнения, дали бы больше ученицам, чем нервничанье перед зеленым сукном.
Циркуляры, вводящие все это, давно уже существуют. Но в годы освободительного движения они замерли. В первый год моей службы репетиций не было; не требовалось в VIII классе и четвертных баллов, а только полугодичные. Потом пошли различные напоминания из округа; да и ближайшее начальство, почуяв, откуда подул ветер, начало снова вспоминать забытые циркуляры. И формалистика «все растет да растет, все на школу с боем идет».
Сегодня, например, читали опять новый циркуляр, рекомендующий нашему вниманию предложение Синода о внедрении в учащихся религиозного духа. И чего тут только нет! И обязательное посещение богослужения, и чтение Евангелия на молитве, и присутствие на ней преподавателей, и внеклассные собеседования на религиозные темы. Одним словом, целый ряд уже испытанных мер, которые, как известно, конечно, и Синоду, — создают из семинаристов наиболее яростных атеистов. Хорошо еще, что у нас в совете не нашлось ни одного сторонника этих мер, и все обсуждение циркуляра сводилось к тому, нельзя ли как-нибудь обойти его.
2 декабря
Отношения с восьмиклассницами постепенно налаживаются. Б-вой я ни слова не говорил по поводу ее выходки, и она после нескольких дней выжидания сама стала разговаривать со мной. Да и я сам, думавший, что никогда не забуду этой обиды, на самом деле не могу долго сердиться на своих учениц.
А между тем у них «всякое лыко в строку», но только в том случае, если задета ученица же. В основе этого, конечно, доброе чувство товарищества, но и оно переходит нередко просто в своего рода групповой эгоизм, щепетильный к своей чести, но не считающийся с чувствами других — «не наших». Так было и в день инцидента с Б-вой и М-вой. Оскорбление, нанесенное мне Б-вой, прошло для класса совершенно незамеченным; замечание же, сделанное мной чуть не до истерики хохотавшей В-вской, превратилось в устах учениц в намерение выгнать ее из класса, хотя замечание было в гораздо более мягкой форме, чем слова Б-вой, брошенные по моему адресу. Сама В-ская, с которой я говорил потом после урока, видимо, вовсе не чувствовала себя обиженной, она согласилась, что мешала заниматься и обещала больше так не делать. А между том версия о том, что я чуть не выгнал со из класса, пошла гулять по гимназии. И когда однажды я пришел на урок в VIII класс, на доске было написано стихотворение относительно меня: «Укажи мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы наш педагог и учитель нас из класса в три шеи не гнал. Ставит он во журнале колику…» Стихотворение это очень больно меня задело; но я, прочитав его, ни слова не сказал ученицам и стал заниматься как обычно; и урок прошел вполне мирно.
Мирно же прошел и урок грамматики со специалистами. В начале его И-и начала разговор о поставленных мной единицах, в чем ее поддержали и другие. Я постарался объяснить им, что единицы ставил не для исправления («единицами нас не исправите», возражали они), а как оценку их знаний, и что если существует балльная система и против пятерок они, например, не протестуют, то не могут протестовать и против единиц, так как сами сознают, что слабо знают грамматику. Отвечали на этот раз они довольно прилично, так что я в заключение даже похвалил их.
3 декабря
Нервность нынешних учениц опять дала о себе знать. Одна семиклассница, ответив урок на 4, закатила после этого истерику, объясняя это просто волнением при ответе. Тем же кончилось дело и у одной восьмиклассницы, которая не знала урока по педагогике. А на уроке грамматики произошло небольшое столкновение с недалекой но уму, но очень щепетильной М-вой. Отвечала она плохо, видимо, без всякого понимания. Нередко соседки подсказывали ей, и она пользовалась этим, иногда даже перевирая то, что подсказали. А когда я заметил, чтобы не подсказывали, М-ва категорически заявила, что ей не подсказывают и что самолюбие не позволило бы ей пользоваться подсказами. Такая беззастенчивая ложь взорвала меня, и я спросил: «Как же Ваше самолюбие позволяет Вам лгать в глаза? Очень оно у Вас странное!» Но на нее это, по-видимому, особенного впечатления не произвело.
7 декабря
Вчера по случаю именин получил поздравления от 14 бывших своих учениц разных выпусков, а теперь учительниц и курсисток (причем 4 из них даже телеграфных). Были поздравления и от нынешних учениц, а именно коллективное от VIII класса и еще отдельные поздравления от 7 учениц. Приятно сознавать, что, очевидно, есть все-таки ученицы, которые вспоминают меня добром. Такое отношение учениц — лучшая награда для учителя.
Бывшие ученицы
8 декабря
Вчера вечером были у меня в гостях две бывшие ученицы первого моего выпуска. Об этом выпуске и особенно о той компании, к которой принадлежали эти две ученицы, у меня останется навсегда самое теплое воспоминание. Умные, развитые девушки, сознательно пережившие минувшие бурные годы, они были в VIII классе уже людьми с определенными убеждениями, которые умели отстаивать и в разговорах, и даже в своих гимназических сочинениях. Но главное, что отличало лучшую часть этого выпуска, это глубокий идеализм и притом не отвлеченный, теоретический, а жаждущий живого дела. Не к диплому и даже не к высшему образованию стремились они, а к живой работе на пользу народа, хотя бы и с тяжелыми жертвами лично для себя. И в VIII классе они уже жадно искали новых путей для служения народу. Они занимались в воскресной школе, выписывали педагогический журнал, организовали педагогический кружок, где читали и обсуждали рефераты о воспитании. Был даже проект организовать свободную школу в деревне, где они стали бы по очереди заниматься с крестьянскими ребятами; одна из них даже уехала туда, но наткнулась на сопротивление священника и местных властей. Часть группировалась около одного рабочего кружка, и одна восьмиклассница (девица необыкновенно развитая, с философским складом ума и глубоким идеализмом) усердно училась сапожному ремеслу. Весной они устроили при Народном доме детский сад и привлекли туда массу ребятишек, которых пытались учить и воспитывать на началах свободы и самодеятельности.
По окончании курса они тоже остались верными себе. Особенно та самая В., которая наиболее выделялась из них, несмотря на то что была всех моложе (она окончила VIII класс 16-ти лет). Потом поступила она, несмотря на свою золотую медаль, простой швеей в швейную мастерскую, а осенью уехала в Москву, где пыталась поступить на какую-то фабрику; но этим подорвала свое и без того слабое здоровье. Однако и потом, прожив зиму на Кавказе и немного поправившись, она едет в Т. и энергично работает там над организацией детской колонии, пока болезнь снова не прерывает ее деятельность. И вот вчера эта В. вместе с подругой снова побывала у меня. Многое рассказали они о своей жизни за это время (с одной из них я не виделся 4 года). Немало тяжелого пришлось им перенести. Но их любовь к живому делу все еще не угасла. По крайней мере лучшие воспоминания их — это воспоминания о той детской колонии, где они вместе работали. Потом они работали на полях как крестьяне; а йотом учили собранных в колонии бедных ребят. И мне запомнилась из их рассказа яркая картина, проникнутая горячей любовью к детям, — картина летней ночи, когда руководительницы вместе с детьми сидят у костра среди высоких, черных сосен, и ночная тишина прерывается то пением одной из руководительниц, то звонкими детскими голосами.
18 декабря
Вот окончились и репетиции в VIII классе. Последняя неделя была какая-то шальная. Шли и обычные уроки, и репетиции, т. е. в сущности почти те же экзамены. Восьмиклассницам, которые по русскому обыкновению оттянули подготовку к самому концу, пришлось довольно круто. Надо было сдавать пройденные за целых полгода курсы. У словесниц тут же подошел срок подачи сочинения, которое они свободно могли бы кончить еще до репетиции, но которое тоже не было даже и начато до последних дней. Целый ряд моих уроков пропал из-за этих репетиций. А между тем необходимо было пройти по педагогике целый отдел, и притом довольно трудный (логику). Поэтому в первые часы я стал делать добавочные уроки по педагогике, а репетицию по ней попросил поставить самой последней. Но совместить все это восьмиклассницам было трудно, и начались массовые пропуски уроков. Некоторые, впрочем, остались исправными и на этот раз; аккуратно посещали все уроки и отвечали по какому угодно предмету даже в дни своих репетиций. Но таких учениц, привыкших методически работать и добросовестно относиться к делу, было немного. Большинство же, бросаясь пополнить пробелы по одному предмету, запускали в то же время другие; утомлялись от такой спешной и беспорядочной работы и получали на репетициях иногда слабые баллы.
Я к этим пропускам относился сначала снисходительно. Работу по словесности и методикам совсем приостановил и продолжал идти вперед только по педагогике, усердно объясняя им каждый урок и стараясь сделать логику по возможности наглядной и интересной. Не раз спрошенные мной ученицы отвечали плохо, но я ничего не ставил им за такие ответы, надеясь, что они исправятся. Но репетиции подходили уже к концу, кончался и курс логики, которую дня через два они должны были сдавать. А между тем ходить на уроки стало еще меньше. Вчера вместо 26 было только 6 человек, сегодня, после выговора начальницы, пришло побольше. Но когда я вызвал одну ученицу, она, поговорив немного невпопад, совсем отказалась отвечать дальше, хотя у нее все репетиции кончились уже несколько дней назад. Другая заявила, что у ней болели зубы, третья и четвертая тоже отказались. Тогда я, возмущенный их отношением к делу, которое — и несмотря на репетиции — могло бы быть все-таки более добросовестным, разгорячился и заявил, что раз они не работали по логике как следует вовремя, то я буду спрашивать их на репетиции по всей программе и каждую обязательно спрошу из логики; тем же, кто неудовлетворительно отвечал на этой неделе, поставлю двойки. Ученицы эти, оставленные сначала без балла, вместо пополнения своих пробелов совсем почти не стали ходить на уроки; а одна, хотя и была спрошена снова, но обнаружила то же незнание, что и в первый раз. Основания для двоек поэтому были. Но делать этого, по-видимому, все-таки не следовало, потому что получилось что-то вроде мести одним за других; а двойки вместо оценки знания превратились в какое-то наказание, наложенное при этом «с сердцем». Сказано было все это раздраженным топим, после чего я совсем ушел из класса. Ученицы же, оставшись одни, подняли шум и даже не потрудились закрыть двери в своем классе, хотя в соседних классах шли уроки. Учительницы начали уже выходить из классов, обеспокоенные шумом. И я, увидав все это, явился опять в VIII класс, страшно возмущенный, и прямо почти закричал на них, что они, хотя и старшие в гимназии, а ведут себя хуже всех. В общем получалась довольно безобразная сцена, способная окончательно испортить мои отношения с восьмиклассницами.
Впрочем, пока этого не сказывается. Некоторые ученицы сами заговаривали со мной уже после этого инцидента. А одна (капризная и самолюбивая Т.) попросилась даже прийти ко мне вечером за какими-то разъяснениями по логике. Вечером она действительно пришла, но оказалось, что эта способная девица, получив почему-то 2, не стала совсем заниматься по педагогике и ничего не записывала из того, что я говорил в классе. И вот теперь, за 2 дня до репетиций, она пришла с тем, чтобы я рассказал ей то, что говорил в классе. Пришлось просидеть с ней целый час (хотя у меня было много и своей работы). Я говорил ей разные определения и т.п., а она записывала. По окончании же всего этого ушла, даже не поблагодарив меня.
11 декабря
Сегодня день репетиции по педагогике. Спрашивал я, действительно, как обещал. Отвечали в общем ладно. Но двое (и в том числе Т.) совсем не могли ответить и получили 2. Впрочем, существенного значения это для них не имеет, так как балл за репетицию считается наравне с четвертными.
Две же двойки вышло у меня и на репетиции по грамматике, так как наименее способные девицы, запустив занятия, не успели уже догнать и поражали на репетиции отсутствием даже таких сведений, которые необходимы в самых первых классах гимназии. Поэтому на тонки мои специалистки, видимо, не обижаются.
Из географичек же одна, получившая на репетиции 2, винит в этом преподавателя, который будто бы плохо спрашивает, и потому совсем оставляет гимназию.
20 декабря
Сегодня вечером назначен совет. Поэтому во всех классах шло лихорадочно быстрое спрашивание. Надо было переспросить многих неспрошенных, особенно у кого сомнительные баллы; а там некоторые желали исправляться и т.п. Особенно много возни было в VI классе. Сегодня я раздал им последнюю классную работу, которая оказалась написанной (главным образом со стороны орфографии) очень плохо: больше половины неудовлетворительных баллов. Поэтому у многих оказались баллы сомнительные (2 и 3 и т.п.). Необходимо было всех таких переспросить. Спрашивал все время: и в урок, и в большую перемену и даже после 5-го урока. Под конец этого шестичасового спрашивания и ученицы, видимо, утомились, да и я уже плохо соображал; а тут нужен был свежий ум, так как требовалась свежая оценка их знаний цифрами. В результате, поставив одним тройки, а другим двойки, я и сам не был вполне уверен в точности своих оценок.
Во время совета все педагоги уже предвкушали близость отдыха, слушали невнимательно и спешили отделаться поскорее. Во время перерыва пошли в другую комнату, где была зажжена небольшая елка (силами некоторых учительниц и классных дам). У подножия ее красовались кипы тетрадей, а на ветвях висели небольшие подарки каждому из нас с соответствующими шутливыми надписями.
21 декабря
Хотя совет уже прошел, но я надеялся сегодня еще переспросить некоторых учениц, которым вышли двойки, т<ак> к<ак> директор разрешил исправлять и после совета. Но в VI классе из двух намеченных мной (в оценке которых я сомневался) пришла только одна. Исправлять одну и не исправлять другую было бы несправедливо. Поэтому я не стал спрашивать и ее. Настоящих занятии сегодня уже не вел. В V классе читал рассказ Чирикова «Ранние всходы»; в VI читали стихотворение Жуковского; а в VIII — статью «Учитель-художник» (о Шарельмане — идеальном народном учителе). В V классе, хотя и выходят у нас иногда трения — вследствие взаимной непривычки, — однако расстались мы дружно. VI класс тоже не обиделся на многочисленные двойки за сочинения и 7 четвертных двоек, так как, видимо, сознает их справедливость. Поэтому встретили меня очень весело, говорили о предстоящих увеселениях и обещали приехать ко мне маскированными (ряжеными — В.Ш.). В VIII же классе, хотя, по-видимому, с интересом слушали статью, однако чувствовалась какая-то отчужденность, и расстались довольно холодно. Очевидно, все эго следствие моей несдержанности, так как одна из учениц (та самая Б-ва, которая и раньше делала мне замечания) выражала мне в лицо свое недоумение, почему я поставил двойки не в день ответа, а лишь тогда, когда рассердился. На этот раз она, без сомнения, нрава. И хотя я возражал, но в глубине души не мог с ней не согласиться и укорял себя за то, что не мог до конца репетиций продолжить своего снисходительного отношения к ученицам.
22 декабря
Сегодня вместо занятий происходила раздача свидетельств с баллами, и к 12 часам гимназия уже совсем опустела. Теперь можно будет хотя немного отдохнуть и почитать, так как в течение полугодия почти единственной литературой, которой я занимался, были ученические сочинения. Даже на чтение педагогических журналов и книг по своей специальности приходится смотреть как на роскошь, которая доступна только в такое время, как каникулы. Но и тут первое время как-то не тянет читать ничего серьезного. Ум, интенсивно работавший в одном направлении, не может сразу направиться в другую сторону. А вследствие утомления в свободные минуты скорее тянет к какой-нибудь легкой книжке, чем к серьезным научным трудам.
Отцы и дети
3 января
Вчера вечером была у меня компания замаскированных гимназисток VI класса, и в том числе многие из получивших 2 за последнюю четверть. Я скоро узнал большинство из них. А они, поболтав некоторое время со мной и другими гостями, отправились дальше. Вообще никакой враждебности из-за двоек заметно не было. Ученицы в этом отношении, насколько я замечал, по большей части считаются не столько с самим баллом, сколько с его справедливостью пли несправедливостью, как они ее понимают, и за неудовлетворительный, но заслуженный балл, не сопровождающийся со стороны учителя гневом, не сердятся. Родители в этом отношении хуже. Один из них, например, разъезжая с визитом «в подпитии», выражал свое недовольство на поставленный его дочери балл. А между тем эта девица уже с V класса поражает меня своей безграмотностью и слабым развитием, никаких стараний исправить свою орфографию она не прилагает; книг, кроме обязательных, тоже не читает, что признают и ее домашние. И когда в результате получается 2, отец не находит ничего лучшего, как обвинить в этом учителя. И таких отцов, не обращающих на своих детей никакого внимания и ожидающих, что все за них сделает школа, сколько угодно даже среди интеллигентных людей. Не раз, например, выяснялось, что ученицы оказывались без самых необходимых книг: Пушкина, Гоголя и т.п., которых не имеется у них дома, хотя отец с высшим образованием и обладает целой коллекцией учащихся детей. Один отец, дочери которого отличались своей безграмотностью, наводил раз при мне критику на школу; но при этом оказалось, что он никогда не заглядывал в письменные работы своих дочерей, хотя они почти каждый год получали из-за этого переэкзаменовки. Какое же право имеют такие родители, у которых нет даже простого интереса к умственному развитию детей, требовать невозможного от школы — требовать, чтобы она знала индивидуальность каждого ребенка и руководила им не только в классе, но и дома?
Сами ученики, мне кажется, стоят на более реальной почве; они понимают, что все-таки школа кое-что им дает; они сознают, что и сами иногда виноваты в плохих баллах и т.п. И поэтому, если бы мне предстояло отдать свою деятельность или на суд самих учащихся, или на суд родителей, я предпочел бы первых. Лучшими же ценителями учителя могут быть те учащиеся, которые учатся не по принуждению старших, а сами стремятся к учению и ищут живой работы. Эти учащиеся, стремящиеся к знанию и труду, а не только к баллам и дипломам, стоят на той же точке зрения, на которой должен стоять и учитель. И счастлив тот педагог, который умеет ответить на их запросы.
8 января
Вот прошли и праздники. В первый день я не думал спрашивать учениц, но сам накануне усиленно подготовлялся, чтобы занять их рассказом нового. Однако оказалось, что труды мои пропали даром. Ученицы не только не могли отвечать, но не могли и слушать, так как явились в класс только в самом ничтожном количестве. Да, не скоро раскачивается русский человек, особенно после праздника.
9 января
Сегодня метель, хотя и не очень холодно. И ученицы, пользуясь этим, явились в класс в еще меньшем количестве, чем 7 января.
Особенно многих не было как раз не в младших, а в старших классах, где «наука» уже больше надоела, да и девицы посмелее. И пришлось опять провести день без всяких занятий. Жизнь и привычки учащихся сильнее циркуляров, восстающих против «морозных праздников». В VIII классе я все-таки попробовал заниматься по-настоящему и стал спрашивать о «Мертвых душах». Но оказалось, что некоторые ученицы даже не позаботились за 2 недели праздников прочесть этого произведения, хотя перед каникулами я говорил им об этом. Пришлось поставить им по единице.
10 января
Сегодня на уроке словесности в VIII классе, когда я вызвал одну ученицу, другие стали говорить, чтобы я не ставил им балла за ответы, по крайней мере для первого дня; так как баллы отбивают у них охоту заниматься. Я возражал, что раз с нас требуют четвертных баллов, то должны же мы иметь для вывода их какие-нибудь данные; не выставляя же баллы за отдельные предметы, невозможно запомнить, кто какие знания обнаружил в эту четверть. Постоянная же оппонентка моя И-и пошла еще дальше и говорила, что когда обязывают прочесть известное произведение, то его не хочется читать. Я же говорил, что раз мы проходим известный курс, то почему же учитель не может заранее предвидеть, для пользы самих же учениц, какие произведения будет разбирать, чтобы ученицы могли заблаговременно прочесть их.
11 января
Ночью у меня был жар и озноб, и я почти совсем не спал. Но, хотя и с головной болью, пошел в гимназию, так как все-таки не настолько болен, чтобы не мог заниматься; а пропускать уроки без достаточных причин не в моих привычках. Однако на уроке в V классе обнаружилось, что при таком состоянии едва ли полезно заниматься. Опоздание некоторых учениц на урок, разговоры и смех во время моего рассказа — все это раздражало меня. Особенно же когда одна ученица, получившая два замечания за разговоры, начала запираться в глаза, что она не разговаривает. Реагировать на все это, конечно, следовало, но в спокойном, а не раздраженном тоне, как вышло у меня.
Зато следующий урок в VI классе прошел гладко. По окончании же его я показывал ученицам снимки с картин Швинда (из мюнхенской галереи), устанавливал связь между романтизмом в литературе и в живописи. Я делал это еще в первый раз и, возможно, что неудачно, так как на учениц, по-видимому, это не очень подействовало. Лучшие результаты могли бы получиться, если бы у меня были образцы не только романтической, но и ложноклассической живописи; но последних у меня не было.
В VIII классе оба урока (методика русского языка и словесность) прошли очень дружно, дельно и непринужденно. По методике русского языка шел разбор статьи для объяснительного чтения, и мне приятно было видеть, что восьмиклассницы приучились, наконец, к общей дружной работе. Одна ученица объясняла стихотворение, другие поправляли ее; высказывали разные мнения, приводили доказательства в пользу их и т. д., а мне оставалась почти только роль руководителя этого педагогического собрания. На уроке же словесности вместо обычного спрашивания получилась совместная беседа относительно героев «Войны и мира». Ученицы делились своими мнениями, обращались ко мне за разъяснениями, возражали иногда. Беседа, естественно, переходила с одного героя на другого. А под конец я сам рассказывал им о посмертных сочинениях Толстого, которых они еще не читали.
14 января
Просидев из-за болезни два дня дома, я не вытерпел и, думая, что уже поправился, пошел в гимназию. Но, должно быть, повредил этим себе и к вечеру стал хуже себя чувствовать. Придется, видно, еще засесть на несколько дней.
16 января
Сижу дома. Но не веселое это занятие. Тянет в гимназию, где, хотя и немало бывает неприятностей, но в общем идет живое дело с живыми людьми. Неприятно также и запускать уроки. Придется потом спешить, пропускать и т.п. Жаль, что нет института запасных учителей, которые могли бы заменять во время болезни. Ведь от этого пропадает очень много уроков по каждому предмету. Теперь же, хоть и стараешься по возможности занять своих учениц (в одном классе завтра просил сделать классную работу, а в VIII классе идут практически уроки, конспекты которых я проверяю дома), но это плохо удастся. Можно бы, например, хотя читать что-нибудь вместо уроков, материалу такого нашлось бы. Но некому поддерживать дисциплину в классе, так как классные дамы на это не способны. Не могут они также и давать какие-нибудь пояснения (еще недавно одна из них спрашивала у меня, что такое «анкета»); да и вообще они все стремятся только к тому, чтобы поменьше делать и пораньше уйти из гимназии. Притом же часто у них свои уроки (у нас почти все дамы с таким совместительством), и на прямые обязанности у них не хватает времени.
Сегодня, впрочем, на распущенность V класса обратила внимание и начальница. Очевидно, между ней и ее фавориткой В. пробежала какая-то черная кошка, так как начальница, не обращавшая раньше внимания даже и на свой VIII класс, сегодня вдруг заинтересовалась V классом и выражала свое неудовольствие по адресу В. Но попробуй поговорить на эту тему с ней раньше, и она обличения своей фаворитки сочла бы за личное себе оскорбление.
Да сегодня и ей пришлось испытать афронт. Директор ввиду нападок газет на предыдущий гимназический вечер нашел, что поручать это дело одной начальнице рискованно. Поэтому для предстоящего на масленицу вечера для младших классов он предложил избрать особую комиссию из педагогического персонала. Вечером было первое собрание этой комиссии под председательством директора. В числе других — вопрос о лицах, приглашаемых гимназистками в качестве гостей. Директор предложил ограничить круг родителями и учащимися ввиду возможности появления компрометирующих лиц (вроде «содержанки одного господина»); другие были против; сошлись на компромиссе: ввести такое Ограничение только для младших учениц, а VIII не связывать такими правилами, но предупредить о необходимости разборчивого отношения к гостям, прочив чего я безуспешно возражал как против оскорбительного для восьмиклассниц. При этом оказалось, что к числу компрометирующих лиц начальница не прочь отнести даже нижних чипов и приказчиков. Директор возражал ей. Но, по-моему, здесь даже и возражать-то неловко.
Непедагогические замашки
24 января
Замечаю за собой действительно непедагогичные замашки. Сегодня, например, когда ученица, спрошенная мной, отказалась отвечать, я довольно резко «отчитал» ее, уязвив тем, что она наполучала двоек на репетиции. А когда другая ученица болтала во время урока, я, сделав замечание, напомнил ей о неудачном конспекте и слабо данном уроке как следствии ее невнимания. Замечания, конечно, иногда необходимы; хорошо и мотивировать их. Но у нас, учителей, это часто переходит в язвительные упреки, бьющие по самолюбию учащихся. Очевидно, тут много действует несколько олимпийское положение учителя в классе, гарантирующее его от таких же ответов. У меня, например, это выходит обыкновенно во время уроков. Когда же имеешь дело с отдельными ученицами (например при проверке конспектов), то здесь обращаешься уже гораздо человечнее, относишься к ним более снисходительно и корректно.
Специалисткам давал сегодня темы для домашних работ (о Толстом). И-и начала стонать, что темы скучные (о народничестве Толстого и его исторической философии). Тогда я предложил ей и вообще желающим писать и другие темы. На мои вопрос, о ком бы она желала писать, И-и сказала: «О Гаршине». Я предложил еще две темы: «Интеллигенция 90-х гг. по произведениям Вересаева» и «Основные мотивы творчества Якубовича». И-и темы, видимо, понравились. Рассказы Вересаева многие читали и тут же начали обмениваться некоторыми впечатлениями. Якубович И-и оказался тоже хорошо знакомым, но писать она не хочет о нем именно оттого, что, как она говорила, уж очень много читала о нем. Я был, конечно, приятно удивлен этим.
25 января
На уроке педагогики я сегодня рассказывал об эмоциях, причем, говоря об эгоистических чувствах, сказал, что любовь к себе проявляется даже и тогда, когда человек убивает себя, т<ак> к<ак> этим ом желает избавиться от страданий. И-и прервала меня и стала возражать, что не всякое самоубийство можно объяснить любовью к себе (эгоизмом): иногда человек убивает себя именно потому, что считает себя вредным для других или потому, что не может помочь им. А когда я попытался и это свести к эгоизму, понимаемому в более распространенном смысле, она назвала это схоластикой. Я хотел было еще возражать ей, по некоторые стали говорить, что этот спор для них скучен, — тогда я опять обратился к дальнейшему изложению. Но в общем такие случаи, по-моему, оживляют занятия, будят мысль. И потому я охотно выслушиваю серьезные возражения даже тогда, когда они нарушают ход урока.
На словесности и у меня, и у учениц в последнее время проявляется стремление заниматься по-новому, не так официально поставить разбор произведений (т.е. спрашивание). Сегодня, например, они сначала пожелали даже составить характеристику Пьера Безухова всеми сообща. Но связной характеристики, конечно, получиться не могло. И тогда одна ученица, с согласия других, начала последовательно рассказывать. Но когда она кончила и я стал вызывать желающих так же сделать характеристику Андрея Болконского, то добровольцев не нашлось, девицы стали препираться. Пришлось самому вызвать одну из них, т.е. обратиться к обычному спрашиванию.
На уроке педагогики, когда я рассказывал, Б-ва, сидя на первой нарте, начала читать какую-то книжку. Я негромко сказал ей, прервал свой рассказ, что лучше бы слушать, т<ак> к<ак> потом ей же придется больше тратить времени на подготовку; теперь же я все равно мешаю своим рассказом сосредоточиться на книге. Б-ва улыбнулась, положила книгу и все остальное время слушала. А сделай ей резкое замечание — и результаты получились бы иные.
26 января
В перемену подошла ко мне восьмиклассница, которая вчера заупрямилась отвечать по словесности, когда другие ученицы стали указывать на нее как на могущую рассказать. Она была сегодня, видимо, смущена и просила у меня извинения за вчерашний инцидент, объясняя его своим недовольством подругами, которые, не желая сами отвечать, хотели взвалить это на нее.
На педагогике ученицы сегодня отвечали (у меня принято по этому предмету один урок рассказывать, а другой спрашивать). Речь шла, между прочим, о похвалах и порицаниях в применении их к воспитанию и обучению. Я об этом не рассказывал, в учебнике же эти меры признаются, хотя и условно. Но отвечавшая урок ученица, высказывая свои взгляды, стала совсем отрицать эти меры как вредные в педагогическом отношении. Возник опять обмен мнений. Большинство, по-видимому, тоже склонилось к этой мысли. А Х-ва (которая отослала) в конце концов признала, что хвалить иногда можно. Но порицать, по ее мнению, все-таки нельзя. Надо только указать, чем нехорош поступок, какие могут быть от него дурные последствия; стыдить же за него человека не следует. А между тем как часто мы, педагоги, грешим против этой здравой педагогической идеи!
27 января
«Шаг вперед — два шага назад», — так идет установление моих отношений с восьмиклассницами. Только было несколько наладилось дело, как сегодня опять вышел но словесности пренеприятный инцидент. Идя в класс, я показался в дверях залы, чтобы гулявшие там девицы шли на урок. Большинство пошло вслед за мной. Двое же из них (возможно что и не видавшие меня, но во всяком случае видевшие удаление остальных подруг), а именно З-на и И-и все не являлись. Я успел уже записать все, что надо в журнале. Надо было кого-то вызывать, а З-ной и И-и все не было (обе они еще не были спрошены). Наконец явилась И-и. И я сразу же, возмущенный всегдашним опаздыванием их на урок, начал резко отчитывать ее. А потом вызвал ее отвечать урок (так и сказал для большей официальности: «Отвечайте», а не «Расскажите о том-то» или «Сделайте характеристику того-то», как говорю обычно). И-и отвечала недурно, хотя и не без погрешностей. И уже во время ее ответа явилась в класс З-на, близкая подруга И-и, но девица далеко не такая умная и притом не из старательных. Я обрушился тогда на нее, упрекая, что они сознательно выжидают, пока я вызову кого-нибудь другого, или выходят из класса, ожидая, что сейчас спросят, называя это «уловками, непростительными для восьмиклассниц». А когда я кончил спрашивать И-и, то обратился к З-ной, и она тоже начала отвечать, видимо, зная сегодняшний урок. Но при одном затруднении послышались подсказы; я, решив, что это ее «вывозит» со подруга И-и, сделал ей замечание. Это переполнило чашу терпения самолюбивой девушки. Она начала со слезами в голосе говорить, что я всегда вымещаю дурное настроение на ней и З-ной, тогда как другие безнаказанно опаздывают в класс, являясь иногда целой толпой; что никакой уловки здесь нет и что я сержусь из-за каких-то пустяков. Немного поговорив, И-и расплакалась. Я был сильно смущен этим. Мне сделалось жаль И-и, и я сказал, что вовсе не хотел обидеть ее; если же ей это показалось обидным, то я извиняюсь. Урок вскоре кончился, и я расстался со своими специалистками в очень подавленном настроении. Лишь против И-и я за последнее время действительно ничего не имею. Наоборот даже, я очень ценю ее ясный, критический ум, умение писать и любовь к литературе. Это наиболее выдающаяся из всех словесниц, и к мнению ее я обыкновенно внимательно прислушиваюсь. Совсем иные чувства вызывает во мне ее подруга З-на, которая антипатична мне своей всегдашней небрежностью. Она-то главным образом и навлекла мои подозрения в намеренном опаздывании, т<ак> к<ак> незнание урока довольно обычное для нее состояние. Возможно даже, что моя антипатия к ней приводит иногда и к более пристрастному отношению, чем к другим. От этого очень трудно уберечься. И сегодняшняя вспышка, хотя и не была беспричинной, но — вследствие этого же отчасти — приняла такую резкую форму, незаслуженно задевавшую за компанию и Н-и. Спрашивание же урока у ученицы, только что мной же взволнованной, было, конечно, вовсе непедагогично, и только подлило масла в огонь, т<ак> к<ак> И-и очень дорожит баллами, и отвечать хуже, чем обычно, ей было неприятно. Поэтому не на словах только, а на самом деле я чувствую себя перед ней виноватым.
Вечером был в театре на «Детях солнца». Учениц, к моему сожалению, на этой интересной пьесе было мало. А из словесниц пришли как раз только «опальные» И-и и З-на. Но здесь мы друг друга сегодня не замечали. Я предполагал было посоветовать сходить на эту пьесу моим словесницам, но вследствие той неприятности не стал этого говорить. В одном из VII классов я говорил было об этом, но ученицы стали выражать сомнение, отпустит ли их начальница; но так как, очевидно, большого желания не было, то даже и проситься они не пошли, и ни одна из них не явилась. Надо было самому заранее отпросить их. Но неприлично играть перед начальницей роль просителя. Да и странно это! Чем она компетентнее меня?
28 января
И-н сегодня не было. А на остальных восьмиклассницах вчерашнее, видимо, не оставило следа. За последнее время нас сближает вечер для младших классов, устройством которого мы вместе с ними занимаемся. В начале урока педагогики мою кафедру окружили, говорили о распределении между ними разных обязанностей на вечере, шутили, смеялись. И в общем так развеселились, что когда я стал спрашивать урок, было уже невозможно установить дисциплину. Я не раз останавливал их, т<ак> к<ак> они мешали отвечать, но все безуспешно. Но на этот раз я не сердился. И весь урок прошел мирно. А когда при окончании урока не осталось времени на чтение принесенного мной номера «Свободного воспитания», я сказал громко, что своими разговорами они сами себя наказали, т<ак> к<ак> при дисциплине успели бы и позаниматься, и почитать.
3 февраля
Вчера был в гимназии вечер для младших классов. Хлопотали над устройством восьмиклассницы. Сошел вечер недурно. Особенно сценка из «Недоросля» (экзамен Митрофанушки), разыгранная ученицами IV и III классов, и номера пения, исполненные приготовишками.
Во время вечера мне пришлось поговорить с одной из восьмиклассниц — С-ной, с которой у меня довольно хорошие отношения. Говорили больше о VIII классе и моих отношениях к нему. Когда я выражал свое недоумение, отчего это с VIII классом так трудно ладить, С-на объяснила это тем, что они ныне заленились, а заленились от изобилия свободных уроков и оттого, что многие, как и она, чувствуя, что это последний беззаботный год, стремятся повеселиться вовсю, так что даже и читать некогда. С моей же стороны она видит не вполне одинаковое отношение ко всем, например, ей кажется, что я не расположен к М-вой и это сказывается, когда я спрашиваю у ней уроки. Я старался оправдаться, что М-ва сама часто возмущает меня своим незнанием, апломбом и беззастенчивостью; но что лично против нее я ничего не имею. Поэтому раньше у меня никаких столкновений с ней не было, и только ныне, когда пошли больше «умственные» науки, она стала поражать своим слабым развитием, которое старается скрыть всеми правдами и неправдами. Сама же С-на находит, что трудно и требовать от учителя вполне одинакового отношения ко всем: ведь он тоже человек, а ученицы все разные люди, и характер каждой из них сказывается и но время учебных занятий. Потом она говорила, что и между самими восьмиклассницами нет вполне хороших отношений, так что трудно сделать что-нибудь сообща. От этого вечера, двое совсем отказались, а некоторые, хотя и пришли, но не принимают в нем никакого участия. И-и наводит только критику на все, а когда ее спросишь, как же сделать, отвечает только: как-нибудь. Да, у каждой из учениц своя индивидуальность, нередко тяжелый, неуживчивый характер, и весьма нелегко установить со всеми одинаково хорошие, беспристрастные отношения.
В гостях у восьмиклассниц
4 февраля
Сегодня был в гостях у одной восьмиклассницы (она уже другой раз приглашала меня, и мне не хотелось ее обидеть отказом). Было несколько и других восьмиклассниц, ее подруг. За обедом среди веселой болтовни у меня опять вышел небольшой инцидент с госпожой Б-вой, с которой было столкновение и в гимназии. По поводу шутливого замечания кого-то из молодежи о необходимости гимназисткам почитать «Хороший тон», я тоже в шутку заметил: «В гимназии его еще не проходили». Б-вой это показалось язвительной насмешкой над гимназистками, которые любят ссылаться на то, что этого у них еще не проходили. Пришлось объясняться с ней и сказать, что она вообще склонна истолковывать чужие слова в дурном смысле. Это же замечалось у нее и в классе. Но этого я уже не сказал. Не знаю, чем объясняется это у Б-вой. Но при такой тенденции ладить с ней очень трудно. После обеда играли в «телефон». Первым сидел студент и пускал в оборот иностранные слова. Поэтому игра оказалась своего рода экзаменом относительно умственного развития присутствовавших. Играла вся молодежь старших классов.
И странно было видеть, как невысок уровень умственного развития у большинства из них. Стойко держались только восьмиклассницы (бывшая здесь компания — наиболее развитая часть класса). Остальные же обнаруживали незнание самых общеизвестных слов. «Кульминационный» произносили как «курманационный», удивлялись как неизвестному слову «полемика», спрашивали, есть ли слово «пауперизм» (одна девица, вышедшая из седьмого класса, дочь генерала с высшим образованием); а великовозрастный реалист, оказавшийся на первом месте, пустил со спокойной совестью слово «марксинизм». Нечто подобное вышло недавно и на уроке в VIII классе: одна девица, отвечая урок, говорила вместо «паника» — «полемика», и когда я, указав на ошибку, попросил объяснить, что такое полемика, оказалась не в состоянии сделать это.
Главная причина такой неразвитости наших учащихся в том, что они мало читают, а если и читают, то исключительно беллетристику. Школа должна бы содействовать этому, но при теперешней постановке может очень немногое сделать. При переполненности классов, отсутствии свободного времени и невозможности устраивать какие-либо внеклассные занятия приходится ограничиваться только тем, что даешь в каждый класс список рекомендуемых для прочтения книг, изредка спрашиваешь, кто что прочел, и только. Притом это делаешь только но своему предмету, т.е. даешь списки только по беллетристике и критике. При прохождении курса требуешь читать критические статьи, например Белинского, Добролюбова, Писарева. Но как их читают, насколько понимают их, трудно проверить. Было бы полезнее читать такие статьи в классе, объяснять и конспектировать их, но на это обыкновенно не хватает времени. При меньшем количестве учащихся и более свободного времени у преподавателей можно было бы внимательней следить и за внеклассным чтением учащихся. И не только учитель русского языка, а также и остальные педагоги, каждый по своей дисциплине.
Теперь же дело внеклассного чтения и развития учащихся зависит почти исключительно от их личных качеств. Более умные, серьезные сами любят читать, а тупые и легкомысленные почти ничего не читают и, выходя из средней школы, поражают своим невежеством.
10 февраля
Несколько лет назад у нас употреблялись в приготовительных классах интересные и богато иллюстрированные книги Тушнова и Шестакова «Новая школа». Но это были еще отзвуки «дней свободы». Министерство, ревниво борющееся с просвещением, скоро изъяло их из употребления. Пришлось отыскивать другие книги из числа одобренных, и за неимением лучшего остановились на «Вешних водах» Тихомирова, надеясь, что через два года можно заменить их чем-нибудь более новым. Новая учительница, поступившая за это время, особенно тяготилась книгами Тихомирова и с нетерпением ждала, когда пройдут эти два года. Ныне последний год, и потому сегодня заговорили на эту тему с директором. Но оказалось, что вышел новый циркуляр, требующий, чтобы учебники сменялись не ранее чем через три года. И хотя удобнее было бы с осени ввести в младших приготовительных классах новую книгу и по ней же заниматься и дальше. Но, согласно букве циркуляра, придется ждать еще год и уже тогда, прозанимавшись год в младших приготовительных по одной книге, на следующий год ввести новую (когда эти ученицы будут уже в старшем приготовительном). И хотя это довольно нелепо, директор, сам прекрасно понимая это, ничего не может сделать, будучи связан циркуляром. При этом самое введение новой книги обставлено целым рядом формальностей. Надо представить письменный отзыв о старой и новой книге, надо указать, когда она одобрена, необходимо даже обозначить, в каком номере «Журнала Министерства» и за какой год напечатано это одобрение. И хотя гораздо бы проще справиться на самой книжке, одобрена ли она, по для большей формалистики надо еще перерывать журналы Министерства за прошлые годы, чтобы сделать точную цитату. Без этого же округ никогда не допускает книги. Такой же порядок требуется, оказывается, даже для введения прописи Гербача с прямым письмом. Прописи эти уже старинные, мало употребляются, а все-таки для введения их требуется рыться в журналах и отыскивать одобрения. Но с прописями дело еще легче. Книги же для классного чтения часто годами не рассматриваются в министерстве, а по рассмотрении лучшие из них бракуются. Вот и выбирай тут!
13 февраля
Сегодня я должен был дать своим специалисткам классное сочинение на тему «Общественное значение художественной литературы». Тема довольно обширная и требует некоторого развития, и потому у меня были опасения, как бы эта тема не вызвала со стороны учениц какого-нибудь протеста. Но когда я дал тему, И-и сразу же выразила свое удовольствие, остальные было поворчали немного, но когда я разъяснил им тему, успокоились и начали работать. Времени в их распоряжении было два с лишним часа. Но я. довольный их спокойным отношением к теме, готов был и еще дать время на обработку сочинений. Перед концом уроков ученицы стали заявлять, что им не окончить всего, а И-и уже начала исподтишка агитировать за то, чтобы не подавать сочинения. Поэтому, когда уроки кончились, я сказал, что разрешаю им взять сочинения домой и там докончить, с тем чтобы принести на следующий день. А так как у них послезавтра должно быть подано домашнее сочинение, то я, чтобы дать им время заняться классным, отсрочил его до 18 февраля. Но такая уступчивость с моей стороны, доставшаяся им без всякой борьбы, вызвала обратное действие. Та же И-и, которая только что агитировала против подачи, начала протестовать против моего предложения и выступила с нелепым проектом, чтобы писать сочинение сегодня же, не выходя из гимназии (хотя было уже 2 часа дня и ученицы даже не завтракали). Другие тоже стали протестовать, говоря, что лучше писать в классе завтра или послезавтра (хотя тогда пришлось бы занимать какие-нибудь уроки и сажать к ним классных дам). Протесты, видимо, были совершенно необоснованные и поднимались просто из духа противоречия. Были и согласные с моим предложением. Но когда я предложил тем, кто не желает писать дома, теперь же подать сочинения, а остальным взять его домой, то девицы и на это не согласились, т<ак> к<ак> при этом одни, дескать, более обработают их, а другие менее. Тоща я, видя, что с ними «каши не сваришь», велел сейчас же всем подать сочинения. А через несколько времени (когда кончилась у нас конференция) словесницы вдруг обратились ко мне с просьбой вернуть их работы обратно, чтобы дописать дома. Но это непостоянство, основанное исключительно на капризе некоторых одержимых противоречием учениц, вовсе раздражило меня и, не желая служить игрушкой их капризов, я сочинения уже не вернул.
При просмотре вечером этой работы оказалось, что у И-и сочинение было почти вполне обработано и даже в этом не вполне исправленном виде заслуживало четверки. У большинства же учениц были только какие-то наброски. И тем не менее они, как какое-то стадо, пошли за ее мнением. В результате и у них будут баллы меньше по крайней мере на единицу, да и мне было бы гораздо приятнее читать законченные работы, чем «взгляд и нечто».
14 февраля
Немало приходится раздражаться за последнее время. Ученицы V класса поражают своей безграмотностью и возмущают совершенно небрежным отношением к ней, доходящим до нежелания исправлять свои ошибки или же приводящим к такому «исправлению», что не только повторяются старые ошибки, а еще добавляются и новые. В VIII же классе теперь приходится все сердиться на своих словесниц. У них начинаются уроки по специальности (грамматика в первых четырех классах гимназии). И конспекты, которые они представляют, часто обнаруживают полное невежество их в области грамматики, тем более непростительное, что, когда недавно ее повторяли, они относились к ней с полным пренебрежением. При проверке конспекта З-ной (что делал я три раза) оказалось, например, что она совершенно не может отличить даже одного падежа от другого. Исправлять приходилось целую массу грубых ошибок. Немало говорил я ей насчет этого. И сегодня, наконец, она выступила с уроком в III классе. Но при этом оказалось, что в одном примере винительный падеж так и остался у нее разобранным как именительный. В конспекте я не заметил этой ошибки, и она спокойно продемонстрировала свое невежество перед всем классом. Понятно, что я был зол на нее. И когда на методике арифметики она начала смеяться и передавать какие-то записочки, это взорвало меня и я довольно резко отчитал 3-ну, упрекнув ее, что она не занимается делом, а потом не в состоянии написать конспекта и сегодня продемонстрировала свое невежество перед всей публикой. З-на начала возражать, что у ней так в конспекте, чем еще больше возмутила меня. И я, рассерженный, сказал, что с такими конспектами, какой был у нее, не следовало даже допускать до урока. З-ну мой выговор сильно задел, и она со слезами выскочила из класса, хлопнув за собой дверь.
18 февраля
Ныне я сделал опыт в VI классе: задавать не определенное стихотворение наизусть, а просто указывать только автора. Учили так, например, Никитина, теперь Надсона. И мне кажется, дело идет лучше. Ученицы учат то, что каждой больше по вкусу; выбирая стихотворение, должны почитать, сравнить их, да и при ответе в классе ученицам интереснее слушать разное, чем одно и то же, и знакомство с автором получается более разностороннее.
В VIII классе на уроке методики русского языка, где мы уже много уроков занимались упражнением в объяснительном чтении, я сегодня спросил самих учениц, желают ли они еще заниматься этом; и когда ученицы ответили отрицательно, я вместо этого предложил им читать начатую уже раньше статью из «Свободного воспитания». Ученицы охотно согласились и так заинтересовались статьей, что даже по окончании урока, несмотря на доносившийся из коридора шум, все продолжали чтение. Одна, повернувшись (по моему предложению) лицом к классу, читала статью, а остальные, столпившись около нас, оживленно слушали и весело смеялись над образцами приводимых в статье детских «сочинении».
19 февраля
С тех пор как я кончил хворать и стал ходить в гимназию, опять почти всякое чтение у меня прекратилось. Книга о Чаадаеве стоит все на той же странице, до которой дочитал я ее во время невольного сидения дома. А III том Толстого (посмертный), который я приобрел уже около месяца, так и лежит нечитанный. На столе опять неизбывные кипы синих тетрадок с сочинениями учениц, и за их чтением проходят целые вечера. Поневоле позавидуешь своим коллегам, избавленным от этой участи (например историкам). Летом мечтаю опять пробраться за границу с экскурсиями Общества распространения технических знаний. Надо бы подготовиться к этому. Но при том количестве обязательной работы, какое я имею, нет никакой возможности не только заниматься языками (что так необходимо за границей), но даже и читать какие-нибудь русские книги, подготовляющие к поездке (по истории искусства например). А от этого и самые попытки, конечно, много теряют. Педагоги реального училища с интересом следят теперь по газетам, как проводится законопроект о прибавке им жалованья. О женских же гимназиях «ни слуху ни духу». А между тем нормы вознаграждения в мужских учебных заведениях и теперь уже значительно лучше, чем у нас. Но я все-таки предпочитаю женскую гимназию, потому что зато здесь меньше и давления свыше, меньше формализма и более мягкие отношения между учащими и учащимися.
21 февраля
Когда в VIII классе начал сегодня рассказывать по грамматике, некоторые ученицы болтали между собой. Тогда я неожиданно вызвал одну из них, Б-ву, к доске, чтобы она применила то, что я рассказывал, к решению задачи. Настроение готово уже было испортиться. Но Б-ва и класс так благодушно отнеслись к ее вызову, что я тоже «преложил гнев на милость», и работа пошла на лад к общему удовольствию. Вообще теперь с VIII классом отношения установились довольно хорошие, и я был бы рад, если бы и дальше так продолжалось. Центром класса, определяющим его физиономию (а у каждого класса есть такой центр!), является группа «историчек», к которой примыкают несколько математичек, одна словесница и одна географичка. Это все славные, умненькие и добродушные девушки, довольно живые, но в то же время работящие и без особенных претензий. Некоторые же из них прямо выделяются по своим способностям и умственному развитию. С этой группой, весьма симпатичной и уживчивой, у меня все время хорошие отношения, а благодаря им поддерживаются (хотя и нарушаемые иногда) отношения и с остальным классом, так как эта «компания» хорошо уживается и с другими подругами. Жаль только, что лучшая часть класса попала ныне не ко мне, на словесность, а на историю. Составом же своих словесниц я не очень доволен. Более развитая и способная из них И-и, но ладить с этой нервной и самолюбивой ученицей очень трудно. Большинство же словесниц не отличается ни своим развитием, ни работоспособностью. Вследствие этого моя обычная (за последние годы) программа ныне окажется непройденной. Гл. Успенского и Чехова придется совсем оставить. А их так хотелось бы мне пройти, хотя и вопреки полученному из округа замечанию. Но до сих нор, несмотря на один добавочный урок каждую неделю, шли мы так медленно, что теперь нечего и думать добраться до них.
Сегодня принес я своим словесницам их домашнюю работу. Часть писала об «интеллигенции 90-х гг. по произведениям Вересаева», а часть об исторической философии Л. Толстого. Наиболее слабые сочинения на ту и на другую тему и послужили сегодня предметом моего разбора. Сначала, когда я хотел начать разбор, одна ученица было возразила, что разбирать незачем, так как баллы уже поставлены. Но когда я сказал, что это по меньшей мере странно, так как пишут они не для отметок, то ко мне присоединились и другие.
Разбиравшееся мной сочинение об исторической философии Толстого было совершенно непродумано, взгляды Толстого были перепутаны со взглядами других историков, взгляды современных историков оказались незнакомы и исторические события объяснялись ей крайне наивно. Поэтому при разборе пришлось многое разъяснить. Потом перешел к сочинениям о Вересаеве, из которых самым слабым, вопреки ожиданию, оказалась работа И-и. Эта девушка, в общем весьма неглупая, оказалась совершенно невежественной в области истории русской общественной мысли и в сфере политико-экономических учений. Поэтому, взявшись писать о марксизме, она написала о нем всякие нелепости, т<ак> к<ак> писала только на основании повестей Вересаева, не прочитав даже никаких статей об эпохе 90-х гг. и о марксизме. Пришлось по поводу разных мест ее сочинения много говорить о марксизме и русской интеллигенции 80-х и 90-х гг. А И-и в большинстве случаев приходилось со мной соглашаться. Когда же по окончании урока (весь он ушел на разбор этих двух работ) и раздал им сочинения, И-и, прочитав мои замечания, изорвала свою тетрадь в клочки. Но на этот раз она, по-видимому, сама сознавала, что сочинение слабое, и кроме уничтожен ной тетради, ни в чем не выразила своего недовольства.
В общем же, по поводу ее работы, приходится опять вспомнить прежние бурные годы, когда такая развитая девушка едва ли бы обнаружила в области общественных вопросов подобное невежество.
Без вины виноватые
29 февраля
На днях появилась в одной из местных газет статья, рассуждающая о том, что в нынешнем сезоне гимназистки увлекались артистами до степени массового психоза и даже до потери собственного достоинства, в подтверждение чего приводилось в качестве фактов, что на нашем гимназическом вечере одна ученица сама первая сунула руку артисту, а другая даже завязала у него башмак. Облив помоями гимназисток и сделав из мухи слона, шпор (едва оперившийся студент, имеющий сестру в VIII классе), упомянув о влиянии современных общественно-политических условии, свалил вину за этот «психоз» на маститых педагогов, которые не стремятся пробуждать мысль в ученицах посредством более близкою общения с ними, устройства литературных вечеров, рефератов и т.п.
В VIII классе я заговорил с ученицами об этой статье. Они, не отрицая увлечения артистами, не признают все-таки фактов, унижающих их достоинство (вроде завязывания башмака, что и по-моему, не больше как сплетня). Другие же факты, приводимые в газете, происходили не так и имели вовсе не тот смысл. Когда же ученицы спросили мое мнение о статье, я вполне искренно назвал ее «пасквилем». Факта массового увлечения театром и артистами (как мужчинами, так и женщинами) я не отрицаю. Но, приняв во внимание, что театр, да еще с такой сравнительно хорошей труппой, как ныне, составляет у нас редкое явление, невольно влекущее к себе провинциальную молодежь, я не нахожу в этом ничего особенного. В этом году каждое воскресенье шли дневные спектакли для учащихся, на которые посылались даже бесплатные билеты. И я думаю, что этому надо бы только радоваться. Если же попутно некоторые гимназистки и увлекались артистами или обожали артисток, го все это имело у них детский, невинный характер. И когда у молодежи такого возраста не бывало подобных увлечений! Автор же статьи постарался придать этому увлечению какой-то унизительный для гимназисток смысл и все циркулирующие в городе сплетни огласил как факты. Правда, он винит в этом и педагогов. Но общественно-политические условия, о которых он упоминает, признаются им только по отношению к гимназисткам, к педагогам же предъявляются требования, совершенно не считающиеся с этими условиями. Литературно-музыкальные вечера — вещь, конечно, осуществимая, и они устраивались не раз в нынешнюю зиму. Но если бы их устроили и вдвое больше, то всякий театр давал бы гимназисткам несравненно более яркие впечатления, чем эти вечера, в деле устройства которых педагоги при этом строго регламентированы. Что же касается рефератов, кружков и т.п., то это уже вовсе вне пределов досягаемости для современного педагога (по крайней мере в нашем округе). Несколько лет назад здешние родительские комитеты хотели организовать разумные развлечения для учащихся, устроить клуб, читальню, рефераты и т.п. Но лишь только попечитель округа узнал об этом проекте, как пришло ужо запрещение учащимся участвовать в атом. А родительская комиссия получила строгий запрос от губернатора и должна была прекратить свою деятельность, хотя во главе этой ко миссии стояло лицо вполне благонадежное: д. с. с. и член Союза русского народа. Чего же после этого можно требовать от педагогов, связанных по рукам и ногам разными циркулярами. Но широкие круги нашего общества, не зная всей этой механики, давящей на школу, знают только стрелочников — педагогов, которые и оказываются во всех несовершенствах нашей школы «без вины виноватыми».
1 марта
В VI класс перешли к нам две ученицы из частной гимназии и, проверяя их знания, пришлось выяснить, как поставлено там учебное дело. По словесности и истории занимается там фаворитка начальницы П-ва, существо совершенно бесталанное в педагогическом отношении, но вполне пригодное для этой школы, куда стараются заманить учениц всякими поблажками. Обе перешедшие к нам ученицы оказались совершенно не умеющими письменно излагать свои мысли и за оба сочинения получили у меня два, между тем как П-ва оценивала одну из них пятерками и четверками. На мое удивление по этому поводу ученицы объяснили, как получались у них такие баллы. Сочинений они писали мало, и когда оказались не в состоянии написать характеристику Ильи Муромца (в VI классе), то баллов им совсем не поставили. Устно проходили лишь по учебнику, спрашивали только заданный урок, никогда не обращались к старому. Понятно, что, с одной стороны, получались отличные баллы, а с другой — полное невежество и неумение мыслить и говорить. Недаром одна из них возражала нашей историчке, что она совсем не понимает ее вопросов, т<ак> к<ак> ни о чем подобном у них никогда не говорили. Подготовка по русскому языку в младших классах там дается, только очень странная. До нынешнего года там занималась учительница, сама не знавшая грамматики и державшаяся только потому, что ладила с П-вой и начальницей. Когда же поссорилась с ними, то на экзамене им ничего не стоило оскандалить ее, после чего она удалилась. Ныне приехала новая учительница, особа с громкими фразами и широкими планами (вроде устройства в гимназии «старинного театра», на манер петербургского), из которых, впрочем, ровно ничего не осуществила. Но когда пришлось заняться обыденной работой с ученицами, то здесь оказалась крайняя наивность. Темы классных работ, например, заранее сообщаются ученицам, родители и репетиторы пишут им дома, в классе они переписывают, и в результате опять отличные баллы. Эта же цель — цель внешней успешности — преследуется и некоторыми коллегами по реальному училищу. Там, например, русский язык преподается каким-то бесталанным юристом, совсем не умеющим преподавать, но зато имеющим солидную «бабушку» в округе. А чтобы не ударить лицом в грязь, он сначала исправляет диктовки учеников, потом велит им переписать и, наставив хороших баллов, представляет эти тетради своему начальству как свидетельство о своих успешных занятиях.
2 марта
Словесницы все угнетают меня своим отношением к делу. Небрежное отношение к грамматике привело к провалу двух пробных уроков, которые им придется передавать (в прошлом году из Мучениц ни у одной не было провала, а ныне из 6 провалено уже 2). По словесности пришлось выбросить из Толстого «Воскресение» и обзор позднейших его произведений. что прежде всегда проходили. Да и то, что успели пройти, пройдено крайне невнимательно и без всякого интереса. Одним словом, нынешний состав учениц и их отношение к делу как раз вогнали меня в ту программу, которую пришлось представить мне в округ после полученного оттуда замечания. Реакция давит таким образом не только со стороны начальства, но и со стороны учениц. К слабому развитию нынешних словесниц и не отрицаемой и самими ими лени прибавляется в последнее время еще какой-то дух противоречия, разжигаемый в них все той же И-и, которая в последнее время как бы объединила своих подруг или, вернее, подчинила их своему влиянию, вследствие чего у группы словесниц получилась своя довольно пессимистическая физиономия, отличная от общей физиономии класса. На днях, например, когда у нас шел разбор личности Левина из «Анны Карениной», И-и вдруг заявила от имени всех словесниц, чтобы я рассказал им биографию Некрасова. Я был удивлен этой выходкой и возразил, что такое заявление может быть поставлено только в ряд с их отказом взять сочинение домой, так как довольно странно было бы прервать на половине характеристику Левина и перескочить к биографии Некрасова, когда они не знают даже более важной для разбора «Анны Карениной» биографии Толстого. Но видя, что Толстой, очевидно, им совершенно не интересен (даже наиболее способная из них И-и до самого конца так и не удосужилась познакомиться как следует с его биографией), я со следующего раза, когда окончили «Анну Каренину», начал проходить Некрасова. Но в первый же день, когда им задано было прочесть автобиографическое стихотворение Некрасова, из девяти словесниц явилось только двое, и урок не состоялся. А на следующий день, хотя и явились в класс, они обнаружили такие знания, что пришлось поставить 2 двойки.
В последнее время такое отношение к делу и оппозиционный дух словесницы попытались перенести и на мои общие для всего класса уроки. И-и, например, редко слушает, когда я рассказываю, и никогда ничего не записывает, возражая странным аргументам, что лучше отвечать собственными соображениями, чем повторением чужого (как будто знания можно заменить одними соображениями). Так же ведет себя она и ее ближайшие подруги и на педагогике. А когда я спросил ее, то знания оказались очень слабыми, и она получила тройку. Для самолюбивой «первой ученицы» это было обидно, и она свалила вину на меня, говоря, что балл поставлен несправедливо. Когда же она заявила, что так думают «все», то мне пришлось сказать перед классом, что постановка балла вещь субъективная («зависящая от настроения», — добавляет И-и), зависящая не от на строения, — возражаю я — а от того, кто что считает более важным в курсе. Когда спор с И-и пошел и дальше, остальные ученицы стали ворчать, что этот разговор для них вовсе не интересен. И я перешел к уроку. Но во всяком случае попытка И-и настроить против меня класс оказалась, как мне кажется, неуспешной. Такого результата, как на словесности, во всяком случае, не получилось.
Впрочем, на одном и общем уроке у меня вышел с восьмиклассницами небольшой конфликт. Девицы были сегодня отчего-то в особенно оживленном и веселом настроении (одна из них в начале урока хохотала до истерики) и сдерживать их было очень трудно, особенно одну группу, которая, несмотря на замечания, продолжала со смехом читать какое-то приложение к «Сатирикону» и ничего не слушала. Когда я кончил спрашивать и до звонка оставалось еще минут 10, я предложил докончить заинтересовавшую их статью из «Свободного воспитания». Но так как в этой статье дальше шли уже общие выводы по поводу опыта одной свободной школы, то ученицы оказались не особо расположенными читать ее и предложили лучше почитать приложение к «Сатирикону». Я возражал, что за это еще, пожалуй, пропечатают, и убеждал их, что, прочитав фактическое сообщение о школе, полезно познакомиться и с выводами. Потом, подойдя к парте, взял у них «Сатирикон» и положил вместо него «Свободное воспитание». С-на начала читать, но мысли ее были, видимо, рассеяны смешной книгой, и она начала запинаться в словах, в пунктуации и заявила, что не понимает. А когда я полушутливо заметил, что, очевидно, кроме «Сатирикона» они ничего не в состоянии сегодня понимать, С-на обиделась и отказалась дальше читать. Л-я, которой я предложил, тоже отказалась. И тогда я, обиженный в свою очередь их упрямством, придал уроку официальный тон и начал спрашивать по методике арифметики.
3 марта
Вчерашний конфликт благодаря хорошему отношению ко мне класса прошел бесследно, и сегодня на уроках мы опять мирно беседовали. На методике русского языка я знакомил с книгами для классного чтения и, в частности, с книгой Тулупова и Шестакова «Новая школа», запрещенной теперь для школ. Ученицы заинтересовались помещенными в третьей части «Новой школы» статьями о свободе, равенстве и братстве. С-на прочла их вслух, а остальные внимательно слушали. Потом разбирали принесенные мной сочинения но педагогике. Многие писали характеристики девочек и написали очень недурно. Несколько из них прочитали в классе и слегка обсудили.
6 марта
Сегодня на педагогическом совете у меня вышел конфликт с классной дамой В-вой. Когда стали разбирать поведение ее класса, я начал говорить, что очень многие дефекты в этом отношении можно было бы предупредить, если бы классная дама внимательнее относилась к своим обязанностям. Она же, например, когда я рассаживал некоторых учениц, не могущих сидеть без разговора, не обращала на это внимания, и в следующий раз все оказывалось по-старому, или «рассадка» принимала характер какого-то издевательства (например, между двух «болтушек» садилась третья). Принятие же вовремя мер было бы на пользу не только учителю, но и самим ученицам. Классная дама только отмалчивалась, как будто дело не касалось ее. При обсуждении же поведения этого класса начальница предложила сбавить балл до 4 компании учениц, увлекавшихся артистами и даже бегавших из гимназии, чтобы встретить их на улице. Предложение было принято. А двум ученицам сбавлен балл даже до 3. Одной за то, что, рассердившись на неудовлетворительный балл, бросила тетрадь по направлению к учительнице французского языка, а другой за то, что бросила яблоком в потолок на уроке закона божия (впрочем, законоучитель этого не видел и факт подтвердила только классная дама В-ва).
7 марта
Сегодня раздаются четвертные свидетельства, и среди учениц то и дело видать заплаканные физиономии. На уроке французского языка пятиклассницы стали говорить учительнице, что многим из них сбавлено поведение и все это из-за меня. Я был очень удивлен, кто мог передать им мои вчерашние разговоры на совете в таком неправильном освещении и думал было уже на свою «приятельницу» В-ву, но, как потом оказалось, передала им это другая классная дама — М-ва, с которой у меня было столкновение еще в прошлом году из-за ее крайней нетактичности. Таким образом, классные дамы вместо того, чтобы содействовать учителям хотя бы со стороны внешнего порядка, только мешают этому и стараются поссорить учителя и учениц, не останавливаясь даже перед клеветой.
9 марта
На уроке в VII классе, когда я спрашивал учениц, стоял шум и разговоры; поэтому, когда спрошенная мной на вопрос ученица Т-ва что-то ответила, я не расслышал и переспросил ее. Но та вдруг обиделась на мое невнимание и с обычным для нее упрямством заявила, что она уже сказала и больше повторять не станет. Я посадил ее и только заметил, что эта «выходка довольно глупая». Жаль, что я не сдержал себя и не ответил на ее выходку более рассудительно. Можно бы указать, что когда только что спрошенная перед ней ученица также не слыхала моего вопроса, я только рассмеялся и повторил «ной вопрос. Спокойным отношением скорее бы можно вызвать в ней сознание некорректности ее поступка.
Надзиратели и педагоги
10 марта
На совете классные дамы жаловались на поведение IV класса, который так безобразничает, что учитель пения принужден был даже сбежать с урока. Классная наставница (учительница географии) решила проверить, насколько справедливы эти нападки на ее класс, и стала сама присутствовать на уроках пения. Ученицы ведут себя при ней образцово. Таким образом, и здесь корень зла оказался опять в самих же классных дамах, которые совершенно не способны сдерживать учениц, в результате чего попадает в неприятное положение учитель, а ученицам приходится сбавлять за поведение.
Сегодня, когда я пришел на урок методики русского языка в VIII класс, ученицы стали категорически заявлять, что урок такой трудный, что они его совершенно не могли понять и отвечать не будут (задано было прочесть по методике Тихомирова о преподавании грамматики в школе). Возражения их были совершенно неосновательны, и я стал говорить в довольно резком и взволнованном тоне, что здесь дело вовсе не в трудности урока, так как методика весьма популярная и ею пользуются целые поколения школьных учителей. Л-я перебивает, что, значит, эта методика устарела. Я прошу указать (конечно без результата), в чем именно, и говорю, что раз они не в состоянии понять даже такой книги, то, значит, не могут быть и учительницами, не могут учиться и на высших курсах, где необходимо понимать гораздо более серьезные книги и где профессора не будут «разжевывать» каждый урок, как в гимназии. Вообще, по-моему, дело тут вовсе не в трудности, а в том, что они до такой степени заленились, что не способны справиться даже с таким легким уроком. Спрошенная мной после этого ученица отказалась отвечать, т<ак> к<ак> «не поняла урока», и я поставил ей 1. Две же другие ученицы, которых я спросил, ответили на 4 и 5, хотя это девицы отнюдь не выдающиеся по своим способностям. Таким образом, весь этот «бунт» оказался поднятым именно несколькими особа ми, которые или совсем не читали урока, или прочли только один раз (как и созналась получившая 1 Л-на). Поэтому, когда после рассказа всего урока ученицами, я обратился к классу с просьбой указать, что же именно тут непонятно, никто ничего не мог сказать, а по поводу заявления об «устарелости» учебника Л-я стала даже выпутываться, что она не в том смысле это сказала, как я понял, хотя смысл был вполне определенный. Вообще же к концу урока и я, и ученицы успокоились. Но никакого сознания собственной вины у них все-таки не было заметно. По-видимому, все, что происходит в гимназии, для них вещь второстепенная, а то или иное отношение к учителю, хотя бы даже и оскорбительное для него, считается чем-то совершенно неважным и неинтересным.
11 марта
Недавно две наши учительницы поссорились между собой, в результате чего одна из них заявила, что не будет подавать другой руки. Та, обиженная таким заявлением, обратилась к учительской корпорации, прося разобрать это дело и высказать свое мнение. Педагоги после некоторого колебания согласились и выбрали из своей среды состав суда в количестве 3-х человек (почему-то все мужчины). Это был первый у нас в гимназии случай в этом роде, и хотя дело было действительно серьезное, но выступление педагогов как корпорации — факт все-таки, по-моему, отрадный, как проявление общественной самодеятельности. Но не успел еще суд вынести своего приговора, как все это начинание оказалось осмеянным в местной газетке, считающей себя прогрессивным органом. В фельетоне оказались и намеки на предоставленную нам некоторую свободу, и обещание поместить приговор суда. Такое грубое вмешательство в частную жизнь нашей корпорации глубоко возмутило всех педагогов нашей гимназии, тем более что здесь чуть не с доносом выступила газета, раньше как раз обвинявшая педагогов в спячке и бюрократизме. В результате у нас пошли взаимные подозрения, суд распался и начавшееся было объединение пошло насмарку.
15 марта
В VIII классе проходим теперь Некрасова. Поэт-гражданин снова улучшил мои отношения со словесницами. И прежде всего И-и, с такой неохотой занимавшаяся Толстым, теперь начала с интересом работать. А за ней потянулись и другие. Получив пятерку за ответ, И-и вовсе смягчилась. И вместо резкостей теперь у нас бывает иногда дружный разговор. Она восхищается, например, поэзией Некрасова, особенно «Рыцарем на час», спрашивает, кого из поэтов я больше люблю, говорит, что в прошлом году она не любила Пушкина, а теперь полюбила, и т.п. А однажды заявила даже, что ей жаль, если не удастся пройти Гл. Успенского и Чехова, что без них ей «стыдно» выходить из VIII класса. Гораздо лучше теперь и отношения с другими словесницами. В такой атмосфере несравненно приятнее стало заниматься.
Только на М-ву я все еще сердит… Спросив некоторых уже по два раза, я ос все не спрашиваю, находя крайне тяжелым вести с такой особой даже деловые разговоры.
16 марта
На педагогическом совете, составлявшем расписание экзаменов, учительница приготовительного класса подняла вопрос о введении вместо косого письма прямого. Завязались споры педагогического характера, чего на наших «педагогических» советах никогда не бывает; в результате большинство признало, что «новаторша» недостаточно обосновала свой доклад и предложили ей получше вооружиться к следующему совету.
17 марта
Сегодня был последний урок методики русского языка. Вместо спрашивания учениц я сам рассказывал им об изложении мыслей в школе, иллюстрируя рассказ разными пособиями (букварями, книгами Глазуновой и Разиной, «Развитием речи» Лоныревой и Соловьевой и т.п.). Но ученицы заявили в начале урока, что и заданное им по Тихомирову они тоже знают. А когда я поиронизировал: «Теперь стали понимать?», то Л-на и некоторые другие вдруг раздраженно стали возражать: «Уж не думаете ли Вы, что Ваши единицы помогли пониманию?» Очевидно, мой выговор в ходе урока и особенно единица только обидели их самолюбие. И виноватыми они считают не себя, а меня.
18 марта
Вчера после третьего урока педагогов и учащихся отпустили на Пасхальные каникулы. Но «отдых» для меня предстоит только весьма относительный, так как в течение этих 14 дней надо проверить 7 письменных работ, сочинении по 30 в среднем каждая.
22 марта
Исправление первой же из попавшихся мне работ тянулось целых три дня. Это было сочинение V класса на тему: «Какая из прочитанных в нынешнем году книг мне более понравилась и почему?» В начале (согласно моего указания) ученицы поместили списки книг, прочитанных каждой из них в этом году; потом говорили о наиболее понравившейся книге и выясняли вкратце, чем она им нравится. Такие приблизительно темы я даю в V классе уже второй год подряд с целью ознакомиться с внеклассным чтением моих новых учениц (я начинаю заниматься с V классом) и с их литературными вкусами. Поэтому теперь пришлось не только проверять каждую работу и исправление предыдущей, но и делать статистические вычисления о читаемых в V классе авторах и отношении к ним учениц. Дело, конечно, в общем интересное, но зато отняло много времени. А там еще 6 непроверенных работ, над которыми вместо отдыха придется сидеть на праздниках. И опять нет времени заняться чем-нибудь посторонним, что могло бы хоть несколько развлечь, освежить. Даже «Хаджи-Мурат», недавно начатый мной, так и остановился, не сдвигаясь все с одной и той же страницы.
А между тем весьма бы полезно было отдохнуть. Сам чувствую, что нервы истрепались, чувствуется все увеличивающаяся усталость. Испортилось в эту зиму и горло, которое раньше никогда не болело, а теперь то и дело даст о себе знать, лишь только подольше поговоришь в классе. Одним словом, 5 лет оказывается вполне достаточный срок для приобретения профессиональных учительских болезней.
23 марта
Вчера одна знакомая с Дальнего Востока рассказывала о своем сыне, учительствующем там в коммерческом училище. Получая больше чем вдвое сравнительно со мной (там увеличенные оклады и оттого, что коммерческое училище, и оттого, что на окраине), он имеет только 12 уроков в неделю и, отсидев 2 часа в день, остальное время совершенно свободен, т<ак> к<ак> письменных работ по его предмету нет. А тут чуть не при 30 уроках не иметь ни одного вечера свободным и в результате получаешь лишь столько, что при холости жизни еле хватает. Да. и среди педагогов есть привилегированные и парии. И к числу последних надо без колебания причислить персонал женских гимназий, особенно же заваленных письменными работами преподавателей русского языка. Недаром одна из коллег по гимназии, толкуя про свой однообразный труд, горько воскликнула как-то: «Эх, жизнь наша водовозная!»
3 апреля
Опять началось учение, и опять пошли разные учебные неприятности. При разборе последних сочинений моих специалисток-словесниц оказалось, что И-и, окончившая седьмой класс с золотой медалью, не знает ни одного русского писателя XVIII в., а когда я стал настойчиво добиваться ответа, она отнесла к писателям XVIII в. Пушкина. Так, образованная ученица, которая как медалистка и словесница должна бы наиболее хорошо знать этот предмет, обнаружила полное невежество во всем том курсе, который мы проходили в течение двух лет. Остальные, при ее затруднении, тоже могли только молчать, и лишь одна из всех словесниц с помощью моих вопросов смогла назвать несколько писателей XVIII в. Такие результаты всей моей работы с этим классом (да возможно, что и с другими тоже) крайне поразили и огорчили меня. Очевидно, все их знания были знаниями только для отметок, для экзаменов, и никакого самостоятельного интереса к моему предмету, никаких ассоциаций с более прочными знаниями у них не оказалось. А когда я пришел в учительскую, учительница физики и математики рассказывала там не менее поразительный случай, только что происшедший и у нее на уроке и VIII классе, где специалистка-математичка оказалась совершенно не знающей, что такое атмосфера. На следующем же моем уроке в VIII классе по педагогике одна из историчек, рассказывая о воспитании у древних греков, называла «олимпийские игры» — «альпийскими», очевидно, тоже, несмотря на свою специальность, ничего не ассоциируя с этими словами.
4 апреля
Вчера я предложил в VIII классе взяться за репетирование одной четвероклассницы (конечно за плату). Б-ва вызвалась заняться этим, о чем тут же при всем классе заявила. А классная дама дала ей адрес. Но одна из подруг Б-вой, несмотря на это, отправилась вперед Б-вой к матери девочки и заявила, что она послана мной как репетиторша. Через некоторое время явилась туда же и Б-ва, и мать ученицы была очень удивлена. А сегодня сначала обратилась ко мне с претензией Б-ва, думая, что я действительно послал Т-ву, а потом явилась в гимназию мать ученицы, чтобы выяснить это недоразумение. Пришлось объяснить, что Т-ва ее обманула, и уладить дело. Поступок, по-моему, действительно возмутительный, говорящий о полном отсутствии у Т-вой всякого общественного чувства даже по отношению к своим подругам. Девица она, правда, нуждающаяся. Но такие беззастенчивые приемы в борьбе за существование как-то совершенно не вяжутся с представлением о юношеском идеализме. На упреки Б-вой она, ничуть не смущаясь, ответила, что ей нужен был урок и она пошла, а заявлять вслух о своих намерениях она не имеет обыкновения. Таким образом, Т-ва, по-видимому, считает все это в порядке вещей. И это еще одна из наиболее развитых и передовых девиц в классе. Пример, заставляющий глубоко задуматься о том моральном упадке, который развивается среди нашей молодежи и который может быть поставлен как раз в pendant с этим классическим невежеством, которым она тоже нередко блистает. Здесь опять-таки прежде всего влияние общих условий современной русской жизни, когда общество идет к распылению и господствует принцип: homo homini lupus est[7]. Но как реагировать на данный конкретный случай — я весьма затрудняюсь сказать. Хотел было поговорить на этот счет с VIII классом, но как-то неловко как бы натравливать класс на Т-ву, тем более что со стороны ее соклассниц отношение к этому случаю довольно равнодушное (впрочем, не все об этом и знают) и даже сама Б-ва не очень этим возмущена, что меня весьма удивляет. Объясняться же с самой Т-вой по этому поводу бесполезно, да и прямо противно. Поэтому личное знакомство с ней, которое у меня было, остается после этого только совершенно порвать.
2 апреля
Сегодня воскресенье, но у меня из-за моих тетрадей и праздников нет: весь день с небольшим перерывом, когда я сходил прогуляться, поправлял письменные работы, и все-таки проверил меньше, чем хотел. Таким образом, даже и в праздники, когда каждый рабочий отдыхает, приходится целый день корпеть все за тем же. А завтра, нисколько не освежив свои силы за праздник, опять приниматься за обычную работу. Утром предстоит 5 уроков, вечером заседания в двух обществах, а там опять подготовка, и тетради, тетради без конца…
12 апреля
Нервы опять не в порядке. Сегодня был в классе в раздраженном настроении и поставил двум восьмиклассницам двойки, а когда после этого три ученицы одна за другой отправились из класса, и одна из них не остановилась и даже ничего не ответила на мое замечание, я сделал ей выговор, упрекая в неделикатности.
Слышал, что моя коллега по словесности из частной гимназии заболела анемией мозга — очевидно, от переутомления. Перспектива не из приятных. Но при том количестве работы, которое падает на нашу долю, в этом нет ничего удивительного.
15 апреля
Опять все воскресенье прошло за проверкой тетрадей. Не пришлось даже пересмотреть последние номера толстых журналов, принесенных из гимназии. Придется отдать нечитанными. И всю следующую неделю придется усиленно сидеть за этой работой, так как в VII и VIII классах это уже последняя неделя учения. А там начнется целая серия письменных экзаменов, которых всего у меня предстоит восемь. Работы опять будет за глаза.
16 апреля
На днях, когда в середине урока пришла в класс восьмиклассница П-ва, которая последнее время вообще появлялась в гимназии очень редко, я иронически спросил, не забыла ли она дорогу в гимназию, а когда на другой урок спросил ее и она отказалась отвечать, я поставил ей единицу. Но потом оказалось, что я был глубоко неправ. Девица эта — круглая сирота, живет исключительно своим заработком и содержит всю семью, состоящую (кроме нее) из двух братьев и сестры. Работать приходится целый день, занимая одну двенадцатирублевую должность и бегая по урокам. Здоровье у ней к тому же слабое: малокровие, а может быть, даже задатки чахотки (от которой умерла ее мать). Понятно, что при таких условиях ей очень трудно учиться. В последнее же время она, сверх того, упавши в обморок с лестницы, повредила ногу и расшиблась, вследствие чего и не ходила в класс. Отвечать же, как она объяснила мне потом, она не могла потому, что на нее находит иногда такое состояние (очевидно от малокровия), что она не может совсем соображать. Необходимо хотя на время экзаменов поставить ее в более благоприятные условия.
17 апреля
В VIII классе я еще в субботу окончил со своими словесницами тот курс, который пойдет у них к экзаменам. Вследствие же особенно неудачного подбора учениц и слабой их работоспособности прошли значительно меньше, чем в предыдущие годы, именно: не успели пройти «Воскресения» Толстого, не коснулись совсем Гл. Успенского и Чехова. Последние уроки я хотел посвятить общему обзору позднейших писателей (сначала Гл. Успенского и др. народников-разночинцев, потом Чехова и послечеховского периода русской литературы). Вчера вечером я старательно готовился, чтобы рассказать это. Но когда пришел сегодня на урок, оказалось, что из девяти словесниц явилось только четверо. Такое небрежное отношение к делу, не раз уже проявлявшееся с их стороны, сильно обидело меня. Поэтому не замечая с их стороны интереса к предмету, я решил больше не заниматься, рассказывать тоже не стал, а вместо этого предложил пришедшим в класс почитать юбилейную статью о Герцене в «Русском вестнике». Так сухо и даже неприязненно расстался я ныне со своими специалистками.
На следующем уроке в VIII классе вышло еще хуже. Ученица Б-ва, которой я недавно поставил двойку, была снова спрошена мной, т<ак> к<ак> я находил, что двойка ей не вполне заслужена и надеялся, что она исправится. Но она отвечала опять очень неважно, и я посадил ее на место, решив, что больше, как на 2, она действительно не знает. Б-ва, посидев немного, начала плакать, а потом вдруг повалилась с парты в обмороке, что произвело на класс очень тяжелое впечатление. Урок был прерван, я ушел из класса, а с Б-вой долго отваживались ее подруги и классные дамы. Картина получилась весьма неприятная: изверг учитель, доводящий ученицу до обморока — что может быть лучше? Но главная причина, по-моему, вовсе не я, а болезненное состояние ученицы, с которой, как говорят ее подруги, бывают такие вещи и дома и которая даже и по виду производит впечатление больной (ни кровинки в лице!). Я могу себя обвинить разве только в первой двойке, которую я поставил без достаточно основательной проверки ее знаний. Сегодня же я спросил ее, наоборот, с целью исправить. Но она сегодня же как раз получила 2 и за сочинение. Эта неприятность, волнение при ответе и новая неудача — все это и ударило ее по больным нервам — и в результате такая тяжелая сцена!
18 апреля
Сегодня был последний урок педагогики в VIII классе. Я говорил им об экспериментальной педагогике и демонстрировал атлас личности. Хотел было еще поговорить кой о чем на прощанье, но не хватило времени, и дело кончилось как-то без конца, не так, как бы я хотел. Устраивать же лишний урок только для разговоров я не счел удобным, т<ак> к<ак> время для учениц теперь дорого.
19 апреля
Сегодня покончил занятия и в двух восьмых классах. Отношения с этими классами, да еще с VI, у меня весь год были хорошие. В последний урок я, спрашивая некоторых семиклассниц, старался подвести итоги пройденному в нынешнем году, причем больше обращал внимания на общественное значение произведений каждого писателя и выяснял взгляды их на искусство. С VII нормально расстались, несмотря на недавний инцидент с Б-вой, вполне мирно. А в VII пар<аллельном> под конец урока сами ученицы начали прощаться со мной, и я покинул класс с весьма теплым чувством, пожелав им успеха на экзаменах.
21 апреля
Вечером был педагогический совет о выпускных классах. На нем же разбирали списки книг и пособий, выписываемых для будущего года. А сверх того молодая учительница Е-ва, поднявшая вопрос о введении прямого письма, представила свой доклад на эту тему, и большинством голосов вопрос решен в пользу прямого письма. Но директор хотя и пошлет ходатайство в округ, однако считает его безнадежным, т<ак> к<ак> еще недавно по начальным школам здешнего округа вышло распоряжение (разумеется, без всякой мотивировки!) об изъятии прямого письма из употребления.
Обсуждали еще сегодня циркуляр с предложением ввести в гимназиях домоводство. Но за неимением в местной гимназии средств решено от введения этого предмета отказаться. Пришлось зато выписать несколько бесполезных книг, навязываемых Ученым комитетом, хотя средств у гимназии не хватает даже на книги более необходимые.
Начались экзамены
25 апреля
В VII и VIII классах начались экзамены, которые протянутся больше месяца, до начала июня. Лучшая пора года для учащихся по обыкновению пропадает, занятая усиленной зубрежкой, с нервным напряжением, бессонными ночами, истериками и обмороками. Пропадет это время и для ученья. И вместо того чтобы подвинуться вперед или спокойно, связно, под руководством учителя повторить старое — пойдет опять скачка с препятствиями, в лучшем случае приводящая к тем же годовым баллам, а в худшем сводящаяся к простой лотерее, при которой часто получают пятерки ученицы, занимающиеся вместо года только три дня, и знающие особы, иногда из-за случайности или нервного состояния проваливаются.
Ныне этот элемент случайности еще больше у нас, чем обычно. (Сегодня в 12 часов дня пришли темы по словесности и математике из округа, чего раньше не бывало. Хорошо еще, что по словесности восьмиклассницы уже начали писать на тему, выбранную директором из предложенных мной. А то могла бы получиться весьма неприличная история, так как не могут же люди, сидящие в своих канцеляриях, знать, как какого писателя разбирали, как освоили, на что обращали внимание при прохождении курса.
В V классе сегодня опять вышла неприятность из-за классной дамы В-вой, которая, кроме вреда, ничего не приносит, ничего не делает и только портит отношения между ученицами и зрителями. Раздавая работы пятиклассницам, я был расстроен их небрежным исполнением и многим выговаривал за это, а когда начал спрашивать урок и спросил уже спрошенную в эту четверть ученицу, остальные, тоже не знавшие, видимо, урока, начали друг за другом выходить из класса, так что одновременно исчезло около восьми учениц. Классная же дама, по обыкновению, занялась своим рукодельем и не останавливала учениц, которые, впрочем, и не считали нужным спрашивать ее разрешения. Тогда пришлось уже мне вмешаться в это дело и остановить дальнейшие попытки удаления. Но классная дама и тут, видя, что я против выхода, не позаботилась уйти из класса и пригласить вышедших назад, вследствие чего они совсем не возвращались. Все это раздражило меня, и урок шел весьма напряженно: мое настроение передавалось и ученицам. И все лишь из-за того, что классной дамой состоит особа, не желающая ничего делать — от которой все замечания и выговоры отлетают как горох от стены. Поэтому я решил прибегнуть к новому средству и записал весь этот инцидент в классный журнал, причем назвал только классную даму, фамилий же учениц не помещал, так как я их не считаю виновными. Интересно также отметить, что, когда я говорил об этом с начальницей, она, принимая мою сторону, настаивала, что В-ва распустила класс, а мое замечание о том, что она портит отношения между классом и учителем, ей показалось, видимо, несколько странным, для них это вовсе несущественно.
26 апреля
Сегодня на экзамене алгебры в VII классе дана была уже тема, посланная из округа. Задача оказалась из того отдела, который походили уже давно (чуть ли не в VI классе) и теперь позабыли. Поэтому решить задачу смогли только человек 10 (держит около 50); ученицы сидели бледные, со слезами на глазах и с самым удрученным видом, многие плакали, одна с криком упала в обморок, чем еще больше расстроила класс. Преподаватель, весьма старательно относившийся к делу и любимый ученицами, тоже был, видимо, огорчен. И ученицы сожалели о нем не меньше, чем о себе. И действительно, для репутации учителя в округе такой случай может иметь решающее значение.
В частной же гимназии тема, говорят, оказалась из такого отдела, который совсем не проходили как маловажный. Приди тема на несколько часов раньше, и всему классу пришлось бы подавать белые листы. А на основе этого бюрократы из округа составили бы вполне определенное мнение о постановке преподавания. Насколько только могут быть такие умозаключения основательны?
Интересно, что эта напасть обрушилась ныне исключительно на женские гимназии, в мужских же учебных заведениях пишут на свои темы. Очевидно, в округе нашли, что мужские учебные заведения уже достаточно подтянуты и пора приняться за женские. А мы, было, льстили себя надеждой, что министерство, почти ничего не давая на женские гимназии из казенных средств (на нашу «казенную» гимназию всего 2000 р. в год, а на частную ничего), не будет и так строго регламентировать нашу жизнь, как в мужских учебных заведениях.
27 апреля
Сегодня сидел целый день за проверкой экзаменационных работ VII класса — успел проверить только половину, а ко мне то и дело заходили ученицы узнавать свои баллы за сочинения. Одна из них, держащая экстерном за VII классов (она была уволена из VI класса вследствие ареста, сидела потом в тюрьме и страшно изнервничалась), узнав, что написала неважно, тут же разрыдалась и насилу успокоилась, хотя эта работа решающего значения еще не имеет.
28 апреля
По математике, вследствие получения тем из округа, происходят странные вещи. По алгебре оскандалились, несмотря на то, что, по словам учителя и самих учениц, знали ее лучше, чем геометрию и арифметику, а по этим последним задачи оказались легкими, и почти все решили. Таким образом, у начальства, которое испытывает нас этими темпами, получится как раз превратное понятие о знаниях учениц. А для учениц только еще большая случайность вносится этим в экзамены. Экзамен по алгебре расстроил, например, очень многих из них. Сегодня, когда семиклассницы решали свои задачи, я встретил около дверей экзаменационной комнаты бледную и встревоженную мать одной ученицы. Оказывается, ее дочь (одна из лучших учениц в классе, мстившая на медаль) в числе других не могла решить задачи по алгебре и была этим очень огорчена. Поэтому на следующий день, когда был экзамен по арифметике, она чувствовала себя уже плохо и напутала в легко)! задаче, которую большинство решило. Это еще больше расстроило ее, и она — по словам матери — пришла домой в таком настроении, в каком никогда не бывала, она билась в истерике, кричала, что она оказалась чуть ли не глупее всех в классе, что теперь все учителя будут презирать ее как не оправдавшую их надежд, говорила даже, что пусть ее не ждут домой, если она и на геометрии тоже не решит. Поэтому-то ее мать, опасаясь, как бы она на самом деле не устроила чего-нибудь над собой, и пришла в гимназию, чтобы сразу же увести ее домой. И это еще одна из самых здоровых девушек в классе, полненькая, всегда веселая, подвижная и жизнерадостная. О девицах же нездоровых пли нервных и говорить нечего. Одна из них, Б-ва, на каждом почти экзамене кончает глубоким обмороком, а на следующий день опять приходит держать. У другой семиклассницы, Ш-ной, после неудачи по алгебре под влиянием усиленной работы и нервного напряжения сделалась страшная головная боль, еще усиленная тем, что она сочла это воспалением мозга и ждала, что сойдет с ума.
А туг еще, кажется, и по русскому языку предстоит новое истязание. Дело в том, что хотя темы пришли с опозданием и пакет остался не вскрытым, но теперь из газет узнали, что в гимназиях губернского города в VII классе дамы кроме сочинения еще диктовки. Возможно, что и у нас в пакете заключается тот же сюрприз. Тогда, говорит директор, придется снова созвать семиклассниц и дать им вторичный письменный экзамен по русскому языку. Узнают же это только 30 апреля, когда вскроют пакет, чтобы дать тему для одной ученицы, отставшей по болезни от подруг.
Скандал с попечителем гимназии
28 апреля
Весь город говорит теперь о грандиозном скандале, героем которого оказался председатель попечительского совета нашей гимназии, старый купец. Двое шантажистов (между прочим оба редакторы газет) заманили его в притон и там симулировали изнасилование им одной девицы в коричневом форменном платье, которую выдали ему за гимназистку. Старик, боясь скандала, долго откупался от них крупными подачками. Но, наконец, не выдержал и подал в суд. Шантажисты теперь в тюрьме, но зато дело получило огласку, и имя попечителя гимназии, который не прочь был изнасиловать гимназистку, пошло трепаться в газетах. После этого ему, разумеется, ничего не оставалось, как отказаться от председательского места и выйти из попечительского совета. Конечно, среди купцов, как и среди других сословий, есть всякие господа, но то положение, которое занимал этот господин в гимназии, и сделало дело сенсационным. Причина же, создающая возможность таких явлений, по-моему, в том, что женским гимназиям приходится жить только на частные средства, казна со своей стороны совсем не считается с ними, а потому им и приходится выискивать разных толстосумов и заманивать их различными средствами в число меценатов. Считаться с их нравственными качествами тут уж не приходится.
Важен только золотой мешок да большая или меньшая тароватость его хозяина. И вот целые тысячи женских гимназий, имеющих не менее важное государственное значение, чем и мужские учебные заведения, оказываются в материальной зависимости не от государства и не от общества, а от случайных благотворителей-буржуев. От них зависит большая или меньшая обеспеченность гимназий, они ведают всеми ее хозяйственными делами, им, наконец, принадлежит такое важное право как выбор начальницы гимназии.
Понятно, что эти золотые мешки раскошеливаются недаром: им нужен почет и уважение. И вот у нас в гимназии устраивается, например, церковь имени того самого купца, который теперь так оскандалился; его именины (как престольный праздник) у нас табельный день; к нему даже посылали раньше депутации гимназисток, которые должны были прославлять его как своего благодетеля и подносить в подарок разные изящные рукоделия…
Когда же будет положен предел этой ненормальности? Когда женские гимназии перестанут находиться в унизительной зависимости от меценатов-толстосумов? Когда они будут признаны такими же государственными учреждениями, как и мужские школы?
30 апреля
Сегодня вскрыли пакет с темами из округа, и при этом были обрадованы, так как диктовки не оказалось, а самые темы были очень легкие, так что отставшей от других ученице пришлось писать на шаблонную тему «Онегин как бытовой тип». Остальные же семиклассницы писали тему «Субъективный элемент в поэмах Лермонтова» (другие мои темы были: о людях 40-х гг. по романам Тургенева и о взгляде Гоголя на искусство).
3 мая
Был на прогулке в поле, устроенной шестиклассницами. Была там и начальница и кое-сто еще из педагогического персонала. Учениц же явилось меньше половины класса: говорят, что этот класс живет не очень дружно и не может объединиться даже для удовольствия. Я же лично считал этот класс да еще седьмые наиболее симпатичными, так как находил наши отношения вполне хорошими. Но накануне как раз в этом классе вышла у меня неприятность. Весна подействовала на работоспособность девиц весьма плохо, а между тем теперь приходится спешить с окончанием курса, необходимо также повторить и старое, так как с половины мая начинаются уже экзамены. И вот оказалось, когда было задано повторить о литературе Екатерининской эпохи, многие девицы, понадеявшись на авось, не повторили об этом и обнаружили свое незнание. Пришлось поставить трем из них единицы и двум двойки. В числе пострадавших оказалась и Л.З., которая благодаря живому темпераменту и нежеланию сдерживать себя никогда не слушает в классе и вследствие этого часто получает неудовлетворительные баллы и сердит меня. Теперь же в течение нескольких дней она получила у меня две единицы, что, видимо, вызвало неудовольствие против меня ее подружек, раньше расположенных ко мне. Этот и другие подобные инциденты и повлияли на отношение класса ко мне. Поэтому, когда я пошел ныне с ними на прогулку, думая встретить такое же хорошее отношение, как в прошлом году, то оказалось, что теперь далеко не то. Все симпатии учениц были на стороне моих коллег: математика и исторички, которые относятся к ученицам очень снисходительно и поддерживают с ними самые хорошие отношения. Нашлись также обожательницы и у начальницы, которые ни на шаг не отходили от нее и ухаживали за ней, как влюбленные. Особенно ярко проявились отношения ко мне, когда стали играть в мнения и собрали мнения обо мне. Из хороших мнений обо мне, кроме традиционного «дуся», ничего не нашлось. Но зато оказалось весьма немало едких замечаний на мой счет, касавшихся меня как педагога; например, невежливый, несправедливый учитель, любит ставить колы и т.п. Когда же стали собирать мнения об историчке, то здесь оказался целый букет восторженных похвал, без единого темного пятнышка, и некоторые мнения, видимо, прямо в пику мне, как, например: не ставит единиц, справедливая, были похвалы ее педагогическому таланту, вроде: любит свой предмет, увлекательно рассказывает и т.п. Одним словом, эта игра указала мне мое настоящее лицо в мнении моих учениц. Мой принцип разумной строгости, препятствующий мне распускать учениц и заставляющий неуклонно требовать от них необходимых знаний, дал весьма печальные результаты, испортив отношения ко мне учениц, т<ак> к<ак> свои строгие требования мне приходится подкреплять столь ненавистными для учениц двойками и единицами, а их небрежное отношение к делу нередко вызывает у меня раздражение, которое, конечно, никто не будет считать разумным педагогическим приемом, по которого в то же время для человека моего темперамента очень трудно избежать. Идти по этому пути и дальше мне не хотелось бы, та); как при отрицательном отношении ко мне учениц я считаю нечестным служить. Превращаться в благодушного и невозмутимого добряка я тоже не могу по самой своей природе. Ослабить предъявляемые к ученицам требования и не ставить им худых баллов, при общем строе нашей школы, прививающей ученицам с детства погоню только за баллами, что значит понизить и так невысокий уровень их знаний и предоставить им право бездельничать — на это я тоже не согласен, т<ак> к<ак> распущенная школа вовсе не есть свободная школа, и нового вина не вливают в ветхие мехи. Остается выбрать какой-то средний путь (если только он есть), который и при данном строе школы мог бы создать хорошие отношения между учителем и ученицами, не понижая предъявляемых к ним требований и отнюдь не уклоняясь в сторону дешевой популярности, снискиваемой поблажками и потачками. Но пути этого я еще не нашел, да и найду ли его, неизвестно. А между тем систематическое переутомление и тысячи мелких неприятностей, связанных с трудом современного педагога, все больше и больше портят мой характер, делая меня раздражительным. И если так будет продолжаться дальше, я действительно должен расстаться с профессией педагога, с единственной профессией, которая мне по душе. И чем-то близким, знакомым повеяло на меня от недавнего газетного известия, что в одном из южнорусских городов застрелился учитель гимназии, пользующийся популярностью среди учеников, но оставивший записку, что он не хочет жить, непонятый своими учениками.
4 май
Недавно узнал от начальницы, что классная дама Б-ва по поводу инцидента 25 апреля сбавила балл за поведение выходившим с урока пятиклассницам. Таким образом, даже мое замечание в журнале (о котором мои коллеги говорили, что я записал в журнал классную даму), направленное прямо против нее, она свалила опять с больной головы на здоровую. Неспособная предупредить беспорядок вследствие полного отсутствия такта и не имея ни малейшего влияния на учениц, она опять прибегла к карательным мерам post factum, да и здесь выждала сначала, чтобы о беспорядке напомнил ей учитель, с явной целью дискредитировать его в глазах учениц и испортить их отношения. Это, по-моему, действительно игра в дешевую популярность, и притом игра на чужой счет. А между тем цель достигается. В-ву ученицы любят, у меня же благодаря ей отношения с классом испорчены. А между тем, когда ее не бывает, сразу видно, что у учениц нет по отношению ко мне какой-либо закоренелой враждебности, да и я сам без нее раздражаюсь гораздо реже. Гимназистки же в сущности еще дети, и как дети, в общем, очень незлопамятны (VIII класс, пожалуй, не в счет). И как приятно бывает иногда, когда оживится от чего-нибудь класс, когда глаза учениц весело заблестят, и ты душой на момент соприкасаешься с ними!
7 мая
Сегодня был экзамен словесности в VII классе. Держало около 50 учениц. Экзамен тянулся до 6-го часу и сильно утомил как учениц, так и экзаменаторов. А между тем в результате видишь, что лотерея оста (лея лотереей. Некоторые ученицы, учившиеся во время года на пятерки, теперь получили в общем выводе 4. А одна, учившаяся на четверки и тройки, получила на письменном 2; а сегодня на устном плела такие нелепости (Белинский — писатель XVIII в., эпоха реформ — в 30-х гг. и т.п.), что пришлось тоже поставить 2, и девица окончательно провалилась, что вызвало с ее стороны сильнейшую) истерику. Потом же обнаружилось, что она, усиленно готовясь к устному экзамену, спала в ночь перед экзаменом только 3 часа, что, вероятно, и привело ее в момент экзамена к отуплению. Другим зато экзамены пошли на пользу (хотя таких меньшинство). Например, Б-ва, учившаяся весь год на тройки и двойки и получившая у меня 3 — на письменном экзамене, на устном вытянула легкий билет, и сидевшие на экзамене два ассистента (из них одна начальница, сама только с гимназическим образованием) поставили 5, а я 4. При выводе же общего балла на основании этой неполной пятерки за случайный ответ начальница стала настаивать, что теперь в общем выводе Б-вой выходит 4. Я же, считая это несправедливой натяжкой, делаемой начальницей в угоду родителям Б-вой, видным членам местного beau mond’а, стал протестовать против того, чтобы считать случайную неполную пятерку равноценной с годовым баллом, справедливость которого подтвердилась и письменной работой Б-вой. Но начальница не согласилась, и вопрос будет передан на усмотрение директора или на решение педагогического совета, и как решит он — неизвестно, т<ак> к<ак> формальные основания, пожалуй, на стороне начальницы, и она может требовать, чтобы из 3 и 3 было выведено 4. А между тем четверки же вышли и тем ученицам, которые имели за год 5, и на обоих экзаменах получили по 4.
11 мая
В V и VI классах были у меня последние уроки, которые состояли в спрашивании недоспрошенных учениц, в исправлении желающих и т.п. Теперь расстался с V и VI классами до экзаменов, расстался вполне мирно.
Приезд попечителя учебного округа
12 мая
В V-VIII классе был экзамен по педагогике, который сошел очень хорошо (из 24 учениц только у 3-х тройки, а у остальных четверки и пятерки), чем и ученицы, и я были, конечно, очень довольны. Прощаясь со мной в прихожей, они, веселые и оживленные, говорили: «Вот видите, как мы сдали, а Вы зимой-то нас все пробирали!» «А если бы не пробирать вас зимой, сдали ли вы так хорошо?» — отвечал я, и мне кажется, что я не был неправ, если, конечно, подразумевать под «пробиранием» не придирчивость и раздражительность, а разумную строгость.
Скоро ищут сюда приезда попечителя учебного округа и окружных инспекторов, и в душу педагогов невольно закрадывается робость ввиду полной зависимости нашей судьбы от их усмотрения. Поэтому, даже сознавая себя вполне добросовестным педагогом, все-таки всегда можешь нарваться на какую-нибудь неприятность. То не понравится «направление», в каком ведешь преподавание, то найдут учениц недостаточно знающими, то сочтут нарушением служебного долга отсутствие форменного сюртука. И вот во избежание всяких казусов педагоги принимают всякие меры, «чтобы гусей не раздразнить». Приходится доходить даже до ребяческих уловок. Например, рассовывать по шкафам, подальше от наблюдательного ока, те прогрессивные газеты, которые мы компанией выписываем в гимназию и которые обычно лежат на столе в учительской. И это вовсе не так смешно! Уволил же недавно наш попечитель одного профессора, выразившего сочувствие избитому редактору умеренно-либеральной газеты. Что же бы сделал он с такой мелкой сошкой, как мы, если бы нашел на столе в учительской «Русские ведомости» или что-нибудь подобное.
Немудрено поэтому, что и наш директор распорядился убрать из классов все портреты писателей, которые внесли целый год, т<ак> к<ак> портреты Герцена, Добролюбова и Писарева тоже могут вызвать целую бурю, хотя сочинения их мы проходили.
И теперь в ожидании начальства внутренность гимназии стала такой же казенной, как, например, в реальном училище: в классах голые стены, в учительской пустой стол.
14 мая
Приехали попечитель и окружной инспектор. Наше начальство встречало его на пароходе — это уже так полагается. Но, говорят, сбегали туда «петушком» и коллеги по реальному училищу, чего от них уж вовсе не требовалось. Рассказывают даже, что чуть не первым явился туда один из них, всегда восстающий на словах против «лакейства». Бот уж действительно: «Бестия наш брат, русский человек!»
15 мая
Завтра жду на экзамен начальство. А это не очень приятно, во-первых, оттого, что держат мои специалистки, которые вообще не блещут своими знаниями, особенно в области грамматики, а во-вторых потому, что в курсе литературы за VIII класс (Герцен, Л. Толстой, Некрасов) есть такие щекотливые места, которые могут прийтись не очень по вкусу нашему начальству, которое в области обучения и воспитания придерживается старинки, а в области политики принадлежит к самому черному лагерю.
16 мая
С утра был экзамен в VIII классе по трем специальностям: истории, географии и словесности. Во время спрашивания историчек и явились на экзамен «их превосходительства»: один длинный и сухой старик во фраке со звездами, римским носом и козлиной бородкой, другой толстенький, маленький с хитрой физиономией мелкого купчика, в синем сюртуке и грязной сорочке — настоящие Дои Кихот и Санчо Пансо. Попечитель сидел молча, едва ли что слыша и понимая по старости лет, и только время от времени, как бы проснувшись, гудел своим диким голосом глухого: довольно, довольно! Инспектор же вел себя как настоящий сыщик, поставивший себе целью уловить «дух» преподавания. Найти преподавание «крамольным» было, разумеется, нетрудно, т<ак> к<ак> XIX в., который проходится у нас в VIII классе, содержит сколько угодно рискованного материала: то революции, то реакции, то социализм. И освещать этот материал с точки зрения Союза русского народа можно только при полном невежестве и игнорировании исторических факторов. Будь наш инспектор с образованием хотя бы исторически-филологического факультета, и он — при веем черносотенстве в области современной жизни — смог бы еще это до некоторой степени понять. Но это человек, даже не нюхавший высшей школы. И вполне понятно поэтому, насколько компетентным он оказался в деле преподавания истории. Во всеобщую историю он не стал и вмешиваться. Но в области русской истории решил тряхнуть своими знаниями. Так, при рассказе о Николаевском царствовании и упоминании о его реакционном характере он начал наводить ученицу на мысль, что правительство заботилось о крестьянах, что Россия благодаря разным мертворожденным комиссиям подвигалась вперед, и, следовательно, царствование вовсе не было реакционным. Чтобы больше подчеркнув это, он стал спрашивать о каком-то указе Николая относительно рабочего класса, чего ни историчка, ни историк, бывшие тут, говорят, не было. Поискав в учебнике, инспектор заявил с неудовольствием, что в этой книжке действительно нет. Но всего пикантнее получилось, когда одна ученица, отвечая о Магницком, заявила, что он разогнал из института лучших профессоров. Это уж было не в бровь, а в глаз присутствовавшему тут попечителю, которому лавры Магницкого, очевидно, не дают спать. Инспектор не выдержал и опять уцепился, стараясь выяснить, как у нас освещали этот факт. Но уж настоящим сыском пахнуло, когда он стал допытываться у одной ученицы, излагавшей либеральные взгляды Сперанского и реакционные Карамзина, кому она более сочувствует. Потом пошло дознание об учебниках, по которым занимаются в VIII классе, причем оказалось, что учебники Кареева и Щепкиной недозволенные. Спрашивал он также у учениц и о книгах, какие они читали по истории и какие им рекомендовала учительница. При этом оказалось, что о большинстве их он не имеет и понятия (Довнар-Запольского он произносил, переспрашивая: «Народопольского?»; о истории, изданной Гранатом, и не слыхал, думал, что речь идет о словаре Граната). Поэтому весьма курьезно вышло, когда он, выразив неудовольствие, что о движении декабристов читали Довнар-Запольского, посоветовал читать историю Соловьева (это для XIX-го века!). И от таких-то «руководителей» приходится быть в зависимости учительскому персоналу! До экзамена моих словесниц «начальство», к счастью, не досидело, но, выходя, все-таки спросило у учениц (почему не у учителя?): какой у них учебник по словесности. От нас они поехали в другую гимназию, где на экзамен словесности попечитель уже опоздал (постарались «отвертеться» до него), но, расспросив учениц о занятиях, захватил у одной из них записки по словесности «на намять». О нашей историчке он, уже не стесняясь, отзывался там крайне неодобрительно, говоря, что у нас проходят только «о революциях и реформациях», а Нахимова и Корнилова не знают (о них, между прочим, и не спрашивали!). Теперь, очевидно, нашей историчке надо ждать грозы. А между тем это добросовестная и знающая учительница, которую ученицы притом очень любят. И если что можно поставить ей в вину, так разве лишь то, что она, строго научно освещая исторические факты, совсем не касается современности.
Экзамен у моих словесниц сошел сносно — в общем вышли те же годовые баллы, т.е. половина четверок, половина троек, и ни одной пятерки. Но для данного состава и это можно считать хорошим концом. Когда после объявления баллов я вошел к ним, И-и с легкой иронией заявила: «Теперь все дела с Вами ликвидировали». «К Вашему удовольствию», — добавил я. «И к Вашему, конечно!» — ответила И-и. И мы оба, пожалуй, были правы.
17 мая
Слышал еще некоторые подробности о пребывании попечителя. На этот раз он остался больше доволен частной гимназией, где учительницы не идут дальше утвержденных учебников, старого не спрашивают, с учениц почти никакой работы не требуют, вследствие чего они и поражают всякого беспристрастного человека своим слабым знанием и развитием. В V классе, например, у них писали переложение тут же прочитанного им отрывка «Воспитание Лизы Калитиной» (его же готовили и дома); тогда как у нас вполне справлялись уже с темой «Дикой как тип самодура». Но попечителю как охранителю юношества от просвещения то и приятно, что они не залетают далеко. «Вот здесь и учебники, какие надо» — хвалил он, — а по адресу нашей гимназии изрек: «Не люблю я, когда историю преподают женщины (в частной гимназии между тем тоже историчка); у мужчин еще ничего, а у них все какие-то реформации да революции». А окружной инспектор добавил: «Всего лучше бы проходить в VIII классе древнюю историю, пусть бы себе разбирали разных Ликургов. А то XIX в.!»
18 мая
Одной из причин приезда окружного начальства оказалось поведение нашей начальницы. О ней давно уже ходили крайне скандальные слухи, которые теперь подтверждаются. Говорят, например, что она гуляла с цирковым борцом. Говорят о каких-то ночных посетителях ее квартиры и далее о том, что она сама была захвачена в доме свиданий. Теперь по поводу этих слухов попечитель допрашивал директора, некоторых их педагогов и самое начальницу. Она же, думая, что эти разоблачения исходят из нашей среды, стала говорить о пристрастном отношении к ней педагогического персонала, о том, что ее бойкотируют и т.п. Это послужило поводом к новым допросам педагогов (устным и письменным) о причинах нашей ссоры с начальницей, о разных столкновениях с ней и т.п. Начальница же, по-видимому, не унывает. Вскоре же после отъезда попечителя она накричала на нашего математика, не пришедшего сразу на ее зов, и заявила, что теперь о каждом проступке преподавателя она будет доносить попечителю. Понятно, что после всего этого отношения между ней и нами не могут быть хорошими. Коренная же причина этой ненормальности, далеко нередкой в женских гимназиях, в том, что пост начальницы замещается по выбору попечительского совета, т.е. органа, совершенно не компетентного в педагогических советах, причем и при избрании, и при утверждении начальницы руководствуйте главным образом ее общественным положением и связями; и в результате во главе большинства гимназий стоят различные гранд-дамы или чиновники в юбках, сами прошедшие только курс средне-учебных заведений и нередко с моральным цензом даже ниже среднего. Не касаясь юридически заведования учебной частью, они фактически играют и в этом отношении немаловажную роль, вследствие чего между ними и учительским персоналом, стоящим значительно выше их по общеобразовательному цензу, неизбежно возникают осложнения. Воспитательное же дело находится всецело в их руках, и педагога часто даже не знают, что ученицам их гимназии позволено, что запрещено, а потому обыкновенно никакого содействия с их стороны в этом отношении начальница не встречает. Таким образом, начальница гимназии — и начальство, и в то же время не начальство. В глазах учениц и их родителей, а особенно в своих собственных, она очень большое начальство, почти — «гимназия — это я». В глазах же учительского персонала это не больше как старшая классная дама.
19 мая
Экзамен — лотерея не только потому, что здесь играют роль случайно доставшиеся билеты или вопросы; но и потому, что самые выводы баллов, имеющих для учениц такое большое значение, часто также зависят от разных случайных колебаний, причем чаша весов учебной Фемиды иногда склоняется в ту или другую сторону в зависимости от причин вовсе не учебного свойства. Так недавно произошло с одной семиклассницей Б-вой, дочерью председателя суда, т.е. шишки в нашем городе очень важной. Эта девица получила двойки на всех письменных математиках. Допустили до устных. На устной алгебре она тоже получила два, на устной геометрии тоже, и только на арифметике натянула на тройку. Но как же оставить дочь га кой персоны, тем более что он сам приезжал справляться о ее судьбе чуть не после каждого экзамена? И вот пошли натяжки. По алгебре больше двойки никак нельзя было вывести. По письменной геометрии было 2 двойки и 2 тройки, работу проводила тогда еще начальница и, конечно, поставила 3. Вывели за письменный тройку. Сложивши с тройкой за год и с двойкой устной, опять в среднем вывели три. По арифметике из двух троек (годовой и устной) и одной двойки тоже вывели тройку. Потом сложили все три математики вместе (это вообще так полагается), и оказалось, что две тройки (за геометрию и арифметику) такого сомнительного свойства свели на нет двойку но алгебре. И в результате дочь председателя суда, при незнании всех трех отделов математики, благополучно прошла через педагогические Сциллу и Харибду. Но будь бы на ее месте другая, и оставления на второй год не миновать.
23 мая
21 мая держали те из моих пятиклассниц и шестиклассниц, кто получил двойки на письменном экзамене. Большинство из них полу чили четверки, т.е. поправились. Только две девицы в пятом и две в шестом классе отвечали плохо, и им назначены осенние переэкзаменовки. В общем и для них это еще дело не пропащее. Вчера же до 7 ч. вечера сидел на русском языке в IV классе и в III. В III классе спрашивала их учительница. В IV же, т<ак> к<ак> девицы переходили ко мне, спрашивал по большей части я сам. Отвечали в общем недурно. Третьеклассницы же, державшие сегодня (т. е. получившие двойки за письменный), оказались, как и следовало ожидать, слабее, и большинство из них получили переэкзаменовки. А теперь, как говорят, сваливают все на меня, будто я их «резал», хотя я их почти даже и не спрашивал.
24 мая
Зайдя случайно в гимназию (мои дела уже кончились), я принужден был объясняться с одной мамашей. Дочь ее, сидящая второй год в V классе, девица малоспособная и очень неразвитая. На письменном экзамене по словесности она получила ныне 2, и — что редко бывает — не из-за орфографии, а из-за полного невежества в области пройденных произведений. Достаточно сказать, что, например, купец Дикой у нее отдавал мужа слесарши в солдаты (вместо гоголевского городничего). На устной переэкзаменовке обнаружилось, что это не было у нее случайной опиской или временным затемнением, т<ак> к<ак>, несмотря на все мои наводящие вопросы (например, разве купцы могли кого-либо отдавать в солдаты?), она далее не могла заметить, в чем тут ошибка, и продолжала стоять на своем. Когда же я стал спрашивать по теории словесности, то оказалось, что она не только не в состоянии разбираться в стихосложении, но далее и понять его основ, т<ак> к<ак> не имеет никакого представления о том, что такое ударение. Поэтому вполне естественным было, когда все экзаменующие единогласно и без всяких колебаний поставили ей два и назначили осеннюю переэкзаменовку. Пришедшая же сегодня в гимназию ее мамаша вдруг с апломбом заявила мне, что ее дочь очень хорошо знает все, что проходили, что отвечала она правильно и что это я почему-то «срезал» ее, поставив ей 2, тогда как другие отвечали хуже и получили четверки (между прочим, ее дочь, отвечавшая первой, сразу после ответа ушла из класса, а мамаша, конечно, и вовсе не присутствовала). Такие бесцеремонные заявления мамаши, при том женщины, по-видимому, совершенно необразованной, но берущейся со слов своей немного более образованной дочки критиковать оценку ее знаний, и обвинения меня в какой-то пристрастности и несправедливости страшно возмутили меня. На слово ее о «срезывании» я резко заметил, что она «не смеет так говорить», и стал доказывать, что ее дочь действительно ничего не знала и больше двойки не заслуживала. Но переубедить такую особу было невозможно. Она упорно стояла на своем, толковала что-то о тяжелом материальном положении, хотя тут же добавляла, что ее муж получает 1200 р. (т. е. больше многих из моих коллег по гимназии). А на мой совет, чтобы ее дочь как следует подготовилась к осенней переэкзаменовке, заявила, что она все равно провалится. «Если так будете внушать ей, конечно, провалится» — возразил я. «А если провалится, — отвечала она, — то я приду с ней вместе в гимназию: и ей и себе пущу пулю в лоб!» Такое заявление матери, очевидно, внушающей такие же полоумные мысли и дочке, страшно расстроило меня. Толковать с этой психопаткой больше уже не было сил. И когда она еще раз повторила свою угрозу, я вскочил со стула и, сказав, что нахожу дальнейшие разговоры с ней бесполезными, ушел из комнаты, отослав ее за нужными ей справками к начальнице. Этот случай мог бы гораздо больше расстроить меня, если бы я чувствовал себя хоть сколько-нибудь виноватым. Но я вполне искренне считаю, что переэкзаменовка ее дочерью была вполне заслужена, потому что переводить в следующий класс девицу, не знающую ничего, не допустимо в какой угодно свободной школе. При желании работать, одолеть этот курс к августу дело вовсе не трудное, тем более что она проходила его уже два года. Таким образом, дело этой девицы вовсе еще не пропащее. Мамаша же вместо того, чтобы успокоить дочь и создать у нее настроение, благоприятное для работы, начинает ее запугивать, сгущать краски и не останавливается даже перед внушением мысли о самоубийстве. Таких психопаток я еще не встречал! Но, вероятно, среди нашего общества немало найдется родителей, стоящих в отношении к детям и школе на точке зрения, близкой к этой. И кто ее знает, не осуществит ли если не она, то дочь это безумное намерение в случае осеннего «провала». Кто же в этом будет виноват? Мать, конечно, винит во всем исключительно педагогов, не считаясь при этом ни с какими фактами. Но мы ли виноваты, если девица, два года проучившая одно и то же и, по словам матери, усиленно работающая дома, не в состоянии усвоить даже основных элементов курса, не в состоянии даже отличить «Ревизора» от «Грозы»? Судя по матери, можно думать, что и наследственность у нее не из хороших. В благоустроенных городах Запада (например в Мюнхене) для таких учеников есть особые школы, куда удаляют их из нормальных школ и где занимаются с ними в специальных, более благоприятных условиях особо подготовленные учителя. У нас же такие ученики составляют обузу для учителей, задерживая работу с остальным классом и создавая учителям репутацию «любителей двоек». Родители же, не желая беспристрастно посмотреть, пригодны ли их дети для нормальной школы, хотят, чтобы учителя «за уши тянули» их из класса в класс и потом давали дипломы за невежество. Когда же учителя не хотят так поступать (да даже и не могут!), родители взваливают на них всю вину за малограмотность детей. И вместо того чтобы пристроить девицу или молодого человека к какому-нибудь другому делу, более для них пригодному, все-таки держат их в ненавистной для них школе, предпочитая пустить пулю в лоб, вместо того чтобы действительно позаботиться о ее судьбе.
В экскурсию за границу
25 мая
На этот учебный год мои дела в гимназии кончены. Теперь я спешу поскорее все ликвидировать и собираюсь за границу. Впереди два месяца относительной свободы — это единственное преимущество утомительной и неблагодарной учительской службы. Но чтобы продуктивно использовать это время, нужно тоже очень многое. Для поездок за границу (которые и стали возможны благодаря устраиваемым за последние годы экскурсиям), например, нужна известная подготовка. Но я при всем желании не мог в течение зимы заняться ей. Крайне важно знание языков. Но и на это у меня тоже не хватало времени. А благодаря всему этому и самая поездка, конечно, многое потеряет. Но даже и просто ее осуществить может далеко не всякий. Я могу это сделать лишь потому, что холостой и могу все зарабатываемые мной деньги тратить только на себя. Ни лишь обзаведется учитель семьей — и крылья у него уже подрезаны; выехать дальше дачи или ближней деревни он уже не может. Статистика экскурсий ясно говорит о том, что для семейных учителей и учительниц даже средней школы это вещь почти недоступная. Да и из моих коллег ездят только люди не семейные; семейные же принуждены сидеть и знакомиться с божьим миром только по книжкам. И получаются, например, такие курьезы, что учитель истории и географии, уже пять лет преподающий эти предметы, еще ни разу не бывал в Москве.
26 май
Подводя итоги оконченному теперь учебному году, я вижу, как далеко я стою от того идеала учителя-друга, который я хотел бы осуществить. Правда, мне кажется, что я ныне значительно меньше прибегал к репрессивным мерам, чем в прошлом году (тогда у меня, например, не раз записывались в журнал даже восьмиклассницы, ныне же таких записей учениц совсем не было). Но нервность и раздражительность моею характера нередко давала о себе знать. Всего меньше проявлялось это в VI и VII классах, с которыми, по-моему, вообще заниматься легче. В V же классе, где мы еще не привыкли друг к другу, ладить гораздо труднее. Нелегко поддерживать хорошие отношения и в то же время добиваться знания и работы и в VIII классе. Но в общем с нынешним VIII классом у меня отношения были лучше, чем с прошлогодним, который делился на резко враждебные партии. Правда, и ныне в VIII классе не раз бывали столкновения, но обычно дело кончалось миром. Больное место мое составляли ныне мои «словесницы». Есть, очевидно, какая-то ненормальность в постановке наших занятий, но как устранить ее, я еще не знаю. Но очень многое зависело также и от неудачного подбора учениц. А потому бросая взгляд на будущую осень, я желал бы более хорошего состава специалисток. Желал бы также, чтобы новый VIII класс остался со мной в таких же хороших отношениях, какие были ныне в VII классе.
15 августа
Кончились каникулы — когда можно было на время оторваться от однообразного, утомительного груда и получить новые впечатления. Пользуясь своим холостым положением, я — благодаря Обществу распространения технических знаний — побывал за границей, опять, как во сне, промелькнула передо мной эта «страна святых чудес» со своей многовековой культурой. Но и здесь, во время путешествия, российская действительность иногда напоминала о себе. И какими-то выходцами с того света казались там наши русские газеты — так непохоже было их содержание на то, что мы видели вокруг себя. Одним из наиболее сильно поразивших нас известий было сообщение о новом циркуляре «нашего» министерства насчет заграничных экскурсий. Дело громадного культурного значения и совершенно невинное в политическим отношении стало поперек дороги никому иному, как Министерству народного просвещения и взято им под сомнение. На основании каких-то «конфиденциальных сведений» дело, в котором участвуют вполне гласно целые сотни народа и в котором ничего подозрительного не видит даже Министерство внутренних дел, объясняется просветительным ведомством как зло, с которым надо бороться. Помню, как возмущен был этим циркуляром один экскурсант — человек самых правых убеждений, но, несмотря на это, путешествующий с экскурсиями уже четвертый год и не находящий в них ничего предосудительного. И это членство было вполне естественно у всякого педагога (хотя бы из самого черносотенного лагеря), если он только не лишен искренности и знаком с делом экскурсий непосредственно, а не из вторых рук. Но вот промелькнуло лето — и мы снова чиновники этого самого министерства «препон и препятствий».
1912–1913 Учебный год
Женские и мужские гимназии
16 августа
Важная новость в нашем педагогическом мире — это утвержденные летом новые штаты мужских учебных заведений. Учителя мужских гимназий и реальных училищ могут быть довольны, т<ак> к<ак> материальное положение их значительно улучшилось. Но женские гимназии и здесь обошли. И теперь, сравнивая свое положение с положением коллег по реальному училищу, невольно испытываешь чувство зависти и незаслуженной обиды. Разве не тот же самый труд несем мы, разве не тот же образовательный ценз требуется и от нас? А между тем такая резкая и обидная разница! Коллега-историк, например, поступивший со мной в один год, но преподающий в реальном училище, получает по новому штату за 12 уроков почти столько же, сколько я за 24, не имея при этом письменных работ; а за все свои уроки он получает втрое больше, сравнительно со мной. И все только от того, что он преподаст мальчикам, а я обучаю девиц. Министерство народного просвещения еще раз показало свой антикультурный характер, отнесшись так пренебрежительно к русским женщинам и их образованию. Ведь тут важны не столько оклады сами по себе (хотя для семейных учителей очень важно и это), сколько возможность ограничиться меньшим количеством уроков, что ведет к большему сохранению сил и к большей продуктивности занятий. При данных же условиях, будучи завален работой, сам чувствуешь, как превращаешься в какую-то водовозную клячу. Видишь, например, что иной учитель, видимо, много читает, следит за литературой своего предмета, и в то же время сознаешь, что не можешь угнаться за ним, т<ак> к<ак> принужден сидеть все вечера за письменными работами, которых у него нет. Нередко в начале года приходит мысль обновить свои курсы, пересоставить программы, ввести новые произведения, но вскоре соображаешь, какого количества повой работы требует все это. А где же время на это? Где силы? И остаешься с прежними курсами, с прежними объяснениями, снова сбиваешься на трафарет, который с каждым годом становится все привычнее.
17 августа
Читал в «Журнале Министерства» новую программу русского языка для средне-учебных заведений. Есть тут и нечто от новых веянии в педагогике — о сокращении диктовок, о пользе внеклассных бесед, о необходимости освещать литературные произведения в связи с жизнью эпохи и т.п. Но эти новые веяния отчасти и раньше проникали в школу вопреки министерским программам, а отчасти трудно осуществимы (хотя бы внеклассные беседы, взваливаемые на тех же заваленных письменными работами словесников). Но зато немало в этой программе и прямо антипедагогического. Взять хотя бы новый курс IV класса, куда хотят впихнуть и славянский язык, и языкознание, и диалектологию, и теорию словесности. Только господа из канцелярий, никогда практически не занимавшиеся, и могли додуматься до этого. Учителям же, которые на практике видят, как трудно даются детям этого возраста обобщения (хотя бы по грамматике или теории словесности), остается при виде этой нелепой программы только руками развести. Я лично думаю, на основании опыта, что ее нелегко пройти даже и в VIII классе. Интересны в программе и следы современных политических веяний. Взять хотя бы бесследное исчезновение Герцена, который был введен при Шварце (министр народного просвещения. — В. Ш.) (даже при Шварце!) в реальные училища, или такое же исключение Радищева, который проходился даже и раньше (см. учебники Незеленова). Чем, как не лицемерием, объяснить при этих условиях неоднократное упоминание об «историзме» новой программы? При таких часто тенденциозных купюрах целых писателей и направлений разве может быть речь об «историзме»? И авторы этой программы, не упоминающей ни о западничестве, ни о славянофильстве, ни о народничестве, мечтают «ввести учащихся в круг таких идей и настроений, которые живы в наши дни». Почему же тогда не продолжить истории словесности и дальше 60-х гг., введя хотя бы для ознакомления с 70-ми гг. «Новь» Тургенева и «Кому на Руси…» Некрасова, а для ознакомления с 80-ми гг. Чехова, а с 90-ми Вересаева? И с такой охолощенной «историей литературы» собираются приучить учащихся «спокойно разбираться не только в явлениях литературного характера, но и в явлениях самой жизни прошлой и настоящей». Не только этих лицемерно провозглашаемых высоких задач, но даже и просто исторического освещения эта программа дать не способна. И та программа, по которой я благополучно преподаю уже пятый год, да, наверно, программы и многих других словесников дают для достижения этих целей гораздо более. Но чего же и требовать от канцелярского творчества, совершенно не прислушивающегося к голосу жизни; чего требовать от Министерства, совершенно не желающего считаться с мнением тех, кому вверяется исполнение всех этих широковещательных программ? Насколько было бы целесообразнее вместо запрещения курсов выслушать учителей средне-учебных заведений, созвать их на специальный съезд для обсуждения хотя бы вопроса о программах. Но г. Кассо (новый министр народного просвещения) нужны только съезды классиков, а о съезде словесников, создавая для них новую программу, даже и не подумал. И что же может получиться при таких условиях хотя бы из благих пожеланий Министерства о новых методах преподавания словесности, когда учителя не могут ни потолковать о применении этих методов, ни увидеть их на практике? Так и прогрессирует наша наука — «шаг вперед — два назад».
Да иногда даже и не два, а гораздо больше. Запретили же ныне учебник истории Острогорского, употреблявшегося уже 20 лет, а теперь — по доносу Меньшикова — признанный неблагонадежным.
18 августа
Немало перемен и в личном составе пашей гимназии. Начальница К., отличившаяся своими скандальными похождениями, уволена по прошению еще в июне (коснись бы дело политики — уволили бы и без прошения). Ввиду предстоящих выборов новой попечитель округа сделал запрос в Министерство, чтобы указали достойную кандидатку, и Министерство указало как на самую достойную на какую-то баронессу с институтским образованием, вся педагогическая опытность которой исчерпывается тем, что она когда-то в 80-х гг. прослужила один год классной дамой. И с этой странной кандидатурой приходится считаться, несмотря на то что теперь сколько угодно учительниц с высшим образованием и с гораздо большим педагогическим опытом.
Уходит от нас и председатель педагогического совета, которому, очевидно, досталось за грехи начальницы, хотя дело касалось исключительно ее частной жизни, которая могла ему быть и неизвестной. Вместо него, вероятно, будет вновь назначенный директор мужской гимназии. Только что приехав в наш город, он уже успел зарекомендовать себя как сухой педант и формалист. Например, при представлении ему одного учителя, явившегося в полной форме, директор сделал замечание, что у него цвет сукна не вполне надлежащий. Родители тоже недовольны его обращением. Не думаю, чтобы хорошо пришлось и ученикам.
19 августа
Моя работа началась уже с 8 августа, когда пошли приемные экзамены и переэкзаменовки. И сразу же пошли неприятности. Немало было слез и истерик у провалившихся, а нам приходилось или переводить безграмотных в следующие классы, или уподобляться каким-то Иродам, избивающим младенцев. Сверх экзаменов по собственному предмету пришлось еще заменять неприехавшего вовремя законоучителя и сидеть на приемном экзамене по закону Божьему. Тут держало несколько девиц из городского училища, где занимается священник, страшно манкирующий своими уроками. Грехи законоучителя ясно сказались, т<ак> к<ак> девицы проявили невежество даже в таких вещах, которые знают приготовишки. При таких нелепых ответах, которые они давали даже на самые элементарные вопросы, поставить удовлетворительный балл было совершенно не за что, и вся комиссия ставила двойки. А потом оказалось, что и девицы, и их законоучитель сильно недовольны и взваливают всю вину на меня, говоря, что я «проваливал» их. Всего неприятнее то, что я оказался на этом экзамене совершенно случайно, а теперь вышло вдруг «в чужом пиру похмелье».
20 августа
Уроков пока еще мало, т<ак> к<ак> VIII класс откроется только с 1 сентября. Но новые восьмиклассницы уже начинают ходить в гимназию и бывают на уроках в младших классах. Уже по своему внешнему виду они кажутся независимее, чем раньше. Новое положение тоже, видимо, интересует их. Недавно одна из них говорила, что им кажется очень странным помогать классным дамам следить за маленькими ученицами, ходить по урокам и т.п. Эту психологию девиц, почувствовавших себя взрослыми и как бы внезапно выросшими, при занятиях с VIII классом учитывать необходимо. Применение же к ним обычных в других классах приемов часто вызывает у них совершенно иную реакцию.
22 августа
Директор мужской гимназии назначен к нам в председатели педагогического совета. Теперь, пожалуй, и у нас все пойдет по-новому. В руках его очень большая власть, а придраться всегда есть к чему. Взять хотя бы либеральные газеты, выписываемые нами в учительскую; всегда можно прицепиться также и к программам, и к освещению при преподавании гуманитарных наук. Для этого даже не требуется и знания.
23 августа
Новый председатель был собственной персоной в гимназии, взял на просмотр написанную для юбилейного акта речь нашей исторички об отечественной войне и, не успев еще прочитать ее, распорядился уже, чтобы кроме учительницы прочла еще о войне по книжке какая-нибудь ученица, т<ак> к<ак> дескать речь учительницы маленькие не поймут. Предположение довольно обидное для учительницы и ни на чем не основанное.
В V классе, где я занимаюсь с новым составом еще первые уроки, ученицы ведут себя хорошо; в VI же классе, который ведет моя «приятельница» В-ва, девицы с первых же уроков начали болтать и смеяться, а мне вместо объяснений приходится делать им замечания. И причина опять в той же классной даме, которая как будто сознательно стремится поссорить меня с ученицами. Девицы, болтавшие в прошлом году и рассаженные по постановлению педагогического совета, оказались опять вместе, теми же теплыми компаниями, и мне пришлось начинать учебный год с того же, чем кончился и предыдущий — с требования, чтобы эти ученицы сели отдельно, т.е. с того, о чем должна была позаботиться именно классная дама.
В результате лишнее раздражение с обеих сторон: классная дама в роли доброго ангела и учитель в роли какого-то придиры. А между тем не рассади их — и разговорам не будет конца, придется делать замечания, сбавлять поведение, ставить неудовлетворительные баллы за ответы.
24 августа
Новый председатель все более проявляет себя. Сегодня «беседовал» с историчкой по поводу ее роли и многое нашел неподходящим, например, общие рассуждения о причинах войны 12-го года, т.е. о Французской революции и ее последствиях и о состоянии тогдашней России. И, наоборот, то, что историчка хотела выпустить как маловажное — например подробности о движении войск и о сражениях — признал наиболее важным. Справился об учебнике истории, и при упоминании о Виноградове сказал, что это «нехороший учебник» и что теперь его «изгоняют».
Наводил потом справки о том, есть ли у учителей женских гимназий форменные сюртуки. А вечером сторож носил уже повестку, обязывавшую всех учителей и учительниц явиться завтра к обедне и всенощной, а послезавтра к обедне и юбилейному акту, причем указано, что все должны быть в парадной форме.
Раньше у нас этого не бывало, и мы утешали себя тем, что хотя и обделены многим сравнительно с мужскими учебными заведениями, но зато и формализма у нас меньше. Теперь и эта иллюзия разрушается. Ничего не давая на женское образование (нельзя же считать те 2500 р. в год на все, которые наша «казенная гимназия» получает от казны), Министерство предъявляет к педагогическому персоналу те же требования. И вся наша сравнительная «свобода» оказалась чисто случайным явлением, зависящим от личных свойств ближайшего начальника.
Конечно, пока все эти «реформы» еще мелочь, но они ясно говорят о непрочности всего нашего «жития», о том, что мы вовсе не хозяева в своем деле, а только наемники. Не хочется теперь и за дело браться, когда не знаешь даже, можно ли ныне будет проходить ту программу, что раньше, можно ли давать такие же объяснения или нет. Полная неуверенность и в своем деле и в самом пребывании на этой должности, — характерная черта психологии современного педагога. А при таком сознании разве может идти работа?
Тем более невозможно при теперешнем положении русской школы пробовать новые пути, что во всяком живом деле является необходимым залогом его развития и совершенствования. Как раз на первом же в нынешнем учебном году педагогическом совете единственный министерский циркуляр оказался такого содержания. Один учитель городского училища представил в Министерство рукопись учебника тригонометрии для городских училищ (где ее по программе не полагается), причем сообщил, что учебник этот составлен им на основании личного опыта преподавания этого предмета в городском училище. И что же? Вместо благодарности Министерство делает циркулярный выговор этому педагогу за то, что он вышел из рамок программы, расширив свой курс без надлежащего разрешения.
Первые уроки я обыкновенно диктую ученицам списки книг, рекомендуемых им в этот год для внеклассного чтения, иногда попутно делаю краткие характеристики этих книг и ознакомляюсь со степенью начитанности класса, спрашивая, кто читал эту книгу и прося встать, читавших ее. Это же делал я ныне и в VII классе и с сожалением должен констатировать, что начитанность девиц все больше и больше падает. Нынешнему седьмому классу почти совсем незнакомы уже такие писатели, как Горький, Л. Андреев, Ибсен, Гауптман. Прежде же было заметно гораздо большее знакомство с современной литературой. Трудно сказать, чем это объясняется. Но я думаю, что современные общественные условия, понизившие нормальный темп жизни, не остались здесь без влияния. Серьезные интересы теперь в упадке, в литературе какие-то сумерки, — и апатичное отношение к ней взрослых действует и на современную учащуюся молодежь.
Неудачным оказалось и мое предложение VI и VII классам сходить сегодня в театр на «Юлия Цезаря». Одни говорили, что лучше прочесть, чем смотреть такую игру (хотя зимой многие увлекались этой же труппой); другие же (подавляющее большинство) отнеслись к моим словам совершенно равнодушно.
12 сентября
Юбилей прошел, а начальство все еще не может успокоиться. Несмотря на цензуру юбилейных речей ближайшим начальством, округ все-таки усомнился в их благонадежности. Директор потребовал от исторички и от законоучителя представить текст их речей в округ. На предыдущих юбилеях этого по крайней мере не было.
Теперь остается потребовать от жителем подробного изложения каждого рассказанного ими урока, а то все равно от крамолы не убережешься. «У науки нрав не робкий: не заткнешь ее теченья ты своей дрянною пробкой».
Новый директор
13 сентября
Новый директор оказывается вполне во вкусе Кассо. Требуя соблюдения формы от учителей, он настаивает, чтобы даже в классе ходили в сюртуках, а когда один учитель возразил ему, что был циркуляр, разрешающий ходить в тужурках, директор ответил: «Этот циркуляр был издан в революционное время». На мое же возражение, что меня видел в тужурке и попечитель, и окружной инспектор, и все-таки ничего не сказали, он ответил: «Хотя и не сказали, но в душе без сомнения осудили». Теперь подошло время выборов родительских комитетов, которые, по словам директора, вредное учреждение. И он приложил все усилия, чтобы сорвать выборы. Первое собрание родителей не состоялось, т<ак> к<ак> набрать 2/3 было довольно трудно. Директор же и временная начальница даже не вышли к родителям и, сидя в другой комнате, говорили с ними через классных дам, чем родители, конечно, были обижены. На просьбу родителей сообщить день следующего собрания директор не соблаговолил ответить. А потом, когда родители разошлись, назначил его на следующий день, и только заявления педагогов, что в один день невозможно написать и разнести по городу 300 повесток, заставили его устроить собрание через день. Родители в пику ему постарались, чтобы собрание состоялось: списали все адреса, разделили их между собой и стали объезжать более нерадивых родителей, приглашая их на собрание. Директор же заказал начальнице через четверть часа после назначенного срока объявить собрание закрытым, а сам совсем не явился в гимназию. Но когда начальница попыталась сделать это, то встретила отпор и должна была сдаться, тем более что родители нашли целый ряд неисправностей в рассылке повесток и в составлении списков. Наконец кворум набрался, и комитет оказался избранным, что редко бывало даже при прежней норме общего собрания живущих в городе). Узнав об этом, директор, привыкший к безгласию родителей, был сильно удивлен и даже высказал сомнение, настоящие ли родители были на этом собрании, не было ли туг самозванства.
Под стать ему будет и теперешняя временная начальница гимназии. Это учительница приготовительного класса, преподающая также чистописание. Эта особа, занимаясь уже не менее 20 лет, ведет дело так, что оно нисколько не утомляет и не обременяет ее. Секрет этого очень простой. Она ежегодно пропускает добрую половину уроков под предлогом разных мифических болезней. А когда и ходит в класс, то дает ученицам какую-нибудь самостоятельную работу, а сама что-нибудь читает в это время. В результате ее ученицы всегда в большом числе проваливаются при переходе в первый класс, родители недовольны, но ворчат только себе под нос. Ныне же, когда она, хотя и временно, оказалась «на славном посту», уроки оказались совсем заброшенными. Приходя в гимназию, она спокойно сидит в учительской за какой-нибудь книжкой и даже не заглядывает в класс, ссылаясь на то, что она не в голосе. И вот уже целый месяц приготовишки ходят в гимназию, но не занимаются. Правда, их держат там часа два, но сидят с ними восьмиклассницы, которые и сами только начинают изучать разные методики. А учительница даже не скажет никогда, чем с ними заниматься, и сама не считает даже нужным попросить кого-либо заменить себя. Вместо нее обычно приглашает восьмиклассницу сторожиха того здания, где помещается приготовительный класс или по своей инициативе, или по просьбе учительницы другого класса, которому оставленные на произвол судьбы девочки мешают заниматься. Дело дошло до того, что недавно приходила в гимназию мать одной из приготовишек и предлагала сама заниматься с ними, если в гимназии заниматься некому.
Для таких педагогов родительский комитет, действительно, бельмо на глазу.
14 сентября
Скоро уже месяц, как начались наши занятия. Были уже у меня и мелкие неприятности то в том, то в другом классе. Но дело обошлось везде благополучно. Один раз, например, порядочно рассердили меня своими ответами шестиклассницы, которые предыдущий люк плохо слушали. Я посадил за неудачные ответы человек пять, и из гимназии пошел уже слух, что я «разозлился и наставил колов». Но я на этот раз сдержался и ни одной из учениц, отвечавших в VI классе, не поставил балла, сознавая, что погорячившись могу ошибиться. В другой раз в том же классе возмутила меня ученица Е-ва, мать которой говорила весной о «срезывании» и грозила самоубийством. По этому, когда Е-ва начала учебный год в новом классе (осенью она переэкзаменовку выдержала) болтовней, а в один из уроков отказалась, мотивируя тем, что не знала, что задано, я прочел ей нотацию и довел девицу до слез. Но в следующие уроки она удивила меня своим внимательным отношением к делу и довольно толковыми ответами.
Моим enfant terrible в прошлом году был VIII класс, и ныне я с некоторой опаской приступаю к новым восьмиклассницам. Правда, таких задир, как И-и, ныне нет, и довольно много в классе хороших учениц. Но переход в VIII класс сказался и на них. При моем входе в класс они, например, уже не считают нужным вставать, как делали в VII классе, а я тоже не считаю нужным кланяться тем особам, которые не обращают на меня внимания. Не хочется им также и обычно, по-ученически отвечать уроки; а мне опять нельзя их не спрашивать, так как надо будет выставлять четвертные баллы, да и притом новый директор уже сделал мне замечание, что у меня мало баллов в журнале. Но в общем пока все идет мирно. Авось и дальше не поссоримся.
В занятиях со словесницами-специалистками я ныне хочу сделать нововведение: вместо обычного спрашивания уроков, где даются часто тошнотворные ответы и где нет ни малейшей самодеятельности, хочу ввести систему устных рефератов по курсу с обсуждением их тут же в классе. Несколько тем уже разобрано (из Герцена). Посмотрим, что будет.
15 сентября
Одной из классных дам при выходе ее замуж было запрещено бывшей начальницей иметь детей под угрозой увольнения со службы, и бедная дамочка прибегала ко всевозможным средствам, чтобы не проштрафиться. Теперь же, пользуясь сменой нашего «кабинета», она не вытерпела и обратилась к новому директору с вопросом, может ли она иметь детей. Директор, как и следовало ожидать от такого формалиста, ответил, что он справится в циркулярах. Это, к сожалению, не анекдот, а факт. Не знаю только, чему здесь удивляться: произволу ли начальствующих или безгласию подчиненных.
16 сентября
Наша временная начальница Ч-ва совсем не стала заниматься в своем классе и оставила девочек на произвол судьбы. Каждое утро прибегает в гимназию сторожиха и просит прислать кого-нибудь из восьмиклассниц, чтобы чем-нибудь занять приготовительный класс. Ч-ва спокойно сидит в учительской, предоставляя все сделать за нее другим. И вот в приготовительный класс каждый день ходят восьмиклассницы, которые не давали ни одного пробного урока и даже совсем не видали, как и чем занимаются в старшем приготовительном классе. Т<ак> к<ак> учительница-начальница не скажет, чем им там заняться, то они и занимаются чем вздумают, обыкновенно чтением, но — незнакомые с объяснительным чтением ни теоретически, ни практически — ведут, конечно, дело неважно. Приготовишки не слушаются, шумят и мешают заниматься соседнему классу, не вынося ничего и сами из таких занятий. А «г-жа начальница», пользуясь тем, что в лице восьмиклассниц есть даровая рабочая сила, может числиться больной, когда ей заблагорассудится. Вчера, наконец, я решил положить этому конец и, сговорившись с учительницей другого приготовительного класса, уроки которой от шума старших приготовишек все время страдают, сказал восьмиклассницам, чтобы впредь они не брались заменять г-жу Ч-ву, т<ак> к<ак> сами еще недостаточно подготовлены к этому, и потому со стороны родителей учениц могут быть на них же нарекания. Странно только, что с таким вопиющим манкированием учебным делом приходится такими окольными путями бороться нам же, сотоварищам г-жи Ч-вой, а не начальству, которое следит только за цветом мундира и за количеством отметок в журнале. Странно также и вполне безучастное отношение к этому родителей, в руках которых — и помимо родительских комитетов — есть немало средств, хотя бы, например, обращение к прессе.
Сегодня состоится открытие здесь мужской гимназии, и директор ее (он же наш председатель) рассылал именные приглашения всем не зависящим от него лицам, нам — своим подчиненным — прислал вместо того «повестку», в прочтении которой было велено расписаться. Наши педагоги очень обиделись таким обращением и, считая посещение этого торжества делом необязательным, решили на акт не идти. Не пойду и я, т<ак> к<ак> сверх невежливости приглашения, у меня нет и парадной формы, а наш председатель, столь щепетильный на этот счет, не постесняется, пожалуй, сделать замечание при всей публике. Но и отсутствие наше на «его торжестве», наверно, тоже зачтется нам.
17 сентября
Из всего нашего персонала на открытии гимназии была только классная дама В-ва, которая одна из первых возмущалась невежливой формой приглашения. Когда же сегодня пришел в гимназию директор, В-ва сама первая заявила ему: «А ведь я была вчера на Вашем торжестве. Как там у Вас все прекрасно было». Разумеется, это будет поставлено ей в актив. С нами же директор только сухо поздоровался и, не проронив ни слова, ушел.
Во время летней поездки я познакомился ныне на педагогической выставке в Петербурге с учебником психологии и методикой психологии Нечаева. Книги мне понравились. И я теперь начинаю пользоваться ими на уроках педагогики в VIII классе. Сегодня, например, дал им в качестве задачи стихотворение Лермонтова «Ангел», чтобы выделить в нем эмпирические элементы от метафизических. Спрошенная мной ученица, оказывается, удачно разобралась в стихотворении. Попробую и дальше пользоваться Нечаевым. Вообще VIII классом я пока доволен, и как хотелось бы мне, чтобы и впредь у нас остались такие же хорошие отношения.
В VI классе я сегодня весь урок читал ученицам былины А. Толстою. Я еще в годы детства увлекался ими, люблю их и теперь с удовольствием знакомлю с ними девиц. К моему удовольствию, былины, кажется, им тоже понравились.
19 сентября
Пошли опять письменные работы. Дела снова прибавилось вдвое. И с какой неохотой я берусь за эти груды синих тетрадок, которые отнимут у меня все зимние вечера. С каким удовольствием я избавился бы от этой опостылевшей работы. Почему бы в самом деле не сделать это особым учебным предметом и не предоставить его особому преподавателю? Ведь тут дела ничуть не меньше, чем, например, на устной словесности или истории. И как завидую я тем коллегам, у которых нет этой ничем не вознаграждаемой египетской работы.
20 сентября
Начинаются неприятности и в VIII классе. Несмотря на хороший в общем подбор учениц, находятся среди них и особы, привыкшие легкомысленно относиться к делу и ленивые. Первый конфликт вышел на методике арифметики, когда двое из учениц не смогли ответить самых элементарных вещей, повторявшихся почти каждый урок. Не находя никаких уважительных причин, оправдывающих их незнание, я поставил им двойки. В числе отличившихся на этом уроке была и та самая Б-ва, которая получала в VII классе почти на всех экзаменах математики два и все-таки — благодаря высокому положению своего отца — получила аттестат. И теперь на ответе она обнаружила полное незнакомство с математической терминологией, не будучи в состоянии отличить, например, цифры от числа. Ее подругой на нынешний год оказалась самоуверенная, но ленивая К-ва. Постоянные разговоры, смех и рассматривание всех проходящих мимо окон стало обычным их занятием на уроках. Не удивительно поэтому, что все перерабатываемое в классе проходит мимо их ушей и мозгов. К-ва уже проявила свое невежество на одной из методик еще на одном из первых уроков. Но я не поставил ей ничего, объясняя неудачный ответ случайностью. Однако дальше продолжалось то же. Отказы от уроков стали у них обычным явлением, а в классе шли бесцеремонные разговоры. Сегодня, наконец, я не выдержал. Б-ва, которая на днях оскандалилась по методике арифметики, сегодня перед уроком отказалась и по методике русского языка, мотивируя тем, что она не была в классе и не знала, что задано. Я в довольно мятой форме сказал тогда классу, что ведь они уже не маленькие и даже не бывши в классе всегда могут узнать, что задано, и приготовить это по учебнику или по записям подруг. После этого я весь урок рассказывал дальше. Весь класс слушал и принимал участие в работе. «Камчатка» же с Б-вой и К-вой, не обращая никакого внимания на то, что делается в классе, занялась своим.
Веселый разговор, оживленный смех и не менее оживленное выглядывание в окно, у которого они сидели, — т. е. то же, что и обычно. Прервав свой рассказ, я внезапно спросил К-ву, которая, как и следовало ожидать, даже не слыхала, о чем вдет речь. Это взорвало меня, и я отчитал ее и Б-ву, назвав такое отношение к делу «бессовестным». Той был, конечно, резким, выражение «бессовестное отношение» тоже нельзя признать корректным, и девицы, без сомнения, обиделись, так что на следующий день К-ва совсем не пришла в класс, а Б-ва имела расстроенный вид. И я опять раскаиваюсь, что не сдержал себя в рамках корректности. Спокойный или даже иронический тон мог бы скорее на них подействовать. А сегодня началась старая история и со словесницами, которые казались таким симпатичными и подающими надежды до тех пор, пока я распинался, рассказывая им целыми часами то биографию Герцена, то сущность народничества. Еще недавно я был приятно удивлен, увидев многих из них на лекции у местного депутата, говорившего о своей деятельности в Думе. После этого я спрашивал их, обратили ли они внимание на его отношение к народничеству, и ученицы казались как будто уже будущими гражданками. Но вот биография Герцена, которую я рассказывал в течение трех уроков, окончена. Сегодня надо было ее повторить, чтобы с той недели можно было начать рефераты о произведениях Герцена. И что же оказалось? Из четырех спрошенных мной учениц только двое могли кое-что рассказать. Другие же двое не только не потрудились прочесть на эту тему каких-нибудь из рекомендованных мною книг, но не проштудировали даже сделанных с моих слов записок. Ответы были самые нелепые (например, герценовские журналы оказались издаваемыми в России), а оправдания — не то наивные, не то беззастенчивые («я только до этого выучила»). Я был возмущен таким отношением к делу «специалисток словесности» и сказал, что, очевидно, они пошли на эту специальность только для того, чтобы ничего не делать, но что специалисток, не желающих работать, мне не нужно. Неприятно то, что при таком отношении к делу должна расстроиться и моя затея с рефератами; об успешном же прохождении еще более скучного отдела — грамматики — и говорить нечего.
21 сентября
Сегодня вышло столкновение в VI классе, опять-таки с Е-вой. Она отвечала урок и, видимо, в общем недурно знала его, хотя иногда выражалась крайне неумело, и поэтому мне приходилось часто поправлять ее. При затруднениях же Е-вой ее соседки не раз подсказывали ей. Чем дальше, тем паузы Е-вой становились чаще. И когда после одного замешательства она заговорила только тогда, когда ее соседка чуть не в самое ухо шепнула ей нужный ответ, я рассердился и сказал, что Е-ва отвечает по подсказкам. Она же стала беззастенчиво отрицать даже самый факт подсказа, а на мои слова, что я сам видел, возразила: «Только Вы один и видели». Такое возражение и бесцеремонная ложь возмутили меня, и я посадил Е-ву на место, сказав, что после этого с ней нечего и разговаривать. Но она, сев на парту, не угомонилась и продолжала ворчать, что я всегда к ней придираюсь. Тогда я, несколько овладев собой, стал по возможности спокойно оправдываться, что замечания делаю не одной только ей. А когда она спича снова возражать таким же вызывающим тоном, я пригрозил, что заявлю об этом на педагогическом совете (что, конечно, было уж вовсе нетактично). На замечание же ее, что всегда понапрасну ее «сажаю», я придрался к этому слову, что так не говорят, что «сажают» только капусту в гряды. Такая перебранка между учителем и ученицей показалась классу крайне комичной. Начался смех, и двое из учениц так залились, что должны были выбежать из класса. Причиной этому, конечно, опять моя несдержанность, помешавшая мне с достоинством провести свою роль.
22 сентября
Директору наше отсутствие на «его торжестве» не дает, видимо, спать. Вместо форменных костюмов он оседлал теперь другого конька, и все снова и снова возвращается к вопросу об этой маленькой демонстрации. Спрашивал, например, меня, и на мой ответ, что я постеснялся прийти из-за отсутствия парадной формы, возразил, что можно бы прийти и в штатском, что это одна отговорка. А сегодня конфиденциально спрашивал об этом нашу временную начальницу, справившись предварительно, нет ли кого в соседней комнате.
Сегодня же одна мамаша прислала на его имя письмо с просьбой не ставить в дневник двойку, полученную ее дочерью на добавочном уроке арифметики, так как «она и так имеет слабые баллы по арифметике, чтобы еще за добавочные уроки ставить ей двойки». Взгляд этой мамаши на добавочные уроки как на что-то излишнее и неприятное довольно странный, а взгляд на отметки, хотя бы они и соответствовали знаниям ученицы (чего она не отрицает), и еще страннее. И тем не менее наш директор, вообще совершенно пренебрегающий родителями и энергично борющийся против всякого организованного представительства, здесь вдруг принял сторону мамаши и поддержал ее нелепую претензию. Учительница, тратившая время на добавочные, ничем не вознаграждаемые уроки, оказалась виноватой, т<ак> к<ак>, по его мнению, задавать к этим урокам и ставить баллы за них нельзя. Почему пропускать уроки, даже в таком количестве, как Ч-ва, можно, а делать добавочные уроки нельзя, — это совершенно непонятно. Еще страннее, что знания, обнаруженные на обычных уроках, оцениваться могут, а обнаруженные на добавочных, — не могут. Как будто цель баллов — не оценка знаний как можно более точная, а что-то другое, чуть ли не какая-то месть ученицам. И родительница, не желающая знать, что ее дочь слаба по арифметике только потому, что это обнаружилось не на обычном, а на добавочном уроке, очевидно, просто какой-то недоумок. А этот протест против добавочных уроков (как будто учительницы делают их для собственного удовольствия!) только потому, что ее дочка получила тут двойку, — и отсутствие всякого протеста против пропусков уроков, дозволяющих их дочкам лишнее время побездельничать, — разве не характерно все это для наших «родителей»? Что же после этого удивительного, если и дети учатся для отметок, понимаемых как нечто самодовлеющее, каким бы путем они не были приобретены? И наше начальство, борясь против всякого разумного начинания родителей, здесь охотно подчиняются их нелепым претензиям и с головой выдают им учителей, еще больше усиливая веем этим деморализацию нашей школы.
«Бельтов как общественный тип»
25 сентября
Сегодня был первый реферат в VIII классе. «Словесница» С-на сделала успешное сообщение на тему «Бельтов как общественный тип». Предварительно она написала план своего реферата на классной доске. Я и ученицы, сидя на партах и следя за этим планом, слушали реферат, а С-на с учительского места говорила. Говорила она очень бойко, литературно и даже красиво. Но в разработке материала нашлось немало погрешностей — не обращено внимания как раз на главные части плана. Это, очевидно, плод ее неопытности в самостоятельной работе, а также результат некоторой недисциплинированности мысли. Но судить С-ну за это, конечно, нельзя. Разве обращали мы, педагоги, достаточно внимания на эти стороны раньше, когда вся работа сводилась к усвоению изложенного учителем. Эти рефераты, самостоятельно разрабатываемые ученицами, дают немало и нам указаний на наши промахи. Для учениц же, по-моему, здесь главное именно в приучении их к самостоятельной работе и в приобретении навыка связно излагать свои мысли перед публикой. Чувство ответственности не только перед учителем, но и перед подругами — тоже важный фактор при этих рефератах, заставляющий референтку подтянуться. Та же С-на, хотя и хорошая ученица, раньше, например, никогда не отвечала уроки так хорошо и связно, как на реферате. По окончании его я занял место председателя и предложил начать обмен мнений. Говорили, правда, немногие: ученицы три-четыре. Но самые главные вопросы все-таки удалось осветить. Я при этом отчасти наводил их, отчасти просто руководил прениями, а после учениц высказал и свое мнение, остановившись потом на незатронутом референтной вопросе об идее романа. Реферат вместе с собеседованием занял 2 часа, так что пришлось сделать один добавочный урок.
В V классе для борьбы с безграмотностью я ныне употребил новый прием. После выдачи сочинения классу и разбора некоторых более распространенных ошибок я задал им к следующему разу произвести классификацию своих ошибок, выписать их в исправленном виде и вспомнить относящиеся сюда правила или же повторить их. Сегодня лес я спрашивал разных учениц: просил их читать свои ошибки и объяснять, как и почему надо писать известным образом. Ученицы, видимо, готовились, и отвечали ладно. Может быть, подействует это хотя на тех, кто ошибается от незнания правил.
27 сентября
Был второй реферат — на тему «Крестьянский вопрос в сочинениях Герцена». Реферат был лучше предыдущего по своему содержанию: тема была разработана весьма обстоятельно, план был тоже хороший. Только эта референтка не так владеет словом, как ее предшественница: говорила с заминками и несколько вяло. Но, принимая во внимание, что это для нее первый опыт, надо признать даже и такое изложение темы устно в течение целого часа весьма успешным. Ведь у нас даже и взрослые люди редко умеют устно излагать свои мысли как следует. Даже многим учителям, адвокатам и т.п. это искусство дастся только в результате долгого опыта. По окончании реферата, в следующий час, обсудили его (хотя говорили все больше одни и те же ученицы); потом в общей беседе разобрали некоторые вопросы из произведений «Кто виноват?» и «Сорока-воровка». Вообще пока со словесницами работать можно.
После урока шел с двумя из них, они говорили, между прочим, что рефераты слишком часты, и они не успевают к ним подготовиться. Я решил принять это во внимание и делать рефераты раз в неделю. Неудовлетворительных баллов пока по словесности нет, т<ак> к<ак> не отвечавшим биографию Герцена я ничего не поставил, и сегодня, когда я напомнил одной из них об этом, она сказала, что ей самой стыдно. Хорошо бы и впредь обойтись без «колов» и двоек!
28 сентября
Наша бывшая начальница, оказывается, снова пошла в гору. Она получила место в другом городе того же учебного округа, правда, место не начальницы, а учительницы — но с жалованьем до 300 р. в месяц, т. е. в материальном отношении еще лучше, чем раньше, а мы, ее бывшие сослуживцы, не прославившиеся таким громким поведением, сидим все на прежних местах, с прежними более чем скромными окладами.
Идет в гору и другой не менее «прославившийся» в наших краях «педагог» Д-в. Т<ак> к<ак> попечительский совет гимназии, желая выжить его, убавил ему жалованье, то его кум — попечитель округа дал ему новое место, назначив его инспектором народных училищ, т. е. на должность, о которой тщетно мечтают многие заслуженные педагоги и с высшим образованием. Для Д-ва, не имеющего даже и среднего, это вовсе недурно. Воображаю, каково будет обращаться он с народными учителями!
А когда года три назад сами учащиеся организовали какой-то кружок самообразования и стали издавать журнал — по городу пошли нелепые слухи о «лиге свободной любви», жандармерия стала следить и посылать доносы, а из округа посыпались запросы в учебные заведения о «преступном сообществе» среди учащихся. Было даже требование составить список тех учащихся, кого можно подозревать в соучастии, с подробной характеристикой каждого. К стыду педагогов реального училища, там это гнусное предложение было исполнено. В нашей гимназии список «избранных» составлять отказались и для умилостивления округа представили характеристики всех учениц, впрочем, самого невинного свойства. Частная же гимназия, где тогда был более порядочный состав, наотрез отказалась удовлетворить требование округа, хотя и рисковала навлечь на себя немилость.
2 октября
Беседовал с нашим директором, который остался недоволен, что у меня в журнале мало баллов, особенно в V классе, и советовал спрашивать как можно больше учениц. Это, как он говорил, требование округа, и на количество баллов при ревизии будут обращать самое серьезное внимание. Но как совместить такую погоню за количеством баллов с другими педагогическими требованиями, не отрицаемыми и начальством? Ведь нужно спросить и новое, и старое; нужно ставить баллы справедливо, соответственно знаниям; нужно приучать учениц не только давать ответы на вопросы, но и связно излагать свои мысли. А как все это исполнить, если гнаться лишь за количеством баллов?
3 октября
Можно поздравить нас с новым начальством. Начальницей утверждена одна из наших учительниц, особа опытная и с высшим образованием. Это недурно. Переменился и председатель педагогического совета. Вместо директора мужского учебного заведения послан к нам специальный председатель, который будет в то же время и учителем французского языка. Это еще молодой человек, по образованию ориенталист, прослуживший, как он говорит, три года учителем русского языка в женской гимназии. Что из него получится, пока неизвестно. Но, судя по тому, что он одет не совсем по форме, можно по крайней мере думать, что в этом отношении он не будет так придирчив, как его предшественник.
Начались пробные уроки восьмиклассниц. Пока все дают хорошо. В качестве ценителей присутствуют на них и наши председатели. Но ныне и тот, и другой, видимо, ничего не смыслят в этом деле. Первый, сидя на уроке, даже не мог понять, с каким классом занимается, все время разговаривал вслух, мешая практикантке заниматься, а потом нашел, что скучно, и совсем ушел. Новый председатель совсем уклоняется от посещения уроков, а когда бывает, то ничего не записывает и на конференциях совершенно молчит. И только потом, когда педагоги удаляются в отдельную комнату для выставления баллов, он иногда делает по поводу урока некоторые замечания, вроде того, что в уроке мало было огня. Но требовать этого можно только совершенно не считаясь с тем настроением, в каком дают практикантки этот свой первый урок на глазах целого педагогического синклита.
12 октября
Председатель начал свои занятия французским языком в старших классах, причем оказалось, что он знает разве немного больше своих учениц, в чем он и сам сознался перед ними. А между тем у нас в городе немало лиц, получивших специальную подготовку; например, его предшественник, который был принужден уступить свое место, прошел курс Сорбонны; учительница младших классов тоже обучалась в Париже. Но с этим у нас, видимо, не считаются.
13 октября
В прошлом году всего хуже мне казалось работать в V и VIII классах. Ныне же это наиболее симпатичные для меня классы, и я всячески стараюсь поддержать с ними добрые отношения. В V классе я стараюсь не раздражаться и делать замечания, если приходится, мягким, спокойным тоном. Одна ученица К-т за болтовню и неслушание могла бы получить единицу, но я ничего не поставил ей, и она теперь, видимо, старается загладить свою вину. За устные ответы неудовлетворительных баллов почти нет. Но письменные работы по обыкновению сильно страдают со стороны орфографии. За первое же сочинение пришлось поставить немало двоек. А когда ученицы стали просить, чтобы я не ставил неудовлетворительных баллов, я, хотя и не согласился на это, но пошел на уступки, предложив желающим написать новое сочинение, с тем чтобы считался именно этот последний балл. На это согласилось 16 человек, причем часть из них действительно написала лучше. Но в домашнем сочинении опять оказалось несколько двоек, и при раздаче тетрадок некоторые поплакали. Но на отношения наши это не повлияло, т<ак> к<ак> двойки эти были заслуженными.
В VIII классе после инцидента с К-вой и Б-вой ученицы не болтают уже так беззастенчиво. Занятия идут ладно, за исключением, впрочем, методики арифметики. Это пока мое больное место в VIII классе. Отвечают обыкновенно необдуманно и крайне неточно, а по арифметике это, конечно, особенно важно. Немало у них уже и двоек, но это не действует. Теперь я настаиваю, чтобы они записывали, что я рассказываю (а рассказываю я каждый новый урок). Но многие не записывают, потом забывают, а своего тоже ничего не могут создать. Думаю все-таки, что с течением времени они выправятся, приспособившись к моим требованиям и ознакомившись с ведением уроков, так как вообще этот класс не из плохих.
15 октября
Со специалистками-словесницами проходим грамматику, а параллельно с этим и историю литературы (теперь Герцена). До сих пор были устные рефераты, после которых шло их обсуждение. Рефераты были в общем довольно хорошие. Ученицы умело справлялись с данным им для самостоятельного усвоения материалом. Говорили, хотя и не очень живо, но складно, толково, умело подбирая цитаты и иллюстрации своих положений, хотя темы были сравнительно трудные (последние — о славянофильстве и западничестве). Но обсуждение рефератов идет вяло, высказываются очень немногие. По-видимому, готовятся к рефератам не очень усердно, а некоторые, может быть, и совсем не готовятся. Поэтому я сегодня спросил у словесниц, достаточно ли для них только выслушивать рефераты, не лучше ли время от времени просто спрашивать их. Ученицы сами сознались, что, не ожидая спрашивания, они не готовятся так усердно, хотя и читают, но недостаточно внимательно, выписок никаких не делают и запоминают мало. Поэтому, по их мнению, полезно было бы ввести снова и спрашивание. Я согласился с этим и решил параллельно с рефератами ввести уроки для спрашивания.
16 октября
Сегодня занимался проверкой знаний словесниц по литературе. Некоторые отвечали неважно. Приходилось их поправлять и наводить на правильные ответы. Одна же из них, отличающаяся каким-то дефектом в области мышления, почти все время говорила наоборот, так что я, несколько осердившись, посадил ее. При окончании урока я спросил, не устроить ли еще такой же урок спрашивания, на что ученицы охотно согласились, говоря, что благодаря этому уроку многое стало яснее для них. «Но только Вы не сердитесь на нас!» — ласково попросила одна.
У всякого барона фантазия своя
17 октября
«У всякого барона фантазия своя». Новый председатель, не обращающий внимания на форму (что было коньком его предшественника), в других отношениях проявляет себя не меньшим формалистом. Ученицы VII класса по примеру прежних лет решили устроить спектакль и вечер. Прежде такие вопросы всегда (и во всех здешних учебных заведениях) решались на месте — директором или начальницей, иногда педагогическим советом. Новый же председатель нашел, что по какому-то циркуляру этот вопрос должен восходить на разрешение учебного округа. От учениц теперь требуют подробной программы, текста пьесы и т. д., с тем чтобы все это послать в губернский город, за 400 верст. Неужели же десятки педагогов во главе с начальством заведения не в состоянии удовлетворительно решить даже такого вопроса?
23 октября
Сегодня новый председатель, пригласив меня к себе в кабинет, показал мне работы учениц по французскому языку, где в русском тексте некоторые из них сделали ошибки. Что ученицы небезукоризненны со стороны орфографии, это я знаю, конечно, не хуже его, и сделанное им замечание является, по-моему, совершенно излишним. Интересно при этом, что и ошибки, указанные им, вовсе не из числа грубых, например, союз «чтобы», написанный отдельно, или слово «крейсировка», написанное «крейсеровка» (еще вопрос: есть ли даже такое слово в русском языке?). По его же мнению, это непростительно грубые ошибки. Что-то будет нашим девицам, да и нам вместе с ними, когда увидит председатель некоторые сочинения с гораздо более грубыми ошибками? И что могу сделать я в старших классах ради исправления вошедшей в плоть и кровь некоторых девиц орфографической безграмотности? На повторение грамматики нет времени, так как надо же пройти когда-нибудь и курс словесности и без того урезанный — по числу уроков — в женских гимназиях (в реальном училище, например, по 4 урока словесности в четырех классах, а у нас по 3 урока в двух классах и по 4 в одном, да и то 4-й урок введен по особому ходатайству). Давать письменные работы в большем количестве, чем теперь (по 2 сочинения в четверть в каждом классе) тоже невозможно, т<ак> к<ак> и без того почти все время дома занято проверкой сочинений. В таком же положении и учительница младших классов, тоже заваленная работами, которые почти совершенно не вознаграждаются (20 р. в год за 1 класс!). Притом даже и жалование в младших классах крайне мизерное. Учительница русского языка, несмотря на то что с высшим образованием, получает 45 р. за годовой час (в мужских учебных заведениях теперь 75 р.). А законоучитель, не имеющий никаких письменных работ, — 60 р. Понятно, что и учительница этих классов должна нахватывать уроков как можно больше и, сидя вечера за тетрадями, выпускает все-таки учениц малограмотными. И вот, получая на устных экзаменах хорошие баллы, они подвигаются в старшие классы, даже и при неудовлетворительном исполнении письменных работ. А здесь приходится ограничиваться только требованием с них исправлении и объяснений своих ошибок, разбором этих ошибок и повторением некоторых правил при раздаче сочинений. Толку от этого мало. Но большего ничего при данных условиях невозможно достигнуть. И считать за грубые ошибки «что бы» или «крейсеровку» не приходится. Председатель говорил мне, что, занимаясь словесностью, он посвящал часть уроков повторению грамматики и диктовкам; но много ли времени — спрашивается — оставалось у него на словесность?
Кстати, сам председатель, так внимательно замечающий сучки в чужих глазах, совсем не видит бревен в своих. Взявшись за преподавание французского языка в старших классах, он, оказывается, не только не умеет говорить, но и вообще очень слабо знает этот предмет, так что теперь среди учениц и их родителей ходит уже про его преподавание целый ряд рассказов, характеризующих его невежество в области этого предмета. Некоторые из родителей прямо возмущены этим, но — по нынешним временам — разве кто с этим считается? Недаром, например, бумаги об избрании родительского комитета, состоявшемся уже более месяца назад, до сих пор даже не отосланы в округ для утверждения, а без этого утверждения родительский комитет не может и начинать свою деятельность.
Вечером был педагогический совет — первый при новых председателе и начальнице. Председатель начал с чтения правил, определяющих вопросы, подлежащие ведению педагогического совета. А потом начал докладывать целый ряд тем, которые ведению педагогического совета как раз не подлежат. По инициативе новой начальницы решили ввести целый ряд правил, регламентирующих поведение гимназисток. Но, стремясь несколько подтянуть их после режима прежней начальницы, «переборщили» в своем рвении. Вместо самых модных и пышных причесок, которые носят гимназистки теперь, решено ввести употребление только кос, и запрещены (несмотря на мои возражения) даже самые скромные прически. Разрешено по вечерам ходить одним только до 8 часов (это еще ничего); а некоторые высказывались даже за 7 часов. Строго запрещено прогуливаться по улице в большую переменку, хотя, по-моему, предосудительного тут ровно ничего нет, и даже наоборот, пребывание на воздухе гораздо гигиеничнее, чем в пыльном зале. Председатель особенно строго высказывался против прогулок с реалистами. А некоторые из классных дам ратовали даже за то, чтобы было запрещено ходить по главной улице города. Я возражал, что на других улицах можно скорее нарваться на какое-нибудь неприличие, да и где же тогда, действительно, гулять, когда на других улицах осенью грязь, а зимой сугробы снега, и нет достаточного освещения. Эта крайность все-таки не была принята. В заключение же председатель сказал, что, установив правила для гимназисток, мы и сами должны в этом отношении подавать им пример, и велел учительницам ходить в синих платьях, а учителям в форменных тужурках, хотя желательно было бы и в сюртуках. Вывод был в сущности довольно логичный. Но некоторые из педагогов запротестовали. Этот однобокий либерализм весьма характерен для некоторой части педагогической «левой».
24 октября
Дела мои со «специалистками» весьма неважны. Все эти 2 месяца, пока шли рефераты, они почивали на лаврах, и только 5 учениц читали кое-что к рефератам, да и то лишь к своим. Результаты этой системы «доверия» теперь сказались. Когда я начал их спрашивать, то ни одного вполне хорошего ответа не получилось. Вчерашний день окончательно подорвал мое доверие к нынешним словесницам. Задано было повторить те статьи Герцена, которые были использованы на последнем реферате («Взгляд Герцена на судьбу России»). Реферат был уже 4 дня назад. И я ожидал, что ученицы, прочитавшие эти статьи еще к реферату, теперь только основательнее проштудируют их. Что же оказалось? Первая же спрошенная мной ученица (одна из лучших в классе) не могла ни слова сказать даже о народничестве Герцена и заявила, что она о Герцене вообще ничего не знает (а всю четверть мы и изучали только его одного!). Я пристыдил ее и поставил единицу, к чему она отнеслась довольно равнодушно. Другая спрошенная ученица (тоже считавшаяся мной в числе первых) до сих пор не удосужилась прочесть нужной статьи и тоже получила двойку. Третья сказалась больной и, конечно, тоже ничего не знает, т<ак> к<ак> пропустила почти половину уроков, будучи в полном здравии и весело гуляя по улицам. Таким образом, рефераты в том виде, в каком я предполагал их вести (т.е. взамен спрашивания), оказались непригодными. Для большинства учениц Герцен благодаря этой системе пропал. Но мне все-таки не хочется совсем порвать с этой затеей и опять вернуться к обычному рассказыванию-спрашиванию. Попробую совместить рефераты со спрашиванием, а именно в день реферата делать два урока словесности: на одном пусть слушают реферат, а на другом сами отвечают тот же материал. Посмотрим, что будет.
Во всяком случае, еще раз пришлось убедиться, что не приходится вводить в гимназии университетских порядков и смотреть на учениц как на взрослых людей, способных работать без «погонялки». И пришлось опять обратиться к тем же колам и двойкам, к которым так не хотелось мне ныне обращаться и от которых я воздерживался на уроках нынешних специалисток до самых последних дней.
25 октября
Говорил сегодня частным образом с одной из словесниц. Она сама сознается, что дела по словесности идут неважно, и объясняет это исключительно тем, что они заленились. «Лень-то прежде нас родилась», — возразила она, когда я сказал, что нынешние словесницы по большей части способные девицы.
26 октября
Разговаривал с председателем насчет вознаграждения за письменные работы. Узнав, что мы получаем в год по 20 р. за класс, он нашел, что «этого за глаза хватит» и что это даже щедро. Зато следует, по его мнению, прибавить за уроки чистописания (учительница этого предмета Ч-ва, или пропускающая эти уроки, или занимающаяся на них своим делом и во всяком случае не нуждающаяся ни в какой подготовке к ним, — успела уже «подъехать» к председателю). А в заключение высказался, что следует также прибавить и ему на канцелярские расходы 50, т.е. вдвое против того, что ему выдается. Такая странная расценка труда и высокомерное «за глаза довольно» так обидело меня, что я был расстроен на весь день.
Вообще новый председатель — человек очень самоуверенный, неровный, строгий к другим и весьма снисходительный к себе. Теперь, например, освободилась часть уроков русского языка в младших классах, которые были заняты начальницей. И он, делая представления кандидатов на эту должность, не только не посоветовался с кем-нибудь из более знающих местный педагогический персонал лиц, но даже на вопрос начальницы, кого он представляет, высокомерно ответил: «Это мое личное дело». В результате он отклонил прошение окончившей высшие курсы и представил классную даму Б-ву, которая совершенно не в состоянии справиться с ученицами. Эта особа, не желающая как следует служить, умеет зато «подслужиться».
27 октября
Председатель не был на последней конференции, где разбирались уроки восьмиклассниц, и послал на нее начальницу, которая на этих уроках совсем не была. Я и учительница приготовительных классов оценили уроки, как нашли справедливо. А председатель сделал мне сегодня замечание, что с этой оценкой он совершенно не согласен. Да едва ли когда мы и сойдемся с ним, т<ак> к<ак>, ничего не смысля в деле начального обучения, он оценивает уроки совершенно «шиворот навыворот»: настоящих достоинств и недостатков не замечает и судит, бог знает, на основании чего. Начал он бывать кроме практических уроков и на уроках некоторых учительниц, причем, как говорит, ведет себя весьма некорректно. Заходит и уходит из класса уже во время занятий, чем нарушает ход урока и отвлекает учениц. За уроком то что-то читает, то смеется, чем тоже смущает класс. А когда сегодня на уроке в первом классе ученицы вели себя, по его мнению, недостаточно тихо — он сделал выговор классной наставнице этого класса — учительнице французского языка. Та вполне основательно возражала, что следить все время за классом не может, т<ак> к<ак> у нее свои уроки в двух учебных заведениях, на ее же уроках первоклассницы сидят хорошо. Напомнила также, что к классным наставницам в женских гимназиях нельзя предъявлять такие же требования, что к классным дамам или к классным наставницам мужских учебных заведений, т<ак> к<ак> классные наставницы в отличие от тех за свой труд ровно ничего не получают (в мужских учебных заведениях это оплачивается теперь — по 600 р. в год за класс). Но председатель стоял на своем, что обязанности нельзя связывать только с материальным вознаграждением (какое бескорыстие — подумаешь!) и что она должна делать то же, что и платные служащие. Тогда учительница заявила ему, что от этой должности (классной наставницы) она совсем отказывается. Не хочет ли он ее совсем выжить как человека, который при случае может уличить его в незнании французского языка?
28 октября
Сегодня председатель был у меня с визитом. Оказывается, что он — всегда подчеркивая свое «бескорыстие» — уже успел обделать свои дела. Попечительский совет по его настоянию прибавил ему за представительство еще 200 р. (теперь, значит, он будет получать по должности председателя 1200 р., тогда как в других здешних гимназиях председатель получает только 600). Для возмещения же расходов введена особая плата за изучение французского языка. Таким образом, отказывая в покупке необходимых книг для библиотеки и ассигнуя на пособия всем ученицам 75 р. в год, попечительский совет на председателя денег нашел, хотя он и так получал вполне достаточно. В данном случае он не сказал, что его жалованья «за глаза довольно». Наш же брат может получить эти так легко доставшиеся ему 200 р., только проработав целый год над исправлением письменных работ целых десяти классов. Воочию убедился сегодня также и в его познаниях во французском языке, который он имеет нахальство преподавать в старших классах. Сказав два слова: je suis — он и тут сделал ошибку, произнеся «же зюи». Ученицы же говорят, что он не знает самых простых слов, вроде «каждый», ищет их в словаре и, списывая, заглядывает на каждую букву, чтобы не ошибиться. Да, послал нам Бог «руководителя»!
31 октября
На конференции опять проявил себя наш председатель. Ничего не смысля в деле начального обучения, он не может сделать ни одного замечания по существу, а говорит или о тоне практикантки, или о кляксе в тетради. Когда же разбирался урок П-вой, на котором я не присутствовал, и начальница уже высказала, что в методическом отношении урок хороший, — председатель вдруг с надменным видом заявляет, что урок был не серьезен и что пусть П-ва пересдаст или получает 2. Это страшно ошеломило учениц, которые уже привыкли теперь разбираться в уроках и находили урок П-вой достойным по крайней мере четверки. Виновата практикантка оказалась в том, что несколько раз рассмеялась за уроком. Но ни ученицы, ни начальница не видели в этом никакого преступления; начальница даже сказала в ее оправдание, что она наткнулась на такую ученицу, которая способна хоть кого рассмешить. Председатель же, ничего не имевший ранее против смеха на уроках и не раз смеявшийся сам и на уроках восьмиклассниц, и на уроках учительниц, — смеявшийся без всякого видимого повода, — вдруг почему-то придрался к П-вой. Она сначала промолчала, но когда стал разбираться следующий урок, П-ва заявила, что и эта практикантка смеялась не меньше ее, смеялись и многие другие, и никому в вину это не ставилось. Ее же рассмешила ученица, сказавшая вместо «копеек» — «колачок». Тогда председатель вдруг резко прервал ее: «Полемизировать с собой я не позволю». П-ва замолкла, помолчали и все остальные. Я, обиженный таким тоном председателя, тоже не стал делать никаких замечаний относительно следующих уроков; председатель — видимо, рассерженный, — тоже молчал, и изредка говорила только начальница и кое-какие ученицы. Таким образом, вся остальная часть конференции шла при самом подавленном состоянии духа и то и дело прерывалась гробовым молчанием на несколько минут. Когда же я, начальница и председатель вышли в другую комнату для вывода баллов за уроки, — между нами тоже произошел конфликт. Начальница заявила, что ставит П-вой 4, председатель же возразил самым надменным тоном: «А я как председатель педагогического совета ставлю 2 и посылаю особое мнение в округ». Едва удалось его уломать пойти на компромисс и поставить как среднее арифметическое между баллами его и начальницы тройку. Инцидент этот так подействовал на учениц, что некоторые из них, даже не заинтересованные непосредственно в этом деле, придя домой, разревелись. «Даже подсудимых выслушивают на суде, — говорили они, — а тут никаких объяснений». И они, конечно, вполне правы.
1 ноября
Из округа пришла бумага, разрешающая ученический вечер, но только без танцев. Ученицы поэтому заявили председателю, что они от вечера совсем отказываются.
Он же продолжает действовать по-прежнему резко и нетактично. На днях, например, произнес речь после молитвы, призывая учениц ходить в церковь, но произнес ее, как говорят, самым резким и надменным тоном, топнув даже ногой. Вообще апломбу у него сколько угодно. Как выясняется из разговоров, это типичный продукт бюрократического строя: карьерист до мозга костей, строящий все на связях и протекции, а потому надменный с низшими и заискивающий с высокими. Что получится из его управления гимназией, труд но сказать, т<ак> к<ак>, напуская строгости с одной стороны, он, например, в то же время, выдвигает таких лиц, как классная дама В-ва, которая только портит учениц, не имея среди них ни малейшего авторитета и не желая исполнять никаких своих обязанностей. При таких воспитательницах и учительницах в гимназии воцаряется полная разнузданность и ничегонеделание. Пошла в гору и другая особа того же сорта — Ч-ва, которая так неисправно посещает свои уроки, что стала уже много лет «притчей во языцех». Сумев подмазаться к новому начальнику, г-жа Ч-ва получила уже прибавку за уроки чистописания; а теперь, когда прежний секретарь педагогического совета после конфликта с председателем принужден был отказаться от должности, она взяла на себя и это дело (конечно, не бесплатно). При этом вместо выбора секретаря педагогическим советом (как полагается) председатель сам единолично предложил ей эту должность, но обратившись к баллотировке и даже не сообщив об этом учителям старших классов, которые на этом совете не присутствовали. Когда же стали раздаваться протестующие голоса, и Ч-ва заявила председателю, что ее выборы считают незаконными, председатель отрезал: «Законно или нет, это мне знать!»
6 ноября
Вчера на совете о младших классах председатель, как говорят, то и дело заявлял о своем несогласии с большинством и обещал представить в округ особое мнение, несмотря на всю ничтожность обсуждавшихся вопросов (например: 5 или 5– за поведение). Сегодня был четвертной совет о старших классах. Председатель, видимо, встал с другой ноги и вел себя гораздо корректнее. Зато вышел конфликт у преподавателей (и у меня в том числе) с классными дамами. Часть из них то и дело не является на уроки под видом болезней (кстати, их пропуски уроков нигде не отмечаются, а пропуски уроков учителями они же вносят в какой-то «кондуит»); другая часть нахватала себе уроков и под этим предлогом тоже манкирует своими обязанностями. А в результате в гимназии нет никакой дисциплины, учителям самим приходится брать на себя обязанности классных дам и входить в разные столкновения с ученицами; ученицам, не предупрежденным заранее, приходится расплачиваться баллами за поведение.
А классные дамы знают только жалование получать (кстати, с нынешнего года они опять выхлопотали себе прибавку). Немудрено поэтому, что даже наиболее добродушные из учителей ополчились сегодня на этих особ и довели одну из них даже до слез. Председатель же, хотя и не становится явно на их сторону, старался все-таки замять все эти нападки, т.е. делал то же, что и его предшественники, видя непорядки совсем не там, где они есть на самом деле.
7 ноября
У словесниц баллы вышли не очень блестящие (ни одной пятерки, а у большинства тройки). Но отношения у нас все-таки вполне хорошие. И сами словесницы, несмотря на свою лень, славный народ; да и те рефераты, которые прошли уже у них и порадовали мое сердце, подымают их в моих глазах.
Сегодня, в годовщину смерти Толстого, я как раз кончал на уроке словесности его биографию и нарочно сделал еще один лишний урок, чтобы поговорить о нем. Излагая последний период жизни Толстого и его учение, я говорил, правда, неважно. Но, закончив биографию, я прочел письмо Толстого к Александру III, а потом статью Каребчевского по поводу смерти писателя. Эта статья так сильно подействовала на девиц, что, когда я кончил, они сидели все как онемевшие, видимо, глубоко взволнованные. И уже я сам нарушил, наконец, это молчание, начав показывать им различные иллюстрации из жизни Толстого.
Интересно, что на уроках словесности в VIII классе бывают не только «словесницы», но еще и «вольнослушательницы»; сегодня, например, было человека четыре, а некоторые сделались завсегдатаями этих уроков.
8 ноября
Сегодня после долгого отсутствия явился на пробный урок председатель и сразу же заявил себя как хам. Пришел в середине урока, прервал занятия своим приходом; мало этого — не сел на предложенный ему стул, а полез за парту, где сидели приготовишки; те должны были оставить свои места и искать новых, собирать и перетаскивать свои пожитки. И все это в то время, когда практикантка начала объяснение более трудной части урока. Как же после этого можно винить самих учениц за нарушение дисциплины? И как требовать при таком бесцеремонном отношении к уроку спокойной работы со стороны практикантки и внимательного отношения к делу со стороны детей? Не лучше поступила по отношению к восьмиклассницам и учительница приготовительных классов г-жа Ч-ва, у которой ученицы ввиду редкого посещения ею класса почти совсем не бывали. Когда сегодня двое из них по моему совету вздумали присутствовать у нее на уроке объяснительного чтения, она без церемонии выставила их, т<ак> к<ак> к сегодняшнему уроку, очевидно, не готовилась и будет вести его как попало. А между тем посещение уроков вменяется в обязанность восьмиклассницам и по существу дела действительно необходимо бывать им не только на каких-то специально-образцовых уроках, но и на самых обыкновенных. Немало обижены восьмиклассницы также и тем, что их «выставили» в присутствии приготовишек, которые в то же время поручаются их наблюдению и с которыми они должны заниматься. При таком бес церемонном обращении с практикантками как же и требовать от них авторитета среди младших учениц.
Председатель запрещает газеты
10 ноября
Опять новая выходка со стороны председателя! Явившись в учительскую, он обычным, не допускающим возражений тоном заявил: «По распоряжению начальства здесь не должно быть газет: «Русские ведомости», «Русское слово», «Речь», «Сатирикон» и др.!» Отпалил, повернулся и ушел. Когда же я пошел объясняться с ним, от какого начальства исходит это распоряжение, то никаких определенных объяснений он не дал, однако все-таки можно было понять, что распоряжение идет из округа. Тоща выходит, что или он сам, или его предшественник Н-в донес туда о том, что мы выписываем. Разговор со мной председатель вел самым недоступным тоном и даже повернувшись спиной. А когда я попросил дать по крайней мере время для перемены адреса, он заявил, что уже приказал сторожам не принимать этих газет от почтальона и отсылать их обратно на почту.
Все эти выходки председателя так нервируют педагогов, что, например, начальница сегодня даже расплакалась в учительской.
11 ноября
Сегодня праздник, но для меня это не время отдыха, а время проверки тетрадок. Отдохнуть же или заняться чтением опять некогда. С начала учебного года я не прочел ни одной книги. Овсянико-Куликовский, начатый еще в августе, так и лежит недочитанный. Просматриваешь только газеты, прочтешь иногда биографию в толстом журнале, а остальное время идет на проверку конспектов, подготовку к урокам и бесконечные тетрадки. Но и при всем том, при всех неприятностях от начальства, которые ныне сыплются на нас в таком изобилии, я все-таки ныне чувствую себя недурно, так как самое главное для меня — отношения с ученицами, а в этой области дела ныне гораздо лучше, чем в прошлом году. Правда, в VI классе вышло, например, за четверть 15 двоек, но ученицы сознают, что это по заслугам, и никаких протестов по этому поводу не было. В общем же учебными занятиями я доволен, не могу пожаловаться и на восьмиклассниц, с нынешними ладить много легче, чем с прошлогодними, даже с К-вой и Б-вой теперь у меня хорошие отношения. Большинство класса спокойное и работящее; веселая же компания, которая часто шалит и смеется, в сущности очень милые девочки и нарушают дисциплину без всякого злого умысла, так что на их резвость вовсе не приходится сердиться.
В учебное дело начальство пока еще не вмешивается, а это для педагога — главное. Но чую, что доберутся и до этого. Такие уж времена! Неужели же мне придется расстаться с моим любимым делом и ученицами? Это было бы для меня тяжким ударом. А между тем при таком начальстве, как наше, все возможно. Отношения с ним все больше и больше обостряются. Отставать от товарищей, протестующих, например, против назначения секретаря, я не намерен; подмазываться и разыгрывать из себя черносотенца тоже не могу. А между тем наша судьба в его руках, и вышибить нас хотя бы «за несоответствие видам правительства» ничего не стоит.
12 ноября
Недавно председатель потребовал, чтобы я представил ему классную письменную работу моих словесниц. Я после проверки сочинения дал его восьмиклассницам, а потом, снова собрав, хотел представить председателю. Но тот, узнав, что сочинения побывали уже у учениц, почему-то отказался их взять. Не думает ли уж он, что и отдавал их ученицам для сокрытия следов каких-нибудь ошибок? Почему бы тогда, хотя из деликатности, не скрыть при себе этого подозрения?
Сегодня под влиянием инцидента с газетами и всех прочих выходок председателя педагоги чувствуют себя как оплеванные. В душе подавленность и бессильная злоба. Руки опускаются. И при таком самочувствии надо вести уроки, оживлять работою целый класс! Немудрено, что первые уроки из меня шли так вяло, как редко бывает. Даже рассеянность какая-то появилась. И только под конец, в VIII классе, мне удалось несколько совладать с собой. Несмотря на подавленное самочувствие, я провел урок живо, так что ученицы сами при окончании занятий заявили, что урок прошел очень весело и интересно.
Мы рады бы теперь были и родительскому комитету, который может быть более независимым в борьбе с председателем. Но его до сих пор еще не утвердили, да едва ли и утвердят. Когда избранный в председатели комитета г. Л. приходил как-то к нашему председателю справиться, в каком положении дело о комитете, председатель, отворив шкаф, показал на полку, где оно лежит, до сих пор не отосланное окружному начальству. А когда г. Л. стал было толковать о пользе родительского комитета, председатель, посмотрев поверх его головы, бесцеремонно заявил: «Честь имею кланяться!»
13 ноября
В должности учительницы русскою языка утверждена представленная председателем классная дама В-ва, особа, говорящая так внятно, что, даже сидя рядом, часто не можешь ее понять. Другие ее достоинства — полное неумение дисциплинировать учениц и весьма недобросовестное отношение к своим обязанностям. Сверх того, теперь, значит, еще одна классная дама, взявшись за преподавание, не будет исполнять своих прямых обязанностей. А как может она преподавать русский язык, да еще особенно в таких классах, как III и IV, с которыми как детьми переходного возраста трудно справиться даже опытной учительнице, — невозможно себе и представить. Все эти данные начальница, уже много лет знающая В-ву, пыталась представить председателю, но он совершенно игнорировал ее мнение и поддержал кандидатуру В-вой, которую он сам совершенно почти не знает. Вероятнее всего, что ему отрекомендовал ее директор мужской гимназии Н-в, т<ак> к<ак> по повестке явилась на его торжество из всех наших педагогов только одна В-ва. Так в наши дни фабрикуются педагоги.
Вообще наш председатель в лице директора мужской гимназии нашел себе подходящую партию, и теперь на спинах учащих и учащихся они создают себе карьеру. В мужской гимназии помешаны на форме, на дисциплине и внешней религиозности. Наш председатель тоже старается выдвинуться. Да и в остальных учебных заведениях нашего города под влиянием их пошло «равнение направо», так как эти два «человека в футляре» по примеру чеховского Беликова терроризируют весь здешний педагогический мир, не останавливаясь, как говорят, даже перед доносами. Местные прогрессивные газеты уже не раз пробирали их и в прозе, и в стихах. Но они не унывают и принимают свои меры. Вчера, например, Н-в собрал педагогический совет мужской гимназии, который под его давлением постановил обратиться к губернатору и архиерею с просьбой обуздать местную печать за ее выпады против футлярных педагогов.
14 ноября
Вчера в VIII классе спрашивал биографию Л. Толстого у моих словесниц. Все три спрошенных мной девицы ответили прекрасно и получили по 5. Такое отношение учениц к делу встречается, к сожалению, не часто и потому особенно отрадно для учителя.
15 ноября
А сегодня те же словесницы заявили себя как раз с противоположной стороны. Был урок грамматики, и все 4 спрошенные мной ученицы отвечали так плохо, что пришлось поставить двойки. На мои упреки в нежелании заниматься грамматикой ученицы говорили, что это неинтересно. А когда я, раздраженный их невежеством в этой области, иронически сказал одной: «Вы скоро, кажется, забудете свое собственное имя», ученица К-ва (одна из наиболее знакомых мне восьмиклассниц) заметила мне, что нехорошо так смеяться. И она, пожалуй, была до некоторой степени права, т<ак> к<ак> неудачливые ответы учениц вызвали у меня неуместный на уроке раздражительный тон. Поэтому на замечание К-вой я возражать не стал. Но в общем все это оставило весьма неприятный осадок.
В V классе раздавал сегодня письменные работы, которые со стороны орфографии оказались очень слабыми, так что наполовину были единицы и двойки. Но этот урок в отличие от урока в VIII классе я провел спокойно, без всякого раздражения. И в результате хотя некоторые ученицы и поплакали из-за неудовлетворительных баллов, но никакого раздражения и недовольства и с их стороны я не встретил.
16 ноября
Мужская гимназия отличилась на славу! Директор Н-в в своем футлярном усердии потребовал от всех учеников завести форменные мундиры, чего ни в здешних, ни в других средне-учебных заведениях уже давно не требуют. Это требование более задело родителей, преобладающее большинство которых принадлежит к людям с ограниченными средствами (некоторые едва находят возможным даже уплатить за право учения и обращаются за этим в благотворительные общества). Но для Н-ва, ставящего одной из своих целей борьбу против проникновения в гимназию мещанских и крестьянских детей, это ничего не значит. И он взваливает, ничтоже сумняшеся, на каждую семью совершенно излишний расход в 20–25 р., который требуется повторять (ввиду того, что дети все время растут) чуть не каждый год. Когда возмущенный этим один из родителей г. Л. пришел к Н-ву объясниться, тот мог выдвинуть только один «довод»: «Неужели Вы не понимаете, что мундир облагораживает человека?» Отменить свое распоряжение Н-в категорически отказался и потребовал, чтобы к 6 декабря все мундиры были готовы. Л-ский, как человек с положением, решил не сдаваться самодуру-директору, написал прошение попечителю округа и пригласил родителей подписаться. Облагороженный же мундиром Н-в, узнав об этом, донес жандармским властям. В дом, где подписывалось прошение, нагрянула полиция; «незаконное сборище» было прекращено, а прошение с подписями родителей конфисковано. Н-в же со своей стороны устроил педагогический совет, который большинством одного голоса (причем к голосованию были допущены даже лица, не имеющие права голоса) постановил уволить сына Л-ского, что и было сообщено его отцу без всякого объяснения причин. Тот подаст теперь жалобу попечителю.
21 ноября
Почти каждый день получаю то из одного, то их другого класса письменные работы. Дома скопилось их целых пять штук (по 30–40 тетрадей в каждой). Свободного времени теперь совершенно нет, т<ак> к<ак> все эти работы нужно поскорее «прогнать», чтобы взамен получить новые. Все вечера в будние дни, а в праздники с самого утра, я сижу за этими тетрадками. Сегодня работал целый день, но успел проверить только 5 сочинении VIII класса и 20 сочинений (т. е. половину) V. И выработал в результате около рубля. Поденщина не из хороших! Невольно зависть берет перед теми людьми, которые, работая неделю, по крайней мере, могут отдохнуть хоть в праздники. А тут, прокорпев целый день за «сочинениями» и скучными «исправлениями» старых работ, должен готовиться вечером к завтрашним урокам, а утром снова, собрав свои силы, идти в класс и кипеть в котле педагогической работы, требующей такого расхода нервной энергии. Хорошо, кабы еще смотрели на тебя как на заслуживающего уважения труженика. На самом же деле встречаешь такое отношение, такое третирование твоего человеческого достоинства, которое редко встречается в какой-либо другой профессии. Сегодня, например, выяснились новые подробности выходки нашего председателя относительно газет. Оказывается он не только запретил нам выписывать газеты на гимназию, приказав швейцарам не принимать их, но даже послал официальную бумагу на почту с требованием совсем не выдавать их нам хотя бы и по другому адресу. Таким образом, все выписанные нами на свой собственный счет периодические издания задерживаются теперь на почте и, несмотря на заявление одного из коллег с сообщением нового адреса, почтовая контора, основываясь на бумаге председателя, отказывается выдавать их. Это уже не только издевательство, но и прямое посягательство на нашу частную собственность. Но нахал знает, что жаловаться на лишение нас либеральных газет мы не можем, предъявить к нему гражданский иск не посмеем — и он обращается с учительским персоналом как со своими холопами. Извольте-ка при таких условиях сохранить необходимую для педагога ясность духа и уравновешенность!
22 ноября
Директор мужской гимназии Н-в окончательно превратился в жандарма. Он вызывает теперь к себе всех родителей, подписавших прошение о мундирах, и допрашивает их, по своей ли инициативе они сделали это или по подстрекательству Л-ского. Учителю же гимназии, снимающему у этого же Л-ского квартиру, Н-в предложил немедленно переехать на другую квартиру. Жандармерия со своей стороны взяла педагогов в футляре под свое покровительство и запретила местным газетам касаться Н-ва и нашего председателя Б-ского.
23 ноября
Каждый день в гимназии ждет какая-нибудь неприятность со стороны председателя. Сегодня он был на моем уроке в VII классе. Вес время что-то писал и иногда иронически улыбался. Вероятно, подготовляет материал для доноса. При желании придраться есть к чему. Отвечали как раз о Лермонтове и, делая его сопоставление с Байроном, одна девица говорила о связи байронизма с Великой французской революцией и о влиянии на Лермонтова наступившей после восстания декабристов реакции. Вес это фактически, конечно, верно. Во всяком университетском курсе и во всяком учебном пособии научного характера (вроде книга Н. Котляревского) можно это найти. Но у нас это все может быть сочтено криминалом. Недаром же, например, наш окружной инспектор всегда подчеркивает, что николаевское царствование не было реакционным. Кому же должны следовать преподаватели: научным трудам и своим университетским профессорам или фантазиям окружного инспектора, который не получил даже высшего образования? И как при преподавании таких предметов, как история и словесность, избежать «крамольного» элемента, когда писатели-классики почти сплошь «неблагонадежные»? Классиков же в пуришкевичевском духе, которыми можно бы их заменить, просто не существует. Не найдется также и ни одного ученого труда, освещающего историю или литературу с точки зрения наших «охранителей», или: вернее, «задопятов», потому что и история и литература есть картина постепенной эволюции и прогресса человечества. И воочию видя в этом зеркале, как живое побеждает мертвое, как может истолковывать это объективный ученый в смысле диаметрально противоположном?
24 ноября
Восьмиклассница К-ва давала сегодня пробный урок по арифметике. Материалом было краткое сравнение, что считается (и вполне справедливо) очень трудным материалом. Ни в одном из знакомых мне методических руководств нет вполне хорошего изложения этого материала. Да и трудно изложить его в первый год обучения. Недаром некоторые учителя откладывают его уже на конец первого года. Ввиду трудности справиться с этим материалом начинающей практикантке я раньше не давал его на пробные уроки. Но ныне учительница приготовительного класса больна, заниматься приходится все равно восьмиклассницам, и я предложил, по совету учительницы, «какому-нибудь смельчаку» взяться за этот урок. К-ва, решившаяся на это, отнеслась к делу с обычной добросовестностью и вдумчивостью. Мы несколько раз составляли вместе с ней конспект, советовалась она и с учительницей этого класса, и сегодня, наконец, выступила. Но дело шло ладно, пока не пришлось коснуться отвлеченностей — формулировки правила. Осилить это дети не могли уже вследствие своего возраста. Практикантка расстроилась, занималась уже со слезами на глазах и допустила несколько промахов, хотя обнаружила в то же время умение заниматься. Когда же я на уроке заметил председателю относительно трудности материала, тот с обычным апломбом невежды стал утверждать, что нисколько не трудным и что практикантка совершенно не умеет заниматься. Теперь надо ждать конфликта на конференции. Интересно, что председатель, выказывающий на этих конференциях все свое невежество в области методики вопросов и школьной практики, нашел, что протоколы, куда восьмиклассницы заносят все эти мнения, могут послужить, в случае чего, уличающим его материалом, и ополчился против них. Сегодня он заявил начальнице, что если об этом ничего нет в законе, то он отменит их, потому что, дескать, эти протоколы похожи на критику его мнений ученицами. Мшив, по меньшей мере, странный, т<ак> к<ак> мнения наши все равно высказываются в присутствии учениц и заносятся в протокол, разумеется, без всяких комментариев. Если же получается в результате довольно скандальная картина, то «на зеркало неча пенять…»
Продолжает председатель и другие изыскания по части «крамолы». Потребовал, например, из библиотеки книгу записи выдач, чтобы проверить, что читают ученицы. А когда на его замечание восьмиклассницам, что они очень мало читают, судя по записи, те ответили, что берут из городской библиотеки, Б-й отнесся к этому весьма неодобрительно. Велел также ученицам представить списки книг, которые они читали за последние годы и которые рекомендованы им преподавателями. На этой почве мне тоже может влететь, т<ак> к<ак>, например, в VII классе в числе необязательных книг я рекомендовал некоторые произведения Горького, Андреева, Золя и т.п. Сегодня председатель собрал также у восьмиклассниц письменные работы по словесности (о Герцене), где есть к чему придраться и со стороны орфографии, и со стороны направления. Неизвестно только еще, как он будет действовать: станет ли сразу доносить или будет собирать материал на случай проявления какой-либо оппозиции. Но во всяком случае добра нечего ждать.
25 ноября
Вот уже скоро полгода, как у нас в гимназии не преподается рисование. Между тем учительница уже есть и живет в городе с самой осени. Но наше начальство все еще ведет переписку насчет ее благонадежности, а без официальной бумаги в этом смысле не хотят даже временно допустить ее к преподаванию такого невинного предмета, как рисование. В другой же здешней гимназии, где не так заняты формалистикой, она уже допущена к занятиям и преблагополучно ведет свои уроки. Получена ей уже и телеграмма от губернатора, сообщающего, что свидетельство уже послано попечителю, но и это не считается достаточным. Учительница сидит без места, ученицы без уроков, а канцелярии, не торопясь, «пописывают». Вообще на этой почве в нашем ведомстве сколько угодно абсурдов. Теперь, например, сильно больна учительница приготовительного класса и не будет ходить в класс месяца два. За нее кое-как занимаются восьмиклассницы. Но они и сами еще неопытны, да и «у семи нянек дитя без глазу». Веет лучше бы, конечно, пригласить временно какую-нибудь заместительницу, хотя бы из наших же бывших учениц, окончивших курс. Но и здесь для временных занятий с неграмотными еще приготовишками потребуется разрешение учебного округа, а тот, наверно, будет наводить справки насчет благонадежности, и необходимое для занятий время все равно будет упущено. Поэтому нашим бесполезно даже и хлопотать об этом. А в результате ученицы почти целых полгода будут лишены нормальных занятий.
Требовательность здешнего округа в отношении «благонадежности» доходит прямо до нелепого. Одна девица, только что окончившая Бестужевские курсы, подала прошение об определении ее учительницей в гимназию. Окружное начальство, несмотря на то что кандидатка только что с курсов, потребовало от петербургской полиции свидетельство о благонадежности. Оттуда дали справку, что в 1904 г. она была уволена с курсов за участие в одной студенческой истории. И этого было достаточно, чтобы попечитель отказался ее утверждать, хотя в 1905 г. она получила уже свидетельство о благонадежности, была снова принята на курсы и без всяких осложнений проучилась там несколько лет. Со времени ее увольнения столько уже переменилось в России, была амнистия и политическим преступникам, многие, отбыв наказание по суду, успели уже устроиться на государственной службе. А девица, ни разу не привлекавшаяся к суду и ни в чем политическом не замешанная, без всякого суда и следствия ограничивается в своих законных правах. После этого она подала прошение в Петербургский учебный округ и там была принята на должность учительницы в самом Петербурге. Для службы в столице потребовалось меньше, чем для нашего провинциального захолустья, где безраздельно царят «plus royalistes que le roi memo.
Самоубийство ученицы
26 ноября
Эпидемия самоубийств, широкой волной разлившаяся по России, докатилась и до нас. Третьего дня вечером отравилась ученица VI класса И-ма. Это была бледная, но довольно миловидная девушка, проучившаяся у нас года два. Училась она средне. В гимназии ничем особенным себя не проявляла. А ныне, оставшись на повторный курс, как-то вовсе отстранилась от гимназической учебы. Сидя на самой дальней парте, она обыкновенно занималась своим делом, любила поболтать с соседками, но по отношению к преподавателям была всегда корректна. В нынешний год (ей только что исполнилось 16 лет) она выглядела более оживлен ной и расцветающей. Но увы! Не успевши расцвесть, уже погибла, и погибла так трагически. Причиной, говорят, послужила неудачная любовь к одному молодому человеку. Школа здесь непосредственного отношения не имеет. Иначе для нас, педагогов, этот случай был бы еще трагичнее. Но как осторожно, действительно, надо подходить к этим хрупким созданьям. Ведь не только любовь, но и школьные неудачи могут также потрясти их. А что потом сделаешь, когда совершится неисправимое? Теперь после такого близкого примера подобные эксцессы еще возможнее.
27 ноября
Проверял сочинения шестиклассниц, поданные еще 19 ноября, и в числе их нашел работу несчастной И-мой. Я не успел еще проверить эти сочинения, а ее уже нет среди живых. И как странно мне было читать эту наивную ученическую работу, автор которой уже покоится под застывшей землей. Тема была «Корень учения горек, но плоды его сладки», и, рассуждая о пользе образования, И-ма обмолвилась фразой: «Для образованного человека жизнь становится более привлекательной», не ожидая еще, что не пройдет и 5 дней, как она сама покончит счеты с жизнью. Хорошо еще хотя то, что у ней нет озлобленного чувства против школы. «Теперь нет зубрения, — пишет она, — оно заменено простым запоминанием и личным пониманием различных предметов. Учеников за неприготовленные уроки не истязают, а теперь приняты более полезные меры». Но немало мне пришлось встретить в этих сочинениях и горьких истин насчет современной школы. Одна шестиклассница, например, пишет: «Хотя сейчас у нас розог нет в употреблении и учителя уже не невежественные, а все почти с высшим образованием, но учиться не лучше, т<ак> к<ак> отношение учителей к учащимся не сильно изменилось. Учитель продолжает драть ученика за невыученный урок — только в более мягкой форме, т.е. он ставит ему единицы и двойки, не думая о том, что иногда ученик при всем своем желании не может учиться но домашним обстоятельствам или чаще потому, что ученье не может его заинтересовать, в чем он не виноват, т<ак> к<ак> всякий учитель обязан заинтересовать ученика; если же он не умеет этого сделать, он не имеет права быть учителем». Другая ученица идет еще дальше: «Нелегко учиться и тогда, когда за преподавание берутся люди, не способные к этому труду; много страданий они приносят учащимся, которые иногда из-за них теряют веру в будущее, что и ведет к самоубийству». Многие отмечают трудность учения для неспособных и малообеспеченных, с чем учителя обыкновенно не считаются. «Трудно также готовиться к экзаменам, — пишет одна из лучших и наиболее старательных учениц в классе. — В какие-нибудь две недели нужно повторить все, что мы прошли за целый год, и потому приходится повторять целый день, без отдыха». Все это, конечно, правда, как правда и то, что «отношение учащих к учащимся зачастую бывает неуравновешенным» и «остается в силе истязание детей словом со стороны нервного от малой обеспеченности педагога».
28 ноября
Из округа пришла бумага, одобряющая действия директора Н-ва. Таким образом, жалоба Л-ского по поводу увольнения его сына осталась безрезультатной, чего и следовало ожидать, ибо это не случайность, а система, и система не только русской школы, а всей русской жизни. Другой одновременный с этим факт вполне подтверждает это. Я имею в виду пришедшее в редакции местных газет запрещение касаться деятельности нашего достославного председателя Б-ского. А он, продолжая поражать своим невежеством даже учениц IV класса, которые уличают его в незнании французского языка, в то же время берется судить о преподавании всех предметов гимназического курса, вызывает на конкуренциях иронические улыбки восьмиклассниц своими суждениями о их уроках и при оценке их безапелляционно ставит 2, где у остальных преподавателей 4, и наоборот. Поэтому между ним и всеми больше или меньше знающими себе цену преподавателями теперь царят по-существу враждебные, а по внешности холодно-официальные отношения. И только такие пресмыкающиеся особы, как учительница чистописания Ч-ва и классная дама В-ва, да еще учитель пения пользуются его благосклонностью.
30 ноября
Сегодня председатель опять расстроил меня. По его заказу прислали из Академии наук целую кучу специальных изданий по филологии. Похвастав сначала тем вниманием, которое будто бы оказывает ему Академия наук, он начал читать оглавления присланных книг, причем оказалось, что он не в состоянии правильно прочесть даже такие широко известные фамилии, как Бодуэн де Куртене или Ягич. Настолько велика его осведомленность в области науки. Кто же поверит после этого, что Академия наук поручила этому Хлестакову какие-то ученые исследования? В конце же концов оказалось, что он намерен расплатиться за все эти издания из гимназических средств, т<ак> к<ак> по библиотеке оказались будто бы остатки; а между тем весной и мне, и историчке пришлось до minimum’а урезать свои списки ввиду недостатка средств. Когда я сказал ему об этом и напомнил, что по правилам гимназии книги выписываются только по постановлению педагогического совета, — Б-й, упомянув к чему-то, что он председатель, резко оборвал дальнейший разговор. Раздраженное же настроение, созданное этим инцидентом, прорвалось у меня на уроке в VIII классе, когда осталось свободное время, я стал показывать принесенные мной книги, иллюстрирующие занятия но новой системе. Ученицы, по моему приглашению, собрались вокруг меня и рассматривали картины.
6 декабря
К сегодняшнему дню председатель велел нам завести форму, а в 9 ч. 30 м. мы должны были по повестке явиться к обедне. Ученицам тоже было строго приказано прийти в церковь, и классные дамы, сидя в коридоре, отмечали по спискам всех пришедших, чтобы потом на непришедших наложить взыскания. Во время обедни председатель выходил на время из церкви и увидал, что педагоги стоят у дверей боковой комнатки, выходящих в церковь у самого алтаря. Пройдя мимо, он ничего не сказал им, но через несколько минут вдруг является классная дама и передает нам его распоряжение не стоять здесь, а пройти внутрь церкви. Такое обращение с педагогическим персоналом, не встречающееся даже в духовно учебных заведениях и совершенно ни на чем не основанное, страшно возмутило всех нас. Учительница истории не могла справиться со своими нервами и даже расплакалась. Но ни один из нас все таки не пошел, куда велел председатель. Не пошла даже его фаворитка Ч-ва — даже и для нее показалось, что это слишком! В самом деле, не хватало только того, чтобы мы по указанию классной дамы, продефилировали все на виду учениц и выстроились там, где велит председатель! Такие оскорбления не забываются. Но как реагировать на это издевательство? При нашем бесправном положении приходится безмолвно сносить все это, и только чувство бессильной злобы кипит в груди.
8 декабря
Я не помню уже, чтобы у меня был свободный вечер: каждый день идет бесконечная проверка ученических сочинений. Целые недели, целые месяцы однообразной, утомительной работы. Не знаешь ни вечернего, ни праздничного отдыха. И даже в эти молодые годы не хватает физических сил на этот труд. Нервы расстраиваются, начинается бессонница. А об умственном развитии и говорить нечего! Некогда читать даже того, что необходимо прочесть для более основательного усвоения преподаваемого курса, целый год лежат непрочитанными выписанные мною новые книжки по словесности и методикам. А о каких-нибудь иных произведениях, хотя бы даже беллетристических, не приходится и думать. Что же удивительного, если педагоги сплошь и рядом поражают своей отсталостью? И всего хуже в этом отношении как раз положение словесника, т. е. преподавателя, обязанного по самой своей специальности следить за литературой.
9 декабря
Наш председатель продолжает чудить. Глупость и самодурство — основные черты его поведения. На днях, например, во время свободного люка довольно шумно вели себя семиклассницы, с которыми сидела классная дама. Винить туг можно или весь класс, или же классную даму, которая не в состоянии поддержать дисциплину. Председатель велел сбавить поведение дежурным ученицам, как будто бы они имеют какую-либо дисциплинарную власть, а тем более в присутствии классной дамы. Но этого мало — в своем стремлении везде совать свой нос, везде шпионить он дошел даже до того, что забрался как-то в уборную учениц, которые, конечно, были страшно смущены появлением мужчины. На улицах же он, как говорят, останавливает учениц, схватывая их за руку.
10 декабря
Сегодня весь день прошел в нервном напряжении, и все опять из-за того же председателя. Подошло время полугодовых репетиций в VIII классе. Обычно эти репетиции назначались по взаимному соглашению преподающих и председателя или даже на общем педагогическом совете. Ныне же наш самодур взял все это дело на себя. И в результате целый ряд нелепостей, например, назначение репетиций по методикам, тогда как по ним даже весной не полагается устного экзамена; назначение репетиций с 9 ч. утра, вследствие чего приходится на целую неделю раньше прервать занятия не только в VIII классе, но во многих других, т<ак> к<ак> преподаватели будут заняты (раньше репетиций было меньше и начинались они в свободные часы). По этому поводу пришлось много спорить с ним, но председатель, не принимая никаких доводов, стоял на своем единоличном решении. Настроение все больше и больше повышалось. В отместку мне он начал говорить, что я не соблюдаю многих министерских правил, т<ак> к<ак>, например, у нас начинаются практические уроки не со второго полугодия, как по правилам, а с первого. Таким образом, то, что — по здравому смыслу — надо счесть заслугой, у него оказалось недостатком. По этим правилам выходит, что ученицы должны пропускать самое драгоценное время — время прохождения азбуки, и совсем не должны упражняться в этом искусстве, необходимом для учительницы в первую голову. И учитель, у которого ученицы готовы к практическим урокам уже к октябрю месяцу, хуже учителя, который держит учениц целых полгода на теории, упуская невозвратимое время. Потом председатель потребовал, чтобы восьмиклассницы представили, согласно правилам, конспект урока какой-нибудь учительницы, считая отсутствие этого тяжким упущением и не обращая внимания на то, что они уже не только в состоянии написать конспект урока на любую из пройденных тем, но даже несут на своих плечах все занятия в младших приготовительных классах (где хворает учительница) уже в течение второго месяца. Погоня за соблюдением всех правил дошла, наконец, до нелепости. В одном циркуляре нашлось указание, что во время конференций с восьмиклассницами одна из них, по назначению преподавателя, ведет протокол. Председатель на основании слова «одна» нашел, что практикующаяся у нас запись двумя ученицами есть нарушение закона, и велел, чтобы впредь протокол писался только одной, тогда как даже при записи двумя текст получается очень неточный. На бывшей сегодня конференции председатель вел себя опять-таки явно пристрастно, и ученице Ф-вой, которую он почему-то невзлюбил (на предыдущей конференции он поставил ей 2 вместо 4, хотя и заявил, что запись о ее уроке забыл дома и ни одного замечания сделать не мог) сделал резкое замечание, когда она с иронической улыбкой слушала его разглагольствования насчет уроков. Когда же мы удалились для выставления баллов, вышел конфликт уже со мной и начальницей. Он выразил недовольство, что на последней конференции средний балл записывался не им, а начальницей (как будто она в его же присутствии стала бы делать какие-то подлоги); взял эту «привилегию» на себя и заявил, что будет выводить средний балл «с наклоном в сторону своего». Я заявил ему, что такой «наклон» никакими правилами не предусмотрен. Тогда он вовсе вскипел, оборвал меня словами: «Есть же какая-нибудь разница между председателем и преподавателем?» и потом раздраженно заговорил, что он не обязан сдавать нам отчет в каждом своем шаге.
Все эти столкновения так подействовали на мои нервы, что в результате получилась бессонница, а завтра опять идти в гимназию на уроки! Опять подвергаться всяким неприятностям и в то же время внимательно, спокойно и ласково заниматься с ученицами. Нелегко это совместить!
11 декабря
Оказалось, что председатель распорядился с репетициями не только нецелесообразно, но и незаконно. По справке выяснилось существование министерского циркуляра, категорически заявляющего, что вопросы о том, «кому и когда назначать репетиции», должны «решаться преподающими с разрешения педагогического совета». Таким образом все вчерашние постановления председателя оказались новой узурпацией не принадлежащих ему прав, что вызвало среди педагогов сильное возбуждение. Заходил уже разговор о посылке телеграммы попечителю и т.п. Предварительно же решили указать на циркуляр председателю. Когда четверо преподавателей VIII класса вошли к председателю и торжественно положили перед ним раскрытую книгу с правилами, он прочитал, покраснел и, несколько смутившись, сказал, что согласен созвать совет. Но победу праздновать еще рано. Получив афронт с одной стороны, он хочет теперь взять нас «не мытьем, так катаньем». После этого разговора он насел на двух учительниц, требуя, чтобы они взяли на себя классное наставничество в первом классе, от которого принуждена была отказаться «француженка», а когда те тоже стали отказываться, от заявил, что донесет на них в округ.
12 декабря
Сегодня продолжалась та же история. Придя в гимназию, председатель сразу отправился в VIII класс и потребовал, чтобы ученицы к 12 ч. дня послезавтра представили ему конспект одного из посещенных ими уроков и свои педагогические дневники, добавив при этом (уже явно по адресу педагогического персонала), что пока они не представят этого, он не созовет совета. Когда я зашел в класс и возбужденные ученицы сообщили мне об этом, я был сильно возмущен этой новой выходкой председателя, так грубо вмешавшегося в мои обязанности (как «преподавателя-руководителя», на которого и по правилам возлагается все это). Нелепо, сверх того, и само требование, предъявленное так внезапно, об исполнении таких работ, которые должны подготовляться постепенно, с начала года, и не могут быть выполнены в один день. Здравого смысла тут, разумеется, нет ни капли, это просто новое проявление мести, желания «донять» меня за вчерашнее. Общая беда невольно сблизила меня с восьмиклассницами, и я уже на общем уроке немало поговорил с ними по душе насчет нашего начальника. Когда же на последнем уроке остались только словесницы, тут я почувствовал себя еще свободнее, и пол-урока прошло в дружной беседе.
Завтра придется девицам бегать по классам и наспех писать конспект первого попавшегося урока. А дома — «сочинять» и записывать задним числом свой педагогический дневник. Сколько, подумаешь, пользы от таких работ: и научной, и моральной!
13 декабря
Ученицы, действительно, бегали сегодня по урокам в младших классах и составляли их конспекты. Но председатель, придя в гимназию, вдруг объявил им, что конспекты сегодняшних уроков он не будет считать действительными. Пропали, значит, их хлопоты даром. Придется теперь воспроизводить какой-нибудь из раньше посещенных люков. Вечером было заседание педагогического совета. Зачитывался протокол предыдущего заседания, где говорится о своеобразном «избрании» нового секретаря — одним председателем. Мы хотели приложить по этому поводу особые мнения, но председатель нашел некоторые формальные неправильности и велел пересоставить протокол, очевидно, с целью затянуть дело и в то же время «подвести» тех преподавателей, которые помечены в протоколе бывшими, а на самом деле не были. Правда, мы не были с разрешения самого председателя, т<ак> к<ак> намечено было только обсуждение младших классов, где мы не занимаемся, но сегодня он уже сам отказался от своих слов, заявив, что не разрешал нам этого. Потом стали обсуждать вопрос о репетициях в VIII классе. Я, основываясь на министерском циркуляре, предоставляющем право самим преподавателям определять, кому назначить репетиции, заявил, что делать репетиций по методикам не считаю нужным. С моими доводами согласился совет, и все единогласно присоединились к моему мнению. Председатель же сказал, что остается при своем мнении по особым соображениям, которых высказывать не намерен, и поэтому репетиции все-таки должны быть. Начальница и другие члены совета пробовали было протестовать, но он не нашел даже нужным входить с нами в какие-либо объяснения. Таким образом, попираются даже те ничтожные права педагогического совета, которые ему предоставлены законом, и протестовать против такого произвола мы не имеем возможности.
14 декабря
Вчера начальница на основании распоряжения учебного округа сказала ученицам, отпущенным на вечер в торговую школу, что танцевать им не разрешает. Председатель же, узнав об этом, в пику ей заявил: «А я Вам разрешаю». Когда же она уличила его в незнании циркуляра, он сейчас же свернул на другое и сделал ей замечание за то, что у нее будто бы мало баллов за устные ответы. Вообще против начальницы и против меня он особенно точит зубы. По-видимому, он и его фаворитка — г-жа В-ва хотят спихнуть нас, чтобы самим занять наш предмет (русский язык), т<ак> к<ак> его они знают все-таки больше французского. С целью к чему-нибудь придраться он потребовал представить ему новые классные работы словесниц, а в старых копается уже вторую неделю. И уже прямо у восьмиклассниц, не обращаясь ко мне, потребовал представить ему программы того, что они проходили по моим предметам.
Протокол даже первого совета все еще не представлен нам для подписи. А когда председатель узнал от своей шпионки Ч-вой, что мы собираемся писать особые мнения, то заявил, что он этого не позволит. «Если хотят, пусть жалуются на меня, — сказал он, — но только через меня же!»
Сегодня была первая конференция для разбора уроков историчек, и председатель сразу же заявил себя на ней. Грубых ошибок, наделанных одной из учениц, он не заметил и расхвалил урок. А другой практикантке, давшей действительно хороший урок, поставил в вину, что она как-то не так держала голову, и поэтому, когда урок ее стали оценивать и учительницы этого предмета поставили 4 и 4, он со своей стороны поставил 2.
15 декабря
Сегодня, к нашей радости, председателя в гимназии не было, и чувствовалось гораздо спокойнее и веселее. Этот человек умеет в один день наделать столько пакостей, что и в неделю не переваришь. Наверно, и сегодня, сидя дома, строчит на нас доносы.
Единственная отрада при таких условиях само дело, которому я служу, и отношение ко мне учениц. А в этом отношении пока дела идут хорошо. На уроке среди этой милой молодежи, такой в общем живой и непосредственно-веселой, невольно отдыхаешь душой. Вчера, например, я с удовольствием провел все уроки. В VI классе при напряженном внимании класса читал чудную главу из Радищевского «Путешествия»: «Сон сидящего на престоле». В VII весь урок говорил о лирике Лермонтова и о его личности, разбирал его стихотворения и читал их. Я сам проработал этот материал, всегда с любовью даю этот урок, и девицы, видимо, тоже чувствуют это. В V классе ныне у нас также хорошие отношения. Сегодня было задано о народных сказках, и этот материал очень оживил класс, состоящий почти из детей. Недурно идут дела и в VIII классе. Вот я спрашиваю по педагогике, девица пугается, и я, желая навести ее, задаю несколько вопросов подряд. «Нельзя так задавать сразу несколько вопросов», — делает мне замечание одна восьмиклассница, видимо, помнящая мои наставления по дидактике. Я объясняю, что это наводящие вопросы. «Что Вы сейчас спросили?» — перебивает, немного погодя, другая ученица. «А вот если Вы все сразу будете меня спрашивать, тогда уж я вовсе не буду знать, кому отвечать», — говорю я, и урок так же мирно продолжается дальше.
16 декабря
Сегодня воскресенье. Но не отдых, а, пожалуй, еще большее утомление приносят мне праздники. В будни занятия носят хотя более разнообразный характер. До 3-х часов ведешь уроки в гимназии, а часов с 6–7 сидишь дома за сочинениями учениц. Сегодня же в течение целых 10 часов просидел за исправлением тетрадей, на это же ушел и вчерашний предпраздничный вечер. А завтра после такого «праздничного отдыха» придется с утра сидеть на уроках, а вечером, сверх того, идти на репетицию в VIII класс, т. е. спрашивать за целое полугодие больше чем 30 учениц.
17 декабря
Разрешив ученицам устроить ученические вечера с танцами, наш председатель, несмотря на запрещение начальницы и на специальный циркуляр из округа, разрешил гимназисткам идти на бал, устроенный чиновниками землеустройства. Туда же пошел и он сам и так разошелся, что дозволил ученицам пробыть там среди взрослых мужчин целую ночь. Очевидно, с его точки зрения это имеет большее воспитательное значение, чем скромный ученический вечер. Вот уж, действительно, чего моя нога хочет?
Как воспитывался патриотизм
18 декабря
Инцидент на весеннем экзамене по истории, наконец, отозвался. Председатель вызвал историчку и сообщил ей содержание пришедшей из округа бумаги, где она обвиняется в подрывании у учениц патриотического чувства и в сообщении превратных сведений об ученых трудах. В подтверждение первого приводится часть ее программы (утвержденной тем же окружным начальством), где упоминаются оуэнизм, фурьеризм и т.п. А второе доказывается уже явной ложью по ее адресу: будто бы она сказала на экзамене, что труды Соловьева не имеют научного значения, — так истолкован тот факт, что она не пользовалась Соловьевым в VIII классе, т<ак> к<ак> изучала не затронутый в его истории XIX в.! В вину ей также поставлено то, что она (основываясь, между прочим, на статьях, печатавшихся в «Педагогическом сборнике военно-учебных заведений») рекомендовала своим ученицам для ознакомления с историей декабристов произведения Довнар-Запольского, названные в бумаге «не имеющими научного значения, тенденциозными книжонками». В заключение же историчка предупреждается, что если станет продолжать преподавание в том же духе, то будет уволена от должности.
С четвертого урока должна была начаться полугодовая репетиция у моих словесниц. В зале уже было все приготовлено для этого. Но председатель зашел в V класс, сел там на парту и сказал, что репетиция будет не в зале, а здесь. Никакие доводы не помогли. Пришлось перетаскивать стол, стулья. А председатель, видимо для оригинальности, так и не сел с нами за стол, а остался на парте. Началась репетиция. Я каждую ученицу спрашивал но грамматике, а потом предоставлял ее председателю. Тот каждую заставлял писать на доске несколько замысловатых в орфографическом отношении слов и фраз, потом брал из хрестоматии какой-нибудь отрывок и велел по книге прочитать его, испытывая умение читать выразительно. Потом гоняли по грамматике. Дальше я спрашивал по словесности, а нагом начинал спрашивать по словесности и председатель. По словесности девицы сдавали Герцена и Л. Толстого. Из программы я выключил все опасные пункты и спрашивал у учениц самые невинные вещи. Председатель же, видимо, хотел подсидеть меня с точки зрения благонадежности, и вдруг задал вопрос ученице, отвечавшей о «Кто виноват?», вопрос: «А не знаете ли Вы, как в своих публицистических произведениях Герцен отзывается о духовенстве?» Девица ничего сказать не могла (да мы этого и действительно не касались), а я заявил председателю, что таких статей мы не изучаем и такого вопроса в моей программе нет. Он покраснел как рак и замолчал. В другой раз он задал тоже довольно странный вопрос: не знает ли ученица, где сказано у Толстого, что бывает две субординации: официальная и неофициальная, и что по официальной субординации генерал выше юнкера, а по неофициальной может быть и юнкер выше генерала. Это излюбленная идея нашего председателя, единственная идея, усвоенная им из произведений Толстого и применяемая им к себе, т<ак> к<ак> он постоянно твердит о своих связях в Петербурге, которые ставят его выше ближайшего (окружного) начальства. Но к проходимому нами курсу такие вопросы ровно никакого отношения не имеют, и я опять указал это председателю. Наконец истязания моих словесниц кончились. Стали выводить баллы. У председателя, как и следовало ожидать, баллы оказались ниже, чем у всех других экзаменаторов. Когда же дошли до оценки ученицы К-р, которая безукоризненно отвечала на все вопросы и мои, и председателя, то оказалось, что у трех экзаменовавших ее преподавателей русского языка ответ ее, как она вполне заслужила, оценен пятеркой, председатель же поставил… 3–. Никакой мотивировки этого он не дал, переубеждать было невозможно, и пришлось вывести в общем 4. Когда же ученицам объявили баллы, то у них невольно вырвалось восклицание: «К-р только 4?!». Что бы сказали они, если бы узнали, что нашелся субъект, поставивший за такой ответ даже 3–?
19 декабря
Председатель вызвал к себе учительницу истории в младших классах и внушал ей не проводить на уроках никаких политических тенденций: потом перевел речь на то, что у нас в гимназии составилась оппозиция против него и что она, как он замечает, тоже подпадает под влияние этой группы. А когда она выразила недоумение, в чем проявляется ее оппозиционность, он ответил: «Как в чем? А Вы, например, на советах высказываете мнения, несогласные с моими». Очевидно, он имел в виду голосование по поводу репетиций, но тогда он свое мнение высказал последним. Значит, нашему брату не только нужно всегда соглашаться с председателем, но даже предвидеть его желания. Вот так «педагогический совет»!
20 декабря
Сегодня вечером был совет, на котором наш Б-ский опять проявил себя. Поднялся вопрос о выписке журналов на новый год в фундаментальную и ученическую библиотеки. Председатель заявил, что он позволит выписать только те издания, которые имеют рекомендацию Министерства; такой же порядок, по его мнению, должен быть и относительно выписки книг. Ему указали, что еще в 1906 г. этот порядок был отменен и педагогическим советам было предоставлено самим выписывать то, что нужно. Б-ский не поверил, что может быть такой циркуляр, т<ак> к<ак> тогда педагогические советы могут «мало ли что выписать», и т<ак> к<ак> «Министерство стоит выше их в умственном отношении» (?!). Но циркуляр был найден и указан председателю, который не знает действующих узаконений. Он сначала было сдался, но потом, просмотрев циркуляр, разъяснил его в том смысле, что тут говорится только о книгах, а не о журналах, а потому относительно журналов он остается при прежнем мнении. Пришлось притащить по экземпляру каждого журнала, а председатель стал справляться, на которых из них есть одобрение Министерства. Это требование применялось им до того неуклонно, что, найдя, например, одобрение на журнале и не встретив такового на приложении к нему, Б-ский налагал на это приложение свое veto. Наконец, дело дошло до полного абсурда. Министерского одобрения не оказалось на официальных органах Св. Синода — «Церковные ведомости» и Главного управления военно-учебных заведений — «Педагогический сборник», и председатель, нисколько не смущаясь, заявил, что эти органы без особого распоряжения округа тоже нельзя выписывать. Таким образом, даже Св. Синод и военное министерство оказались под сомнением. Я горячо возражал против такого курьезного постановления и просил записать особое мнение, но председатель в своей глупости и упрямстве остался непреклонен. Под конец совета поднялся вопрос о назначении его продолжения и о конце учебных занятий. Б-й определил, чтобы 22 декабря до 12 ч. дня шли уроки и репетиции, а ровно в 12 ч. назначил совет. Когда ему стали указывать на неудобство этого, т<ак> к<ак> при таком расписании педагогам придется без отдыха и завтрака сразу же из класса идти на совет и там сидеть опять несколько часов, Б-й не пожелал даже слушать возражений. Тогда одна из учительниц заметила ему, что это даже невежливо. Б-й де не нашелся сказать ничего другого, кроме: «Не забывайте, что я при исполнении служебных обязанностей».
21 декабря
На этой неделе тетрадок проверять не надо. Но зато идут репетиции в VIII классе, на которые приходится ходить даже вечерами. Потом идут и обычные уроки, и целых два педагогических совета. Одним словом, и без тетрадок работы за глаза. Поэтому чувствую себя по временам совершенно утомленным и апатичным ко всему. А тут еще началась болезнь, являющаяся прямым следствием бесконечного сидения за тетрадями. Это первая и единственная награда, полученная мной за шестилетнюю усердную службу и добросовестное отношение к исправлению письменных работ!
Утром председатель был на репетиции по арифметике (у специалисток) и опять немало почудил. Спрашивал, например, таблицу умножения, требовал отвечать наизусть: сколько кубических вершков в кубическом аршине и т.п. Велел указать меры аптекарского веса, а когда учительница сказала ему, что эти меры теперь отменены уже и в аптеках, Б-ский возразил: «Но они есть в учебнике, одобренном Министерством». А сам, задавая все эти вопросы, все время сидел с раскрытым учебником, без которого, разумеется, тоже ничего бы не ответил. В заключение пошли уже прямо какие-то шарады. Показывает он, например, ученице зажатый кулак и спрашивает: «Сколько у меня тут? Какой это цифрой запишете?» Ученица, конечно, в недоумении, что ей сказать. «Может быть, икс?» — «Икс — не цифра» — поправляет ее учительница. Председатель тоже ничего не поясняет, и загадка остается загадкой (потом он объяснил, что надо было сказать 5).
22 декабря
Сегодня был у меня один урок в V классе. Я старался познакомиться с внеклассным чтением учениц, причем оказалось, что наиболее слабые из словесности ученицы как раз и читают очень мало, притом и читают крайне невнимательно. С 12 ч. начался совет о старших классах. Этот совет прошел мирно, т<ак> к<ак> никаких текущих острых вопросов не было, а протоколы предыдущих советов не читались, т<ак> к<ак> и секретарь, и председатель стараются их затянуть до полного забвения. Слышал от одного коллеги, занимающейся в мужской гимназии, что тамошний директор Н-в (наш бывший председатель) очень злится на нас. «Им не пройдет даром, — говорит он, — что они не пришли на открытие гимназии». На святки он отправляется в округ. Наговорит, значит, и о нас теплых слов. Туда же едет и наш Б-ский. А в противовес ему хочет отправиться и наша начальница, которая, в свою очередь, намерена жаловаться на незаконные действия председателя. Но беда в том, что теперь такие выходки обыкновенно даже поощряются, особенно когда они имеют видимость «защиты основ». «Не рассуждать, повиноваться!» — теперь местный принцип. А если подчиненные еще подпали под некоторое подозрение со стороны своего направления, то по отношению к ним «ежовые рукавицы» сугубо поощряются. И, подпавши под такое подозрение, не можешь рассчитывать на уважение даже к законным твоим правам. Не одним, видимо, ученикам, а и педагогам впору причислить себя к категории «замученных средней школой».
28 декабря
Уже середина вакаций. Хорошо на время пожить без поправки тетрадей. Приятно обойтись и без ежедневного созерцания нашего председателя. Но предыдущая работа сказывается и теперь. Я все время чувствую недомогание. Придется, видно, похворать в свободное время, а потом — для восстановления сил — опять приняться за старую работу. А работа эта способна скоро исчерпать мои силы. Да и не только мои. На днях я познакомился с новым словесником из реального училища. Он уже 10 лет на службе. И за это время каторжная работа над тетрадями успела превратить его почти в инвалида несмотря на то, что он — по его собственному признанию — отличался смолоду цветущим здоровьем и был — благодаря гимнастике — прекрасно развит физически. А тут Министерство, выпустившее недавно циркуляр насчет поднятия грамотности, стремится взвалить на учителей русского языка еще побольше работы, не заботясь о том, чтобы поставить их труд в более нормальные условия. А что современные условия нашей службы крайне тяжелы, с этим согласится всякий, испытавший их на себе и относившийся к делу добросовестно. Вот, например, что пишет об этом Тростников в своей «Методике русского литературного языка»: «Когда я после семилетнего преподавания (русского языка и словесности), после приобретения знаний и некоторого умения преподавать эти предметы стал преподавать историю и географию, почти совершенно забытые мною предметы, то на первом же году почувствовал себя освободившимся от кошмара. С первого же года преподавание этих предметов пошло у меня лучше, чем шло преподавание русского языка и словесности на седьмом году моей учительской практики по последним предметам. Я испытывал такое облегчение, что нисколько не счел бы несправедливым, если бы преподаватели русскою языка и словесности получали двойное вознаграждение сравнительно с преподавателями других предметов». Министерство же, сетуя на упадок грамотности, не видит одной из главных ее причин и старается — вместо облегчения нашего труда — еще подбавить нам работы. То же, судя но книге Тростникова, было еще и в 90-х гг. и те же были результаты. «К учителям русского языка и словесности было предъявлено столько требований, что многие из них не выдержали и нервно заболели; были даже случаи самоубийства». К этому же ведут нас и теперь!
Облава на гимназисток
3 января
Сегодня неожиданно получил повестку, приглашающую на экстренное заседание педагогического совета «для обсуждения вопроса об увольнении ученицы VIII класса А. за поступок, позорящий ее как ученицу гимназии». «И Святки даже не прошли без какой-то истории, — недовольно подумал я. идя на совет. — Наверно, попалась в маскараде или в кофейной». Но оказалось гораздо хуже. Председатель, живя в гостинице, слышал откровенные признания живущих там актеров и коммивояжеров, что у них бывают гимназистки. Приглашали даже самого председателя встретить вместе с ними в компании гимназисток новый год. Б-ский отказался и, известив полицию, устроил в ночь на новый год облаву в гостинице, но гимназисток там не оказалось. Рядом с его номером происходило тоже что-то подозрительное. Каждую ночь в комнате живущего там молодого актера звучал женский голос, напоминавший Б-скому голос одной гимназистки. Он даже мельком видел ее в коридоре, но еще не был вполне уверен. Он начал следить, но — с помощью горничных и швейцаров — таинственной незнакомке удавалось ускользать. Наконец, в ночь на 3 января Б-ский проследил, что в этот номер прошла из маскарада женщина, похожая по фигуре на восьмиклассницу А. Когда в гостинице успокоились, он пошел в полицию, захватил гимназических швейцаров, и в четвертом часу ночи вся честная компания (полицейский надзиратель, конный стражник, 2 швейцара из гимназии, управляющий гостиницей и председатель педагогического совета) вломились в номер к актеру, где застали его вдвоем с гимназисткой А. Сегодня на совете Б-ский и поведал о своих похождениях в стиле Шерлока Холмса. Самый факт, переданный Б-ским со всеми подробностями (до скрипа кровати включительно), всех страшно ошеломил. Как-то не верилось, что наша гимназистка, на которую мы привыкли смотреть как на девочку (хотя и любившую пококетничать), может так поступить. Возражать тут, конечно, уж не приходилось, и А. была единогласно уволена из гимназии. Б-ского же эта история, конечно, подымет в глазах начальства. Ведь теперь сыщицкие способности ценятся выше всего!
4 января
Виделся с одним коллегой из мужской гимназии, который ездил вместе со своим директором Н-вым в соседний город. По дороге Н-в о многом довольно откровенно болтал; говорил и о нашей гимназии. Как и следовало ожидать, он о нашем педагогическом персонале самого скверного мнения. «Ведь они ничего не стоят, — говорил он, — кроме классной дамы В-вой». Обо мне же отозвался как о погибшем человеке, который висит уже на волоске, т<ак> к<ак> я будто бы примкнул к «партии», занимаюсь не по той программе, которую предоставляю в округ, и прохожу с ученицами (о, ужас!) Герцена. Обвинения крайне нелепые и ни на чем не основанные, т<ак> к<ак> программы, по которым я занимаюсь, хотя и отступают от обычных, но не скрываются мной и каждый год утверждаются округом; Герцена я прохожу потому, что он еще при Шварце включен в программу мужских учебных заведений и помещен в учебнике Сиповского; под «партией» же Н-в, очевидно, подразумевает нашу гимназическую корпорацию, которая не желает беспрекословно подчиняться таким господам, как Б-ский и Н-в. Но как ни нелепы все эти обвинения, однако, дойдя до округа, они действительно могут сыграть свою роль. А если уже дошли (а Б-ский с Н-вым, да еще прошлогодняя начальница К-ч, наверно, этому посодействовали), то положение мое может действительно оказаться весьма шатким. Поэтому, занимаясь с ученицами, приходится думать не столько об интересах обучения, сколько о том, «как бы чего не вышло». Придется выбрасывать из курса наиболее ценный багаж, придется при освещении некоторых фактов ограничиваться туманными фразами — одним словом, придется фальсифицировать науку. И это судьба не только словесности, но и всех гуманитарных наук. Невольно позавидуешь физикам и математикам; в их науках можно все-таки оставаться объективным и не навлечь обвинения в крамольности.
7 января
Началось зрение. Но не с новой энергией после отдыха приступил я к нему, а с чувством какой-то и физической, и духовной подавленности. Отдохнуть, как следует, не успел. А тут еще целый ряд неприятных известий. Б-ский, оказывается, представил о всех нас (кроме своих фавориток и тех, кто с ним не имел никаких столкновений) в округ самые нелестные характеристики. Главный пункт, как и следовало ожидать, обвинение в политической неблагонадежности. Особенно достается начальнице гимназии и четырем преподавателям старших классов, которые чаще сталкивались с ним, отстаивая свои права, и потому причислены им к левым. В подтверждение этого обвинения относительно меня лично он представил в округ списки неблагонадежных, по его мнению, книг, находящихся в гимназической библиотеке, а также списки книг, которые читают гимназистки. Выживший из ума попечитель округа особенно ужаснулся, увидев в числе этих книг сочинения Герцена, и не какие-нибудь публицистические статьи, а безобидный роман «Кто виноват?», вышедший еще при Николаевской цензуре 40-х гг. «Это на казенный-то счет в казенной гимназии «Кто виноват?»» — возмущался старик, не зная, очевидно, ни самого романа, ни того, что он включен в гимназическую программу еще при Шварце, ни того, наконец, что я ежегодно включаю его в свою программу VIII класса, которую он сам ежегодно утверждает. И как ни нелепо все это, но для нашего брата, беззащитных педагогов, это может иметь решающее значение. Б-й может ежедневно писать на нас подобные доносы, а мы не имеем права возразить на них и даже не знаем об их содержании. В округе создастся крайне отрицательное отношение к нам, и изменит!» его мы почти не имеем возможности; а наша судьба как педагогов всецело в его руках. Весной надо ждать ревизия и под угрозой ее, как под дамокловым мечом, вести свои занятия. А Б-й, не стесняясь, стращает, что добьется своего, т. е. разгонит нас.
8 января
Получен, наконец, ответ из округа насчет родительского комитета. Из всех выбранных в комитет родителей утверждено только несколько человек. А председатель и его товарищ, несмотря на то что это лица, занимающие видные посты по министерству Двора, оказались не утвержденными. Теперь, значит, родительский комитет должен снова выбирать председателя и товарища, снова слать их на утверждение в округ (если только найдутся еще родители с высшим образованием); а ответ получится, вероятно, уже в мае.
Еще небольшой, но характерный факт из нашего учительского жития. Педагогам мужской гимназии директор Н-в запретил ужинать в клубе и ездить на пикники. Наверно, скоро запретят это и нам, т<ак> к<ак> пикники — это единственное поприще, на котором мы все-таки еще объединяемся друг с другом, а объединение в наше время не поощряется.
10 января
До какой мелочности доходит Б-ский в своих доносах на нас! Как-то в декабре, выходя из своего кабинета, он споткнулся о только что вымытый пол и упал. Начальница же с его фавориткой Ч-вой была в это время в кабинете. И вот в округ полетел донос, что начальница при его падении «злорадно усмехнулась».
15 января
Вечером был созван педагогический совет. Сначала читались какие-то националистические циркуляры Министерства, «разъясняющие» высочайший указ о преподавании в инородческих школах на родных языках учащихся. Потом стали обсуждать вопрос о праздновании юбилея Дома Романовых. Опять пошли циркуляры: о внедрении в учащихся патриотических чувств, о выписке для раздачи учащимся изданий союза Михаила Архангела и т. п. Начальница же с целью реабилитировать себя от обвинений в «красноте» предложила, сверх того, послать телеграмму на высочайшее имя. Б-ский же без стеснения улыбался при этом. Когда эти вопросы были исчерпаны, законоучитель священник П. попросил у председателя разрешения доложить педагогическому совету о тех неудобствах, с которыми сопряжено для него новое расписание уроков (расписание это составлено было по распоряжению Б-ского и в его личных интересах самозванным секретарем Ч-вой, которая постаралась угодить своему покровителю и, устроив его уроки самым удобным образом, остальные растолкала как попало). Председатель разрешил, и тогда П. заявил, что он обязан ходить на общую молитву перед уроками, а между тем по средам, по новому расписанию, его уроки начинаются не с первою, а со второго. Таким образом, первый час остается пустым, никуда использовать его нельзя, т<ак> к<ак> для хождения домой мало времени, а в гимназии тоже нечего делать. Поэтому он стал настаивать, чтобы Ч-ва изменила расписание в его интересах. Та возражала, что так устроить она не может. П. же отвечал, что если совет постановит так, то она должна будет так сделать. Б-ский тогда вскипел. Заявил, что этот вопрос (о расписании!) не входит в компетенцию педагогического совета; снял его с очереди и объявил заседание закрытым. А сам, торопливо схватив свои бумаги, как бешеный, вылетел из комнаты. Остальные, ошеломленные таким финалом, поднявшись на ноги, столпились около стола и стали обсуждать вопрос о том, в чью же компетенцию входит вопрос о расписании и почему секретарь, избираемый советом, может составлять расписание, а совет не имеет права его обсуждать. В это время вернулся в зал и Б-ский. Пробежавшись но пустым комнатам, он несколько успокоился, вмешался в наш разговор о неудобствах нового расписания и уже не возражал против обсуждения этой темы. П. еще раз попросил Ч-ву изменить его уроки в среду и в случае затруднения ее в этом отношении предложил свои услуги. На этом дело и окончилось.
16 января
Когда утром пришел в гимназию, коллеги встретили меня ошеломляющей новостью: Б-ский послал законоучителю П. официальную бумагу об отречении его от обязанностей и сегодня ищет уже, кем заменить его. В бумаге ссылка на министерский циркуляр от 1903 г., предоставляющий председателю право преподавателей «явно негодных по педагогической несостоятельности» и манкирующих своими обязанностями «после предупреждения» устранять от должности. Ничего подобного в данном случае не было. Священник П. был одним из исправнейших педагогов; притом это человек высокообразованный (единственный в нашем городе священник с высшим образованием) и гуманный. О преподавании его Б-ский почти не имел даже и понятия, т<ак> к<ак> был на его уроке всего один раз, да и то в первом классе. Никаких замечаний ни от Б-ского, ни от предыдущих председателей П. не получал. Таким образом, указанный Б-ским циркуляр сюда совершенно не подходит. Поступок его явно незакономерный, настоящий акт произвола, продиктованный нескрываемым чувством мести. Теперь не смей, значит, не только председателю возражать, но даже его временницам.
Ну и времена!
17 января
Увольнение законоучителя произвело в городе сильное впечатление. Все этим возмущены и осуждают Б-ского. Среди учениц, любивших «батюшку» за его гуманное отношение, началось было брожение. На молитве, где его уже не было, ученицы подняли демонстративный кашель. Некоторые готовы были агитировать и за более активные выступления, но сам П. упросил их успокоиться, т<ак> к<ак> это повредит и им и ему. Теперь хотят зато поднести ему какой-нибудь подарок. Был, например, разговор об этом в V классе, где одна бойкая и умненькая девочка 3. заявила, что если за это будут преследовать учениц, то она возьмет всю вину на себя, и пусть ее исключают. IL, конечно, тоже начал действовать со своей стороны: послал телеграмму и письменное объяснение в округ. В его судьбе приняли горячее участие и другие прикосновенные к гимназии лица: церковный староста послал телеграмму архиерею, а председатель попечительского совета — окружному начальству. Но пока что выяснится, время идет. Занятия по закону Божию прекратились, церковь стоит без священника. Да и удастся ли еще реабилитировать себя пострадавшему? Ведь Б-ский может сочинить о нем что угодно, уволенный же педагог даже не знает, в чем его обвиняют. Невольно позавидуешь настоящим преступникам, которым известен обвинительный акт, которых наказывают только по приговору суда, которые имеют право на защиту. И в таком бесправном положении находятся лица, состоящие на государственной службе; лица, которым вверяется дело воспитания будущих граждан!
19 января
Педагоги ходят как в воду опущенные; пропадает всякая охота работать. И только Б-ский чувствует себя именинником. Такой же франтоватый костюм, полужокейского, полувоенного образца; тот же гордый вид и надменное бритое лицо! Он знает, что по нынешним временам можно делать что угодно, надо только зачислить себя в рать черных патриотов. И он, провоцируя учителей и учениц и нарушая на каждом шагу законы, укрепляет под собой почву, с другой стороны. В последние дни он делает визиты видным здешним «союзникам», откровенно говорит им, что разгонит из гимназии по крайней мере 6 человек педагогов, и все это прикрывает «патриотическими» целями. Да, науку «неофициальной субординации» он вполне постиг! Бесцеремонное же попирание законов тоже одно из лучших средств для создания себе карьеры.
20 января
И с другой стороны тоже удар! Ученицы VI класса, которых уже давно настраивает против меня классная дама В-ва, пожаловались Б-му, что я редко их спрашиваю, вследствие чего ученицы, получившие двойки за письменные работы, часто получают 2 и за четверть; говорили также, что я несправедливо отношусь к Б-вой. Б-ский поэтому сделал мне замечание. Но всего больнее то, что инициаторами в данном случае явились сами ученицы.
21 января
Сегодня пришла подавать прошение о выходе из гимназии ученица VII класса П-на. Это малоразвитая и довольно ленивая девица, поражающая своими нелепыми и безграмотными сочинениями, уже второй год сидит в VII классе. В первое полугодие она опять ничего не делала и получила за обе четверти 2 по словесности. Я советовал ей хотя в это полугодие усиленно заняться; но брать репетитора она не хотела, т<ак> к<ак> родители будут ворчать на такую трату, да притом еще и без всякого ручательства. Сестра же ее (учительница народной школы), с которой я тоже советовал ей позаниматься, сказала мне, что П-на сама не хочет работать. На днях у них вышла семейная сцена из-за ее постоянных гуляний. На попреки родителей она заявила, что совсем не будет учиться, и пришла сегодня с заявлением о выходе. Б-ский же, узнав от своей «наперсницы» В-вой, что П-на выходит «из-за русского языка», велел ей взять заявление назад, сделал мне внушение, что я допустил такую малоподготовленную ученицу до VII класса, и заявил, что он сам будет ее репетировать. П-ной самой это неприятно. «Теперь и все подруги станут смотреть на меня как на ученицу директора», — недовольно говорила она мне. Я лично тоже думаю, что это просто одно из средств подсидеть меня как учителя русского языка. Есть, конечно, тут и желание порисоваться своей добротой. А в общем все это опять весьма неприятно.
22 января
Сегодня Б-ский начал «заниматься» с П-ной. Выпытывал у ней, что мы проходили, какие темы им даны и т.п. Поболтал с полчаса насчет некоторых ее ошибок, ничего не задал, не дал никаких указаний для самостоятельной работы. И все дело этим окончилось. Для исправления П-ной такие уроки, конечно, ничего не дадут. Но для целей Б-ского кое-что дать могут. И притом будет, конечно, опять немало столкновений у меня с ним из-за этой девицы. Теперь придется считаться кроме фавориток из учительниц и с фаворитками из учениц. Этого еще не хватало!
А отношения у меня с Б-ским и так весьма натянутые. Вчера вышло опять столкновение из-за пробных уроков. Всегда подчеркивая, что на этих уроках он не обязан бывать, тут, когда я заявил ему, что будет урок завтра, Б-ский вдруг вломился в амбицию, сказал, что это для него неудобный день и потребовал перенесения урока на послезавтра. Между тем послезавтра у меня уроки начинаются с четвертого, а тут пришлось бы ради пробного приходить еще на первый. Притом и материал, назначенный на завтра, должен был давать еще 4 дня назад, и откладывать его дальше не было возможности. Я изложил Б-скому все это, но он упрямо стоял на своем. На этот раз и я решил не сдаваться. Задал категорически вопрос (в присутствии начальницы и председателя попечительского совета): «Все-таки можно сделать завтра?» — «Как хотите», — буркнул Б-ский, и я решил сделать по-своему. Председатель же, уходя из гимназии, даже не простился со мной несмотря на то, что в прихожей были в это время и учительницы. Наверное, сегодня же вечером напишет на меня донос. А может быть, поступит так же, как с законоучителем. Ведь и его «вина» не больше моей!
25 января
Хорошо еще, что в нынешнем году у меня ладятся отношения с ученицами. Педагогическая практика, наконец, дает о себе знать. Появилась выдержка и известный такт, чего часто не хватало раньше. Теперь даже и замечания делаешь обыкновенно спокойным тоном, не сердишься и при плохих ответах, а это ведет к тому, что и ученицы, получившие плохие баллы, тоже не сердятся на меня. Даже и отношения с VI классом, который жаловался на меня, вполне корректные и с той и с другой стороны. Рассказываю урок я теперь тоже довольно свободно. Неприятно только, что под угрозой нелепых придирок Б-ского и грядущей ревизии приходится обходить при преподавании всякие щекотливые вопросы, хотя от этого страдает научность курса. В VII классе, например, не только пришлось оставить в стороне вопрос о реакционных взглядах Гоголя, отразившихся в его «Переписке с друзьями», и об ответе на эту книгу Белинского (с письмом которого я раньше знакомил учениц), но даже при рассказе о людях 40-х гг. пришлось умолчать о влиянии на них Николаевской реакции. В VIII классе придется умолчать о взглядах Л. Толстого, сложившихся после кризиса 70-х гг., нельзя будет отметить эти взгляды даже по его беллетристическим произведениям (хотя бы по «Воскресению» и «Сказке об Иване Дураке»), от чего само понятие о Толстом будет у моих словесниц, конечно, весьма неполное.
26 января
Наконец-то председатель представил нам для подписи протоколы педагогических советов: у него потребовали их из округа. Протоколы эти копились за целый год начиная с ноября, а теперь он потребовал (через сторожа) немедленно подписать и возвратить их ему, надеясь, очевидно, что мы подпишем не читая. Но когда мы стали просматривать их, то оказалось, что самозванный секретарь Ч-ва, инспирированная своим покровителем, так тенденциозно составила протоколы, что к каждому из них пришлось прилагать «особые мнения». В первом протоколе писали возражения на неправильные выборы секретаря. Потом шел протокол заседания о поднятии грамотности; здесь было уменьшено число даваемых мною письменных работ и не сказано о принимаемых мной для поднятия грамотности мерах. В протоколе о выписке журналов были упомянуты только журналы, одобренные Б-ским; о решении же совета выписать целый ряд других журналов (в том числе педагогические, и даже такие, как «Педагогический сборник» и «Церковные ведомости»), принятом единогласно, даже и не упомянуто. Протокол, излагавший вопрос о репетициях, тоже делал передержки, чтобы показать, что я возражал председателю. Следующий протокол (об исключении А.) начинался с курьезного изложения всех непорядков, замеченных председателем в гостинице: беспатентной продажи вина, посещения гостиницы женщинами, неправильного составления счетов и даже того, что гостиница ближе чем на 40 сажен от церкви. При изложении же самого дела А. Б-ский благоразумно умолчал о том, что видел ее в гостинице еще в первый день своего приезда туда, но никаких предупредительных педагогических мер не принял, не сказал об этом даже начальнице, а занялся слежкой с целью «накрыть» (выражение протокола), как настоящий провокатор. В заключение же приводится не только постановление об увольнении А., но еще и другое, которого вовсе не было, будто бы мы постановили ходатайствовать перед губернатором о закрытии гостиницы. Но мы опять написали возражение, указав, что такие вопросы в компетенции педагогического совета не входят. Но всего тенденциознее оказался протокол. Сначала здесь излагался вопрос о праздновании юбилея, причем отмечалось, что законоучитель возражал против речи кого-либо из учащих, говоря, что по циркуляру должны читать учащиеся; подчеркивалось далее, что историчка отказалась читать юбилейную речь (ссылаясь на нездоровье), что отказался и я (хотя я вовсе не историк); но умалчивалось опять о том, что отказался и сам председатель (бывший раньше учителем истории), ссылаясь на то, что он будто бы «косноязычен». Потом шло изложение инцидента с расписанием уроков, освещенного тоже тенденциозно (будто бы законоучитель сказал, что при таких условиях «не может» посещать молитву). На все это нам пришлось возражать и прилагать «особые мнения», где вскрывалась (хотя и весьма осторожно) истинная подоплека дела. Не писала «особых мнений», конечно, только составлявшая протоколы Ч-ва; из остальных же, как и следовало ожидать, оказалась во всем согласной с ними и не имеющей никаких особых мнений классная дама В-ва. Прочие же коллеги выступили против этого триумвирата с замечательным единодушием. Общий гнет сблизил всех нас, и эти добрые товарищеские отношения, которые теперь воцарились среди нашего персонала, весьма скрашивают наше неприглядное житье.
На нашей улице праздник
29 января
Наконец, и на нашей улице праздник!
Законоучитель П. получил от Б-ского бумагу о том, что управляющий округом отменил его распоряжение об увольнении П. Сегодня ни Б-ского, ни Ч-вой в гимназии не было. И у нас царило праздничное настроение. И педагогический персонал, и ученицы были радостно настроены. П. сегодня был уже и на молитве, и в классах; и классным дамам приходилось только предупреждать учениц, чтобы они не устроили каких-нибудь оваций своему «батюшке». Справедливость на этот раз восторжествовала, но не оттого ли только, что Б-ский слишком уж зарвался в надежде на «неофициальную субординацию»? Возможно влияние здесь и той счастливой случайности, что попечитель округа теперь в Петербурге, а за него решал это дело окружной инспектор П-в, семидесятилетний педагог старого закала, чуждый либерализма, но прямой и справедливый, привыкший смотреть на дело не с полицейской, а с педагогической точки зрения и не смешивающий педагогику (как принято теперь) с политикой. Во всяком случае для Б-ского это хорошая «оплеуха».
31 января
Еще некоторые штрихи для характеристики нашего председателя. Числа 12 января он вдруг вызвал к себе опекуна одной из семиклассниц Б-вой. «Говорят, что я ухаживаю за ученицей Б-вой, целую у нее ручки и т.п. Говорят также, будто я хожу в уборную гимназисток. Эти слухи распространяются, как я подозреваю, некоторыми лицами, близкими к гимназии (потому что где же посторонним это знать?), вероятно, из зависти ко мне…» Такова была неожиданная речь председателя к человеку почти незнакомому. И тот сам теперь недоумевает, к чему Б-ский вызывал его. Разве только для того, чтобы тот как опекун принял против него соответствующие меры? Но тогда к чему же рассказ о девичьей уборной?
Узнал и еще подробность — о том, как чиновники отпрашивали гимназисток на свой вечер. Когда после отказа начальницы (основывавшейся на циркуляре), пришли к Б-скому, тот — в пику начальнице — согласился; тут же написал к ней официальную бумагу в строгом тоне, приказывая отпустить учениц; а в заключение дал эту бумагу прочесть совершенно незнакомым ему чиновникам, задав вопрос: «Что? Хорошо так будет?» Положительно, этот человек «без царя в голове! А «хмель власти» и окончательно вскружил ему голову.
Теперь, у меня в полном ходу пробные уроки моих «словесниц» по специальности. Но Б-ский, видимо, поглощенный «высшей политикой», не обращает на них никакого внимания. Из шести уроков он был только на одном. Да и то проявил себя только новой бестактностью. В середине урока он вдруг сорвался с места и устремился к дверям. Урок прервался. Ученицы вскочили на ноги. И что же оказалось? Сидя за уроком, он следил в окно за тем, что делается во дворе гимназии. Заметил там какие-то непорядки (кажется, одна из учениц скатилась, стоя на коленях) и, ни на что не обращая внимания «в состоянии запальчивости и раздражения», прервал урок, побежал во двор и раскричался на катавшихся там учениц.
6 февраля
Сегодня на пробном уроке в приготовительном классе во время перерыва пели «Буря мглою небо кроет». Стихотворение это полностью помещено в употребляющейся в этом классе хрестоматии Тихомирова «Вешние воды», и девочки так и пропели его. Но председатель взбеленился на это. Ему показалось неудобным (а может быть и намек нашел!) печь: «Выпьем, добрая подружка!» И результаты из этого получились самые неожиданные: не только пение этой песни, но даже и вообще пение за уроками в приготовительном классе, мало того — даже и самые перерывы (необходимые — при часовых уроках — для отдыха детей) им запрещены. Когда я попросил объяснений, то он не нашелся ничего сказать, кроме совершенно нелепой фразы: «Здесь министерская, а не частная гимназия. А разве указано в каких-нибудь министерских правилах об этих перерывах?» На этот довод, достойный унтера Пришибеева («Разве в законе где писано, чтобы народ табуном ходил?»), я начал было возражать, ссылаясь на данные дидактики и педагогики; но Б-ский не пожелал и слушать, повернулся и пошел, не останавливаясь, хотя я настойчиво шел за ним и продолжал говорить. Наконец, я категорически поставил ему вопрос: «Можно или нет устраивать перерывы?» «Это дело мое и начальницы», — отрезал Б-ский. «Но ведь я являюсь руководителем практических уроков. И кто же будет в ответе, если они теперь пойдут плохо? Неужели же мое мнение не имеет никакого значения?» — «Вы тут ни при чем», — ответил председатель. После чего я, раздосадованный, прервал с ним всякие дальнейшие рассуждения.
Надо было идти на урок словесности в VIII классе. Настроение было самое скверное. А тут еще перед этим разговором Б-ский только что осведомился, что мы будем сегодня делать; поэтому можно было ждать его на урок. А мы как раз начали читать сказку Л. Толстого об Иване Дураке, где в сказочной форме так хорошо отразились его взгляды. Читать это при Б-ском было бы невозможно. Поэтому я предупредил учениц о возможном приходе председателя и начал их спрашивать. Мое настроение передалось и классу. Было крайне тягостное и напряженное состояние. Наконец, мы решили, что Б-ский не придет. Снова была вытащена сказка. Принялись за чтение. Настроение у всех сразу поднялось. Послышался смех. Мысль заработала. И даже мое настроение, созданное выходкой Б-ского, постепенно рассеялось.
Хорошо еще, что с нынешним VIII классом так легко ладить. Это много облегчает нынешний тяжелый год. Правда, случаются и здесь неприятности, но они скоропреходящи и разрешаются благополучно, не оставляя дурных следов на наших отношениях.
Недавно оскандалились восьмиклассницы на методике арифметики. Шло решение задач, и некоторые из них не в состоянии были решить даже простых задач на пропорциональное деление (из курса начальной школы), вернее, просто не хотели пошевелить мозгами, а другие даже не слушали их разбора. Я рассердился и поставил особенно отличившимся три единицы. Но на следующий день мы занимались уже как ни в чем не бывало. Некоторые из них порядочные «дурилы», но все это просто ребячество, и я останавливаю их самым добродушным тоном; иногда что-нибудь состришь на их счет, иногда сам не удержишься и рассмеешься их шалостям. На днях, когда двое из них «разболтались» на словесности, я опять несколько рассердился и пригрозил одной из них единицей за непослушание. После урока же подошла ко мне ее подруга К-р и попросила, чтобы я ей поставил единицу, так как ту ученицу насмешила она. Я рассмеялся и сказал, что ни той, ни другой ничего не поставлю.
8 февраля
С утра в гимназии начались неприятности. На пробном уроке, подчиняясь нелепому предписанию председателя, занимались без отдыха. Заставили учениц только 2 раза встать и сесть. Приготовишки совершенно не отдохнули, и во вторую половину урока было жалко смотреть на них: такой утомленный вид был у них. Урок пошел вяло, соображать ученицы не могли, ошибались в самых простых задачах, руки уже не подымались, как раньше. Да и не мудрено! Разве могут без отдыха заниматься арифметикой целый час такие малыши? Председатель, правда, вчера снизошел и сказал, что перерыв делать можно, но во время перерыва он не позволил устраивать пения (которое так оживляет детей), а велел заставить детей постоять минут пять ничего не делая. Что же, спрашивается, это за отдых? И в каких методичках или циркулярах нашел он, что ничем не занятое время, соединенное с сидением на месте, составляет полезное времяпрепровождение? Таких теоретических возражений не только я, а даже любая восьмиклассница могла бы привести сколько угодно. На практике же приходится делать как раз наоборот. И смотря на то, как идет при таких условиях урок, невольно проникаешься чувством раздражения и досады. А тут и еще сюрпризы. Недавно председатель брал себе на просмотр письменные работы учениц младших классов, и когда выдал их обратно, то оказалось, что рядом с баллами учительницы он наставил своих баллов, и все ниже, чем у нее. Насколько справедлива его оценка, я не знаю, но самая форма, в какой он выразил свое несогласие с оценкой учительницы, опять-таки унизительна для нее и бьет на то, чтобы подорвать ее авторитет в глазах учениц.
Под влиянием таких впечатлений пошел я и на свой урок в VI классе. Вчера им были розданы классные сочинения, за которые почти половине учениц были поставлены неудовлетворительные баллы (почти все из-за орфографии, которая в этом классе феноменально слаба). К сегодняшнему уроку они должны были исправить все свои ошибки и объяснить каждый такой случай соответствующими правилами. Но при начале же урока одна из них самоуверенно заявила, что она не исправляла, потому что не знала, что это задано (хотя и была тогда в классе). Отговорка была совершенно неосновательная, если не сказать — нахальная, и я поставил этой девице единицу. Когда же вызвал другую ученицу Р-ву и попросил ее объяснить свои ошибки, то она запуталась в самом простом случае («ь» в неопределенном наклонении), а когда я стал давать наводящие вопросы, то она разобрала неопределенное наклонение как повелительное. «Хорошо же вы подготовились», — сказал я и, посадив Р-ву, поставил ей тоже единицу, раздосадованный её небрежным отношением к делу. Р-ва начала плакать, потом этот плач перешел в истерику, она убежала в коридор и там со слезами причитала, что я потому к ней так отношусь, что она некрасивая. Это уж была явная клевета, т<ак> к<ак> при оценке познаний учениц их наружность и мое личное отношение к ним не сказывается. Примеров этому можно найти сколько угодно в этом же классе. Но разнервничавшаяся девица искала, чем бы уязвить меня, чтобы свалить с больной головы на здоровую. Общее же настроение в классе, создавшееся еще с прошлого года благодаря классной даме В-вой и направленное против меня, способствовало появлению такой идеи. Раз я плох и несправедлив, то почему не приписать мне и это? И хотя я осознавал, что это ложь, но настроение было уже испорчено. В самом деле, пусть это клевета, но если у учениц могут появляться такие упреки по моему адресу, то имею ли право я заниматься с ними?
9 февраля
Приходила в гимназию мать Р-вой и вызывала меня. Дочь ее после вчерашней истерики нездорова и не пошла в класс. Моя единица произвела на нее такое впечатление оттого, что у нее уже за две четверти были двойки, и двойка за эту четверть обозначала бы для нее двойку годовую, т. е. осеннюю переэкзаменовку. Теперь мать спрашивала, в чем слаба ее дочь, чтобы нанять ей репетитора. Когда я сказал, что у нее слабы письменные работы и притом, по-моему, она приленивается, г-жа Р-ва согласилась, что русский язык у нее страдает еще с младших классов; насчет лени же сказала, что в этом отношении тоже за нее не ручается. Я посоветовал заняться с ней если не репетитору, то хотя бы «домашними средствами»; но мать возразила, что отец — нервный человек и сам заниматься с дочерью не может. На приглашение же репетитора она согласилась. Но характерно то, что подумали об этом только под угрозой оставления на второй год; раньше же, хотя и замечали слабость своей дочери, никаких мер не принимали.
Вчера на попечительском совете обсуждался вопрос о прибавке жалования учительнице немецкого языка — вместо 40 р. за урок до 50 (учительница французского языка получает 50 р., а сам председатель, не получивший специальной подготовки, получает за свои уроки французского 60 р.). Средства находились. Но председатель Б-ский воспротивился этому, мотивируя тем, что против этой учительницы он нечто имеет. Его поддержал один купчина, но с другой — «принципиальной» точки зрения: прибавь одной, и другие запросят. Однако большинство высказалось за прибавку. Но бедная «немочка» (она служит еще первый год), узнав об этой унизительной процедуре, горько плакала от незаслуженной обиды.
12 февраля
Опять рассердился в злосчастном VI классе. Старался выяснить значение Гамлета как представителя эпохи Возрождения; но ученицы, оказывается, забыли все и о самой эпохе, о чем и я им говорил, и по истории недавно окончили; относили эпоху Возрождения к XIX в., говорили, что на творчество Шекспира повлияли походы Александра I и т.п. Я переспросил больше десятой человек, и почти каждую после нескольких нелепых ответов пришлось посадить. Одна из посаженных таким образом с плачем убежала из класса, и ее рыдания долго доносились из коридора, нервируя и меня, и учениц. Но я на этот раз воздержался и ни одного неудовлетворительного балла ученицам не поставил, ограничившись только раздражительной нотацией.
В VIII классе на днях девицы устроили почти поголовный отказ, т<ак> к<ак> было задано по учебнику, а они по методике русского языка отвыкли уже готовить уроки, т<ак> к<ак> обыкновенно все нарабатывается в классе. Могло выйти вроде прошлогодней истории с единицами. Но я на этот раз совсем не стал спрашивать и весь урок знакомил их с книгами «Развитие речи», заявив, однако, что в следующий раз отказов принимать не буду. Сегодня осердили было меня и словесницы, которые очень слабо усвоили заданные им стихотворения Некрасова. Я, раздосадованный их ответами, посадил уже несколько человек. Но тогда одна из них заметила мне: «Вы ведь каждый год это проходите, а мы еще в первый раз». Это справедливое замечание обезоружило меня. Надо, действительно, считаться с этим и быть поснисходительней.
Неожиданно пришло известие, что г. Л-ский утвержден председателем родительского комитета, тогда как немного раньше было сообщено, что он (очевидно за инцидент с Н-вым) не утверждается. Очевидно, такой перемене способствовало личное свидание г. Л. с попечителем округа. Как бы то ни было, в гимназической жизни теперь будет новый фактор. Как-то он проявит себя?
13 февраля
Сегодня был в гимназии и присутствовал на некоторых уроках председатель родительского комитета Л-ский. Педагоги встретили его очень радушно. Чувствовалось, что на этот раз мы союзники. Б-ский своим гнетом объединил нас. А когда несколько лет назад тот же Л-ский был председателем родительского комитета, то отношение педагогов к нему и к родительскому комитету было далеко не такое. Л-ский посещал уроки, на заседаниях родительского комитета наводил критику на нас; а мы, слыша об этом из частных источников, не имели средств защитить себя, хотя родители и не всегда были правы. Перед объединенными и сравнительно независимыми родителями мы стояли разрозненные и бесправные, не объединенные ни в какую профессиональную организацию. Походило на то, что мы (связанные по рукам и ногам разными циркулярами и порядками — лежим перед ними, а они, стоя над нами, наводят критику, что мы не так лежим, что это нехорошо и т. д.
Вечером проверял работы VII класса. Писали о Рудине и Агарине. Сочинения домашние, т. е. большие. И проверка их идет очень медленно. А тут еще кроме проверки правильности содержания, стиля и орфографии приходится проверять с точки зрения благонадежности, притом благонадежности даже не полицейской (с этой точки зрения благополучно), а еще более строгой — школьно-педагогической. Попадаются, например, фразы вроде «жестокое подавление восстания декабристов», «общественная мысль 40-х годов, стесненная строгой цензурой», «наступила реакция», когда «Николай I держал все общество в стеснительном положении» и т.п. С научной точки зрения все это верно, непредосудительно даже с полицейской точки зрения; но как педагог, памятуя, что все ото может попасть к начальству и быть поставлено мне в счет, я должен делать на полях строгие окрики и зачеркивать все такие места, как будто бы не соглашаясь с ними. А тут, как назло, Б-ский вчера специально вызывал меня к себе, чтобы потребовать представления ему этих работ сразу после проверки и еще до выдачи их ученицам. Хочет, наверно, опять повыкапывать что-нибудь ради своих доносительных целей. А в доносах своих он способен воспользоваться даже и не такими еще вещами. Начальница как-то написала на адресе попечителю: «Его Высокопревосходительству», вместо «Его Превосходительству». Б-ский заметил, что она не по чину взвеличала его. «Ну что ж?» — отвечала та: «Маслом каши не испортишь!» И что же оказывается? Б-ский не преминул донести в округ в официальной бумаге о таком якобы непочтительном выражении начальницы. Если же дело касается политики, тут уж надо вовсе ухо остро держать. А то того и гляди слетишь! Правда, не очень лестно и служить-то при таких условиях.
В материальном отношении можно и без казенного места заработать эту сотню рублей частными уроками. Даже некоторые из моих учениц, только окончившие гимназию, получают не меньше от частных уроков; а бывшие реалисты, попавшие, например, в топографы, получают уже и более моего. Одного только будет жаль — это общения с молодежью и возможности так или иначе воздействовать на нее. При той централизации школьного дела, какая царит у нас, педагог, выброшенный из казенной школы, принужден совсем бросить любимое дело или заниматься им только в теории. Куда же денешься при таких условиях? Где у нас свободные от правительственной опеки школы? И придется ради заработка хоть в акциз идти!
15 февраля
Вечером Б-ский созвал педагогический совет для обсуждения, как он выразился в повестке, «вопроса о текущих делах». Собственно очередными вопросами были: программа празднования юбилея и обсуждение текста всеподданнейшей телеграммы. Но в начале заседания Б-ский заявил, что самозванный секретарь Ч-ва отказалась от должности, очевидно, в ожидании того, что окружное начальство, получив ее протоколы, может ей «разъяснить». Поднялся вопрос о выборе нового секретаря. Я и председатель родительского комитета Л-ский, присутствовавший еще в первый раз на заседании, стали говорить, что всего лучше сначала записками наметить кандидатов, а потом тех из намеченных, кто пожелает, подвергнуть баллотировке. Б-ский же воспротивился этому и стал настаивать, чтобы желающие занять эту должность сами заявили о том. Мы говорили, что это неудобно, т<ак> к<ак> здесь важно, кого почтят своим избранием другие, сам же напрашиваться на эту честь едва ли кто пожелает. Приводили в пример практику всех других учреждений с выборными должностями, например, выборы в Государственную Думу, избрание ее президиума, наконец, выборы родительского комитета. Но на Б-ского, по обыкновению, никакие доводы не действовали. Противодействие еще больше разожгло его упрямство, и он, что называется, «закусил удила». Вместо предложенного нами списка он стал опрашивать каждого из присутствующих, не желает ли он быть секретарем. В результате, как и следовало ожидать, никто не проявил желания. Наступило томительное молчание. Наконец, некоторые члены совета, ввиду неотложности вопросов, связанных с юбилеем, предложили устроить заседание хотя с временным секретарем. Но Б-й, несмотря на мое предложение, не ставил этого вопроса на голосование, и мы опять молчали. Снова стали толковать о способе избрания, хотя бы и временного секретаря. Б-й все время твердил, что в его практике такого способа не встречалось. А когда ему приводили примеры из практики здешних гимназий, он не обращал на ото внимания. Зашла речь и об избрании Ч-вой, причем я сказал, что тут законного избрания не было; начальница поддержала меня. Тогда и Б-ский сознался, что он — по малоопытности — мог и ошибиться: но почему же ему другие не указали на ото? Но теперь, обнаруживая ту же неопытность, он не хотел никого слушать, а стоял на своем. Пока не прийдет из округа специального разрешения этого способа, до сих пор он не позволит его употреблять, — заявил Б-ский. Мы стали настаивать хотя на избрании временного секретаря и стали уже уговаривать прежнего секретаря К-ву. «Много чести!» — отпалил Б-ский. К-ва, услышав это, кажется, отказалась. Из остальных тоже никто не пожелал секретарствовать. Снова водворилось молчание. «Прошло уже полчаса», — заявил Б-й и объявил заседание закрытым. Таким образом, благодаря поведению председателя деятельность педагогического совета приостановилась на неопределенное время, и вопросы, подлежавшие его обсуждению, будут, очевидно, решаться «в административном порядке», т. е. властью председателя. Такой финал ошеломил всех присутствующих. Особенно был возмущен председатель родительского комитета, который впервые воочию увидел наши порядки и обращение Б-ского с педагогами.
Обыск в библиотеке
16 февраля
После вчерашней истории я долго не мог уснуть и пошел в гимназию с тяжелой головой. А там ждали новые неприятности. Б-ский сегодня, что называется, «рвет и мечет». Когда учительница математики сообщила ему, что устраивает пробный урок в понедельник, он сказал, что это для него неудобно, и, не обращая внимания на ее возражения, заявил, что он как начальник учебного заведения переносит этот урок на Великий пост. Дальше началось уже нечто анекдотическое. В перемену он был с начальницей в кабинете. Когда же она ушла на люк, он вдруг пишет ей две официальные бумаги за номерами и посылает из кабинета со сторожем и разносной картой в класс, где она занималась. В одной бумаге он потребовал, чтобы она представила ему список стихотворений, разученных для юбилейного акта; а в другой, что у царского портрета «поломалась Корона и рама облезлая», а потому он предлагает ей «исправить Портрет в отношении Короны и позолоты в 24 часа» (буквально!) и следить, сверх того, за тем, чтобы царские портреты висели всегда прямо. Не успели мы еще очувствоваться от этого, как пришло новое известие. Б-ский не пошел на свой урок, а вместо этого потребовал у библиотекарши ключи и вдвоем с классной дамой Б-вой произвел в библиотеке обыск и «выемку», захватив несколько книг. Когда уроки подходили уже к концу, библиотекарша (та самая К-ва, которую мы намечали вчера в секретари) получила от Б-ского официальную бумагу с запросом, какие меры принимались ею для недопущения в библиотеку «тенденциозных изданий левого направления», и если таких мер не принималось, то пусть она «уничтожит» все такие книги, находящиеся в библиотеке, и представит ему их список. Библиотекарша, видя в этом акт личной мести Б-ского за вчерашнее, не знала, что и делать, т<ак> к<ак> допущение или недопущение книг в библиотеку в ее компетенцию вовсе не входит; уничтожать же гимназическое имущество она тоже не имеет права, тем более что и определение книг «тенденциозно левых» дело субъективного вкуса; а она с содержанием большинства книг даже и не знакома. Пока мы «судили и рядили», явился сторож, посланный председателем из его квартиры со словесным приказанием начальницы: немедленно опечатать библиотечные шкафы (ключ уже и так был у председателя) и, затворив вход в библиотечную комнату, представить ему этот ключ. Это распоряжение, по существу глубоко возмутительное и нелепое, шло, сверх того, вразрез с его официальной бумагой библиотекарше: притом и передано было, несмотря на всю свою важность, через швейцара. Поэтому начальница отказалась исполнять его и потребовала в свою очередь, чтобы Б-ский прислал ей официальную бумагу. Долго велись такие переговоры (все через того же сторожа). Наконец, Б-ский перестал требовать опечатания библиотеки, не возвратив, однако, ключа от шкафов. Собирается, значит, сам снова устроить обыск. Не пригласит ли еще для содействия жандармерию? А может быть, сам же и подбросит что-нибудь для уличения нас в крамоле. От такого субъекта всего можно ожидать!
17 февраля
В последнем полученном здесь номере «Русского знамени» оказалась статья, посвященная здешним педагогическим делам. Директор реального училища и председатель частной гимназии обвиняются в крамольности, а наш Б-ский и директор мужской гимназии Н-в восхваляются как борцы с ней. «Дурак дурака видит издалека»!
18 февраля
Сегодня, увидевшись с Б-ским, библиотекарша К-ва попросила у него объяснений, на каком основании он спрашивает, принимала ли она меры к изъятию из библиотеки книг, когда сам раньше ничего подобного не поручал ей, хотя состав книг был ему известен (каталоги он брал еще в начале года). Б-ский не удостоил ее никакими объяснениями и только иронически улыбался. Третьего дня, оказывается, производя обыск и выемку из библиотеки, он составил даже об этом протокол, который и подписали присутствовавшие при этом: председатель педагогического совета, классная дама Б-ва и… швейцар. Начальница же гимназии не была даже извещена об этом, хотя была тоже в гимназии. Теперь ключ от шкафов у Б-ского, а от двери самой библиотеки — у начальницы. Сегодня Б-ский потребовал отдать ему этот ключ; но начальница вызвала председателя попечительского совета (как заведующего имуществом гимназии) и предложила Б-скому войти в библиотеку вместе с ними и библиотекаршей. Туда же забралась и его «сотрудница» В-ва. Тогда Б-ский предложил начальнице, библиотекарше и председателю попечительского совета удалиться и оставить их в библиотеке вдвоем с В-вой. Те категорически отказались, опасаясь, (и вполне основательно), что Б-ский и В-ва намереваются что-нибудь подбросить в библиотеку как настоящие провокаторы. Б-ский и В-ва в свою очередь не согласились «работать» в присутствии «посторонних» и демонстративно удалились из библиотеки, а начальница заперла дверь на замок. Таким образом, теперь не только перестал функционировать педагогический совет, но закрыта и библиотека — ученицы сидят без книг.
19 февраля
Все эти неприятности, которые приходится ныне выносить, отозвались, наконец, и на моих нервах. Началось сердцебиение (очевидно на нервной почве), по ночам бывает бессонница. А тут вместо масленичного отдыха приходится целыми почти днями сидеть за письменными работами, которых скопились целые кучи. Вот работа V класса: «Характеры крестьянских мальчиков по «Бежину лугу»»; вот сочинение VI класса: «Гамлет и Дон Кихот как вечные человеческие типы»; семиклассницы писали: «Рудин и Агарин»; а от восьмиклассниц (словесниц) получил «Левин и Толстой», есть еще и вторая классная работа VII класса «Обломов как общественный тип», а от VIII класса (всего) классная работа по методике русского языка. И все это надо проверить до первой недели поста (25 февраля), т<ак> к<ак> там будет еще одна работа в VIII классе, а там уже близок (1 марта) и конец четверти. Правда, самые работы отвращения во мне не вызывают. Можно бы даже с интересом следить за ходом умственного развития учениц, сказывающимся в их сочинениях. Но выправка орфографии, портящей их сочинения и отнимающая у меня столько времени, — это больное место. Да и очень уж много письменных работ. По 40 работ в каждом классе (кроме VIII). 40 сочинений по листу, а то и по два; да при каждом из них исправление предыдущего, иногда не уступающее по размерам самому сочинению.
С интересом просмотрел домашнее сочинение семиклассницы П-ной, которую облагодетельствовал Б-ский своим репетированием. И что же оказалось? Это сочинение, которое он просматривал в черновике, оказалось значительно хуже предыдущего. Число орфографических и стилистических ошибок увеличилось вдвое, и вместо 5 (как было за предыдущее) пришлось поставить 2–. Вот взбеленится-то мой патрон! Но удивительного в этом ничего нет. Девица обнадежилась на его «высокую» поддержку и отнеслась к работе более небрежно, а от занятий с Б-ским, конечно, никакого толку получиться не могло. Вместо того чтобы усиленно заняться с каким-нибудь настоящим репетитором, по несколько часов в день (как я ей советовал, и то без ручательства за успех, т<ак> к<ак> дела у ней очень уж запущены), она ограничивается теперь двумя получасовыми уроками в неделю и находит, что, занимаясь с «самим» председателем, больше ни в чем не нуждается. Да и что он дельного может ей преподать, когда сам даже в официальных бумагах делает грубые ошибки! Переносит, например, «распределить». Слова «корона», «портрет» (царский) и даже местоимения, относящиеся к ним, пишет с большой буквы; а фамилию «Романовы» — с маленькой. Стиль тоже не из образцовых: «исправить в отношении короны», «для обсуждения вопроса о текущих делах» и т.п. И такой-то «грамотей» является учителем не только русского языка, а и всех других предметов, с которыми знаком еще меньше.
20 февраля
По министерскому циркуляру сегодня вечером после всенощной должна быть панихида. По постановлению нашего совета, одобренному и председателем (на основании синодского циркуляра), решено вместо уроков отслужить часы и после них панихиду. Сделали же не так и не этак, а так, как вздумалось вдруг Б-скому. С утра устроили уроки, а в 12 ч., т.е. без всякого перерыва после них, — панихиду. В результате голодным и утомленным ученицам пришлось, вместо завтрака и отдыха (обычно в это время большая перемена), стоять в переполненной до духоты церкви, дышать ладаном и слушать похоронные мотивы, и без того сильно действующие на нервных девиц. Немудрено поэтому, что во время панихиды начались истерики. То и дело выводили из церкви рыдающих девиц (по крайней мере человек 10), а одну, упавшую в обморок, как покойницу еле вытащили из церкви вчетвером или впятером. Таким образом, вместо патриотического торжества получилось благодаря самодурству председателя какое-то «избиение младенцев», которое, наверно, расстроило учениц на весь день.
Так же «разумно» он проявил свою самостоятельность и в составлении программы завтрашнего акта. Мною было выбрано 10 стихотворений из царствования разных Романовых начиная со Смутного времени и кончая Александром II. Стихотворения были расположены мною в хронологическом порядке, чтобы получилась, по возможности, цельная картина постепенного развития России за 300 лет. Но Б-скому хотелось проявить свое творчество. И он проявил его так же удачно, как и всегда. А именно, перетасовал все стихотворения в самом фантастическом порядке, и теперь в официальной бумаге на имя начальницы безапелляционно предлагает нам эту программу к исполнению. По этой программе («на удивление Европы»!) сначала будет фигурировать Петр Великий, потом Иван Сусанин, за ним непосредственно Александр II, а потом осада Троицкой лавры поляками; дальше идет Николай I, а за ним снова появляется Петр Великий. И знает же, должно быть, наш начальник и историю, и литературу! А какой сумбур должен получиться от такой «хронологии» в головах учениц! «Зато, по крайней мере, оригинально; не так, как у каких-то там историков!
21 февраля
Вот, наконец, и юбилейный акт. Полный зал гимназисток в белых фартуках. В первом ряду педагоги и гости; члены попечительского совета и родительского комитета (последних пригласила начальница, несмотря на нежелание председателя). На эстраде за пюпитром надменная фигура Б-ского. Форменный сюртук, белый жилет и закинутое кверху бритое лицо с презрительной миной. Ни поклона, ни приветствия собравшимся. Начинается речь. Но о чем она? Об опере Глинки: «Жизнь за царя». Через несколько фраз он обрывает и повелительным жестом обращается к хору. Те должны были, продолжая его фразу, запеть: «В бурю, в грозу», — что, по его словам, имеет такой глубокий смысл. Но хор зазевался. Б-ский гримасничает, как настоящий неврастеник; пожимает плечами, разводит руками, одним словом, показывает себя перед всей честной публикой как человека, совершенно не умеющего владеть собой. После пения он говорит о начале династии Романовых. Опять цитирует свой любимый источник — либретто «Жизни за царя», которой ученицы, ни разу не видавшие оперы, совершенно не знают; а потому его цитаты вроде: «Чуют правду», остаются непонятными. Дальше — обзор следующих царствований, но обзор очень поверхностный. С особенной подробностью останавливается он только на реакционных царствованиях Николая I и Александра III. А, говоря о теперешнем царствовании, ни словом не упоминает о манифесте 12 октября и о I Государственной Думе. Кончив речь, он стремительно удаляется из залы. Все в недоумении. Не знают, то ли кончен акт, то ли нет; сразу ли продолжать дальше или сделать перерыв, т<ак> к<ак> программа составлена им одним и в детали ее никто не посвящен. Начальнице пришлось бежать за ним вниз. И через несколько времени удалось снова привести его в зал и водворить на место. Акт продолжился. Пошло чтение перепутанных Б-ским стихотворений. Читали в общем ладно. Но вся эта история оставила неприятный осадок. (Закончился акт раздачей Б-ским книжек издания Союза Михаила Архангела, выписанных по рекомендации Министерства и по настоянию председателя.)
Кстати, сегодня в здешней газете опять есть статья про нашего председателя под названием: «Маньяк», где его поступки ставятся в параллель с деятельностью судебного следователя Лежина и задается вопрос о состоянии его умственных способностей. Один из знакомых докторов тоже считает, что — по его впечатлению — это несомненно параноик. Так это или нет, ненормален наш патрон или просто самодур — для нас, педагогов, его подчиненных, все равно не легче.
23 февраля
Восьмиклассницы решили устроить на масленице традиционный «прощальный» вечер. Но когда попросили о разрешении Б-ского, тот категорически запретил. Потом, через несколько дней, сам вызвал к себе восьмиклассниц и объявил, что он запрещает только «прощальный» вечер, но «танцевальный» может разрешить. Что он опасного усмотрел в слове «прощальный», один Аллах ведает. И чем отличается разрешенный им «танцевальный» от «прощального», тоже никому неизвестно. Когда на устройство этого вечера предложили Б-скому подписной лист, он ни гроша не пожертвовал. А вчера, когда состоялся вечер, он не соблаговолил прийти на него (так же, как и на первый вечер, бывший на святках), хотя на нем были и председатель попечительского совета, и председатель родительского комитета, и начальники других учебных заведений. Зато благодаря его отсутствию дышалось вольнее. Восьмиклассницы выступали в роли любезных хозяек, а мы, педагоги, были гостями. Классы преобразились в столовые и гостиные. И гимназия стала гораздо уютнее. Одна восьмиклассница в разговоре со мной передала, между прочим, свои впечатления от розданных им на юбилее книжек. Ее удивляли, например, помещенные тут рассуждения о декабристах как о каких-то изуверах рода человеческого и т. д. Вообще книжки, оказывается, крайне тенденциозные. В них, например, доказывается необходимость неограниченного самодержавия, хотя бы ради этого пришлось даже пожертвовать половиной теперешней России.
Недурен патриотизм!
28 февраля
Вчера вечером было заседание родительского комитета. Председатель его, делая приглашения в газетах, писал, что присутствовать с правом совещательного голоса могут все родители и опекуны учениц. Можно было ждать, что — ввиду странных порядков, водворившихся в нашей гимназии, — родители в большом числе явятся на это собрание. Что нее оказалось? Из всех родителей, не состоящих в комитете, пришел… только один. Чем это объяснить: или какой-то, чисто заячьей трусостью, или полным индифферентизмом? Да и собравшиеся на заседании члены комитета вели себя как напроказившие школьники. Узнав о том, какую роль играет теперь гимназический швейцар, они опасливо выглядывали за дверь — не подслушивает ли он их рассуждения. Какой же активной защиты своих целей можно ждать от таких родителей? На какую поддержку с их стороны могут рассчитывать и педагоги, которые, подвергаясь гораздо большему риску, все-таки по мере сил борются за нормальную школьную жизнь?
Б-ский, на днях взявший у меня сочинения восьмиклассниц, сегодня вернул мне их обратно. Несколько штук из них он просмотрел и вдобавок к моим — наставил своих баллов. Но как расценил он их! Вместо одной моей 5–, он поставил 2+; вместо другой — 3+; вместо 3+ поставил тоже 2+. Но зато прибавил на целую единицу той самой П-вой, с которой он сам занимается. Вместо единицы, у нее оказалось 2–; вместо 2–, которые я поставил за сочинение, проверенное (по словам ученицы) им самим, поставлено 3–. «Беспристрастие» прямо бьющее в глаза! Не доставало даже такту воздержаться от оценки этих сочинений и особенно того, которое сам же предварительно проверял! И теперь все эти сочинения с двойными баллами, до такой степени различными, должны пойти на руки к ученицам. Как же они должны будут смотреть на это расхождение двух педагогов? Одно из двух: или он или я ничего не смыслим в литературе, или он или я относимся пристрастно к ученицам. И притом у Б-ского даже нет и никакого формального права так бесцеремонно вмешиваться в оценку ученических работ! Мог бы он еще сделать мне указания на неправильность моей оценки, но, разумеется, только при веских основаниях к атому. Б-ский же без всякой мотивировки наставил своих ни с чем не сообразных отметок и, не считая нужным объясняться об этом с преподавателем, вмешивает теперь в эту историю учениц, подавая им повод к всевозможным толкам и делая их как бы судьями между мной и собой. Эта выходка Б-ского страшно возмутила меня. А тут еще новое требование: сегодня же выставить баллы за четверть по всем предметам (хотя педагогический совет неизвестно еще когда будет). И вот началось на уроках бешеное спрашивание, которое мы рассчитывали произвести в несколько дней. Нормальные занятия прервались. Ни объяснять, ни рассказывать, ни спрашивать более или менее систематически было нельзя. Надо было гнать и гнать. Один девиз — всех переспросить и как можно больше отметок! Такое же спрашивание шло в V классе, где нужно было переспросить около 10 человек. В числе других спросил ученицу А-ву, великовозрастную, но малоспособную девицу. За письменные работы у ней было 3 и 4, устно же она в предыдущий раз ответила плохо, но я — по ее просьбе — не поставил ей ничего и обещал спросить еще раз. Когда же вызвал сего дня, то оказалось, что и теперь она знает плохо. Долго разбираться с ней было некогда, и я посадил ее, тем более что и при 2, и при 3 за устный ответ ей все равно выходило за четверть 3, а на большее она, конечно, и не рассчитывала. Но неудача устного ответа почему-то сильно подействовала на А-ву. Она сидела, закрывши лицо руками, но без слез; а потом вдруг сорвалась с места, стремительно выбежала из класса и грохнулась в коридоре в обморок. Там началась тревога, беготня, отваживанье. Но пятиклассниц мне удалось успокоить. Я выяснил, что ничего опасного в отношении баллов у А-вой нет; а когда я заметил, что у них класс какой-то очень уж слезливый, они как-будто и сами присоединились к моему мнению, и остальная часть урока прошло сносно. После же урока оказалось, что дело А-вой серьезнее, чем мы предполагали. Она все еще лежала в глубоком обмороке, и даже усилия доктора не могли привести ее в чувство. В тяжелом настроении уходил я из гимназии, а пятиклассницы полушутя полусерьезно говорили: «Вот умрет из-за Вас А-ва!» И в самом деле, случись что-нибудь с ней, разве не будут меня обвинять?
1 марта
С А-вой вчера пришлось долго возиться доктору: и в гимназии, и дома. Говорят, что ее мать, как и следовало ожидать, винит во веем меня. Говорит, что я и историчка несправедливы к дочери, т<ак> к<ак> по закону Божию и математике она имеет пятерки, а по нашим предметам тройки и двойки. Но дело в том, что девица очень неразвитая, и потому гуманитарные науки идут у ней плохо. Несправедливости же к ней — по совести говоря — не было. Разве я не ставил ей и троек, и четверок, когда она заслуживала (даже и в эту четверть за письменные работы ей 3 и 4)? Разве не снизошел я к ее просьбе не ставить балл за плохой ответ, чтобы спросить еще раз? Чем же я виноват, что она — несмотря на старание — не может угнаться за более способными девицами? Вчера же разве не имел я права, убедившись в степени ее познаний, посадить ее? Притом ни самый балл не был ей еще поставлен (этого на уроке, по-моему, и вообще не следует делать, чтобы не нервировать учениц), и никакого замечания или упрека не было мною сделано. В одном разве только я виноват, что не утешил ее, когда она сидела после этого закрывши лицо руками. Но разве мог я знать, что это так подействует на нее, тогда как другие даже и к двойкам за четверть отнеслись довольно равнодушно? Да и не до того мне было, когда я превратился в последние дни в какую-то машину для спрашивания. По поводу этого инцидента вчера Б-ский вызывал и допрашивал меня. А по городу пошли уже слухи, что он принял участие в А-вой и накричал на меня.
Сегодня выдавал сочинения семиклассницам (которые проверял Б-ский). Когда ученицы стали спрашивать о результатах его проверки, я сказал, что веем, чьи работы он проверял, балл понижен, за исключением одной работы — чьей (добавил я, не воздержавшись), сами догадаетесь. Когда ученицы воочию увидели разногласия в наших баллах, это вызвало оживленные комментарии. «Да он зарежет нас на экзаменах», — говорили некоторые по адресу Б-ского. «А к Ю-ной Вы, видно, пристрастно относитесь», — отпалила одна (хотя и полушутя), т<ак> к<ак> вместо моей 5– Б-ский поставил 2+. Я, однако, воздержался от участия в этих суждениях и ничего не ответил ученице, упрекавшей меня в пристрастии, хотя по поводу Ю-ной можно бы меня упрекнуть скорее в обратном, т<ак> к<ак> она осталась на второй год именно из-за словесности, но ныне стала лечиться по всем предметам на пятерки. Потом разговор об этом кончился, я стал спрашивать и только по окончании урока велел веем, у кого двойные баллы, отдать мне тетради, имея в виду сохранить их как материал для ревизии (чего, конечно, я не сказал). Каково же было мое удивление, когда спустя еще один урок Б-ский вызвал меня к себе и сказал, что до его сведения дошло, что я на уроке позволил себе войти в критику его отметок, и высказал мнение, что он прибавил балл П-й потому, что она его ученица. Я указал ему, что его поступок действительно может вызвать среди учениц комментарии — нежелательные и для меня, и для него, но что я сам мнения о его баллах не высказывал. На этом мы и расстались. Но след от этого разговора не скоро еще исчезнет. Что это значит в самом деле? Ни больше ни меньше, как то, что в классе среди учениц есть шпионки, которые сразу же ему передают все, что там происходит. И я даже знаю, кто это. Это без сомнения та самая П-на, с которой он как раз занимался перед этим объяснением и которая теперь чувствует себя его сообщницей. Эта бездарность, которую Христа ради я дотянул до VII класса, нашла, наконец, в чем секрет жизненных успехов. Ничего не делая в VII классе уже второй год, она рассчитывает теперь на «неофициальною субординацию» и ради приобретения ее пошла даже на такие средства!
Час от часу не легче!
2 марта
Ежедневные неприятности все больше и больше отзываются на моем здоровье. Самочувствие самое подавленное, полное безразличие ко всему, головные боли, сердцебиение и упадок сил. На вид я заметно для всех посторонних осунулся и побледнел. Правда, я не пропускаю уроков и веду свои занятия, по-видимому, так же, как и раньше. Но, в сущности, это уже не настоящие занятия «с душой», а просто ряд привычных действий. Объясняешь, спрашиваешь, ставишь баллы, делаешь замечания, но все это как-то уже механически, по привычке. К концу уроков работаешь с больной головой. А домой приходишь уже настолько утомленный, что чувствуешь необходимость поскорее лечь отдохнуть. Немного освежившись на улице, принимаешься за неизбежные конспекты и тетради, готовишься к урокам. А ночью мучит сердцебиение, тревожат кошмарные сны или бывает бессонница, и утром встаешь как разбитый. Вчера я заснул под впечатлением инцидента в VII классе, и только что начал видеть какой-то сон, как вдруг все прервалось… К моей кафедре решительно направлялась из-за парты ученица П-на и, протянув руку, положила на стол тетрадь. Я в ужасе вздрогнул и… проснулся. Сердце так и скакало… Это уже прямо какие-то галлюцинации!
5 марта
Вот уже третья неделя, как библиотеки (ученическая и фундаментальная) закрыты. Из городской библиотеки Б-ский еще раньше запретил ученицам брать книги. Таким образом доступ к источникам знания окончательно прекращен. Не только внеклассное чтение невозможно, но даже весьма затруднительно и прохождение программ, прежде всего, конечно, по словесности. В самом деле, в VI классе, например, теперь надо проходить Мольера, но ученицы нигде не могут найти его «Мизантропа», а в ученическую библиотеку, где это произведение находится в 10 экземплярах, попасть нельзя. В VII классе такое же затруднение с романами Тургенева. В VIII классе не по чему проходить историю педагогики, т<ак> к<ак> необходимая для этого книга Модзалевского имеется только в гимназической библиотеке (в нескольких экземплярах), а больше, пожалуй, здесь и совсем не найдешь.
Педагогический совет
6 марта
Вчера был, наконец, педагогический совет. Вследствие полученного из округа разъяснения Б-ский предложил избрать секретаря записками, и мы выбрали учительницу К-ву, которая была уже 10 лет в этой должности и отказалась из-за Б-ского. Таким образом, он опять высек самого себя. Началось бесконечное чтение циркуляров, навязывающих разные ни на что не годные издания. Потом начали разбирать успехи, прилежание и внимание учениц начиная с приготовительных классов. Вскоре опять вышел курьезный инцидент. На одном из предыдущих советов Б-ский говорил Ч-вой, чтобы она обратила серьезное внимание на ученицу Л-скую, которая собирает около себя какой-то кружок. Тогда это прошло незамеченным. Теперь же при упоминании этой ученицы учитель математики поставил Б-скому вопрос о кружке, группирующемся около приготовишки Л-ской. Тут же сидел и ее отец, председатель родительского комитета; Б-ский, попав в очень неловкое положение, заявил, что он ошибся, что это не Л-ская, а Д. Когда же стали спрашивать, какой же кружок могла сорганизовать приготовишка. Б-ский сказал, что около Д. во время перемены иногда собиралось несколько учениц. И из этого-то возникло нелепое обвинение приготовишки в крамоле, которое он не постеснялся высказать перед веем педагогическим советом! Другая приготовишка взяла несколько конфет из коробочки у сторожихи. Педагогический совет, не придавая этому серьезного значения, решил ограничиться сбавкой ей поведения до 5–. Председатель же заявил, что он остается при особом мнении и считает необходимым удалить ее из гимназии. Когда дошли до III класса, тут новый инцидент. Одна ученица, когда председатель входил в класс, улыбнулась. Он сформулировал это как «вызывающее поведение по отношению к председателю» и велел поставить 3 за неделю. Теперь же стоял за четверку за четверть и даже не давал как следует обсудить этот вопрос, что вызвало горячий протест со стороны председателя родительского комитета. В результате большинство нашло тут только «неумение держать себя в классе» и ограничилось 5–, но председатель остался при особом мнении. При другом подобном же разногласии он поставил в журнал уже не балл большинства, а свой собственный балл, сославшись на № 18 Положения о женских гимназиях. Я же, зная его содержание, — что если председатель остался в меньшинстве, то вопрос решается округом, — попросил, чтобы он прочел этот № на совете. Б-ский отказался. Тогда я заявил, что он поступает как раз вопреки № 18 и попросил внести это в протокол. Потом пошли придирки к учительнице географии за то, что у нее ученицы были спрошены только по I разу в четверть (в классе 45 учениц, а уроков только два в неделю). Когда же та говорила, что ведь надо и рассказать, и старое спросить, и на все времени не хватит, Б-ский с апломбом заявил, что все-таки можно спрашивать по 10 учениц в урок, а за ее систему спрашивания сделал ей замечание. Под конец совета председатель родительского комитета поднял допрос о библиотеке. Но Веский снял этот вопрос с очереди и ни на один вопрос, предлагаемый ему по этому поводу Л-ским, ответа не дал. Я тоже вмешался в это дело, говоря, что вопрос о библиотеке входит в компетенцию педагогического совета. А потом сделал заявление, что при таких условиях не в состоянии пройти программы по словесности Б-скип высокомерно молчал и иронически улыбался. Тогда я попросил его как руководителя учебной частью дать указания, как же мне заниматься без книг; Б-ский и на это дать ответ отказался.
Сегодня он совсем не пошел на свои уроки в гимназии, а отправился к своему другу, директору Н-ву, и долго о чем-то совещался с ним.
7 марта
В газете появилась заметка относительно обморока А-вой (под заглавием «Плоды гуманного обращения наших педагогов с детьми»), причем дело представляется как какой-то «конфликт», происшедший у меня на уроке, во время которого я будто бы повысил голос и довел ученицу до истерики и обморока, длившегося с 1 ч. до 9 ч. вечера. Факт передан неправильно, а в деталях такал путаница (я назван учительницей, изображена какая-то «директриса», которая будто бы тоже вошла в класс и накричала на ученицу и т.п.), что сразу видно, что репортер получил сведения из десятых рук и уж ни в косм случае не от подруг А-вой, пятиклассниц. Но как бы то ни было, а А-ва все еще не ходит в гимназию. И на душе от всего этого неприятный осадок.
Всего лучше я ныне чувствую себя среди восьмиклассниц. Жаль только, что ныне «страха ради иудейска», приходится строго ограничиваться официальными рамками: прохождением программы и спрашиванием. Нельзя уж теперь, как раньше, почитать в классе какие-нибудь педагогические статьи (хотя бы из «Свободного воспитания»), и педагогика предстоит перед ними как сухая теория, как учебник. А между тем через несколько месяцев некоторым из них придется уже самим выступить в роли педагогов. Хорошо бы почитать также педагогические статьи Толстого (о Ясно-Полянской школе) или воспоминания Водовозовой об Ушинском. Но как тут будешь читать, когда каждый урок может заявиться Б-ский, который только и ждет случая, как бы подловить меня? Только те дни, когда его нет в гимназии, можешь вздохнуть свободнее и даже приходить из класса не так утомленным. Сегодня, к счастью, его опять не было (все еще не может опомниться после совета!), и я на словесности в VIII классе вместо всем надоевшего спрашивания читал ученицам «Записки кн. Волконской» (т<ак> к<ак> теперь мы приступаем к «Русским женщинам» Некрасова). Бесхитростный рассказ этой чудной женщины о своей необычайной судьбе и об участии декабристов, видимо, захватил моих словесниц. Не нужно было никаких замечаний. Ни шуму, ни разговоров не было. Серьезные, с глазами, полными внимания, слушали они то, что я читал. А когда по окончании люка встретились нам две «вольнослушательницы», которые спешили на словесность, но не знали, что она перенесена на другой час, они очень сожалели, что не попали на урок.
Только ради таких уроков и можно еще служить в нашей школе. Но как редко возможны они и как трудно отстоять их в современной школе под бесцеремонным натиском казенщины и бюрократизма!
8 марта
Сегодня было опять заседание педагогического совета, на этот раз о старших классах. При рассмотрении вопроса о квартирах учениц, начальница сделала сенсационное сообщение, что классная дама В-ва, у которой живут две гимназистки, пустила в ту же квартиру борцов из цирка. Когда члены совета стали высказывать по поводу такой странной компании, образовавшейся под флагом классной дамы, свое возмущение, В-ва, нисколько не смущаясь, стала доказывать, что ничего неудобного в этом нет, но что если совет признает это неудобным, то она может отказать борцам, т<ак> к<ак> ей с ними «не ребят крестить». Ее патрон Б-ский тоже, видимо, был смущен и покраснел, но по адресу В-вой отделался только улыбками. В конце совета я поднял опять вопрос о библиотеке, меня поддержал председатель родительского комитета. Между прочим, я просил Б-ского сообщить, правда ли, что он запретил ученицам пользоваться и городской библиотекой. Но он даже не удостоил ответить на этот вопрос. Когда же будет открыта наша библиотека, тоже не сообщил.
Ревизор из округа
11 марта
Есть слух, что в наш город едет ревизор из округа. Теперь со дня на день ждем его все. Все бы хоть уж развязка скорее!
12 марта
Приехал на ревизию окружной инспектор. Был сегодня в конце уроков и у нас в гимназии и попал как раз ко мне на конференцию. Это мужчина средних лет, инженер по образованию, еще первый год состоящий на этой должности и, видимо, не успевший проникнуться бюрократизмом нашего ведомства. На конференции он старался ободрить учениц, побуждая их принять участие в прениях, а по окончании конференции даже поблагодарил их. Когда же остались с ним только мы, педагоги, он говорил, что ученицы какие-то очень робкие, видимо, стесняются высказывать свои мнения и отстаивать их. Я не мог удержаться и заметал в объяснение этого, что наш председатель (который тут же присутствовал) на первой же конференции так оборвал ученицу, начавшую говорить в свое оправдание, что они теперь уже не смогут сделать этого. Своим выпадом я, видимо, поставил в неловкое положение ревизора, и он как бы в защиту Б-ского стал говорить, что при возражениях необходимо соблюдать границы и что надо различать объяснение и дерзость. Говорил также, что к практиканткам надо бы относиться поснисходительней, а мы судим их «крутенько». Ученицы же, по его впечатлению, весьма скромные, совсем не такие, какими можно бы их вообразить на основании некоторых сведений. (Это уж был очевидный намек на доносы Б-ского.)
13 марта
Ревизор ходит по урокам. Был и на французском языке у Б-ского. Урок, говорят, был прямо позорный. Ученицы списывали французские фразы с книги на доску, потом разбирали их по-русски и переводили, причем сам Б-ский, например, говорил, что надо сказать не «у подножья пальмы», а у «подошвы пальмы». Потом началось объяснение нового. Б-ский говорил (конечно, не по-французски) о наклонениях, называл их всех русскими именами и объяснял, почему одно из них называется изъявительным, другое — повелительным и т. п. Какое это имеет отношение к французскому языку — бог ведает. Когда же после урока начальница сказала, что на уроке французского языка речи совсем не было слышно ни со стороны учителя, ни со стороны учениц, Б-ский отрезал, что этого по министерской программе и не требуется.
Не лучше отличилась сегодня и назначенная им учительницей русского языка классная дама В-ва. Она дала ученицам IV класса собственноручно написанную программу, и в ней оказалось слово «местоимение» во всех случаях, где оно только попадается, написанным через два «ѣ». И такая-то особа признана подходящей для роли учительницы русского языка. Ученицам же, сделавшим такие ошибки, Б-ский не задумываясь гнет двойки.
Учительница физики, у которой ревизор был на уроке, после него в присутствии Б-ского стала говорить ревизору, что председатель не позволяет ей показывать опыты во внеучебное время и требует, чтобы все это делалось в урок (с той целью, чтобы она не успела пройти курса и тем дала ему возможность придраться). Ревизор признал требования Б-ского нецелесообразными и посоветовал ему не ставить учительнице таких препятствий. Б-ский, такой надменный с подчиненными, вытягивался перед начальством в струнку и, почтительно кланяясь, лепетал: «Как Вашему Превосходительству будет угодно».
15 марта
Сегодня ревизор был у меня в VII классе на словесности и в VIII классе на педагогике. Уроки сошли недурно. В VIII классе я предложил ревизору самому спрашивать, и он задавал много вопросов и из пройденного курса, и посторонних. По окончании же того и другого урока он благодарил учениц и в разговоре со мной хвалил их. Но говорил все-таки мне, что надо обратить внимание на грамотность, хотя сам письменные работы и не смотрел, — значит, это уже Б-ский успел ему что-нибудь нашептать или даже донес, по обыкновению, в округ. Посмотрел бы лучше ревизор на его грамотность или на орфографию его ставленницы В-вой!
16 марта
Директор мужской гимназии Н-в опять отличился. По случаю юбилейного а ста 21 февраля он потребовал теперь с учеников по 1 рублю, а когда в газетах стали смеяться над такой выходкой, он написал письмо в редакцию, где подтверждал факт своего требования, приводит подробные счета — на сколько рублей и копеек съедено печенья, на сколько роздано книжек и т.п., а в заключение добавляет, что были еще и русские песни, хотя цены их и не указывает. Вообще его система бить учеников не только дубьем, но и рублем. К 1 марта гимназисты должны были облачиться в форменные плащи, и когда один ученик изготовил плащ не к 1, а ко 2 марта, Н-в его уволил. В газетах забили тревогу. Откликнулось и Общество вспомоществования учащимся. Когда один из его членов явился к Н-ву ходатайствовать за уволенного, то, кроме грубости со стороны директора, ничего не встретил. Хорошо, что в городе оказался ревизор. Он принял участие в мальчике и распорядился о его обратном приеме. Ведь «до Бога высоко, до царя далеко»!
В реальном училище недавно произошел еще более трагический факт. У дверей училища застрелился молодой человек, уволенный в прошлом году из VI класса из-за столкновения с учителем.
18 марта
Хотя Н-в и принял ученика обратно в гимназию, но злоключения бедного мальчика еще не кончились. Н-в объявил ему при учениках, что хотя он и допущен в гимназию, но учеником ее не состоит. Учителям же запретил спрашивать его и ставить баллы до тех пор, пока не получит прошения от его отца об обратном приеме. Отец мальчика живет в страшной глуши, за несколько сот верст, и известить его скоро об этом невозможно. А между тем идет уже последняя четверть, и ученик, оставленный по распоряжению Н-ва без баллов во вторую четверть ввиду его увольнения, останется, видимо, совсем без годовых баллов, чтобы легче было провалить его на экзаменах. Так «допекает» истинно русский педагог своих питомцев. Мало того, когда в дело вмешалось Общество вспомоществования учащимся, Н-в остался очень недоволен и теперь намерен привлечь это Общество к ответственности за вмешательство якобы не в свое дело.
19 марта
На днях был у ревизора по его приглашению наш законоучитель П. Ревизор хотел узнать, за что он был уволен, а П. с тем же вопросом обратился к нему. Оказалось, что наш председатель Б-ский, самовластно уволив П., не мог представить в округ никаких веских оснований. Писал, что законоучитель носит брюки навыпуск, что он «надоел ему своими возражениями», главным же обвинением является то, что П. якобы восставал на совете против произнесения юбилейных речей учителями (на самом деле он ввиду того, что все отказывались, кроме него самого, говорил, что, может быть, можно обойтись речью ученицы, т<ак> к<ак> в циркуляре прямого требования речей учащих не содержится и, наоборот, подчеркивается активное участие учащихся). Такие «антипатриотические» рассуждения могли растлевающим образом повлиять на остальных членов совета, и председатель, как человек «преданный Его Императорскому Величеству», его во избежание этого устранил. Подобные доводы, притом еще содержащие явные передержки и искажения, по выражению самого ревизора, и «выеденного яйца не стоят». И потому в округе думали, что на совете, по крайней мере, произошла драка между П. и председателем.
«Русское знамя» — донос на гимназию
20 марта
Сегодня утром один знакомый принес мне номер «Русского знамени», где оказался донос на наш персонал и на меня в частности. Статья названа «Язвы Н-ской женской гимназии» с подзаголовком: «К сведению г. министра народного просвещения». Главное внимание уделено мне. Я называюсь прямо по имени и фамилии, характеризуюсь как крайне левый и притом как учитель, который старается сделать учениц «сознательными», и таким «сознательным» ставит незаслуженно хорошие баллы, тех же, кто не поддается его влиянию, преследует двойками. В пример этого приводится П-на, которой я ставлю двойки будто бы за то, что она ходит в церковь и поет на клиросе. «А когда стал заниматься с ней бесплатно новый начальник гимназии Б-ский, стало еще хуже, т<ак> к<ак> я стал ей единицы ставить». Вообще в этой статье, написанной весьма безграмотно и наполненной грубой руганью («мразь», «провокатор» и т.п.), весь наш персонал изображается как неблагонадежный. «Один только предан правительству и русский человек — это новый председатель педагогического совета Б-ский, да еще В-ва ничего». Статья эта сначала прямо ошеломила меня своей бесцеремонной ложью и грубым тоном. Притом ведь и последствия могут быть очень плачевные. К голосу такого органа наше Министерство весьма чутко, а тут возводятся некие обвинения, которые могут даже и жандармерию всполошить. Потом, несколько успокоившись, я понял, откуда все это исходит. Это без сомнения дело рук Б-ского. Может быть, писал он и не сам, но писано все это с его слов. После того как он узнал, что «за его сочинение» я поставил 2–, он стал расспрашивать меня об одном благотворительном обществе, где я состою секретарем. Я еще удивился тогда этому. Но теперь все понятно. В корреспонденции «Русского знамени» это общество спутано с другим, относительно которого было ныне какое-то жандармское дознание, и написано, что я секретарствую в этом именно обществе. Ввиду того что в этой статье сколько угодно ложных инсинуаций, есть материал для судебного преследования газеты. Проучить «Русское знамя» следовало бы, но все это сопряжено с хлопотами, расходами, да не вполне удобно и судиться, когда придется выяснять чисто педагогические вопросы, вызывать свидетелями учениц, родителей, учителей. А с другой стороны, неудобно и замалчивать это дело, т<ак> к<ак> местные союзники, поднятые на ноги Б-ским, усердно распространяют эту статью, известную теперь уже и ученицам.
21 марта
Рассказал о статье ревизору, который отнесся сочувственно. Он вместе с Б-ским производит теперь осмотр библиотеки и все книги, которые Б-ский находит подозрительными, откладывает и переписывает. Б-ский, воочию проявляя свою начитанность, включает в разряд таких книг и «Сигнал» Гаршина, и «Невский проспект» Гоголя, и «Историю русской интеллигенции» Овсяннико-Куликовского, и «Что такое обломовщина?» Добролюбова. Но оказались, как назло, в библиотеке книги вроде Каутского, Маркса, Энгельса. Правда, они были выписанные еще в 1906 г., когда и округ смотрел на это сквозь пальцы. Мы же, теперешние педагоги, даже не знали о их существовании в нашей библиотеке, и ученицы их, разумеется, не читали. Но для Б-ского это очень хороший козырь.
25 марта
Оказывается, обо мне еще была где-то корреспонденция, т<ак> к<ак> ревизору прислана вырезка «Осведомительское бюро». Там опять-таки приводятся как раз те факты, которые делал предметом своих доносов и Б-ский: приводятся авторы, которых, по моей рекомендации читают ученицы, говорится, что я прохожу Герцена, что я отказался читать речь на юбилее и т.п. Опять ясно, откуда это исходит. Тон такой же кабацкий, какой обычен в правой прессе. А в заключение сообщается, что «некие «мавры» с нетерпением ждут», когда мне запретят заниматься педагогической деятельностью и «вывезут» меня из города.
26 марта
Весь вечер сидел у ревизора. Он читал мне пространные доносы на меня Б-ского, а я делал заметки, чтобы писать потом объяснения. И чего тут только нет! И неумение мое разбираться в пробных уроках («с больной головы на здоровую»!), и игнорирование баллов председателя (когда при двух пятерках и его четверке поставили пять), и все другие столкновения с ним, изложенные или фактически неправильно, или с особенным освещением. Меня он рисует как человека левых убеждений, но в то же время «умного, смелого, изворотливого», который мягок в обращении, но упрям («закоренелый какой-то: только побледнеет, но сделает по-своему»); а потому особенно вреден и опасен. Но вместо фактов почти все инсинуации: то говорится, что я все время только Герцена изучаю (а сам в VIII классе ни на одном уроке не был!), а Крылова и Григоровича не прохожу и на церковную литературу (древнюю) мало внимания обращаю; то вдруг заявляется, что мои лучшие ученицы похожи на социал-демократок (чем — спрашивается?). В вину мне ставится также и то, что у меня с ученицами VIII класса «товарищеские отношения», что я с ними «запанибрата», заступаюсь за них: «остается только на него юбку надеть», — развязно комментирует Б-ский. Вообще тон самый разухабистый (несколько раз, например, встречается выражение «брякнула» вместо «сказала»), так что далее округ принужден был сделать ему за это замечание. Излагаются и наблюдения Б-ского за моим уроком в VII классе (единственный люк, на котором он был!). Но что это за наблюдения! Сыщицкое ухо Б-ского уловляло только «неблагонадежность», которую и увидало, например, в словах «царь познания и свободы», «восстал против Бога» и т.п., что, разумеется, относилось к лермонтовскому Демону; упоминание о Великой французской революции и восстании декабристов тоже отмечено им с соответствующими комментариями. Чисто литературная же часть урока оказалась для него совершенно непонятной. Например, по поводу интересных параллелей между творчеством Байрона и Лермонтова, между лермонтовским Демоном и байроновским Люцифером, у Б-ского только одно ироническое замечание: «Какая-то лекция о чертях!» И это еще человек, которому тоже приходилось преподавать литературу! Он, оказывается, ждал «самого интересного», когда я сам стану рассказывать, но я этого удовлетворения ему не доставил и в конце урока сказал, чтобы ученицы к следующему разу прочли «Мцыри», что мы и будем потом разбирать. Это опять возмутило нашего «сверхпедагога». По его мнению, это — «задавание от сих до сих». Б-ский считает, видимо, более целесообразным, чтобы ученицы совсем не читали литературных произведений, а усваивали их содержание только со слов учителя. Более серьезные обвинения против меня — это обвинения в безграмотности моих учениц, в доказательство чего Б-ский представил тетради восьмиклассниц; притом еще некоторые ошибки оказались у меня пропущенными, что ревизор поставил мне на вид. С точки зрения направления могут меня подвести списки книг, читавшихся ученицами по моей рекомендации. Вообще же доносы Б-ского — нечто невероятное по своей мелочности, бестолковости и грубому, вульгарному тону. Изложение совершенно неумелое; нередки даже грубые орфографические ошибки, как, например, «отчайный казуист». Основная же идея в том, что у нас какая-то сплоченная шайка левых с комитетом во главе. И Б-скому одному приходится бороться с этой организацией!
«Чем это кончится, Боже? Чем это кончится, чем?»
27 марта
Несколько дней тому назад ревизор внезапно зашел на урок к Б-скому в VII класс и попросил у него французскую книжку, по которой он следил за переводом учениц. И что же оказалось? Над французскими словами у Б-ского были надписаны русские! Это воочию показало ревизору, что за учитель Б-ский, и он с тех пор вот уже несколько дней не показывается в гимназии. Не от страха, конечно, а просто чтобы не обнаружить еще раз своих познаний по «специальности». Личность его теперь, кажется, достаточно выяснилась уже и для окружного начальства. И еще вопрос: чья возьмет? Невежество и глупость еще не такие преступления, как «неблагонадежность», в которой он старается нас обвинить. И на почве оскорбленного самолюбия этого упоенного властью самодура ведется теперь большая игра против нас. Пущены в ход и официальные доносы, и газетные инсинуации, и хлопоты «союзников». Сегодня, например, один из них, уже один раз бывший у ревизора, снова выпросил себе аудиенцию, чтобы — со слов самого Б-ского — еще раз взвести на нас разные обвинения. Приходится уже серьезно подумывать о пере мене службы. В современной школе для меня места, видимо, нет. Правда, неблагодарная работа над тетрадями мне уже надоела. Но педагогическая деятельность мне все-таки по душе, и было бы жаль совсем бросить ее. Тем более что дела с ученицами теперь как раз идут хорошо. В VIII классе начали теперь проходить Достоевского, с каким напряженным вниманием слушали мои «словесницы» и «вольнослушательницы», когда я читал им сегодня статью Мережковского. Какой это все-таки славный народ! Такой отзывчивости и чуткости ко всему живому, хорошему, не встретишь среди нас, людей взрослых.
28 марта
Всегда, когда проходим «Скупого рыцаря», неприятно режет ухо, как Пушкин называет Соломона «жидом», особенно неудобно, когда в классе есть еврейки. Правда, более чуткие и интеллигентные девушки обыкновенно избегают этого выражения. Но сегодня одна пятиклассница без стеснения назвала Соломона «жидом». Пришлось поправить ее. «А у самого Пушкина так говорится», — возразила она. «У Пушкина сюжет взят из средних веков, — ответил ей я, — когда к евреям относились пренебрежительно, потому и называли их так, — а мы уже в XX в. живем и должны быть людьми более культурными». «А я всегда их так называю!» — с некоторым бахвальством заметила с места одна девица, очевидно, настроенная в юдофобском духе своими родителями. На это я возражать уже не стал.
29 марта
Ревизор опять был у меня на двух уроках подряд. Б-ский же и его «присные» В-ва и Ч-ва, совсем не ходят в гимназию, так что у двух последних ревизору еще ни разу не пришлось побывать, а тем этого, конечно, только и надо. В VII классе я спросил при ревизоре свою «приятельницу» П-ну, так как спрашивать ее без него было бы неудобно: опять пошли бы какие-нибудь нарекания. П-на, по обыкновению, отвечала кое-как. По окончании урока я спросил у ревизора, не найдет ли он слишком низким, если я оценю ее ответ тройкой. «А по-моему, — ответил ревизор, — этот ответ даже больше двойки не стоит». В результате я поставил П-ной 3–. А «симпатия» Б-ского ученица В-ая уже толкует, как мне передавали, что П-на на четверку ответила. Опять, значит, пойдут разговоры. Но на этот раз у меня ость, по крайней мере, посторонний свидетель.
Директор мужской гимназии Н-в опять отличился. Придя в городскую библиотеку-читальню, он по предложению служителя должен был записаться. И что же? Вместо своей всем известной фамилии он написал какую-то чужую, а в графе «звание» обозначил «мещанин». Мистификация была, конечно, сразу открыта и вызвала веселые комментарии. Положительно и он, и Б-ский какие-то маньяки! Ведь он, очевидно, хотел этим кого-то провести думал, может быть, кого-нибудь выследить. Но не подумал о том, что одет в форме и что физиономия его уже достаточно «популярна» в городе.
30 марта
Вчера, когда ревизор сидел у меня на уроке в VII классе, ученицы, уже достаточно привыкшие к нему, вели себя без стеснения.
П-ной усердно подсказывали, так что мне не раз пришлось делать им замечания. А две ученицы Ч-ва и С-ва, сидя рядом, оживленно разговаривали. Правда, я ничего не сказал им при ревизоре. Но все ото для меня было весьма неприятно, т<ак> к<ак> Б-ский и без того доносил, будто я слабо слежу за дисциплиной. Поэтому сегодня, придя в VII класс, я сделал замечание за вчерашние разговоры Ч-вой и С-вой. С-ва промолчала, а Ч-ва «вломилась в амбицию»: сначала стала было совсем отрицать свои разговоры, потом оправдывалась тем, что говорила на тему урока. «Неужели уж и поговорить нельзя?» — недовольно ворчала она, и рассерженная даже вышла из класса. Вот и изволь тут лавировать! Не могу же я им сказать о доносах Б-ского, которого притом некоторые из них «обожают»!
Замечаю, что как-то холодновато относятся ко мне и восьмиклассницы. Правда, столкновений у нас никаких нет, подавленный формалистикой, я принужден все время только спрашивать и спрашивать, не давая ничего более живого. А это, конечно, расхолаживает их и заставляет смотреть на меня как на какого-то педанта. А между тем за мои отношения к этому классу, якобы слишком товарищеские, и за мое заступничество за них — со стороны того же Б-ского летят на меня доносы.
1 апреля
Сегодня ревизор ходил по классам и давал темы для классных работ, львиная доля которых пала, конечно, опять на меня. Теперь кроме обычных сочинений, которых и так скопилось множество, придется проверять еще эти добавочные работы, притом проверять еще с особой тщательностью.
Б-ский, чувствуя, что почва под ним колеблется, окончательно решил отыгрываться на политике: вчера местный отдел Союза русского народа избрал его товарищем председателя, т. е. в подручные к одному старому фельдшеру, выгнанному со службы за взятки. Честь, конечно, не велика; но поддержка подобных элементов, наклеивших на себя ярлыки патриотизма, по нынешним временам много значит. Теперь, значит, вся дрянь, объединившаяся в местный отдел Союза русского народа, будет бороться против нас. А перед средствами эти господа не остановятся…
Был педагогический сосет с присутствии ревизора. Б-ский все же успел проявить себя. Читая, например, разные циркуляры, он читал вместо «агрономия» — «аерономия». Ревизору пришлось поправить его. «Тут неразборчиво написано. Ваше Превосходительство», — смутившись, возразил тот. «Должно быть, такой же почерк, как у Вас,» — ответил ревизор. Потом оказалось, что Б-ский, по обыкновению, не понял одной бумаги, посланной ему «на заключение», и вместо того чтобы только послать свой отзыв, решил все собственной властью. Канцелярские дела оказались все перепутанными, справки наводить было трудно, и мы начали было решать дело, решенное на каком-то из предыдущих советов. Но, так оскандалившись при ревизоре, Б-ский тотчас же переменил той, как только тот удалился. Вместо краснеющего от смущения и подобострастного мальчугана снова появилось каменное изваяние с надменным лицом и олимпийским величием.
3 апреля
Сегодня Б-ский старался компенсировать себя за вчерашнее. В разговор со мной о предстоящих экзаменах он сначала рассказывал, как председатель на месте его прежнего служения в качестве учителя при двух двойках и тройке поставил три и «натянул» таким образом до трех, не обращая внимания на двойку его, учителя. Это послужило для Б-ского уроком, но совсем в другом смысле, чем можно было предположить. «И я теперь при выводе общего балла, — заявил вдруг он, — буду считаться только со своим баллом. Если у всех, например, будет два, а я поставлю пять, то и в среднем я могу вывести пять, не обращая внимания на все остальные баллы». Возражать этому неисправимому самодуру было бесполезно, и спорить с ним я не стал. Но, придя домой, я справился в правилах об экзаменах, где оказалось как раз противоположное, а именно, что общий балл выводится экзаменационной комиссией; в случае же несогласия с большинством ее председателя, дело решается педагогическим советом. Опять, значит, полное игнорирование закона и превышение власти. Придется заявить об этом ревизору, благо он еще не уехал. Иначе что же это будут за экзамены?!
Сегодня были последние уроки в VII и VIII классах. В VIII классе я закончил показыванием разных работ для детского сада (приложение к книге Симонович); а пока я укладывал эти вещи, ученицы постепенно разошлись из класса; так что дело обошлось без всяких прощаний. Вообще же нынешними восьмиклассницами я доволен; на их уроках я часто отдыхал душой от треволнений этого года, за что я в душе им глубоко благодарен. В VII же классе, где есть поклонницы Б-ского и где он своими выходками не раз подрывал мой авторитет, расстались не очень дружно. Как раз в этот последний урок надо было спросить порядочно учениц; приходилось торопиться и несколько нервничать; а семиклассницы то мешали своими разговорами и подсказками, то делали неуместные замечания и вступали в пререкания по поводу моих вопросов и баллов. Когда, например, я спросил у одной из них биографию Жуковского, остальные, не давши сказать ей ни слова, начали недовольно заявлять, что это им не задано. Тогда я, раздосадованный этим, в свою очередь резко осадил их: «Я спрашиваю не вас, а К-ву. Прошу молчать!»
Вышел сегодня конфликт и у учительницы физики с семиклассницей В-ской (поклонницей председателя), которая тоже вступила в какие-то неуместные пререкания. Вообще то, что посеял у нас в гимназии Б-ский, не скоро расхлебаешь даже и но его уходе.
7 апреля
На днях Б-ский был у ревизора. На этот раз, не довольствуясь живыми, он сделал донос на покойника, а именно на председателя педагогического совета, который умер уже семь лет назад. Интересно также, что зимой он, донося на нас, восхвалял этого же председателя и писал, будто бы мы его свели в могилу (из теперешнего персонала тогда почти никого не было, а кто и был, то до сих пор вспоминают его добром). Ревизору ничего не оставалось, как сделать очную ставку Б-ского с… Б-ским же и указать на противоречие его нового доноса с прежним, не говоря уже о всей его нелепости и бестактности.
8 апреля
По календарю теперь пасхальные каникулы. Но фактически я по-прежнему работаю как вол, так что даже голова разболелась. За эти две недели мне надо проверить около 250 ученических сочинений! Кладя в среднем по 10 минут (а это минимум!), придется просидеть за этой кипой тетрадей 2500 минут, или около 42 часов. И все это надо проработать до Фоминой недели, так как там сразу начнется экзаменационная страда. А тут еще необходимо составлять отзыв по поводу доносов на меня Б-ского, что тоже займет немало времени. Вот и отдыхай тут!
13 апреля
Целых три дня сидел над отзывом по поводу доносов Б-ского, который и отнес сегодня ревизору. Б-ский же на днях сделал на меня новый донос — донос о том. что будто бы я делал еще 8 лет назад, т.е. в 1905–1906 году, в бытность свою студентом. Донос опять ложный, т<ак> к<ак> и в то время я ни в каких историях не был замешан, но очень характерный для того похода, какой подняли против меня Б-ский и «союзники». То деление «на овец и козлищ», которое произошло тут благодаря Б-скому, в педагогической среде и среде учениц, коснулось и среды гимназической прислуги. Там тоже идет борьба между фаворитами Б-ского и их противниками. Б-ский не побрезговал вмешаться и в эти дрязги и… сделал донос на одну сторожиху, у которой будто бы заразная болезнь, опасная для учениц. Произвели медицинское освидетельствование, и болезнь оказалась… ревматизмом.
На днях у директора Н-ва было какое-то тайное совещание с участием нашего председателя Б-ского и союзника С-ского. Вероятно, опять сочиняли корреспонденцию в «Русское знамя». Есть также слух, что ими написан донос и на ревизора.
А какими только средствами не пользуются эти господа, чтобы «состряпать» донос! Например, однажды во время заседания совета была предложена нашему вниманию какая-то брошюрка. Я лично даже и не видал этой брошюрки о сооружении по случаю юбилея храма-памятника. Б-ский, оказывается, отправил эту брошюрку в округ, отмечая, что она измята, и обвиняя на основании этого нас — педагогов в… неблагонадежности.
Сегодня пришлось по делу быть у пресловутого директора мужской гимназии Н-ва. Сначала он весьма сухо принял меня, но потом, когда узнал, что я — по поручению ревизора, стал довольно любезен; но своей неприязни к нашей гимназии все-таки не мог скрыть, да и самый город, где ему ни газеты, ни общество не дают спуска, он величал не иначе как «болото». Со мной он по временам говорил «по-отечески», давал советы, как сделать карьеру. Вспоминая ранние годы своей учительской службы, он говорил, что тоже участвовал в разных культурных обществах, но они в 1905 г. отплатили ему неблагодарностью, когда он стал отстаивать свои идеи. Поэтому теперь он не только в том городе, но и нигде не будет участвовать ни в каких обществах и не даст на них «ни гроша». Меня же он упрекал за участие в Школьном обществе и в Обществе вспомоществования учащимся в средне-учебных заведениях. А когда я возразил, что мое участие в Школьном обществе ограничивается только рублевым взносом, то его и это не удовлетворило. «Все равно: Ваше сердце там, а начальство на это косо смотрит». Типичный бюрократ-карьерист, он, видимо, чужд других интересов. Даже поздравительные и т.п. письма, которые он иногда получает от настоящих или бывших учеников, он собирает и представляет по начальству для доказательства своих высоких служебных качеств.
За последнее время не раз приходилось встречаться и с ревизором. Материалы, собранные им, сильно компрометируют Б-ского. Но что с ним будет, еще неизвестно. Если от нас он и уйдет, то появится где-нибудь в другой гимназии. Он уже теперь начинает хлопотать о хорошем отзыве для перевода в другой округ. Но даже если хорошего отзыва и не дадут, это — пожалуй — не помешает его карьере. Оказывается, и из предыдущих мест службы о нем, по словам ревизора, были «самые скверные отзывы», в результате же его перевели… с повышением — из учителей в начальники учебного заведения. И все оттого, что он сумел «подмазаться» к кому-то в Министерстве. Наше же окружное начальство, совершенно не зная его и полнив из соседнего округа такие скверные сведения, должно было принять его, т<ак> к<ак> кто-то из высших чинов Министерства отрекомендовал его как «человека делового». Теперь этому «толковому человеку», по-видимому, и сам «округ» не рад! А он, полагаясь все на ту же «неофициальную субординацию», ведет себя как ни в чем не бывало. Недавно, например, вдруг потребовал, чтобы попечительский совет гимназии выдал ему 200 р. в качестве безвозвратного пособия; причем просьбу эту даже не счел нужным мотивировать. И только по настоянию начальницы просьба эта была отклонена, так как у гимназии не хватает средств даже на самое необходимое, а Б-ский и так получает за свое председательство на 200 р. больше своего предшественника.
К нам ревизор, видимо, благосклонен. Но и в лучшем случае, по его мнению, нам все-таки будут выговоры. Мне лично, например, за то, что я при проверке письменных работ пропускаю иногда ошибки. Таким образом, за все шесть лет каторжного труда над письменными работами я заслужу, видимо, только выговор, если не что-нибудь хуже. Б-ский же, не принеся гимназии ничего, кроме вреда, и совершив даже служебные преступления (законоучитель просит привлечь его к суду за превышение власти), будет, по всей вероятности, все дальше делать себе карьеру.
20 апреля
Сегодня был педагогический совет. Мы настойчиво просили ревизора быть на нем, но тот не пришел, и совет поэтому вышел очень бурным. Б-ский, по обыкновению, проявил полное неумение председательствовать; держал себя самоуверенно и крайне невежливо. На мои вопросы, например, он совсем не считал нужным отвечать, так же иногда делал и с другими. Поэтому почти все, возмутившись его поведением, заявили, что он невежлив по отношению к нам. При каком-то вопросе председателя родительского комитета Б-ский позволил себе иронически улыбнуться вместо ответа. Тот заявил, что, будучи строг к улыбкам учениц, он сам только усмехается в ответ. А когда Б-ский стал говорить, что он не смеялся, — все в голос подтвердили, что его оппонент прав. При разборе успехов учениц VII класса Б-ский выразил неудовольствие, что мы уже выставили баллы за год, тогда как это, по его мнению, должен сделать совет. Потом, смотря в журнал с баллами, он начал спрашивать, а мы должны были на память отвечать — сколько какой ученице поставлено. Я, возмущенный таким явным издевательством, резко заявил, что он, по-видимому, хочет нас экзаменовать, и потому удалился из зала. Хотел экстренно вызвать по телефону ревизора, но того не оказалось дома. Б-ский же при напоре на него членов совета должен был сдаться, и своеобразный «экзамен» педагогов прекратился. По отношению к начальнице он вместо разговора только покрикивал: «Но?», на что я опять-таки заметил ему, что так можно кричать только на лошадей, а не на начальницу гимназии. Больше всего сцеплялись с ним из-за П-ной, которую он хотел допустить к экзаменам, несмотря на годовую двойку по словесности. Это постановление прошло большинством голосов. Я же воздержался, т<ак> к<ак> Б-ский отказался сообщить, какие на этот счет существуют правила. По окончании совета Б-ский ушел из зала, не простившись с присутствующими даже кивком головы. После всего этого остается только не подавать ему руки.
21 апреля
После совета все рвались с жалобами к ревизору. Но тот благоразумно исчез вчера на весь день. Зато с утра его осадили напит педагоги. Был, конечно, и Б-ский. В разговоре со мной ревизор признал мои действия вчера правильными: допускать П-ну с годовой двойкой совет, по его мнению, не имел права. Что говорил он с Б-ским, не знаю. Но в результате всего этого ревизор собрался и сегодня же укатил на пароходе из нашего города, хотя предполагал жить до завтрашнего дня. Таким образом, благодаря Б-скому у нас заварилась такая каша, что и ревизору пришлось сбежать. Как-то мы все это будем расхлебывать на экзаменах. И притом — по пословице «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат», — отзываться всего больше будет все это на ученицах.
22 апреля
За время пребывания здесь ревизора мы успели ознакомиться с личностью Б-ского еще больше, чем раньше. Это форменный провокатор, даже не стесняющийся своими провокаторскими приемами. Например, к протоколу заседания педагогического совета, где я в особом мнении указал, что сам Б-ский отказался читать юбилейную речь, ссылаясь на свое «косноязычие», — он добавил, что отказывался и ссылался на «косноязычие» (которого на самом деле нет) нарочно, с той целью, чтобы испытать, не будем ли отказываться и мы. Некорректность такого приема была признана даже и окружным начальством, которое поставило Б-скому на вид бесчестность подобных действий.
Не ограничиваясь своими доносами начальству, Б-ский, оказывается, усиленно занимался и «литературой». Недавно обнаружилось, что в черносотенной газете «Стрела» помещено целых 14 корреспонденций про нашу гимназию. Все это без сомнения плоды вдохновения нашего милейшего председателя. И слог его, и факты такие, что могли быть известны только ему. Все мы величаемся «поганками под красным соусом», причем каждому из нас уделена особая корреспонденция под заглавием: «Поганка — такой-то», где мы фигурируем с полными именами и фамилиями. И чего только тут нет! Я опять обвиняюсь в отказе читать юбилейную речь, т<ак> к<ак> «с патриотизмом знаком только шапочно»; обвиняюсь опять в секретарствовании в Школьном обществе (на самом деле я секретарем в Обществе вспомоществования учащимся в средне-учебных заведениях), которое якобы устраивало спектакль «в пользу социал-демократов», причем соответствующие власти прямо приглашаются произвести обыск у меня (тогда как даже и Школьное общество, на которое вводятся такие обвинения, до сих пор не подвергнуто ни судебным, ни административным карам). Использован также и случай с обмороком А-вой, которая, как сказано в корреспонденции, «боялась двойки по словесности», на основании чего требуют уволить меня со службы. О законоучителе повторяется, почти буквально, секретный донос в Округ Б-ского: что он носит брюки навыпуск, чем похож… на Гапона, что он выписывает книгу «Христианство и социализм» (несмотря на то что эта книга апологетическая, Б-ский использовал это и для официального доноса), что он не любит, когда его зовут «батюшка»; а главное — что он будто бы отказался читать речь на юбилее (это уже чистейшая ложь, т<ак> к<ак> он сразу же согласился и читал) и других побуждал к этому же. Начальница изображается тоже как левая, причем в вину ей ставится, что при ней гимназистки якобы «стали ходить в гостиницы в гости к мужчинам». Указывается даже на то, что она будто бы ездила за границу «на какой-то конгресс» (на самом деле она даже не бывала за границей и последнее лето проводила в одной пригородной деревне).
Слог во всех этих корреспонденциях прямо какой-то кабацкий — точь-в-точь как в доносах Б-ского!
И как ни нелепо все это, но все-таки раздражает. А старушка С-цкая, которую тоже ни за что ни про что облаяли в «Стреле», даже всплакнула сегодня не раз. Скоро ли мы избавимся от этого «собственного корреспондента»!
Начались экзамены. И Б-ский сразу же устроил скандал! Сегодня должен быть письменный экзамен по его предмету (французскому языку в VII классе) и по моему. В большом зале все было приготовлено, чтобы могли разместиться и его, и мои ученицы. Но он вдруг заупрямился и потребовал, чтобы «француженки» писали отдельно, в своем классе, в присутствии его одного. Начальница, подозревая с его стороны «подвох», воспротивилась этому. Произошел крупный разговор, причем Б-ский заявил, что он главный руководитель учебной частью, а начальница возразила, что это не учебная часть, а порядки гимназии, что зависит от нее. Б-скому пришлось сдаться.
25 апреля
Сегодня была письменная словесность в VII и VIII классе. Писала и П-на, и Б-ский специально приходил, чтобы посмотреть, как она пишет. Но оказалось, что спустя 1 ч. 20 м. после начала экзамена у нее было только 3–4 строчки плана. На этом дело и стало. Оказавшись не в состоянии даже начать свое сочинение, она только это и подала, воочию показав, таким образом, насколько правы были все нападавшие на меня за мое якобы пристрастное к ней отношение.
Проблема «кухаркиных детей»
26 апреля
Директор мужской гимназии Н-в, являясь противником проникновения в среднюю школу «кухаркиных детей», открыто выражает эту свою тенденцию и, донимая своих учеников, разоряет непроизводительными расходами, старается выжить из гимназии всех менее обеспеченных учеников. На днях к одному из них приехала мать, простая крестьянка. Ученик был на уроке, и вызвать его, конечно, не разрешили. Директор же, узнав, кто она такая, стал разговаривать с ней; причем упрекал ее за то, что она сдала сынка в гимназию, говоря, что здесь ему не место и что, по ее состоянию, достаточно бы сдать его в городское училище. Бедная женщина, конечно, была смущена такими рассуждениями. А как должно это отозваться на самочувствии самого ученика? В разговоре со мной Н-в также выражал свое недовольство демократическим составом учениц гимназии, развивая ту мысль, что дети из неинтеллигентных сомой неспособны к какой-либо культуре. А с каким презрением он изрекал иногда, в бытность свою у нас в гимназии, при рассмотрении прошения какого-то бедного родителя: «Ответьте этому мещанину…». С такой точки зрения вся деятельность разных благотворительных обществ, помогающих учащимся действительно, не что иное как преступление. Ведь задача их в том и состоит, чтобы поддержать демократический элемент средне-учебных заведений. Долго ли будет еще держаться этот взгляд на культуру как на дело чисто барское?
27 апреля
Местные «союзники», со вступлением в их число такого энергичного деятеля, как Б-ский, почувствовали себя смелее и ударились в активную, даже боевую политику. На днях председатель родительского комитета Л-ский, избранный в городские головы, получил анонимное письмо от какой-то местной «народной расправы», угрожающее ему и сто имуществу «судом Линча», если он не откажется от звания городского головы.
Теперь того же остается ждать и нам, педагогам, против которых наш председатель ведет и устно и через печать самую возмутительную травлю.
28 апреля
Экзамены теперь в полном ходу, но только в VII и VIII классах. В остальных же классах идет еще учение. С наибольшей охотой занимаюсь я в V классе. Тяжелый инцидент с А-вой теперь уже сгладился, и сама она относится ко мне, по-видимому, без всякой враждебности. Остальные же ученицы и раньше относились ко мне хорошо. Но особенно оживляют наши уроки несколько бойких и умных девочек, которые — благодаря той слабой дисциплине, которая царит у меня в этом классе, — чувствуют себя свободно, не выходя, впрочем, из границ благопристойности. Составляем характеристику какого-нибудь литературного героя. Одна ученица «отвечает» и указывает его характерные черты. Другие (чаще всего З-на) возражают с мест, что той или другой черты у него нет. Я обращаюсь к оппонентке и прошу изложить, почему она не соглашается с той характеристикой, какая дается. Та приводит свои доказательства. Другие ей возражают. Я прошу не говорить голословно и тоже доказать свое положение. Происходят небольшие трения. Урок оживляется. Начинает работать самостоятельная мысль. Ученицы привыкают публично высказываться и доказывать свои мысли. Таким образом, сами ученицы содействуют тому, что складывается некоторое подобие литературных бесед, ввести которые я уже давно собираюсь. Если я останусь здесь и на будущий год, надо будет воспользоваться подходящим составом класса и осуществить такие беседы в какой-нибудь более упорядоченной форме. Но при всех таких опытах, конечно, необходимо, чтобы за плечами не стояло такого «начальника», как наш Б-ский, стремящийся только «тащить и не пущать».
29 апреля
Сегодня у нас в городе был «праздник белого цветка». В нашей гимназии продавщицы беспрепятственно продавали цветки, т<ак> к<ак> Б-ского не было (он и Ч-ва опять не ходят). Когда же пришли продавать в мужскую гимназию, директор Н-в не пустил их, заявив: «Все это глупости! Я никакого предписания начальства об этом не получал».
1 мая
Учительница Ч-ва опять не ходит в гимназию, и занятия в приготовительных классах совсем стали. А между тем девочкам придется держать конкурсный экзамен для поступления в I класс. Но на это наш председатель, конечно, не обращает внимания и, наоборот, восхваляет Ч-ву в своих корреспонденциях. Сам он тоже то и дело попускает свои уроки. А придя в класс, или занимается сыском относительно преподавания других предметов, или молча сидит, погрузившись в какие-то думы, а когда ученицы, не выдержав, начинают разговаривать между собой, Б-ский обрушивается на них за нарушение дисциплины. Самые занятия его по французскому языку настолько успешны, что ученицы сами сознаются, что в этот год они не только ничего не приобрели, но и позабыли то, что знали раньше (например, в VI классе в прошлом году грамматику проходили на французском языке, а в VII ныне Б-ский занимается исключительно по-русски). Но зато сегодня, придя после нескольких дней «лодырничанья» в гимназию, Б-ский обрушился не на тех, кто пропускает уроки, а на тех, кто давал дополнительные уроки. Строго допросил и меня, не делаю ли я добавочных уроков. Какое преступление, подумаешь!
2 мая
В VII классе был экзамен закона Божьего — первый устный экзамен в присутствии Б-ского. Желая показать свои знания, он не раз вмешивался в спрашивание, задавая, например, вопросы о том, как зовут по именам разных нечистых духов. При выводе баллов оказалось, что он систематически всем понижал балл, за исключением… своей поклонницы В-ской, которой поставил 4, тогда как по отзыву остальных экзаменаторов она едва отвечала на 3. Такое же «беспристрастие» он проявляет и в других случаях. Например, в своих французских работах он наставил всем хороших баллов, выдавая почти все ошибки за «описки». Посмотрим, как он отнесется к работам, например, моих учениц.
Занятия теперь идут у меня только в VI и V классах. Но жара в классе утомляет и учителей, и учениц. А за стенами гимназии так хорошо! Свежая весенняя зелень, первые цветы, первые пароходы! Само собой разумеется, что все наши сентиментализмы и романтизмы на ум не идут. Но в VI и V классах атмосфера все-таки разная. В VI я как-то не могу сдержаться и часто перехожу в раздражительный тон. В V же классе хотя и часто делаешь замечания, но все идет в мирном тоне. Сегодня чуть было не вышел в этом классе инцидент.
После урока я стал разговаривать с ученицами, которые тесной толпой окружили меня. Стоящие в задних рядах начали шалить, бросать бумажки, и одна из них попала мне в голову. Стоявшая тут же классная дама вмешалась тогда в это дело, и после ее окрика шалости прекратились. Началось расследование. Классная дама потребовала выдать виновных, угрожая в противном случае сбавить балл за поведение всему классу. Виновные назвались. Начальница сделала им нотацию и послала ко мне извиняться. Я же лично против этих трех девочек ничего не имел, да и они относились всегда ко мне хорошо. Никакого злого умысла с их стороны, конечно, не было. Поэтому я от души их извинил. Тем дело и ограничилось.
3 мая
В город приехал архиерей. При представлении ему нашего законоучителя П., архиерей в присутствии многих посторонних сказал ему: «В Вашем лице я вижу старца, а мысли-то у Вас молодые». Этот намек, очевидно на его либеральные взгляды, является, вероятно, плодом доносов нашего Б-ского или его корреспонденций в черносотенных газетах. А архиерей, видимо, почитатель их. Еще недавно был нашим законоучителем, равно как и всеми священниками получен циркуляр, гласивший, что духовенство должно быть в курсе политических дел, но при этом следует ознакомляться с ними только в соответствующем освещении, а потому предписывается всему духовенству выписать местные черносотенные газетки, позаимствовав для этого церковные средства. Придется, значит, и гимназии выписывать эти органы человеконенавистничества, т. е. поддерживать ту самую прессу, где нас бранят чуть не площадной бранью и где на каждом шагу заведомо клевещут на нас.
4 мая
Сегодня был «бенефис» самого Б-ского: восьмиклассницы держали экзамен по французскому языку. Экзамен был, как говорят, прямо позорный. Сам Б-ский, не желая показать своего невежества, все время молчал, как будто экзамен был вовсе не его. Спрашивали только учительница французского языка в младших классах и начальница. Вся экзаменационная работа учениц состояла в том, что они переводили одну и ту же статью, причем одна начала, а другие продолжали. Таким образом, даже без всякой подготовки и без всякого знания французского языка они, подготовляясь друг за другом по каким-нибудь «шпаргалкам», могли на память, как попугаи, сделать «перевод». Так, наверно, и было, потому что, когда у них спрашивали разбор и особенно грамматику, ученицы обнаруживали полное невежество и не могли ответить на такие вопросы, которые во II и III классах считаются элементарными. Когда же начали выводить баллы, то оказалось, что Б-ский, желая поддержать свой престиж как преподавателя, наставил, несмотря на такие ответы, хороших баллов, причем у него оказались пятерки даже тем, кому остальные поставили по двойке. Выводил впрочем он не свои баллы, как собирался делать, а среднеарифметические. Ревизор, которому я изложил его претензии, все-таки «разъяснил» его.
6 мая
Сегодня было традиционное майское гулянье гимназисток. Ходили в ближайший лес, за город, все классы, кроме выпускных (которым теперь не до того). Веселую картину представляли группы гимназисток, разодетых в разноцветные платьица и рассыпавшихся по зеленой траве, как живой цветник. Все были настроены весело, непринужденно. Нас, педагогов, нарасхват (буквально!) приглашали «в гости» то к тому, то к другому классу, которые сидели отдельными кучками под тенью какой-нибудь сосны или березы. Были и игры, и танцы под аккомпанемент мандолины. Я почти все время на этот раз был с пятиклассницами, которые всего больше и приглашали меня идти на гулянье. Шестиклассницы же были как-то особняком. Сначала звали меня, потом куда-то исчезали, и у них «в гостях», кажется, так никто и не побывал, на что они выражали потом свои претензии. Председатель Б-ский и его «приспешницы» В-ва и Ч-ва, конечно, отсутствовали, неуклонно «бойкотируя» гимназию. Но это было и к лучшему, так как без этих шпионов дышалось гораздо свободнее. Опять, как и в прошлом году, играли в мнения (с V классом). На этот раз мнения обо мне оказались довольно благоприятными. Одна высказалась, между прочим, что я «люблю сердиться, но скоро прощаю», другая же заметила, что, по ее мнению, я не из таких, чтобы прощать. Подробностей последнего мнения, к сожалению, выяснить не удалось, а было бы интересно. Зашел как-то разговор и о баллах, причем одна из наиболее симпатичных для меня пятиклассниц В. С. выразила неудовольствие, что ей за отказ не во время я поставил единицу, а другой ученице Ш-вой при таких же условиях ничего не поставил. Действительно, следовало бы поставить и той, но эта болезненная девочка стояла с таким видом, что того и гляди заплачет, и я «пощадил» ее. Ученицы же, оказывается, следят за каждым шагом с точки зрения справедливости (как они ее понимают).
Недавно был и другой аналогичный случай. При поправке сочинений V класса я, строго требуя исправления предыдущих работ, одной ученице сбавил балл за отсутствие исправлений, а другой, у которой исправлений тоже не было, балла не сбавил, т<ак> к<ак> она пишет почти без ошибок, и требовать от нее исправлений мне казалось излишним педантизмом. Но потом, после раздачи сочинений, эта же последняя ученица и указала мне на то, что я допустил несправедливость. Пришлось потребовать исправления от обеих, а потом, когда представила исправления и первая, повысить ей балл.
Вообще в этом отношении нашему брату надо быть очень и очень чутким. И, пожалуй, лучше погрешить несколько педантизмом, чем дать повод называть себя несправедливым или пристрастным.
7 мая
Был первый у меня устный экзамен — педагогика в VIII классе. Сидел на экзамене и «мой друг» Б-ский, но сидел молча, не задавая ни одного вопроса. А при выводе баллов, хотя и оказалось, что он почти всем занижал, но вывод делал арифметический из всех баллов, получив, очевидно, на этот счет надлежащее разъяснение из округа. Сдавали ученицы хорошо, даже лучше, чем в прошлом году. Из 29 учениц ни у одной не вышло в среднем даже тройки, а все четверки и пятерки.
Относительно Б-ского открываются новые факты, освещающие его и как частного человека с весьма несимпатичной стороны. Оказалось, что он женат (хотя тщательнее скрывал это), но оказался настолько «хорошим» семьянином, что жена не стала с ним жить, а теперь у них идет дело по суду. Оказалось также, что он не платит своих долгов, хотя и пьет ликеры и шампанское, и теперь один из кредиторов предъявил уже исполнительный лист на его жалование.
Я со своей стороны тоже хочу расквитаться с ним за ту травлю, которую он поднял против меня в черносотенной прессе. Собрав некоторые доказательства того, что автором статей и в «Русском знамени», и «Стреле» является сам Б-ский, я послал сегодня заявление бывшему ревизором здесь окружному инспектору с просьбой привлечь Б-ского к законной ответственности, а против самих газет намереваюсь возбудить судебное преследование в частном порядке. Доколе, в самом деле, эта шайка будет измываться над нами?
8 мая
Председатель Б-ский эти дни довольно корректен с нами. Вероятно, опять устроил какую-нибудь пакость: написал либо донос, либо корреспонденцию. У него любезностью всегда прикрываются какие-нибудь подлости. И теперь тоже он что-то подкапывается под меня, но — по обыкновению — окольными путями. Когда я пришел сегодня в VI класс, ученицы обратились ко мне с вопросом, как обратить выражение «человек купил лошадь» в страдательный залог. Я, конечно, сказал: «Лошадь куплена человеком». Тогда ученицы, смеясь, рассказали мне, что когда они сегодня на уроке французского языка сказали так, то Б-ский не согласился, но не сказал, как будет по его мнению и оставил их в недоумении. Такое невежество в области родного языка даже и ученицам бросается в глаза. И этот-то господин призван контролировать всех нас, а в области русского языка считает себя даже «специалистом». Не меньшую «образованность» проявил он на сегодняшнем французском уроке в VI классе и в области преподавания литературы, спросив учениц, по Саводнику или нет проходят они иностранную литературу. Это опять вызвало у учениц самые нелестные для него комментарии, т<ак> к<ак> учебник Саводника исключительно по русской литературе. Но спрашивал он, конечно, не без цели. Опять, вероятно, подготовляет материал для какого-нибудь доноса.
В V классе сегодня составляли характеристику Катерины (из «Грозы»). Среди учениц все время почти шли споры относительно разных черт ее характера, а мне приходилось только регулировать эти прения, высказывая иногда и свое мнение. В заключение я посоветовал особенно горячо спорившим ученицам З-ной и Б-ной почитать критические статьи о Катерине. При этом оказалось, что З-на уже читала «Луч света» Добролюбова, что, видимо, и повлияло на ее взгляды. Я посоветовал ей тогда для освещения вопроса с другой стороны прочесть статью Писарева. После таких споров стремление разобраться в вопросе и интерес к критическим статьям может, конечно, развиваться больше. А это уже большой плюс.
Под конец учебного года утомление заметно уже дает себя знать. Теперь работы не так уж много, но и за нее очень трудно браться. Появляется какая-то лень, дело идет вяло, медленно, внимание отвлекается в сторону. Вполне понятно становится, что такое же состояние бывает иногда и у учениц. А им теперь, под конец учебного года, когда силы и так уже порастрачены, приходится особенно напрягать их, готовясь к экзаменам и волнуясь при ответах.
10 мая
Сегодня были последние уроки в V и VI классах. Повторяли старое, исправлялись на высшие баллы. В VI вышло 6 двоек за год, а в V — две. Но расстались с обоими классами вполне мирно. Так же мирно (как это ни удивительно) прошел у нас вечером педагогический совет.
11 мая
Прошел и устный экзамен у моих специалисток — словесниц. Б-ский, уже заранее заявивший мне, что он, будучи учителем словесности, — проходил Некрасова, только его одного, видимо, и знает, т<ак> к<ак> все вопросы, задававшиеся им, были исключительно из стихотворений Некрасова, хотя ученицы сдавали, сверх того, и Герцена, и Л. Толстого, и Достоевского. За устные ответы и за сочинение Б-ский баллы систематически всем понижал (некоторым за сочинения, оцененные четырьмя другими экзаменаторами баллом 5, он поставил даже 3– и 3=, ни словом не мотивировав это понижение). Но при выводе среднего балла вопрос решался по большинству, и так как остальные все были солидарны, то его баллы оставались ни при чем. Поэтому в результате отметки оказались даже значительно выше годовых. Из девяти специалисток ни у одной не вышло тройки: трое получили по 5 и шестеро по 4. В заключение, прочитавши им баллы, я поздравил их с окончанием курса, так как у семи из них (не имеющих других специальностей) все экзамены уже кончены.
П-ной, подавшей вместо экзаменационного сочинения почти чистый лист, даже Б-ский поставил единицу. Теперь, когда она воочию показала еще раз свои знания, остается уволить ее по малоуспешности (в других гимназиях даже и с годовой двойкой не допускают, а П-на была допущена). Но ее покровителю Б-скому этого, видимо, не хочется, т<ак> к<ак> провал на экзамене подтвердил справедливость моей оценки. Поэтому, когда на последнем совете поднялся вопрос с П-ной, председатель замял его, а на следующий день, очевидно по его указанию, отец П-ной подал прошение об увольнении его дочери, так чтобы она была уволена не по безуспешности, а по желанию родителей, как не державшая экзаменов. И Б-скому так хотелось осуществить эту комбинацию, что во время экзамена словесности в VIII классе, он вместо того, чтобы слушать ответы учениц, все время толковал об этом свидетельстве то с начальницей, то с ее секретарем, уводил их в другую комнату и т. д. Одним словом, ясно показал, что П-на для него важнее всех экзаменов и всех учениц.
13 мая
Я всегда был того мнения, что излишняя снисходительность только вредит в учебном деле. И с каждым годом это для меня становится очевиднее. Я помню, с какими натяжками вытянули в прошлом году из VII класса некую В-ву, ничего не смыслившую по всем отделам математики. И что же? Когда мне пришлось заниматься с ней по методике арифметики, то оказалось, что она не в состоянии постигнуть и этого предмета, т<ак> к<ак> благодаря снисходительности окончила 7 классов, совсем не усвоив математики. За весь год у нее был по методике арифметики только один удовлетворительный балл, а за все остальные ответы, и устные, и письменные, и за репетицию, были двойки. За год поставил, однако, с натяжкой 3. А на письменном экзамене она написала опять таких нелепостей, что вполне можно было поставить 2. Но т<ак> к<ак> устного экзамена по этому предмету нет и двойка имела бы для нее роковое значение, то я поставил все-таки 3–. Так и кончила девица с полным невежеством в области математики. Но будь бы преподаватели к ней построже, и ей волей-неволей пришлось бы подтянуться, хотя бы даже и с помощью репетиторов (т<ак> к<ак> родители ее — люди вполне обеспеченные).
15 мая
Б-ский продолжает самодурствовать. Внушения, данного ему ревизором, хватит ненадолго. Да такого субъекта, действительно, только могила исправит. Понижал всем баллы за сочинения по словесности и, ничем не мотивируя это, он — при выводе среднего балла — считался все-таки и с баллами других. Но теперь дошла очередь до математики, и он проявил себя еще лучше. Он понизил баллы не только за арифметические работы, но даже и за алгебраические. И при том как? Лучшей математичке в классе, которой оба специалиста-математика поставили 5, Б-ский «влепил» 2, хотя ни одной лишней ошибки не указал и, по обыкновению, оценки своей ничем не мотивировал. И в результате при четырех пятерках и своей двойке вывел четыре; но четыре же вывел и другой ученице — при четырех четверках и своей двойке. Вот человек, не признающий ни логики, ни арифметики!
16 мая
Начались переводные экзамены во всех классах. А ученицы-то все мечтали ныне о каком-то манифесте, который освободит их от переводных экзаменов по случаю юбилея!
Проверяли работы четвероклассниц по русскому языку, которому ныне обучила их фаворитка Б-ского классная дама В-ва. И что же оказалось? Она напропускала в диктовке по крайней мере половину ошибок и наставила ученицам высоких баллов, видимо, стремясь создать дутую успешность. Пришлось отметить все пропущенные ею ошибки (по две и больше грубых ошибок в каждой работе) и понизить баллы чуть не всем. Теперь у В-вой будет зато лишний повод агитировать против меня и характеризовать меня перед ученицами как виновника их провала. А что же я буду делать с безграмотными ученицами в V классе, когда теперь предъявляются к орфографии такие строгие требования? В старших классах заниматься орфографией некогда: при том числе уроков, какое отводится на словесность, едва успеваешь и литературу-то пройти (и то в меньшем объеме, чем в мужских учебных заведениях). Перешедшие в V класс безграмотными такими же и остаются. А на меня летят доносы в округ и корреспонденции в черносотенные газеты, издевающиеся над слабой орфографией моих учениц. Чем же я виноват, когда в младшие классы садят таких «педагогов», как В-ва, которые ни к чему не способны, кроме «подхалимства»? А попробуй оставить из-за безграмотности хотя бы треть класса, какие вопли подымут тогда на меня почтенные родители!
17 мая
На гимназию свалился новый сюрприз. Пришла циркулярная бумага от попечителя, по которой закрываются приготовительные классы по всем гимназиям нашего округа. Мотивируется это тем, что благодаря приготовительным классам бывает очень большой наплыв учениц в первый класс, что вызывает переполнение классов или требует открытия параллелей. А так как наше начальство стремится к тому, чтобы число учащихся было как можно меньше, то оно и додумалось до такой меры. Но цель эта, конечно, не будет достигнута такой мерой, т<ак> к<ак> родители, отдававшие дочерей в приготовительные классы (т. е. люди более состоятельные), все равно не оставят своих дочерей неучами, будут так или иначе готовить их и опять сдавать в первый класс. Но, издавая это распоряжение, окружное начальство не подумало, что приготовительные классы при гимназиях с VIII классом играют роль образцовой школы, где восьмиклассницы практикуются в деле обучения. Что же получится теперь, когда этих классов не будет? Хождение по чужим школам сопряжено с лишней потерей времени и со многими другими неудобствами. Придется, значит, сократить и число уроков по начальному обучению, что должно вредно отозваться на педагогической подготовке восьмиклассниц. Неужели окружное начальство столько же смыслит в этом деле, сколько наш Б-ский, который сегодня заявил мне, что в начальном обучении восьмиклассницам совсем незачем практиковаться? Остается тогда закрыть заодно и восьмой класс!
18 мая
До чего мы, педагога, запуганы! За последнее время пошли слухи, что приедет попечитель с окружным инспектором. И вот маленькому сыну одной учительницы показалось, что по улице шел окружной инспектор. Слух разнесся по гимназии, и некоторые из педагогов, опасаясь «как бы чего не вышло», устремились по домам, чтобы принять более парадный вид. Но тревога оказалась ложной… А нас выставляют еще как каких-то революционеров!
19 мая
Проверяю экзаменационные работы своих шестиклассниц и пятиклассниц. Написавшим неудовлетворительно придется сдавать повторный устный экзамен. Этого требуют министерские правила, которые сами таким образом культивируют безграмотность, которую потом сваливают на нашу голову. В самом деле, если ученица пишет плохо, разве поможет ей устный экзамен? И не полезнее ли было бы для нее назначить ей письменный же экзамен на осень. Вместо этого мы всех «двоешниц» должны экзаменовать устно и, если они получат хотя бы 4 (что совсем не трудно), они, не умея писать больше, чем на 2, механически переводятся в следующий класс, т<ак> к<ак> в среднем получается 3, т.е. переводной балл. А начальство потом удивляется и возмущается, что в старших классах могут оказаться малограмотные ученицы.
Ввиду этих строгих требований к орфографии, которые теперь предъявляются, приходится за орфографические ошибки сильно понижать балл (тем более что нынешние работы пойдут на просмотр не только Б-скому, но и в округ). А между тем родители и репетиторы, которые теперь осаждают меня, справляясь об отметках своих питомцев, готовы счесть всякий плохой балл за личное оскорбление, воображая, должно быть, что мы можем поставить, сколько хотим. Сегодня, например, одна мамаша, узнав, что я поставил ее дочери 3– (она и вообще-то учится у меня или на тройки, или на двойки), осталась недовольна, и, не видав самой работы, не зная и общих требований, предъявляемых к ним, стала настаивать на своем — чтобы я зачеркнул хотя минус. «Хоть ради меня это сделайте!» — мотивировала она.
Бывает иногда, к сожалению, и еще хуже. Сегодня газета сообщает, что в соседнем городе одна ученица VII класса, узнав, что ей за за сочинение по словесности 2, перерезала себе кровеносные сосуды… Ученица, как пишут, бедная, и, по-видимому, едва ли могла лучше учиться. Но виноват ли в этом и учитель? Я лично знаю его как человека порядочного и благожелательного к учащимся. И такие трагедии каждый день висят над нашей головой — трагедии, предотвратить которые не в нашей власти.
Свалилась гора с плеч! Прошел самый трудный из моих устных экзаменов словесности в VII классе, и прошел притом хорошо. Несмотря на присутствие Б-ского, который спрашивал очень многих учениц и почти веем понижал баллы, результаты получились отрадные: баллы получились выше годовых; вместо одной пятерки вышли пятерки у четверых, никто не провалился, и даже троек получилось в общем выводе только девять (из 32-х учениц). И я, и ученицы были довольны. Особенно приятно было, что Ю-ва, провалившаяся в прошлом году на словесности, ныне в среднем выводе получила пять.
Вечером заходил ко мне словесник из реального училища узнать баллы двум шестиклассницам, с которыми он занимался как репетитор. Оказалось, что обе они получили по два и должны будут сдавать устный экзамен. Прощаясь, этот педагог, которого притом намечают к нам в председатели вместо Б-ского, попросил, чтобы я «поддержал» их на устных экзаменах. Этак, пожалуй, опять наживешь себе врага!
21 мая
С 9 ч. утра и до 8 ч. вечера сидел на экзамене по русскому языку, т. е. у учениц, которые переходят от фаворитки Б-ского — В-вой ко мне. Отвечали из рук вон плохо, хотя спрашивали только по одному билету. За диктовку вышло тоже много двоек, т<ак> к<ак> В-ва, напропускавшая в некоторых работах по 14 грубых ошибок, со своими высокими баллами осталась в меньшинстве. В результате из 54 учениц В-вой у 22-х в среднем выводе вышли двойки, т. е. будет дана осенняя переэкзаменовка. Тогда как из 22-х экстернов (которых спрашивали по всей программе и у которых не было для поддержки годовых баллов) двойки получили только четверо. Это был настоящий скандал для В-вой как для учительницы. А она, в подтверждение собственной грамотности, приложила еще к делам собственноручно написанную и подписанную ей программу, где слово «местоимение» все время изображается через два «ѣ». Для учениц, конечно, такой провал неприятен. И В-ва уже занялась сваливанием с больной головы на здоровую, т. е. агитацией прежде всего против меня. Она не только сказала ученицам те баллы, которые поставила им сама (т. е. баллы более высокие), но даже показывала им письменные работы, чтобы те видели, кто понизил им балл. И теперь, конечно, как ученицы, так и родители в претензии на меня. Но как же я мог им не понижать, когда она пропускала иногда по целому десятку грубых ошибок?
22 мая
Проверка работ V и VI классов окончилась. Но результаты получились какие-то странные. VI класс, который шел у меня хуже, исполнил работу лучше (6 двоек), а V класс, что называется, отличился: из 39 учениц у 17-ти оказались двойки. Объясняется это, по всей вероятности, тем, что в VI классе была более легкая тема («Характер Молчалина»), чем в V («Сравнительная характеристика Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны»), что всегда отражается и на орфографии. Притом и самые сочинения пятиклассниц больше по объему, следовательно, и ошибок пропорционально должно быть больше. Возможно также, что повлияло и то, что в VI классе наиболее слабый элемент (6 учениц) к экзаменам не был допущен, в V же осенняя переэкзаменовка назначена только двоим. Интересно, не отразились ли на успешности пятиклассниц и те занятия орфографией, которые я ввел у них за последнее время (повторение правил, списывание, диктовки). К сожалению, этого в точности выяснить невозможно.
Но зато среди работ шестиклассниц нашлось два сочинения, буквально списанных из учебника Саводника. Вчера приходила мать одной из этих учениц, спрашивая, что ей за это будет, и опасаясь, чтобы Б-ский не поднял вопрос об ее исключении, т<ак> к<ак> она еврейка, а он, как союзник, является юдофобом. Насчет исключения я ее успокоил, но т<ак> к<ак> за работу поставлено 2, то будет дан повторный устный экзамен, в крайнем же случае осенняя переэкзаменовка. Сегодня заходила ко мне и сама ученица. В противоположность матери, которая стыдится поступка дочери, сама ученица, стоя на точке зрения школьной морали, не видит в списывании ничего позорного и сожалеет только, что «шпаргалка», которой она воспользовалась, списана с учебника, отчего ее «преступление» и оказалось возможным так легко открыть.
Мои бывшие ученицы
23 мая
Начали съезжаться из университетских гордое мои бывшие ученицы, обучающиеся теперь на разных курсах. С большинством из них у меня хорошие отношения, и встречаться с ними весьма приятно. Они делятся между собой, конечно, на разные кружки — по курсам, по выпуску, к которому они принадлежали. Но у меня, как занимавшегося последовательно со всеми ими, во всякой почти группе есть свои хорошие знакомые. Таким образом, теперь почти вся здешняя женская молодежь, обучающаяся на курсах, связана со мной общими школьными воспоминаниями, да и теперь не прерывает со мной знакомства. Приятно сознавать, что есть и моя доля в деле подготовки этой молодежи к высшей школе и к жизни. Правда, учиться им приходится в эпоху безвременья и общественной апатии, когда даже и в студенческих кругах царит безыдейность.
24 мая
Б-ский совсем забастовал и на экзамены не ходит. Начальнице же приходится из-за этого нести двойную работу. Сегодня, например, с 9 ч. утра и до 4 ч. дня она сидела на экзамене географии. А с 4 ч. и до 8 ч. вечера пришлось сидеть на моем экзамене. У меня держали ученицы V и VI классов, получившие на письменном экзамене 2. Большинство из них, конечно, выдержало, т<ак> к<ак> получили четверки. Но в V классе все-таки пятеро провалилось, а в VI — одна. Эта последняя — та самая Р-ва, которая, ничего не делая во время года и занятая больше нарядами и прогулками, встречала каждую двойку слезами — устроила и теперь бурную истерику с причитаниями на всю гимназию. «Поставьте мне три!» — вопила она со слезами, видя около себя начальницу и классную даму, — «Иначе я и домой не пойду… Утоплюсь, задавлюсь!» Все это действовало, конечно, крайне неприятно и на нас, и на учениц, которые и без того были нервно настроены. А между тем Р-ва ничего больше двойки не заслуживала, так как и годовая тройка была у нее сомнительная (за две четверти — двойка и за письменную работу — двойка, и устно она показала незнание даже таких правил, как употребление «с» и «я» во множественном числе имен прилагательных). Как же мог я допустить ее с такими познаниями в VII класс, тем более что причиной неуспешности является лень? Притом ведь она еще и не оставлена, а только получила осеннюю переэкзаменовку, которую при известном старании может благополучно сдать. Почему же и ученицам и их родителям не смотреть на дело более просто? Раз девица малоподготовлена, значит, ей надо лишнее время позаниматься. Я со своей стороны мог бы указать, в чем она более слаба, как устранить эти дефекты. А вместо этого чисто делового взгляда на переэкзаменовки и т.п. получается целый ряд тяжелых сцен: неприятные объяснения с обиженными родителями, слезы и истерики учениц. Но что всего тяжелее, так это угрозы самоубийством, которые теперь стали столь обычными и которые, к сожалению, не всегда остаются одними угрозами. Но ведь не можем же мы руководиться при оценке знаний учениц степенью их истеричности!
25 мая
Сегодня зашла ко мне моя бывшая словесница и постоянная оппонентка по прошлому году И-и, которая всю зиму училась на курсах в соседнем университетском городке. Несмотря на то что в прошлом году мы немало портили крови друг другу, встретились мы как добрые знакомые. И-и пришла посоветоваться со мной насчет экзамена на аттестат зрелости. Я пошел вместе с ней и помог ей найти репетитора. Мне было приятно и обращение ее ко мне, и то, что я имел возможность оказать ей некоторую услугу. Приятно, что вместо тех иногда неприязненных отношений, какие бывали между нами, теперь устанавливаются иные. Встречаюсь иногда с М-вой (с которой в прошлом году тоже часто ссорился), и теперь уже не чувствую к ней никакой неприязни. Не здороваюсь только с Т-ной. Из нынешних же восьмиклассниц ко всем отношусь хорошо. А из семиклассниц не стал здороваться с П-ной после того, как она выступила в роли шпионки Б-ского. Вообще же я невольно испытываю ко всем своим бывшим ученицам какое-то теплое чувство, чувство, основанное на том, что в свое время я трудился для них и принес им некоторую долю пользы. Мне кажется, что — испытывая по отношению к ним это чувство — я начинаю понимать и чувство родителей к детям. И как родители, жившие для детей, уже за это одно привязываются к ним; дети же относятся к ним более холодно — так и учителя больше любят своих учеников, чем ученики своих педагогов. Даже такие черствые формалисты, как директор мужской гимназии Н-в, не чужды некоторой привязанности к своим бывшим ученикам, или, по крайней мере, к лучшим из них. Для учеников же школа только один из этапов их развития. И то, что дал им этот этап, они вспомнят разве только потом; теперь же, в период развития, все мысли их обращены к будущему, вперед. И это будущее, давая новые сильные впечатления, часто затмевает их школьные переживания. А мы, их учителя, смотря на их движение вперед, невольно повторяем про себя последний монолог Лаврецкого.
28 мая
Нравственный облик нашего председателя все больше и больше обрисовывается. Это, оказывается, форменный алкоголик, который никак не может удержаться от кутежа, пока есть деньги. Поэтому после получки жалованья он в гимназию обыкновенно не ходит. А так как в этом месяце жалование выдавали два раза (за май и за июнь), то он совсем свихнулся и теперь на экзамены совершенно не показывается. А когда его желает кто-либо из нас видеть по делу, то он или совсем не принимает, сказываясь больным, и просит письменно изложить, что надо, давая через официанта письменные же ответы, или, даже и выходя из номера, принимает в коридоре гостиницы, а в номер к себе не пускает даже мужчин. Его фаворит Степан недавно рассказал еще некоторые пикантные подробности его жизни. На Пасхе, например, он кутил вместе с гимназистскими швейцарами. А в другой раз «накачал» двух местных союзников, поразив их выставленной батареей дорогих вин (недаром вскоре после его избрали в товарищи председателя местного отделения Союза). Обычно же, по словам Степана, он пьет один и так пристрастился к этому, что не решается даже поехать к своей матери, которая пьяниц не любит. И такой-то субъект «возглавляет» учебное заведение и может, делая педагогическую карьеру, испортить жизнь целым десяткам других, более достойных педагогов. Местные союзники, по крайней мере, открыто говорят, что хлопочут уже о назначении его на место инспектора народных училищ. И хотя в начальном обучении он ровно ничего не смыслит, это, вероятно, осуществится, т<ак> к<ак> поддержка союзников (один из них даже в переписке с Пуришкевичем) по нынешним временам много значит. Как же будет обращаться он с несчастными народными учителями, если даже и с нашим братом нисколько не стесняется! Персоналу же нашей гимназии, имевшему несчастье попасть под его «команду», это, наверно, долго еще будет помниться, если он и уйдет, т<ак> к<ак> местные союзники, раньше ничего не имевшие против нас, теперь благодаря ему сильно восстановлены против нашей гимназии и грозят, что если окружное начальство будет нам «мироволить», то они дойдут и до министра. Во всяком случае теперь наша служебная репутация уже надолго испорчена.
30 мая
Узнал, чем объясняется хорошее исполнение экзаменационной работы шестиклассницами. Дело очень просто. У них были запасены с собой учебники и «шпаргалки» с заранее написанными сочинениями на разные темы. Во время экзамена мне приходилось иногда уходить из класса, оставляя их с классной дамой В-вой (которую во время классных сочинений в течение учебного года теперь уже не пускают в класс, заменяя кем-нибудь другим). Пользуясь ее «благосклонностью», ученицы открыто «сдували» и с учебника, и со «шпаргалок». А классная дама следила только за тем. чтобы я внезапно не застал их за этим занятием, и предупреждала учениц о моем приближении. Благодаря такому беззастенчивому мошенничеству, развращающему класс, все, кто менее стеснялся, написали хорошо (попались только списавшие с учебника). Более же честные девушки, презиравшие такие приемы, писали сами, и у них вышло, конечно, хуже. Таким образом, выставляя экзаменационные баллы, я, собственно говоря, оценивал степень бессовестности учениц, систематически развращаемых своей классной дамой. А между тем экзаменационным баллам (за одно, и притом написанное таким образом сочинение) приходится отдавать преимущество перед годовыми, выведенными, по крайней мере, на основании восьми письменных работ и 4–5 устных ответов. Все это еще ярче оттеняет случайный характер экзаменов, имеющих в то же время такое решающее значение. Такие же «педагоги», как В-ва, не приносящие ученицам ничего, кроме вреда, пользуются любовью у теперешней беспринципной молодежи и поддерживаются как начальниками типа Б-ского, к которым они умеют подслужиться, так и черносотенной прессой.
31 мая
На днях на проверочном экзамене в III классе (получивших два на письменном) «провалилась» одна ученица, и хотя это особенного значения еще не имело, т<ак> к<ак> обрекало ее только на осеннюю переэкзаменовку, однако вызвало с ее стороны сильный истерический припадок. Оказывается, дома содержат ее в большой строгости и, отправляя на экзамен, сказали, чтобы она и домой не приходила, если провалится. Утешавшая ее классная дама хотела сама проводить ее, чтобы умилостивить родителей. Но девочка просила не ходить, говоря, что ей тогда еще хуже достанется. Не обусловливаются ли очень часто такие школьные инциденты и большая чувствительность детей к разным двойкам, переэкзаменовкам и т.п. именно ненормальными семейными условиями? Ведь родители сплошь и рядом вместо того, чтобы вникнуть в причины неуспешности детей и помочь им, прибегают только к мерам строгости. Еще чаще сами же родители сваливают неуспешности детей на школу, обвиняя в присутствии детей самих педагогов. А все это создает и у учащихся, вместо нормального отношения к делу или чувство страха, или мысли об обиде, несправедливости. И на этой почве вырастают пышным цветком разные школьные инциденты (вроде истерик, самоубийств и т. д.), которые особенно развились за последние годы.
1 июня
Наш председатель не только не ходит в гимназию, но и не принимает никого из нас лично. А если кому надо переговорить с ним по делу, то посетитель, сидя в коридоре гостиницы, должен написать на записке что надо и послать в номер с официантом; а председатель запиской же даст ответ, иногда, впрочем, не сразу, а часов через семь. Бумаги и резолюции он пишет. Значит, вовсе не болен. К чему же тогда все эти китайские церемонии? А до чего он мелочен и глуп! Не будучи в состоянии «поддеть» начальницу на чем-либо существенном, он все-таки продолжает писать о ней корреспонденции в «Стреле». И о чем только не пишет! В одном из последних номеров, например, напечатано, будто начальница нарочно устраивает в гимназии сквозняки, чтобы простудить Б-ского; что она «развела» в гимназии крыс и т.п. Кто же, кроме самого Б-ского, не раз спорившего с ней из-за открытого окна, мог все это написать? Так же не скрывает он своего авторства и в других случаях. Например, сразу после того, как попечительский совет отказал ему в пособии, появилась корреспонденция, где и попечительский совет изображен как левый. Не скрывает он и своих связей с союзниками. Когда, например, попечительский совет заслужил Высочайшую благодарность за телеграмму, Б-ский в протоколе написал, что телеграмму с попечительским советом он не посылал, т<ак> к<ак> послал ее вместе с председателем местного отдела Союза русского народа.
3 июня
1 июня все экзамены в нашей гимназии кончились. Семиклассницы, желая ознаменовать окончание курса, решили устроить вечеринку. Но педагогического совета еще не было, и из-под ведения гимназического начальства они еще не вышли. Поэтому, хотя вечеринку устраивали в частном доме, у родителей одной семиклассницы, но, напуганные сумасбродством председателя, все опасались, «как бы чего не вышло». В самом деле, узнай он о такой невинной вещи, разве не мог бы он явиться туда с нарядом полиции? И вот — в ограждение от этого, с позволения сказать, педагога — хозяин дома принужден был заявить о вечеринке в полицию, хотя о таких домашних празднествах здесь не принято заявлять. На вечер были приглашены кроме гимназисток и все преподаватели старших классов. Таким образом, наши ученицы ясно подчеркнули свое доброе отношение к нам. Была приглашена и начальница. Б-ский же, конечно, приглашения не получал. А он, возмущаясь нами и настаивая на нашем увольнении, пишет в «Русском знамени»: «Хоть бы родителей пожалели, а о дочерях уж и говорить нечего!»
4 июня
Сегодня был последний в этом году педагогический совет. Б-ский даже и на него не пожаловал, поручив председательство начальнице. Совет потому прошел мирно. Решения принимались единогласно. Даже В-ва и Ч-ва, чуя, видимо, недолговечность своего патрона, повернули фронт и голосовали вместе с остальными. Результаты экзаменов оказались очень хорошими в VII и VIII классах. В VIII почти совсем нет троек. А в VII классе из 30 учениц у 10 вышли медали (4 золотых и 6 серебряных). Таким образом, наша гимназия, которую так «честит» ныне черносотенная пресса (вернее — наш «собственный корреспондент» — Б-ский), работает вовсе уж не так худо.
В частной гимназии в этот день был еще экзамен. И одна шестиклассница, получив 2 по алгебре, вне себя, в одном платье выскочила на улицу и со слезами бросилась бежать, угрожая утопиться. За ней бросились ее подруги, реалисты, публика. Наконец, уже около нашей гимназии ее остановил какой-то офицер и завел в ограду. Прибежавшая туда с совета наша начальница застала ее рыдающей и поддерживаемой офицером, а у ворот собралась целая толпа зрителей. Завели девушку в помещение нашей гимназии, стали утешать, послали сказать и в частную гимназию. Наконец, приехавшая оттуда классная дама увезла ее с собой. Хорошо еще, что все кончилось благополучно. А между тем причина такая, в сущности, ничтожная. Ведь при этой двойке она могла вполне поправиться еще на осенней переэкзаменовке и благополучно перейти в следующий класс. Крайне тяжело, конечно, доводить учениц до такого состояния, но что же, с другой стороны, делать преподавателям, если работа учениц, действительно, больше двойки не заслуживает?
5 июня
Сегодня был молебен. Но окончившие курс остались без аттестатов и свидетельств, хотя некоторым из них необходимо теперь же отправлять их на курсы и т.п. Виновник этого — опять же наш председатель, который, будучи занят то пьянством, то политиканством, не позаботился вовремя выписать бланки для аттестатов, а потому они до сих пор еще не получены.
7 июня
Вот и официальное окончание учебного года, проведенного нами в таком нервном состоянии. Под конец мы с нетерпением ждали результатов ревизии и в глубине души не теряли надежды, что наш председатель Б-ский, ознаменовавший свое «правление» не только целым рядом бестактностей, но даже и уголовных поступков (превышение власти, ложные доносы, разглашение служебных тайн), получит, наконец, достойное возмездие. Но сегодняшний день сильно поколебал эти надежды и принес новые огорчения. Прежде всего, ввиду закрытия младшего приготовительного класса (старший пока остается) одна из учительниц приготовительного класса должна была остаться за штатом. И мы думали, что эта участь постигнет занимающуюся ныне в старшем приготовительном классе учительницу Ч-ву, т<ак> к<ак> с будущего учебного года ей следовало взять младший приготовительный класс. Учительница же Н. П., которая ныне занималась в младшем приготовительном классе, а на будущий год должна была вместе со своими ученицами перейти в старший, должна бы ввиду сокращения этого последнего еще остаться; тем более что эта учительница стоит несравненно выше г. Ч-вой как человек молодой, талантливый, энергичный. Но по тут-то было! Вопреки здравому смыслу и в ущерб интересам дела Н. П. получила, по представлению Б-ского, увольнение за штат, а ее класс передан Ч-вой, которая давно уже вызывает возмущение родителей своим небрежным отношением к делу. И все только оттого, что она фаворитка Б-ского!
Сам же Б-ский, вопреки нашим ожиданиям, получил не увольнение и предание суду, а двухмесячный отпуск с сохранением содержания. Но если его дело выгорело, значит нам, остальным, кто хочет служить, а не прислуживаться, остается только убираться из гимназии или ждать, что и без прошения уберут.
С тяжелыми чувствами кончаю я этот год. Немало пришлось испытать нам под управлением Б-ского. А дальше, возможно, будет и еще хуже. В такую уж полосу попала наша русская школа! Новые штаты не коснулись нас, забытых педагогов женских гимназий, но новые веяния, разрушающие в школе все живое, достались нам в такой дозе, какая встречается далеко не в каждой гимназии. Находясь под командой Б-ского, мы воочию испытали на себе справедливость слов Маклакова в его последней думской речи: «Водворяется царство не государственных людей, а фаворитов правительства новой формации, политика лести в одну сторону и озорства в другую, политика невежества, которое принимают за свежесть, бесшабашность, которую принимают за силу. Начинается время тех новых людей, на которых старые серьезные люди смотрят с изумлением… Для того чтобы идти вместе с властью, мало быть человеком порядка, мало любить величие России, — нужно быть лакеем в душе!»
1913–1914 Учебный год
Новый учебный год
4 августа
Снова пролетело лето, давшее возможность несколько отвлечься от обыденной учительской жизни и отдохнуть. Но и тут, среди чудной горной природы, гимназия не давала забыть о себе. Так сильно расшатал нервы предыдущий учебный год, что и летом почти каждую ночь я видел кошмарные сны, где фигурировали и педагоги, и ученицы, и пресловутый Б-ский. Теперь, наконец, выясняются некоторые результаты ревизии. Б-ский и его шайка, несмотря на поддержку местных союзников и даже столичной черносотенной прессы, оказались невыносимыми даже для такого заядлого реакционера, как наш попечитель. И клубок взаимных жалоб и разоблачений стал распутываться пока в нашу сторону. Уволена уже ставленница Б-ского — классная дама В-ва, испортившая мне за время службы немало крови. Другая фаворитка Б-ского — учительница приготовительных классов Ч-ва осталась за штатом. А самому Б-скому давно бы уже следовало быть на скамье подсудимых (если не в сумасшедшем доме). Но окружное начальство не смеет справиться с ним, ссылаясь на то, что у него сильные связи. Ему предложено, правда, прошение об отставке как лицу, «недостойному занимать такой высокий пост». Но вместе с тем окружное начальство дало о нем хорошие отзывы в другие учебные округа, сознательно вводя в заблуждение своих коллег. Таким образом, карьера этого параноика далеко еще не кончена. И если со скверным отзывом из предыдущего места службы (откуда его уволили) он попал к нам на высший пост, то теперь с хорошим отзывом от нашего попечителя он сможет подняться и еще выше. И, поддерживая его ради какой-то протежирующей ему персоны, никто не подумает, как отзывается его деятельность на педагогах и ученицах. А ведь это все живые люди, созданные вовсе не для таких рискованных экспериментов!
8 августа
Начался учебный год, по обыкновению, с самой неприятной работы. Опять предстали друг перед другом два враждебных лагеря: малоспособные или ленивые ученицы, желающие проскочить в следующий класс, и педагоги, не желающие пропускать в старшие классы малоподготовленный элемент, который уже и так служит обузой. Особенно тяжело в этом отношении положение нас, словесников. Больное место учениц — это орфография. Все переэкзаменовки по словесности в V и VI классах обусловлены малограмотностью учениц. А разве может их орфография существенно измениться, если они только в июле взялись за ум и немного позанимались диктовками с каким-нибудь студентом? И вот на письменной переэкзаменовке у доброй половины учениц опять двойки. Девицы, конечно, расстроены и недовольны, ибо это означает в большинстве случаев уже оставление на второй год. Родители тоже раздражены перспективой лишний год платить за дочерей и винят за все педагогов. А что же мы можем сделать? Неужели всех поголовно переводить? Ведь и так большинство переходит в старшие классы малограмотными. И нам приходится, с одной стороны, выслушивать упреки начальства за излишнюю слабость (Б-ский сбавлял мои баллы на две и на три единицы и писал в «Русском знамени» о малограмотности учениц, да и ревизор сделал мне замечание на этот счет, а мне пришлось по этому поводу отписываться); а с другой — выдерживать атаки родителей и репетиторов, обвиняющих нас в чрезмерной строгости.
9 августа
Вместо уволенной ставленницы Б-ского В-вой, занимавшейся по русскому языку в IV классе, округ перевел к нам некую Ш-ву. Эта особа служила все время в частной гимназии своей сестры и здесь, видимо, привыкла к игре в дешевую популярность, снискиваемой всякими поблажками ученицам и заискиванием перед родителями, на что уважающий себя педагог, конечно, не пойдет. На этой почве с первых же дней совместной службы мне пришлось уже столкнуться с ней. Во время диктовки в IV классе, где из-за В-вой больше двадцати учениц отличаются своей малограмотностью, Ш-ва спрашивала, как я оцениваю работы. Я сказал, что при 5–6 грубых ошибках я больше двойки не ставлю, да иначе нельзя, т<ак> к<ак> начальство и так недовольно, что до старших классов доходят у меня малограмотные ученицы. При диктовке же ставить более щедро и вовсе не приходится, т<ак> к<ак> ученица, сделавшая в диктовке 5–6 ошибок, в сочинении сделает уже 10. «Не 10, а даже больше» — подтвердила Ш-ва. На этом мы и расстались. Каково же было мое удивление, когда сегодня явилась в гимназию одна мамаша и рассказала, что она справлялась у Ш-вой о диктовке своей дочери, и Ш-ва ей сказала, что она не прочь бы поставить ей и 3, но у нее пять ошибок, а я и за пять ошибок «велел ставить 2». Это бесцеремонное искажение моих слов и совершенно бестактное натравливание родителей и учениц на своего коллегу глубоко возмутило меня. И без того нелегко лавировать нам среди всех противоположных требований, предъявляемых с разных сторон к педагогу. А тут еще такие выходки разных В-вых и Ш-вых, играющих в дешевую популярность и притом еще на чужой счет!
1 сентября
Еще одна приятная новость. Директор мужской гимназии, пресловутый Н-в, друг и вдохновитель нашего Б-ского, тоже слетел с должности: его перевели в другой город на место учителя. На этот раз, таким образом, борьба против шайки этих, с позволения сказать, педагогов, окончилась удачно. Но удача эта скорее случайность. С одной стороны, очень уж глупы оказались и Б-ский и Н-в; а с другой стороны, ревизор на наше счастье оказался порядочным человеком и отнесся к делу объективно. Притом хотя мы пока и уцелели, но доносы Б-ского, наверно, все-таки до некоторой степени скомпрометировали нас в глазах начальства. К тому же местные союзники теперь, вероятно, постараются нам отомстить за неудачу своей кампании. Поэтому приходится быть особенно настороже, не допуская в своих действиях ничего такого, что может быть истолковано в дурном смысле. Во избежание всяких кривотолков я выпустил ныне из программы VIII класса Герцена, хотя он из министерской программы пока еще не изъят. Пришлось значительно сократить и список книг, рекомендованных для внеклассного чтения. Новых писателей (Вересаева, Чирикова, Андреева, Горького), некоторые произведения которых и раньше рекомендовал, ныне совсем выпустил, т<ак> к<ак> у нашего начальства царит какая-то боязнь имен, и всех новых писателей боятся, как какого-то жупела. А между тем в результате такого «умолчания» ученицы оказываются в области современной литературы без всякого авторитетного руководства. Часть их, конечно, ничего не будет читать и выходя из гимназии, не будет знать современных писателей даже понаслышке. А другая часть, слыша от окружающих об этих писателях, будет читать у них что попало, тогда как преподаватель мог бы указать из каждого писателя наиболее подходящие вещи. Но разве значат что-нибудь все эти доводы для наших мастодонтов!
4 сентября
Сегодня бывший директор Н-в уехал из нашего города. Педагоги мужской гимназии опять проявили себя как его достойные соратники. Узнав о его переводе, они устроили в честь своего директора обед. А ко времени отъезда собрались все на пароходе и собрали туда же учеников, оказав на них некоторое давление (пообещали, например, не спрашивать на следующий день тех, кто пойдет провожать директора). Во всех этих овациях по адресу провалившегося карьериста-черносотенца участвовала даже та часть педагогов, которая сама немало испытывала от самодурства Н-ва. Как много все-таки у нас, русских, холопьего духа!
Педагоги нашей женской гимназии тоже в этот день были на проводах, но не Н-ва, конечно, а нашей исторички Б-й, которая ввиду сильно пошатнувшегося здоровья принуждена оставить педагогическую деятельность. Слабая организация ее не могла выдержать тех незаслуженных обвинений и угроз, которыми обрушилось на нее окружное начальство. Режим Б-ского, не раз доводивший ее до слез и расстроивший нервы даже у мужчин-педагогов, тоже не прибавил ей здоровья. И в результате эта умная, гуманная и добросовестная учительница превратилась в инвалида, едва успев прослужить три года. И товарищи, и ученицы очень любили ее, что особенно сказалось в последние дни ее пребывания в гимназии. Пароход в день ее отъезда был загружен гимназистками, которые окружали любимую учительницу тесным кольцом, дарили ей букеты, осыпали цветами и всячески старались выказать ей свою симпатию. И эго были не малыши гимназисты (там только четыре класса), согнанные на проводы Н-ва, а ученицы старших классов, смотрящие на жизнь уже более сознательно.
7 сентября
Б-ский и его сподвижники уже исчезли с нашего горизонта, но результаты его «правления» все еще дают себя знать. Ученицы его ставленницы (ныне, к счастью, уволенной) В-вой могут считать прошлый год совсем потерянным. Переведенные в следующие классы, они, оказываются совершенно неподготовленными даже в объеме предыдущих классов. Мои нынешние пятиклассницы, например, заметно хуже разбираются в литературных произведениях сравнительно с предыдущими пятыми классами. О познаниях же их в грамматике и говорить нечего, т<ак> к<ак> многие не знают, например, даже, что такое предложение ни теоретически, ни практически. Ученицы II класса, обучавшиеся у В-вой в I, не имеют понятия о склонении и разучились даже составлять планы для статей, что делали еще в приготовительном классе. Но трудно вообразить, с каким багажом оставил Б-ский тех учениц, которых он сам обучал французскому языку. И такие «педагоги», запасшись некоторой дозой нахальства и подхалимства, а еще лучше объявив себя «патриотами», могут не только учительствовать в нашей школе, а даже делать себе карьеру (В-ву Б-ский представлял уже в начальницу). И редко-редко, когда какая-нибудь «несчастная» случайность оборвет их деятельность.
8 сентября
Благодаря разным причинам, а главным образом слабой подготовке учениц IV класса фавориткой Б-ского В-вой, много четвероклассниц ныне «зазимовало». Поэтому класс получился очень большой (больше 50 учениц). Заниматься с таким количеством учениц, притом находящихся еще в переходном возрасте, дело очень трудное. Ввиду этого попечительский совет возбудил ходатайство об открытии параллели. Но окружное начальство, наградившее нас в прошлом такими педагогами, как Б-скин и В-ва, в ходатайстве отказало. Также отказано в открытии параллели и в реальном училище, хотя гам родители брали даже ее содержание на свой счет.
10 сентябри
На N-ском горизонте появилась новая педагогическая звезда, стоящая Н-ва и Б-ского. Это некий священник, законоучительствующий в школе, где ныне практикуются мои восьмиклассницы. Одно время он был фаворитом архиерея и экономом в его доме. Но попался… в педерастии и был переведен в другой город. Теперь он выступает в роли законоучителя. На первых же уроках он, не считаясь с тем, что школе практикуются гимназистки, стал настраивать школьников против них, внушая им не брать пример с гимназисток, которые не почитают духовный сан и т.п. Дальше пошло еще хуже. Подавая пример доброго пастыря, законоучитель стал так строжиться над ребятами (даже в I отделении), что у одного мальчика дело чуть не дошло до воспаления мозга, а малюсенькая девочка, поставленная в наказание на скамью, улетела оттуда в обморок. Ни родители школьников, ни коллеги грозного попа-педераста пока на это не реагируют вследствие обычной русской пассивности. А ребята, попавшие ему «на поток и разграбление», уродуются на всю, может быть, жизнь.
11 сентября
Не успел еще вздохнуть после избавления от Б-ского, как на меня обрушилась новая неприятность. Около года назад в библиотеке Народного дома был произведен обыск, причем забрали немало книг. Книги все легальные, вроде Гр. Петрова, Князькова и т.п. Но губернская администрация взглянула на это иначе. В результате приказ губернатора об увольнении библиотекарши (моей бывшей ученицы) и раскассировании библиотечной комиссии, к которой, к сожалению, принадлежал и я. Правда, моя деятельность состояла в составлении списков по беллетристике, психологии и педагогике. Но в числе других членов комиссии, подлежащих устранению, поименован и я. Можно из-за этой оказии ждать и более серьезных последствий, вплоть до увольнения с должности. Так рискованно в наше время соприкасаться со всякими обществами, а просветительными в особенности. Блаженны те коллеги, которые не идут дальше своего чиновничьего футляра. По крайней мере, нервы у них остаются целее. Неужели же мне из-за этой истории придется бросать педагогическую деятельность? Нелегка эта работа и не много роз доставляет она мне, а бросать все-таки страшно жаль.
12 сентября
В мужской гимназии появился вновь назначенный директор. Это еще молодой человек, только пять лет состоящий на службе, и уже такой пост! А я, прослуживший более 7 лет, не имею даже еще и чина. О повышении и мечтать нечего. «Не до жиру — быть бы живу!»
13 сентября
С 1 сентября вводятся новые штаты в духовных училищах и семинариях. По этим штатам педагогический персонал духовно-учебных заведении приравнивается в отношении окладов к мужским учебным заведениям Министерства народного просвещения. Коммерческие училища и военно-учебные заведения еще раньше перешли на новые оклады. Но женские гимназии все обходят и обходят, хотя разница в окладах получается почти втрое. Не слыхать даже, чтобы Министерство и разрабатывало такой проект. В Государственной Думе, правда, поднимается этот вопрос. Но правительство, кажется, не удостоило его даже и ответа. И мы, педагоги женских гимназий, даже совершенно одинаковые по образованию и званию с преподавателями мужских учебных заведений, принуждены перегружать себя уроками и с завистью смотреть на своих более счастливых коллег. А между тем к нам предъявляют отнюдь не меньшие требования, чем к преподавателям мужских учебных заведений. Причина такого беспечного отношения Министерства к нашему материальному положению лежит, очевидно, в том, что главный контингент учащих в женских гимназиях — женщины, т. е. элемент далеко не полноправный, который пойдет служить даже и на такие оклады.
14 сентября
Из четырех местных средне-учебных заведений ныне только в одном (мужская гимназия) удалось составить родительский комитет. Главная причина этого, конечно, высокий кворум, введенный новыми правилами. Но едва ли не более важное значение имеет тут просто индифферентность и пассивность наших русских родителей-обывателей, даже и из интеллигентных кругов. Ведь даже и при кворуме в 1/5 живущих в городе родительские комитеты избирались у нас далеко не каждый год. Да при существовании родительских комитетов родители ничем почти не проявляют себя. Правда, в прошлом году председатель комитета г. Л-ский энергично боролся вместе с нами против режима Б-ского. Но это было дело его личного темперамента. Родительский же комитет в целом дальше боязливого шушуканья даже и в то время не пошел. Никакого выступления, хотя бы с ходатайством по гимназическим делам сделано не было, хотя случай был очень подходящий, когда здесь жил ревизор. Мало того, за все время ревизии, тянувшейся 1 месяца, родительский комитет даже не удосужился и собраться. И нам, педагогам, приходилось, рискуя своим служебным положением, выносить всю борьбу на своих плечах.
Сегодня отвели юбилей Миланского эдикта. За обедней очень хорошую речь говорил наш священник — законоучитель. А в 1 час дня был акт, где читала исторический очерк учительница М-ва. Все сошло гладко, не так, как бывало при ура-патриоте Б-ском. Вообще теперь, когда обязанности председателя исполняет умная и тактичная начальница Б-ва, у нас все идет мирно и хорошо. И она могла бы и впредь с полным успехом руководить гимназией, т<ак> к<ак> и по образовательному цензу, и по опытности вполне подходит к этой роли. Но она женщина, и это мешает ей стать во главе учебного заведения, хотя бы даже и женского. И мы опять ждем появления какого-нибудь выскочки-председателя. Найти стоящего педагога на эту должность с окладом в 120 руб. (в другой гимназии далее 600 р.), едва ли возможно. И попадают на этот пост разные проходимцы вроде Б-ского. Давно бы уже пора уничтожить эту ненормальность и вместо нынешнего двоевластия (председатель и начальница) поставить во главе гимназии начальниц из лиц с высшим образованием, каковых теперь найдется уже немало.
16 сентября
Уволенная фаворитка Б-ского г. В-ва продолжает интриговать против нашей гимназии, не брезгуя, по обыкновению, средствами. Когда о ее увольнении появилась заметка в хронике местной газеты, В-ва явилась в редакцию и потребовала выдать ей лицо, сообщившее эту заметку. Там, конечно, в этом ей отказали. Но В-ва тем не менее написала в округ донос, где обвиняет начальницу в разглашении путем газеты служебной тайны. Реабилитировать себя она этим путем, конечно, не может, и донос продиктован, следовательно, чувством мести этой подленькой натуры.
19 сентября
На днях здесь выступил известный петербургский лектор Поссе. Событие для нашего захолустного городка редкостное, так как кроме плохоньких драматических трупп и кинематографов здесь ничего не найдешь. Темы объявлены интересные: о Достоевском, о Горьком и Андрееве, о смысле жизни. Казалось бы, прямой долг педагогов порекомендовать учащимся средней школы сходить на эти лекции. Ведь так мало получают они умственной пищи! С точки зрения благонадежности едва ли могут даже и возникнуть какие-либо опасения, если припомнить, с какой крайней щепетильностью относится к разрешению таких лекций администрация. Но для нас, педагогов, мало даже и усиленной охраны. У нас свое начальство, со своими собственными принципами. А у пашен гимназии, сверх того, целая куча доброжелателей, вроде В-вон и союзников, ждущих только случая расквитаться с «левой» гимназией за Б-ского. И педагогам, имевшим несчастье получить репутацию «левых», приходится сугубо «бдеть». Директор реального училища, которого в прошлом году травило вместе с нами «Русское знамя», запретил своим ученикам посещение всех лекций Поссе. Наша начальница, узнав об этом, то же заявила и гимназисткам, и только на свой страх и риск разрешила восьмиклассницам сходить на лекцию о Достоевском. Когда я зашел сегодня в VIII класс, девицы громко выражали свое негодование на это. Но разве можно за это винить и начальницу? Ведь она поступила так совершенно в разрез со своими убеждениями. Виновата широко разлившаяся в нашем «просветительском» ведомстве светобоязнь, со своими лозунгами: поменьше знания, поменьше света!
20 сентября
Б-ский в прошлом году, между прочим, жаловался, что я мало занимаюсь изучением древней (церковной) литературы. На самом деле я успеваю пройти наиболее характерные памятники Киевского и Московского периода (Повесть временных лет, Поучение Владимира Мономаха, Слово о полку Игореве, Домострой, переписку Курбского с Грозным). И этого, по-моему, вполне достаточно. Зато у меня освобождается время на ознакомление учащихся с классиками иностранной литературы (Шекспир, Мольер, Шиллер, Байрон) и с лучшими русскими писателями второй половины XIX века: Тургеневым, Гончаровым, а в VIII классе Л. Толстым, Некрасовым и другими, произведения которых несравненно ценное, конечно, разных «поучений» и «хождений» допетровской Руси. В целесообразности такого распределения материала я все более и более убеждаюсь. В реальных училищах, например в V и VI классах, при четырех уроках в неделю, доходят только до Пушкина. А в седьмом классе приходится скомкать всю новую русскую литературу, начиная с Пушкина, в один год. Я же, проходя этот курс в VII и VIII классах нахожу, что и то приходится очень спешить. Ныне к нам в VIII класс поступило несколько девиц из других гимназий. Когда я поинтересовался постановкой у них словесности, то оказалось, что в одной гимназии семиклассницы кончили только Гоголем, а в другой и до Гоголя не дошли. Все это, очевидно, плоды того странного распределения курса, когда годами сидят на литературе допетровской Руси, а на классиков нашей литературы не хватает времени. Об иностранной же литературе в большинстве наших средних школ даже и понятия не имеют. А между тем за такие нововведения, как у меня, кроме нагоняя, едва ли что получишь!
21 сентября
Опять ошеломляющий сюрприз! Председателем педагогического совета в нашу гимназию назначен регистратор духовной консистории! Среди педагогов нашего учебного округа, очевидно, не нашлось достойного занять этот пост. И в руководители учебной частью средней школы, где почти все преподаватели с высшим образованием, попал… консисторский писец, т. е. лицо, конечно, и не нюхавшее высшей школы, а, может быть, даже и без среднего образования. А между тем даже в нашем городе четыре средне-учебных заведения и, наверно, многие бы из опытных учителей с высшим образованием не отказались занять этот пост как побочный заработок. Это прямо какое-то издевательство над нашей многострадальной гимназией! Какие еще испытания выпадут на нашу долю в этот год — Бог весть.
Но хорошего ждать нечего. Бывают, конечно, разные монстры и в мужских учебных заведениях, но такой «скверный анекдот» может случиться только в женской гимназии, где от руководителя учебной частью не требуется далее никакого образовательного ценза.
25 сентября
Сегодня уроки у меня расположены так: в V, VI, VII и VIII классах. Переходя из класса в класс, можно было произвести как бы последовательный смотр своих учениц. Первый урок был в V нормальном классе. Отношения с этими «забастовщицами» теперь направились. Правда, одна из них отвечала очень бестолково, видимо, зазубрив урок без всякого понимания. Обнаружилось, что девица эта малоразвитая, и она сама созналась, что очень мало читает. Я посоветовал ей побольше читать и, взяв обещание, что она читать будет, поставил ей тройку. VI и VII классы заняты теперь устройством вечера. Но относительно программы вечера вышло разногласие. Пятиклассницы пожелали устроить литературно-музыкальное отделение и на днях пригласили меня как организатора литературной части. VII же класс желает ограничиться только танцами. Сегодня шестиклассницы просили меня убедить семиклассниц устроить и литературную часть. А те вообразили, что это моя собственная инициатива, и когда я зашел в VII класс, одна девица встала и с добродушной иронией задала мне вопрос: «А Вы зачем «слушаете» шестиклассниц, что надо литературное отделение устраивать?» Мне пришлось объяснить, что я никого не «слушаю», и что это их собственная инициатива. И хотя это дело устроительниц, но, по-моему, вечер с литературным отделением был бы все-таки интересней. Между ученицами начались оживленные споры, было даже что-то вроде попытки голосования. Но я прекратил это и стал спрашивать урок. После же оказалось, что мои слова все-таки подействовали, и теперь значительная часть семиклассниц тоже желает устроить литературное отделение. Для меня лично это создаст, конечно, лишние хлопоты. Но хотелось бы все-таки, чтобы вечер мог дать ученицам что-нибудь и помимо танцев и флирта. Во время этого же урока в VII классе, когда я отвернулся в одну сторону, из другой части класса вдруг взвились кверху и пристали к потолку два разноцветных воздушных шара и с привязанным к ним бумажным человечком. Раздался взрыв хохота… Я отнесся к этому как к детской шалости и постарался снова овладеть вниманием класса. Ученицы успокоились и все время сидели тихо, хотя над ними и висели шары с бумажным авиатором. После урока ученицы сами сняли все это приспособление длинной палкой. А я вполне мирно расстался с ними, считая инцидент исчерпанным.
26 сентября
Вчера в гостях беседовал с одним педагогом из мужской гимназии, человеком очень осведомленным благодаря связям с округом. Вино развязало ему язык, и мне удалось узнать много интересного. Наш бывший председатель Б-ский, оказывается, уже имеет «громкое» прошлое. А именно — в одном из предыдущих мест службы ученица VII класса закатила ему пощечину. Но это, как мы видели, пошло ему только на пользу. И теперь, удаленный из нашего округа, он устроился в соседнем и тоже на посту председателя педагогического совета в женской гимназии. Узнал кое-что и про нашего нового начальника. Он с семинарским образованием, и притом горький пьяница, поэтому нигде подолгу его не держат. Был он когда-то и председателем педагогического совета в женской гимназии, но слетел с места. Пресмыкался потом писцом в суде, регистратором в консистории. А ныне, волею судеб, оказался опять во главе среднего учебного заведения. Даже окружные инспектора удивлены этим назначением, состоявшимся по единоличному решению выжившего из ума старика-попечителя. Но всего горше от этого придется, конечно, нам, педагогам. Ничего не смысля в учебной части, этот невежественный пьяница может, однако, во все совать нос и за неимением лучшего постарается, вероятно, выдвинуться доносами и политиканством.
27 сентября
В VIII классе на уроке словесности вышел инцидент с одной ученицей, только ныне перешедшей к нам из гимназии губернского города. Девица не из способных, но благодаря усердной зубрежке выдвинулась в той гимназии в число первых учениц и получила медаль. У нас же в гимназии, где на развитие больший спрос, дела ее пошли не так блестяще, что задевает ее самолюбие. Сегодня она, урок, видимо, знала, но говорила часто необдуманно и невпопад или торопливо останавливалась со словами: «Я сейчас, сейчас, только подумаю». Наши девицы, привыкшие вести себя довольно свободно, не считаясь с ее больным самолюбием, не раз смеялись в такие моменты, хотя я их и останавливал. Впрочем, часто смеялись вовсе и не над ней. В один момент, когда засмеялись над другой девицей, почти бегом исчезнувшей из класса, отвечавшая урок Т-ва приняла это на свой счет, покраснела, сказала, что над ней смеются, и не стала больше отвечать. Я постарался объяснить Т-вой, что смеялись вовсе не над ней, что надо смотреть на вещи проще и что я ведь не принял же это на свой счет. Но она, расстроенная, совсем ушла из класса. Тогда я в отсутствие Т-вой поговорил с восьмиклассницами о некорректности их поведения и о необходимости считаться с настроением Т-вой, которая еще мало их знает и смущается в новой для нее гимназии.
28 сентября
V нормальный класс сегодня опять осердил меня. Прийдя в класс, я увидел, что все сиденье стула, на который я должен был сесть, выпачкано мелом. Эта новая выходка возмутила меня. И пока одна ученица ходила за стулом, я — вызвав дежурных — сделал им выговор, хотя они и оправдывались, что ничего не видали. В заключение же я сказал, что вообще ни один класс не устраивает столько глупостей, как их. Дальнейшие занятия шли однако гладко и сгладили неприятное впечатление от этого инцидента.
Работаю до одурения
1 октября
Работаю до одурения. Каждый день по пять уроков. В «свободные» минуты — в перемены, после обеда и т.п. — проверяю конспекты пробных уроков. А вечером с 6 часов и до 12 сижу за тетрадями. Праздники только тем и отличаются от буден, что вместо уроков тоже идет проверка тетрадей. Сегодня почти весь день сижу и проверяю. А внизу, под моей квартирой, раздаются пьяные песни: это простые рабочие люди справляют по-своему праздники. И право, мне завидно им! Хотя в этот день они могут отдохнуть и провести время по своему вкусу. А тут сидишь за одним делом и утро, и вечер, и праздник, и будни. Читаешь десятки безграмотных сочинений, читаешь до полного отупения, неизбежно при этом напропускаешь ошибок, т<ак> к<ак> при таком количестве невозможно не пропускать, и в результате — слезы учениц, недовольных двойками, и замечания начальства, нашедшего от нечего делать какую-нибудь пропущенную ошибку. И за весь этот египетский труд каких-нибудь 100 р. в месяц… После 14 лет учения и после 7 лет службы!
12 ч. ночи
Только что кончил поправку тех работ, которые было необходимо проверить сегодня. А там лежат еще нетронутыми работы двух классов! Зато сегодня не успел даже и взяться за подготовку к урокам, а завтра, пожалуй, явится новый председатель. Сейчас же надо скорее ложиться спать. Иначе — в довершение всего — завтра будешь еще с больной головой.
2 октября
Вчера с вечера я, действительно, «пересидел» и потом долго не мог уснуть, а сегодня встал с больной головой. В гимназии встретился с новым председателем. Вопреки ожиданиям, это оказался не карьерист, а скорее неудачник. Он с высшим образованием (из духовной академии), был уже 8 лет председателем в одной женской гимназии, преподавая вместе с тем словесность и педагогику, но дальше подвинуться не мог и потерял даже прежнее место из-за несчастной слабости к спиртным напиткам. Человек же он, по-видимому, вполне порядочный. Нас, отвыкших при Б-ском от человеческого обращения, он сразу привлек на свою сторону. Было приятно, что наши мрачные предчувствия не оправдались. Поэтому я сразу воспрянул духом и провел свой первый урок в V нормальном классе весьма оживленно. К концу, однако, головная боль дала себя знать, и я с трудом уже вел пятый урок в VIII классе, а восьмиклассницы, как назло, отвечали скверно. Одна еще, сверх того, сделав ошибку, стала отказываться от своих слов, чем осердила меня, и я посадил ее со словами: «С Вами трудно разговаривать, когда Вы отказываетесь от своих слов».
3 октября
Сегодня что-то с утра я был не в духе. Отразилось это, впрочем, только в V классе (на этот раз не в нормальном, а в параллельном). Задано было исправление письменной работы. Но оказалось, что одна из спрошенных мной забыла дома тетради; другая не распределила ошибок по разрядам; у последней же, сверх того, оказались грубые стилистические ошибки («радость к возвращении»), и она даже не замечала, в чем тут ошибка. Я опять не сдержался. Довольно резко отчитал девицу и спросил, читает ли она хоть что-нибудь, т<ак> к<ак> по ее стилю этого совсем не видать. Посаженная после этого ученица заплакала, а после урока объяснила, что не разделила ошибки на разряды потому, что не была в классе, когда я это объяснял. Я, к тому времени уже успокоившийся, сказал только: «Так бы Вы и заявили». Но в общем сам себя виню, конечно, за раздражительный и обидный тон. На сегодняшнем пробном уроке такой же сердитый тон взяла одна практикантка — восьмиклассница, и я сам воочию видел, как это неприятно действует на класс.
12 октября
Сегодня новый председатель был у меня на двух уроках в VIII классе (методика русского языка и педагогика). Он принимал деятельное участие в уроке, много опрашивал сам. Ученицы отвечали недурно, и председатель, кажется, остался доволен.
14 октября
До того дошло, что и дневник писать некогда. То уроки, то конспекты, то тетради. Еле успеваешь только просмотреть газеты — в промежуток между обедом и вечерними занятиями, которые у меня начинаются в 6 часов. Для поддержания же физических сил ограничиваешься только небольшой (30–40 мин.) прогулкой по улицам.
Конечно, для здоровья полезнее было бы заниматься какой-нибудь физической работой на свежем воздухе. Но тогда некогда будет и газеты почитать, а это почти за всю зиму единственное, что я читаю. На книги же совсем не хватает времени. И сам чувствуешь, как засыхаешь душой при такой жизни, как отстаешь от всего нового и забываешь старое. Физически тоже чувствую себя неважно. Да и как можно быть здоровым, когда корпишь целые дни на месте и не можешь урвать времени, чтобы подышать свежим воздухом!
16 октября
За последние дни у меня было несколько столкновений с ученицами из-за классной дисциплины. В VI классе, когда я читал «Слово о полку Игореве» (в переводе на современный язык), одна экспансивная девица З-на то и дело принималась болтать с соседками. Я сделал несколько замечаний, ничто не действовало; тогда я для острастки записал ее в журнал. Теперь я думаю, что лучше бы поставить ей ультиматум: или слушать, или уйти из класса, пригрозив, что если она не исполнит этого, то я прекращу чтение. Это было бы более логично, по крайней мере. В другой раз вышел инцидент в VIII классе. Здесь, когда я рассказал урок, одна ученица писала и посылала письма, и когда я спросил ее, не знала, о чем идет речь. Я не сдержался и довольно резким тоном «отчитал» ее. Правда, я сам скоро остыл; но не могу сказать, насколько благотворным оказался мой выговор. Сказать, действительно, надо было, но мягко и спокойно. В VII же классе дело едва не приняло еще более серьезного оборота. Там есть одна довольно капризная и в то же время ленивая ученица В-ва. Недавно она получила и у меня единицу за неприготовленный урок. А на днях, когда я объяснял некоторые места из «Бориса Годунова», она повернулась в пол оборота назад и, шевеля губами, смеялась. Я, видя, что она не слушает, окликнул ее по фамилии. Но В-ва почему-то сочла себя обиженной и стала возражать, что она не разговаривала. Я уже более резко ответил, что сам видел это. Тогда В-ва встала с места и, с нескрываемым озлоблением глядя на меня, пошла из класса, а я вдогонку ей сказал: «Может быть, С-ва (ее соседка сзади) сама с собой разговаривает?» До конца урока В-ва так и не вернулась в класс. Можно было, конечно, раздуть эту историю, тем более что В-ва, по-моему, действительно была неправа. Но я решил выяснить все-таки, в чем тут дело, а на следующий день спросил В-ву в перемену, куда она исчезла и почему. Та ответила, что была в гимназии, а в класс не хотела идти. Когда же я стал указывать, что замечание было действительно заслужено ей, В-ва отвечала, что хотя она раньше и говорила, но в этот момент молчала и смотрела на С-ву, которая притворилась плачущей. Я так и не мог выяснить ее логики и причины ее обиды; но во всяком случае В-ва говорила уже обычным тоном и даже улыбалась. Такой разговор наедине едва ли, по-моему, не лучшее средство для избежания лишних недоразумений. В классе и преподавателю приходится быть более официальным, и учащиеся нередко возражают и играют в оппозицию из молодечества перед товарищами. При разговоре же один на один можно объясниться более по-человечески.
18 октября
Вчера, наконец, состоялся вечер, организованный ученицами VI и VII классов. Было и концертное отделение, где трос учениц, подготовленных мной, читали стихотворения. Жаль только, что при составлении программы они ни с кем не посоветовались и распределили номера не очень удачно. С особенным удовольствием встретил на вечере двух бывших учениц прошлогоднего выпуска (одна уж с сама учительствует в школе). Вспоминали прошлый бурный год, обменивались впечатлениями нынешнего года. Обе они с удовольствием вспоминают о гимназической жизни и сожалеют, что уже не гимназистки. Одна говорит, что не могла даже выстоять всенощной в гимназической церкви: так грустно ей стало при воспоминании о прошлом Вечер пришлось устроить накануне учебного дня, хотя скоро будет четыре праздника подряд, т<ак> к<ак> по нелепому циркуляру округа запрещено устраивать вечера накануне праздничных дней. В результате у учениц следующий за вечером день неизбежно пропадает, т<ак> к<ак> они или совсем не приходят в класс, или приходят невыспавшиеся, утомленные. Я и сам чувствовал себя сегодня разбитым. Каково же должны чувствовать себя устроительницы вечера, которым после 12 ч. ночи надо было прибрать все гимназии и превратить учительские и классы, преобразившиеся в удобные столовые и гостиные, в обычный казенный вид? Поэтому я спрашивал сегодня только в VIII классе, в остальных же классах охотно согласился на просьбу учениц и не спрашивал их. В V нормальном классе разбирали со стороны стиля «Днепр» Гоголя, причем отметок я не ставил. А в V параллельном выяснял, кто что читает, причем просил некоторых учениц рассказать содержание прочитанной книги, что, однако, подвигалось плохо. Лучше бы было что-нибудь почитать.
19 октября
Новый председатель, вызвавший в нас симпатию своим простым обращением и гуманными взглядами, успел уже проявить свою несчастную слабость. На днях он закутил, так что из-за этого не состоялось даже заседание попечительского совета, куда он явился пьяным. Был он навеселе и в гимназии, что заметили даже некоторые ученицы. В день же гимназического вечера его постарались удалить из города во избежание скандала. Сегодня, наконец, он явился — бледный, измятый и с каким-то виноватым видом. Не знаю, надолго ли он опять поправился. А жаль, что так гибнет человек, и притом человек, по-видимому, хороший!
23 октября
Сегодня в VI классе вышел неприятный инцидент с одной ученицей С-вой. В занятиях вышел продолжительный перерыв из-за праздников, и ученицы успели уже кое-что позабыть. А спрашивать пришлось довольно слабых учениц. Первой отвечала Ж-ва, ученица болезненная и малоспособная. Ответы были весьма нелепые (например, царствование Екатерины II было отнесено к XVI в.), не было даже азбучных знаний по словесности. Пришлось поставить два. После Ж-вой я спросил С-ву, ученицу хотя и старательную, но совершенно нерадивую и малоспособную. Выясняя отличие «Слова о полку Игореве» от других произведений древнерусской литературы, я задавал С-вой целый ряд наводящих вопросов о характере древнерусского просвещения. Но, несмотря на все это, С-ва все-таки не могла сказать, что же особенного в «Слове».
25 октября
Вчера в VI классе, говоря о «Стоглаве», я сказал, что он составлен на церковном соборе. Несколько учениц стали возражать, что собор этот был земский (они на днях проходили это по истории). Я, не имея под руками точных данных, не стал с ними спорить, оставив вопрос открытым. Сегодня в перемену мои оппонентки с торжеством показали мне учебник Платонова, где, хотя и не говорится, что это был земский собор, но изложено так, что «Стоглав» составлен тем же собором, что и «Судебник», т. е. не церковным, а светским. Я сказал, что поразберусь в этом вопросе. По справке в «Истории литературы» (под ред. Аничкова, Бородина и Овсянникова-Куликовского) оказалось, что это были разные соборы, и что «Стоглав» составлен на соборе церковном. Тогда уже я нашел в зале учениц и показал им это место в «Истории литературы», добавив шутливо, что моя книга толще, чем у них. На это неугомонная З-на, уверенная в авторитете своего учебника, возразила: «А наша умнее». По справке, наведенной мною у учительницы истории, оказалось, что я прав (то же подтвердилось и у Ключевского). Поэтому, когда я спросил у учениц об этом после урока истории, те уже не стали спорить со мной и в свое оправдание ссылались только на то, что их ввел в заблуждение учебник. Случай этот несколько расшевелил учениц, заставил и нас подумать, и даже несколько сблизил нас на чисто научной почве. К сожалению, не часты подобные инциденты, возможные только при условии более или менее свободных и дружеских отношений между учащими и учащимися. Как отрадный факт в том же VI классе, не мешает еще отметить обнаруженный мной интерес у некоторых учениц к фольклору. Одна из них давала мне записанные ей заговоры, другая — частушки, третья — свадебные обряды.
Был сегодня урок и у словесниц. Я раздавал им классные и домашние сочинения, которые они исполнили очень слабо (темы были: «Как смотрели на задачи поэзии Пушкин и Некрасов» и «Русская крестьянка в изображении Некрасова»). Прежде раздачи сочинении я сделал их общий разбор со стороны содержания. Вопрос о том, в чем проявилось народничество Некрасова при изображении крестьянок, и реальны или идеализированы они у него, сильно заинтересовал класс. Завязались оживленные споры, которые мне приходилось только регулировать, заработала живая мысль, что далеко не часто бывает у нас на уроках, сводящихся к рассказыванию и спрашиванию.
26 октября
Странное распоряжение попечителя о закрытии приготовительных классов при всех женских гимназиях заставило нас перенести пробные уроки восьмиклассниц в городские школы, что сразу же вызнало массу неудобств. Приходится тратить время на ходьбу в школу, опаздывать на твои уроки; необходимо приспособлять занятия по методикам к тому, как ведется дело в той или другой гимназии, знакомиться с методами учителей, не принадлежащих к гимназической корпорации и обыкновенно смотрящих на нас как на незванных гостей. Восьмиклассницы же оказываются промеж двух огней и не знают, кого слушаться: своего ли учителя, преподающего методику, или народного учителя, преподающего в школе. На этой почве, несмотря на мои старания завязать со школьным учителем добрые отношения, уже начались конфликты. По словам восьмиклассниц, этот учитель, не стесняясь, критикует мои методы и требует, чтобы восьмиклассницы больше считались с ним, чем со мной. Возможно, что на него сумела повлиять в этом отношении бывшая фаворитка Б-ского — П-на. Хотя ей и пришлось оставить гимназию по малограмотности, однако судьба опять нас свела, т<ак> к<ак> она ныне практикуется в той же школе, где работаем и мы. Интересно также отметить, что эта на редкость нерадивая и ленивая ученица теперь, в роли учительницы, также строга и требовательна по отношению к ученикам, как и ее — блаженной памяти — патрон. Например, одного ученика I отделения она ухитрилась оставить в школе до 4-х часов за какую-то пустячную шалость. А недавно я прочитал в сочинении по педагогике у одной восьмиклассницы, как П-на (хотя она по фамилии и не названа) потребовала у одного забитого и бедного ученика, чтобы он показал перед всем классом и посторонними (гимназистками) грязную нижнюю рубашку. «Яблочко от яблоньки недалеко падает».
Жандармы проверяют библиотеку
29 октября
Опять начинается что-то кошмарное… Б-ский, оказывается, не только не оставил нашей гимназии в покое, но продолжает свою кампанию против нее еще более энергично. Проиграв дело в учебном округе, он пошел дальше: по министерствам. Его бывшие соратники тоже работают, не брезгуя никакими средствами. И в результате на первый раз получилось предписание, чтобы книги, опечатанные в прошлом году при ревизии, были представлены местной жандармерии. Хотят, очевидно, снова раздуть это дело. И чем это кончится, бог весть. А между тем наряду с 5–6 книжками действительно рискованными (исторические сочинения Маркса, Энгельса и Мун), пришлось отправлять в жандармерию целые сотни таких книг, как «Сигнал» Гаршина, «Невский проспект» Гоголя, «История русской интеллигенции» Овсянико-Куликовского, биография Пирогова и т.п. Попала даже в числе «конфискованных» методика «На первой ступени обучения», которая одобрена Министерством и специально рассылается по школам инспектором народных училищ. При желании придраться, конечно, всегда можно даже к таким книжкам, выписанным мною, как брошюрка Диесперова о Герцене (хотя он и включен в министерскую программу), книжки Когана по истории современной литературы и т.п. Но на нас постараются, вероятно, взвалить ответственность и за те книжки, которые были выписаны еще в 1905–1906 гг., хотя тогда (чего только тогда не было!) список этих книг прошел через цензуру самого округа. Благодаря доносам Б-ского и его союзников отношение к нам властей, кажется, очень неважное. Правда, наши педагоги — народ лояльный и ни в чем политическом не замеченный, но заметно стремление во что бы то ни стало винить нас, чтобы реабилитировать низверженных «богов»: Б-ского и Н-ва. Для этого не брезгуют никакими сплетнями. Оказывается, в вину нам ставят даже то, что мы на последнем гимназическом вечере были недостаточно внимательны к начальнице частной гимназии (которая тоже в числе сторонниц Б-ского и которая даже о таких мелочах строчит доносы жандармским властям). А председателю в вину было, например, поставлено и то, что последний педагогический совет продолжался только 23 минуты (хотя больше и делать было нечего), и то, что однажды у обедни он не встал на колени при пении «Тебе моем». Какое отношение всего этого к политике — трудно понять. Но служить при таких условиях — прямо мучение.
30 октября
Под влиянием вчерашнего не мог уснуть почти всю ночь, встал с тяжелой головой, а в гимназии пришлось просидеть более семи часов (5 уроков и два с лишним часа — конференция).
6 ноября
Окончилась первая четверть. Прошли и педагогические советы, на этот раз — благодаря умелому ведению дела и корректности председателя — вполне мирно и гладко. На почве выставления четвертных баллов на этот раз у меня никаких конфликтов не было (хотя были попытки «исправиться» — как удачные, так и неудачные). Особенно рад я успешности VII класса, где вышла только одна двойка, да и то исключительно по лени, тогда как в прошлом году в первой четверти у того же класса (тогда VI) было 15 двоек. Нельзя ли приписать повышение успешности и в этом числе прогресс в области орфографии тому, что я в прошлом году специально занимался с ними орфографией по одному уроку в неделю и заставил их заняться дома списыванием? Пожалуй, не бесполезно будет применить это и к нынешнему VI классу, где орфография толю страдает.
Вчера на совете решили выписать целый ряд научных журналов, начиная с нового года. А то в нынешнем году благодаря Б-скому мы выписывали едва ли не один только «Журнал Министерства народного просвещения». Не было также произведено выписки книг в гимназическую библиотеку, т<ак> к<ак> Б-ский заслал все списки в округ. А теперь, когда они благополучно вернулись оттуда, деньги, ассигнованные на это, оказались уже израсходованными. За это приходится благодарить опять того же блаженной памяти Б-ского, т<ак> к<ак> у попечительского совета не хватило средств ввиду других прибавок, которые сделал щедрою рукою бывший председатель себе и своим фавориткам. Да, не скоро еще, должно быть, позабудем мы этого монстра, тем более что и он не забывает нас.
11 ноября
Придя сегодня на уроки в гимназию, узнал опять неожиданную новость: председатель Ф-в телеграммою попечителя уволен от должности и на его место назначен директор мужской гимназии Ш-ко. Поводом к увольнению, очевидно, послужил донос какого-нибудь «доброжелателя». Но характерно и то, что Б-ского, несмотря на все его «художества», держали целый год, дали летнее жалование и уволили только по прошению. С Ф-вым же расправились весьма круто, не дав ему дослужить даже второго месяца. Вот что значит не играть в политику и не якшаться с союзниками! Притом, назначая Ф-ва, попечитель уже знал, что он пьет. Кто же виноват, что и у нас он не сдержался? А теперь ему, бедняге, не на что даже выехать, и мы — его бывшие подчиненные — делали сегодня в его пользу подписку.
12 ноября
Сегодня явился ненадолго в гимназию новый председатель Ш-ко. Это еще молодой человек, по-видимому, очень ловкий и дипломатичный, благодаря чему через шесть лет службы оказался уже на посту директора. Не будучи ретроградом по убеждениям (да и какой же умный человек может искренно исповедывать такие взгляды!), он в то же время прежде всего исправный чиновник, желающий быть на лучшем счету у начальства, а потому готовый энергично проводить в жизнь все его предназначения. В то же время он настолько умен, что не желает восстановлять против себя и общество. Например, при выборах в родительский комитет он сказал речь, которая сочувственно комментировалась местной либеральной прессой; но остались ей довольны и сторонники «ежовых рукавиц». Как отзовется его политика на нас, грешных, — поживем-увидим.
14 ноября
Говорят, что новый директор у себя в мужской гимназии выступает сторонником новых методов и требует, чтобы педагоги были в курсе новых течений в области своих предметов. Это, конечно, недурно. Но это, к сожалению, не общий дух ведомства, а одна из фантазий нового барона. До новых ли течений и методов тут, когда только на днях пришлось отправлять в жандармское управление изъятые из фундаментальной библиотеки книга Овсянико-Куликовского, Вахтерова и т.п.! И по чему мы можем следить за развитием педагогических идей, когда — благодаря Б-скому — в этом году не было выписано в библиотеку ни одной книги и ни одного педагогического журнала?
15 ноября
Дела с ученицами идут в общем ладно. Неприятные инциденты, конечно, случаются, но потом постепенно все «образуется» и снова входит в нормальную колею. С неделю назад я поставил, например, три одной пятикласснице Т-вой. Та, очевидно, не замечавшая многих ошибок, сочла себя обиженной (за четверть ей было четыре) и несколько дней «дулась» на меня. Но сегодня, наконец, «сменила гнев на милость» и стала снова дружелюбно улыбаться мне. Обидел я невзначай и другую пятиклассницу К-ву. В ту четверть ей из-за письменных работ вышло три, чем она была недовольна. В эту четверть устный ответ ее я оценил тоже тройкой, так как она слабо знала стихосложение. Тогда она ничего не сказала. Но, когда сегодня я вызвал отвечавшую вчера ученицу, чтобы спросить у нее старое (что я всегда делаю), К-ва вдруг запротестовала, т<ак> к<ак> у нее я будто бы не спрашивал старое, а она его «знает на память». Я пробовал возражать, что и у нее я спрашивал тоже не один урок. Но К-ва упорно твердила свое, имея, очевидно, в виду более давнее старое, которое я, может быть, и не спросил у нее. Потом, когда я, объясняя новый урок, стал задавать беглые вопросы то той, то другой ученице, К-ва на мое обращение к ней не стала отвечать. «К-ва сердится», — спокойно сказал я. Класс расхохотался. А К-ва через некоторое время уже начала улыбаться и сама стала подымать руку. Дело, значит, опять обошлось ладно.
16 ноября
Сегодня чуть не поссорился с «моими детьми», как их в шутку зовут мои коллеги, т. е. с VIII классом. Когда я пришел на урок методики, ученицы о чем-то оживленно спорили. Я начал, было, говорить с одной из них о деле. Остальные же так шумели и кричали, что ничего не было слышно. Это, наконец, взорвало меня, и я, перекрикивая их, резко заметил им, что это безобразие, что они не умеют себя вести. Надо было распределить пробные уроки на ту неделю. Два урока по объяснительному чтению (это еще первые в нынешнем году) пришлось передвинуть на несколько дней ближе, но так, что до первого из них оставалось все-таки три дня. Поэтому я предложил давать их тем же двум ученицам, которые еще раньше взяли себе этот материал, тем более одна из них чуть не неделю назад начала работать над конспектом; а у другой статья была разработана в классе. Но те вдруг закапризничали и отказались давать в указанные дни, считая срок для подготовки слишком коротким. Одна же из них стала говорить, что и вообще она не намерена давать первой, хотя раньше соглашалась на это. Я, раздраженный этой выходкой, заявил, что тогда они теряют право на этот материал, и предложил всему классу, не пожелает ли кто давать уроки в эти дни. Но ученицы, раньше все стремившиеся записаться на объяснительное чтение, теперь не соглашались начинать урок на этот материал. Ничего не добившись от класса, я раздраженно сказал, что если так, то добровольного распределения материала больше не будет, и уроки будут даваться по назначению преподавателя. Вдруг встала одна ученица и заявила, что она согласна давать урок. За ней согласилась и другая. Ученицы, видя, что эти двое хотят выручить класс, стали говорить, что лучше бы взялись за это дело «более сильные». Я сказал на это, что П-ва не хуже других, т<ак> к<ак> за первый урок имеет четверку. Тогда, сознавая, что П-вой все-таки давать будет труднее, многие обрушились на двух отказавшихся давать урок. Те, видимо, были смущены. Я же, к тому времени уже успокоившись, предложил прекратить дальнейшие разговоры, т<ак> к<ак> материал уже распределен. Следующий урок был у меня тоже в VIII классе. Я весь час рассказывай им по педагогике о представлениях. Ученицы внимательно слушали и записывали. А когда дело дошло до иллюзий и я стал иллюстрировать свой рассказ примерами из жизни и из литературных произведений, класс оживился. Потом шла речь относительно общих представлений, которые часто заменяются то единичными представлениями, то представлениями букв данного слова; я стал экспериментировать с ученицами, прося их представить то «дом вообще», то «человека вообще». Весь класс стал дружно работать. заинтересовавшись этим. Одна говорила, что представляет общую фигуру человека, другая — что она представила определенного человека, некоторые имели буквенные представления. Я стал производить опрос. И до конца урока в классе шла веселая, живая, всех захватившая работа. Даже В-ва, отказавшаяся давать урок, приняла участие в общей работе и, весело улыбаясь, рассказывала, как она представляет себе тот или другой «предмет вообще». Таким образом, от инцидента на педагогическом уроке не осталось и следа. Хорошо, если бы и впредь было так.
18 ноября
Сегодня начальница получила письмо от одной из учениц VIII класса, которое я и привожу как характерный документ, ярко говорящий о том, в каких условиях приходится жить и работать некоторым из наших учениц. Вот это письмо: «Я долго не решалась Вам писать, но наконец не стало сил дольше терпеть. З. И., я опять обращаюсь к Вам с большой просьбой. Помогите мне, прошу я Вас. Не могу я жить дома. Я Вам расскажу — почему. Живем мы теперь в малюсенькой квартире, — мне совершенно негде заниматься. Как Вы сами знаете, я хочу заниматься. Прихожу я домой часов в 7 вечера усталая и голодная, а тут крики, шум, негде учить уроки: у нас ведь кроме меня 6 человек… Так вот в чем заключается моя просьба: не устроите ли Вы так, чтобы мне выдавали пособие от Общества воспомоществования, хотя столько, чтобы заплатить за комнату. Я бы тогда ушла от наших. А на одежду и стол я, может быть, и смогу заработать… Так, пожалуйста, не оставьте моей просьбы без внимания. Мне и самой больно и тяжело попрошайничать. Ведь если будет так продолжаться, то я не знаю, что со мной будет. Пожалуй, придет такой момент, что дальше и идти будет некуда… Вам, может быть, странным покажется, что я Вам пишу письмо, но поверьте мне, З. И., я не могу Вам сказать лично: уж так мне тяжело говорить об этом. Хоть и поплакать, так уж пусть никто не видит… У меня только одна мысль, чтобы Вы поняли хоть немного мое горе.
Р. S. Лучше буду голодовать, но пропускать уроков не могу».
28 ноября
Давно уже не приходилось мне браться за дневник. Скопилось столько работы, что и дохнуть некогда. То какие-нибудь заседания, то советы, то репетиции ученического спектакля, то конспекты и конференции, то подготовка к урокам. Даже тетрадей некогда проверять, и их с каждым днем все больше и больше копится. Когда-то я разделаюсь с ними?
Бывали за это время и тяжелые минуты, когда, например, я однажды обидел до слез одну восьмиклассницу, плохо знавшую урок, и в результате этого два дня ходил как в воду опущенный. Но больше, пожалуй, было приятных моментов. Отрадно то, что ныне нет того невыносимого мелочного гнета, который был в прошлом году, нервы педагогов спокойнее, а это благотворно действует и на ход учебных занятий. Самое дело мне с каждым годом все больше нравится. Временами я прямо влюблен в него. С интересом готовишься к урокам, стремясь как можно лучше передать все эти знания своим ученицам.
С интересом обыкновенно и рассказываешь урок. Одно худо, что нет совсем времени не только для себя лично, а хотя бы даже для дальнейшего расширения и углубления своих знаний в области преподаваемых предметов. Новый председатель, желая оживить преподавание, подложил на недавнем совете ввести рефераты в праздничные дни. Затея, конечно, симпатичная. Но осуществлять ее придется опять-таки тем же словесникам, которые и без того больше всех завалены работой. Сначала бы лучше разгрузили нас, да дали немного простора для нашей инициативы, а там до этих новых идей мы и сами не хуже председателя добрались бы.
30 ноября
Недавно пришло известие, что одна из моих бывших учениц Л-я, учившаяся второй год в Питере, покончила с собой. Это была на редкость одаренная девушка. Умная, начитанная, развитая и, сверх того, с музыкальным талантом. И вдруг такая ранняя и трагическая смерть. Да притом еще на романтической почве. Сколько, по-видимому, было у нее данных, помимо любви; и все-таки она, едва достигнув 20 лет, ушла из жизни. Не яркий ли это пример той душевной пустоты и той болезненной надломленности, которые создают наше «безвременье». И как жаль, когда жертвой этих условий делаются такие богато одаренные натуры!
А как развинчено современное учащееся поколение, это прямо поразительно. Сегодня, например, одна восьмиклассница получила письмо от своей подруги — курсистки, которая жаловалась на разочарование в жизни, толкающее ее на самоубийство. Это до истерики расстроило получившую письмо ученицу. Она поделилась его содержанием с другими; и те тоже совершенно расстроились, т<ак> к<ак> курсистка, пославшая письмо, только весной оставила нашу гимназию. В результате на четвертом уроке восьмиклассницы уже с трудом могли отвечать урок. Одна из них вышла из класса и угнала в коридоре в обморок. Началась беготня, отваживание. На пятом уроке я должен был заниматься со словесницами. Осталось и несколько «вольнослушательниц», заинтересовавшихся биографией Л. Толстого. Но заниматься не пришлось. Едва я начал рассказ, как одна сорвалась с места и со слезами бросилась к дверям, за ней другая, третья. Пришлось прервать урок и отпустить весь класс домой.
Как же будет реагировать на жизненные неудачи эта несчастная молодежь, которая еще на школьной скамье дошла до такой болезненной нервозности?
Темы для рефератов
3 декабря
По совету нового председателя я составил темы для рефератов и после его одобрения предложил их ученицам. Темы приходилось выбирать, руководствуясь и сравнительным интересом их и в то же время обходя всякие щекотливые вопросы, которые могли бы возникнуть при составлении реферата или при его обсуждении. В VII классе я дал такие темы: 1) Театр и кинематограф; 2) Действительно ли были лишними людьми «лишние люди» в русской литературе середины XIX в. А в VIII классе три темы по словесности: 1) Идея романа «Анна Каренина»; 2) Мария Болконская и Наташа Ростова; 3) Базаров и Молотов как новые типы 60-х годов; и две по педагогике: 1) Сон и сновидения; 2) Воспитание и обучение в дореформенной русской школе (по «Очеркам бурсы» Помяловского). Ученицы в общем охотно взялись за эти темы. Но на следующем уроке задали мне вопрос: не лучше ли было бы писать рефераты на современные темы? А когда я спросил, какие же это «современные вопросы», или, как одна выразилась, «злобы дня», — уж не вопросы ли политические, — ученицы с пренебрежением отмахнулись от политики и пояснили, что их, например, занимают теперь вопросы о смысле жизни, о самоубийствах. Очевидно, эти вопросы особенно обострили их интерес под влиянием письма подруги и под влиянием нескольких самоубийств знакомых молодых людей и девушек. Я предложил было им почитать «Исповедь» Толстого, который тоже мучился этими вопросами. Но это их не удовлетворило, так как сторонников его решения этого вопроса в классе, видимо, не нашлось. И мне, к стыду своему, пришлось замолчать, заявив только, что обсуждать такие вопросы на рефератах не придется. Говорю — «к стыду своему», потому что ученицы, конечно, были тысячу раз правы. Разве не первый долг нас, взрослых людей и профессиональных наставников, помочь разобраться мечущейся молодежи в этих больных вопросах? И не подносим ли мы им, в сущности, камень вместо хлеба со своими рефератами, при составлении которых следишь пуще всего за тем, чтобы они не затронули чего-нибудь острого, современного?
А тут еще беда. Пришло известие, что к нам едет на ревизию окружной инспектор, притом не прошлогодний ревизор К-в, а некто А-в, специальностью которого является политический сыск. Опять, должно быть, пойдет в ход прошлогодняя история с библиотекой и прочес. И Бог знает, чем все это кончится. В наши времена разве может какой-либо, даже самый лояльный педагог быть спокоен за свою судьбу? Все время ходишь как бы на краю обрыва. Даже суеверным невольно делаешься, ибо судьба твоя зависит не от тебя, а от каких-то неведомых случайностей.
5 декабря
Одна ученица VII класса обратилась ко мне с вопросом, чтобы я порекомендовал ей, что читать, т<ак> к<ак> данный мной список она уже весь использовала. Недавно с тем же обращалась ко мне и одна ученица VI класса, которая тоже перечитала уже все, что я рекомендовал. Это естественное последствие того, что я «страха ради иудейска» урезал ныне рекомендательные списки до минимума, т<ак> к<ак> мои прежние списки, где помещены были и некоторые произведения новых писателей, вызвали целый скандал, попали — благодаря Б-скому — и в округ, и к жандармскому ротмистру, и я до сих пор еще с трепетом жду, чем кончится эта история. И что я могу рекомендовать им, кроме и так уже прочитанных классиков, когда недавно еще собственноручно отправлял в жандармское правление и Гаршина, и Горького, и Овсяннико-Куликовского? И ученицы теперь, лишенные каких-либо указаний с нашей стороны, поневоле будут читать что попало; а, может быть, предпочтут и совсем не читать.
И после этого, когда искусственно вытравливается из учебных курсов всякое осмысливание жизни прошедшей и настоящей, приходится ли удивляться, что из наших школ выходит молодежь, лишенная какого бы то ни было цельного мировоззрения? Она сама нередко томится этим, ищет смысла жизни, но где же она его найдет? У нее нет ни цельного религиозного мировоззрения, в корне расшатываемого всем строем домашней и школьной жизни; но нет взамен этого и никакого другого. Ведь все идейное, цельное, проникнутое тем или иным определенным миросозерцанием, — для нее запрещенный плод. Жизнь не дает никаких ярких лозунгов, которые могли бы увлечь молодежь. Книги более или менее идейного содержания не попадают им в руки, и они не слышат о них. А мы, воспитатели, под бдительным оком начальства тоже невольно стараемся обходить все цельное, идейное и преподносим учащимся ничего не говорящее ни уму, ни сердцу. «С одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой — нельзя не признаться».
И в результате всего этого — полная безыдейность современной молодежи, которая то пускается «во все тяжкие», то, потеряв вкус к жизни, пускает себе пулю в лоб.
7 декабря
Сегодня новый председатель пожаловал ко мне на урок в VI классе. Разбирались оды Державина. Приспособляясь к прежним требованиям начальства, я несколько раз поправлял учениц, говоривших «Екатерина II», добавляя «императрица»… Но… угодить все-таки не мог. Ш-ко, с одной стороны, поставил мне на вид, что у меня недостаточно твердо знают самое содержание од; а с другой стороны, остался недоволен, что ученицы приписали Державину легкомысленный взгляд на поэзию как на «вкусный лимонад». Правда, во всех учебниках, которые у нас приняты (Незеленов, Саводник) это излагается именно так, как отвечали ученицы. Но Ш-ко, ссылаясь на некоторые ученые труды, категорически отрицал это и «порекомендовал» мне разъяснить ученицам, что у Державина был не такой взгляд, как я — согласно учебникам — им рассказал, а совершенно противоположный. Миссия, конечно, не из приятных. Да и помимо всего этого, с чем же мы все-таки должны считаться? То считают чуть не преступлением всякое отступление от учебника, то требуют опровергать учебники, одобренные Министерством, и учить как раз наоборот. Возможно, что с научной точки зрения Ш-ко и прав. Но разве виноваты мы, что — заваленные непосильной работой — мы не имеем возможности что-либо читать и невольно отстаем от науки? Откуда мы можем почерпать новые взгляды, когда за весь год читаем исключительно сочинения своих учениц? А помимо этого, сколько еще взваливают все на этих же заваленных тетрадями словесников! Надо не только пройти свой курс, ничуть не меньший курса других предметов; надо еще и научить учениц устно и письменно излагать свои мысли, надо научить выразительному чтению, надо искоренить орфографическую безграмотность. А если начнут устраивать внеклассные разумные развлечения, кто опять должен готовить учениц к декламации, кто должен вести рефераты и литературные беседы? Все словесник, и словесник. И в результате приходится за все отвечать. Не понравилась декламация на вечере, виноват словесник; сделали орфографическую ошибку в работе по математике, отвечай тоже словесник. И после всего этого словесника же опять тянут к ответу и за то, что он не имеет возможности что-либо читать. Как будто для нас самих это сладко!
8 декабря
Любопытно следить, как пробуждается иногда мысль у учащихся, и приятно, когда они доверчиво обращаются за разъяснениями какого-нибудь волнующего их вопроса. Не часто бывает это в современной школе, но все-таки иногда случается. На днях как-то подошли ко мне две девочки шестиклассницы и после некоторого смущения осмелились и задали вопрос: можно ли жить, не считаясь с общественным мнением? В дальнейшем разговоре с ними выяснилось, что этот вопрос их действительно занимает. Я, насколько мог, разъяснил им, что руководиться в жизни чем-нибудь все-таки надо, если не общепринятыми мнениями, то своим умом; нельзя только поступать безрассудно, безосновательно; предупредил их также, что вполне полагаться исключительно на свой ум можно только при достаточном развитии его, чтобы не остаться в еще худшем положении, чем при руководстве общественными мнениями. «Почему, например, нельзя целоваться с мальчиками, — наивно иллюстрировала свои недоумения одна из учениц, — ведь целуемся же мы с подругами, разве не такие же у них губы?» По-видимому, эти девочки делали и другие попытай жить «своим умом» и не считаться с тем, что принято. От классной дамы я вскоре узнала, что одна из них вела себя по отношению к ней как-то странно вызывающе: хохотала ей в лицо и т.п. В результате, конечно, ей сбавили поведение. А между тем туг первые проблески чего-то своего, первые порывы и искания юности.
10 декабря
На днях при бумаге из округа прислали вырезку из одной черносотенной газетишки, где опять обливают помоями нашу гимназию, толкуют о распущенности учениц, превозносят Б-ского, который ввел в прошлом году порядок в гимназии, «за что его и уволили», — меланхолически заканчивает корреспондент. Это, без сомнения, месть за Б-ского. Возможно, что составлена эта статья кем-нибудь из его «пострадавших» соратников вроде госпожи В-вой, которая недавно, встретив меня и, очевидно, намекая на статью, саркастически спросила: «Говорят, теперь без меня у вас очень хорошие порядки? Раньше ведь я во всем была виновата». Подобные корреспонденции, при всей прозрачности их целей, производят без сомнения на округ свое впечатление. А у нас в гимназии могут вызвать еще большую запуганность, еще большее преклонение перед принципом «как бы чет не вышло», который и так уже очень остро даст о себе знать. Между тем в нашем же городе благополучно существует частная гимназия, начальница которой, беззастенчиво покровительствуя ученицам из влиятельных семей и вообще всеми силами стремясь к дешевой популярности, действительно совершенно деморализовала учениц и создала полную анархию. Ученицы не только манкируют уроками, но даже позволяют себе бросать в учительницу тетрадками, танцевать на уроках, свистеть в ответ на замечание учительницы и т.п. И все это начальница поощряет, особенно когда замешаны в этих «художествах» такие ученицы, как дочь прокурора и т.п. Заниматься при таких отношениях учениц и при систематическом подрывании начальницей авторитета учащих оказалось для некоторых положительно невозможным. И на следующем совете все единогласно выступили против такой антипедагогической политики начальницы; при этом приводилась в пример и наша гимназия, где совсем другая, более нормальная атмосфера, так что даже ученицы, которых в частной гимназии приходилось выводить из класса, при переходе к нам начинали вести себя вполне прилично. Это, конечно, не секрет. Но наши патентованные «патриоты», всегда ратующие за порядок и дисциплину, на все это смотрят сквозь пальцы. О частной гимназии черносотенная пресса молчит и винит в распущенности не ту, а нашу гимназию. Причина, конечно, в том, что начальница частной гимназии, щеголяя, с одной стороны, своим либерализмом, с другой стороны, умеет всегда подмазаться к людям с положением. Прокуратура, жандармерия — для нее свои люди. С «нашим» Б-ским в прошлом году она тоже дружила. И в результате ее донельзя распущенная гимназия оказалась под покровительством черной сотни. Подобный же «педагог» провокаторского типа стоит и во главе здешней торговой школы. С одной стороны, он либеральничает, позволяет на своем вечере декламировать «Песню о соколе» и т.п. А с другой стороны, якшается с жандармерией, ищет бомбы в нанятой для школы квартире и т.п. И наши «патриоты» опять от него без ума. А между тем в школе царит анархия, ученики никого знать не хотят. Но о распущенности его школы ни одна правая газетка и не заикнется.
Вообще в наше странное время все понятия смешались. Ни лояльность, ни консерватизм, ни стремление к порядку и дисциплине не могут гарантировать расположения «патриотов» и начальства. Все построено на личностях, на умении подмазаться, подслужиться. И те, кто умеет так делать, получают патент на благонадежность, как бы ни вели они себя в остальном. Что в самом деле было бы со мной — словесником или начальницей, если бы мы дозволили своим ученицам декламировать Горькою? Того Горького, произведения которого были изъяты у нас даже из фундаментальной библиотеки и отправлены в жандармерию! А тут свободно читают на вечере «Песню о соколе», а начальник школы превозносится в «Русском знамени» как образец «правого» педагога…
20 декабря
Вчера на заседании педагогического совета председатель прочитал присланную из округа статью из черносотенной газетки, представляющую глупый и малограмотный донос на весь город и в том числе на нашу гимназию. Об ученицах голословное заявление, что они «толпами шляются по улицам до поздней ночи»; об учителях, что они либералы и «жидо-масоны»; законоучителю, в частности, за неимением лучшего ставится в вину, что он однажды опоздал на царский молебен (на самом деле лишь оттого, что предварительно должен был отслужить такой молебен в гимназической церкви). Председатель сам, видимо, относится к этой болтовне полупомешанного сплетника весьма асептически и заявил, что он лично распущенности не замечает. Но тем не менее эта статья послужила поводом к изданию целого ряда правил, «подтягивающих» гимназисток и регламентирующих их внеклассное поведение. В заключение председатель просил членов совета не разглашать в городе, что на заседании была заслушана эта статья, так как «для автора ее слишком много чести, а для нас это унизительно». Все это, конечно, верно. Но то, что статья все-таки обсуждалась на совете в течение полутора часов, и то, что автору ее удалось оказать на совет давление, — разве это не позор для нашей современной школы? И разве унизительное перестает быть таким, если о нем не узнают другие?
27 декабря
Вчера был ученический вечер в нашей гимназии, который благодаря начальнице, сумевшей привлечь к делу и педагогов, и родителей, и посторонних лиц, сошел на славу. Шла феерия «Спящее царство» с массой действующих лиц, где все роли были распределены исключительно среди учениц. Главные роли были сыграны весьма недурно; было также и пение, и мелодекламация, и балет. Костюмы и обстановка тоже стоили немало трудов, и в результате все получилось довольно эффектно. Потом были танцы, и девочки от души веселились. Восьмиклассницы же, как девицы уже более взрослые (слишком, по-моему, рано находит на нашу молодежь это «взрослое» настроение!), держались несколько в стороне от общего веселья — своим кружком. Со мной у них довольно хорошие отношения. Даже теперь, во время каникул, они, устраивая поочередно вечеринки, наперерыв приглашают меня к себе. Это отмстил недавно в разговоре со мной знакомый мне отец одной восьмиклассницы, выразивший удовольствие по поводу таких отношений ко мне моих учениц. Недаром я, шутя, зову VIII класс своими «детьми»; а они прислали мне торт в день именин с надписью: «Поздравляем. Дети».
28 декабря
Новый председатель, который вначале показался довольно порядочным (после Б-ского мы в этом отношении не очень требовательны), постепенно начинает «выявлять» себя с довольно несимпатичных сторон. Увидев, например, что шестиклассницы в начале урока окружили меня на кафедре (они показывали мне свои тетрадки с сочинениями и просили кое-каких разъяснений относительно их исправления), Ш-ко выразил мне потом по этому поводу неудовольствие. «В других гимназиях начальница не позволила бы этого» — заметил он. Вообще у него отношения к ученицам и даже педагогическому персоналу какие-то чересчур уж подозрительные, чуждые веры в человека. На этой почве вырастает целая система «предупреждения и пресечения», основанная на сыске. К сыску за ученицами и их поведением председатель старается привлечь весь педагогический персонал. Но, с другой стороны, он не стесняясь говорит и о наблюдении за частной жизнью учителей, что он берет уже на собственную ответственность.
29 декабря
В течение второй четверти некоторые восьмиклассницы так запустили свои уроки, что наполучали двоек за четверть. Но особенно выделилась из них некто К-ая, которая, несмотря на то, что я по каждому предмету с целью исправления спрашивал ее по несколько раз, ухитрилась получить двойки по трем предметам (словесности, педагогике и методике арифметики). На полугодовую же репетицию по русскому языку, которую держали все «словесницы», К-ая совсем не явилась, чувствуя, очевидно, себя совершенно неподготовленной. В результате всего этого на педагогическом совете назначили ей полугодовые репетиции по всем трем предметам после святок, 7 и 8 января. И вот сегодня обратился ко мне ее отец, человек интеллигентный и даже литератор, жалуясь на то, что его дочь теперь, готовясь к репетициям, нервничает, плохо спит и т.п. Он просит сообщить, может ли надеяться она на получение свидетельства за VIII класс или лучше взять ее совсем из гимназии, чтобы сохранить ее здоровье. Я поинтересовался, конечно, прежде всего, чем, по его мнению, объясняется ее неуспешность во вторую четверть. Но почтенный родитель сознался мне, что он сам этого не знает, да и не спрашивал даже об этом у дочери. Тем более, конечно, не может быть об этом известно мне, т<ак> к<ак> я вижу К-ую только в классе, о частной же жизни ее совершенно не знаю. Впрочем, отец ее сознался также мне, что она работала в конторе издаваемой газеты, а теперь вместо подготовки к репетициям занята устройством елки в школе, где учительствует ее мачеха, уехавшая на каникулы в Питер. Все это, разумеется, отвлекает девицу от ее ученических обязанностей. Отец же ее, не принимая со своей дочерью никаких мер, чтобы поставить занятия дочери в нормальные условия, и не интересуясь ее успешностью, спохватился только тогда, когда дочь, запустив свои дела и нахватав двоек, начала из-за этого нервничать. Но и теперь он, не предпринимая ничего со своей стороны и даже не постаравшись выяснить причины неуспешности дочери (считает, наверно, что учитель ни с того ни с сего наставил ей двоек!), сваливает все заботы на педагогов. Он просит меня ободрить его дочь, успокоить ее. А сам, по-видимому, стремится лишь к одному: нельзя ли как-нибудь подешевле добыть для нее свидетельство. И это еще интеллигентный родитель, литератор и общественный деятель! Как же смотрят на дело родители не столь образованные и передовые?
Между либералами и черносотенцами
8 января
Положение современного педагога, поставленного между либеральным обществом, с одной стороны, и между начальством, опирающимся на черносотенное меньшинство, нередко вырабатывает из учителей двуличных политиканов провокаторского типа. Почти каждый неглупый педагог, желающий сделать карьеру, принужден вести двойную игру, угождая и обществу, и начальству. И какие некрасивые истории разыгрываются подчас на этой почве! За примерами недалеко ходить. Вот наш бывший председатель — директор реального училища Ч-н. Среди местного общества он давно уже пользуется репутацией хитрого, но в то же время либерального по своим убеждениям человека. В прошлом году он вместе со всем местным прогрессивным обществом работал против Н-ва и Б-ского. К нему то и дело бегали за советами наши педагоги, советовались также и родители, хотя все это делалось под сурдинку. Н-в и Б-ский ненавидели Ч-на так же, как и всех нас; и черносотенная пресса начала травить его как завзятого либерала, набравшего разных жидо-масонов в преподаватели. Но, играя, с одной стороны, в либерализм, Ч-н, с другой стороны, должен был подыгрываться и к начальству. Травля в черносотенной прессе могла сильно замарать его репутацию в глазах начальства и испортить ему карьеру. И вот он начинает энергично реабилитировать себя, поступая ничуть не лучше Н-ва и Б-ского, которых он так честил в прошлом году. В округ к губернатору полетели от Ч-на доносы на городского голову Л-ского, главного врага Н-ва, т<ак> к<ак> против этого Л-ского как поляка уже давно ведут ожесточенную компанию все местные «союзники». Обвиняет его Ч-н, выписывавший вместе с нами и «Речь», и «Сатирикон», в… прогрессивности, в том, Что он ставленник местных либералов, перед которыми он зарекомендовал себя своей борьбой против Н-ва. Обвиняет также Л-ского, бывшего в прошлом году у нас председателем родительского комитета, во вредном влиянии на педагогический совет, в том, что решения совета он делает «достоянием улицы» и т.п. Одним словом, полный отбой по всем пунктам. Но, к скандалу для Ч-на, губернатор и попечитель послали эти доносы для отзыва самому Л-скому; и теперь они стали известны всему местному обществу, немало удивленному таким стремительным ренегатством. Поворот направо оказался настолько крупным и поспешным, что Ч-н позабыл даже о своих собственных бумагах за прошлый год, где он между прочим давал весьма хороший отзыв о Л-ском, а Н-ва грозил привлечь к суду. Теперь Л-скому осталось только напомнить это попечителю, указав ему также, что в борьбе с Н-вым он неоднократно пользовался практическими советами самого г. Ч-на.
А сколько таких же историй так и не всплывает наружу. Сколько двуличия, подхалимства и подлости вырабатывает в нас, педагогах, наше ненормальное, бесправное положение!
9 января
Каникулы кончились, и с 7 числа мы опять принялись за занятия. Впрочем, ныне, считаясь с послепраздничным настроением у учениц, я не стал круто приступать к опрашиванию с первого же дня, а пли рассказывал, или вызывал только желающих, пли не ставил отметок (кроме тех, кто ответил хорошо).
Затеянные по инициативе председателя рефераты (который на них, очевидно, старается выслужиться, т<ак> к<ак> он сразу потребовал внести в протокол, что это предложено именно им) привели на первый раз к тому, что за каникулы мне пришлось читать исключительно пособия к рефератам. Не знаю, компенсируется ли это в будущем хотя некоторой пользой для учениц. Председатель слишком стремится проявлять в этом деле свое я и навязывает все, что ему вздумается, не считаясь даже с мнением преподавателя. Например, говоря о реферате насчет «Очерков бурсы», Ш-ко потребовал, чтобы пособием к этому реферату непременно служили «Очерки по истории русской культуры» Милюкова. В справке оказалось, что там почти ничего относящегося к реферату нет, и тем не менее пришлось указать эту книгу ученице. А несколько месяцев тому назад эта же книга была изъята из фундаментальной библиотеки, лежала под печатью, а потом отправлена в жандармерию, где хранится и до сих лор. Значит, учителям читать ее нельзя, а ученицам рекомендовать можно. Один председатель считает это преступным, а другой — наоборот. Вот и изволь туг приспособляться, когда председатели меняются по два и по три в год! Да притом, сто поручится за устойчивость убеждений и одного и того же председателя? И не будет ли тот же Ш-ко, требующий читать Милюкова, если он даже не относится к теме, доносить потом на меня, что я «поддерживаю кадетов», как выражался в прошлом году его предшественник Н-в, не допустивший на этом основании «Очерков культуры» в свою гимназию? Ведь произошла такая эволюция с другим здешним директором — Ч-ным, «и он сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал»! Да и теперь разве одно у нас начальство — председатель? А попечитель округа? А окружные инспектора? И среди них гроза всех местных педагогов г. А-в, который недавно, ревизуя одну гимназию, объяснял в VII классе, что «Францию и Австрию жиды съели». И все-то эти высокоученые мужи опекают нас, бедных педагогов. И с каждым из них мы должны считаться, ибо без этого не придется и служить.
15 января
Вчера проверял первый представленный мне реферат об «Очерках бурсы». Охарактеризовав дореформенную русскую школу, референтка в заключении говорит, что и в современной школе немало еще пережитков бурсы и что, может быть, грядущим поколениям эта школа будет казаться такой же несовершенной, какой кажется нам дореформенная бурта. Мысли эти представляют, конечно, азбучную истину; но, принимая во внимание наши порядки, я не решился пропустить их на свой страх и риск и обратился сегодня за разъяснением этого вопроса к председателю. Тот остался, видимо, недоволен этим местом, назвал утверждение референтки голословным и посоветовал мне предложить ей или совсем выпустить его, или представить доказательства, в чем она видит пережитки бурсы в современной школе. В последнем случае я должен выступить с апологией современной русской школы. Сам председатель, по-видимому, не допускает и мысли, что наша школа нуждается в коренных реформах. Единственное больное место в ней, по словам Ш-ко, это то, что в нее допускаются учащиеся из некультурных семей («кухаркины дети»), которые не способны к культуре и понижают уровень нашей школы. Это его любимый конек, на котором он не прочь выступить даже и перед учащимися, не считаясь с тем, что значительная часть их как раз и принадлежит к этим самым «кухаркиным детям», из среды которых выходит столько дельных и серьезных культурных работников и хороших учеников. Это же, да еще наследственная психическая ненормальность, является, по мнению Ш-ко, и причиной самоубийств среди учащихся. Услыхав, например, на педагогическом совете о самоубийстве бывшей нашей ученицы, умной и талантливой еврейки Л-ской, он не нашел ничего лучшего, как при всех заявить: «Наверно, ненормальная какая-нибудь», а когда ему указали на неправильность его предположения, Ш-ко безапелляционно ответил: «Ну, значит, родители пьянствовали или развратничали», хотя семья Л-ской прямо-таки образцовая семья: честная, дружная, трудовая и интеллигентная, и Ш-ко ее совершенно не знает. Как бы то ни было, считаясь с мнением председателя, пришлось указать референтке Ч-вой на неуместность ее заключительных замечаний. Ч-ва же твердо стояла на своем — что современная русская школа в сущности та же бурса, и на мое предложение доказать это сказала, что она может сколько угодно об этом написать, упомянув при этом о массе излишнего материала, который приходится заучивать, о формальном отношении к делу педагогов, о их мелочности, придирчивости и т.п. Я же со своей стороны посоветовал ей лучше совсем не касаться этого щекотливого вопроса. Хотя на самом деле разве не права она? Правда, теперь, конечно, нет порки и т.п. Но еще вопрос, что больнее бьет, розги ли по закаленному телу бурсака или наши педагогические приемы по нервным натурам теперешних учащихся. По крайней мере, школьных самоубийств теперь значительно больше, чем во времена бурсы. Все это воочию видят учащиеся; не видят только того, под каким гнетом живем и мы, их «истязатели», современные педагоги. Я лично думаю, что дореформенный педагог, приходившийся к месту со своими домостроевскими приемами, чувствовал себя гораздо счастливее и не испытывал тех мучительных противоречий и того гнета, который испытываем мы теперь.
16 января
В своем игнорировании женских гимназий сравнительно с мужскими наше начальство доходит до явных нелепостей. Например, женские гимназии, имеющие специальный педагогический класс и дающие своим абитуриенткам звание домашних учительниц и наставниц, не имеют права экзаменовать на звание домашнего учителя или учительницы и даже на звание начального учителя (курс четырех классов + пробный урок) посторонних лиц. И это право предоставлено исключительно мужским учебным заведениям, где не проходится ни педагогики, ни методики и где преподавательский персонал не имеет никакого отношения к школьному делу.
Но всего ярче сказывается это пренебрежительное отношение к женскому образованию в тех ничтожных подачках, которые дает Министерство на содержание женских гимназий. У нас, например, при бюджете почти в 50 000 р. казенного пособия получается только 2500 р. в год, тогда как в местное реальное училище на одну только уплату жалования педагогическому персоналу ежемесячно выдастся из казны по 3000 р. Поэтому все содержание женских гимназий падает исключительно на местные средства, и прежде всего на родителей учениц. В целях покрыть расходы по содержанию гимназии неизбежно приходится взвинчивать плату за учение, которая и теперь уже больше, чем вдвое, превышает плату за учение в мужских учебных заведениях. Все это, конечно, очень тяжело отражается на материальном положении несостоятельных учениц, которым поневоле приходится прибегать к частной благотворительности. Существующее здесь Общество вспомоществования нуждающимся учащимся обслуживает поэтому почти исключительно гимназисток и при всем напряжении своей энергии едва может справиться со своею задачею, т<ак> к<ак> почти все средства его поглощаются взносом платы за учение в женские гимназии.
17 января
Сегодня на педагогическом совете сначала детально разрабатывались правила внеклассного поведения учениц. А потом после целого ряда разных «не разрешается» и «воспрещается» началась и созидательная работа — «сначала успокоение, потом — реформы». Все, естественно, должно было исходить от председателя, ибо только он один имеет право производить и дождь, и в ведро. Сначала Ш-ко прочел нам целую лекцию о значении декламации, правда, лекцию не свою, а из книги, излагающей постановление съезда директоров петербургского учебного округа. Источник, конечно, высоко официозный, но ничего нового, о чем и без тот не знал бы учитель русского языка, он не сообщил. Дальше пошло уже практическое применение патетических фраз о пользе декламации. Преподаватели, по словам Ш-ко, не обращают на это искусство никакого внимания и сами ничего не смыслят в нем. Поэтому он рекомендует обратить на обучение этому искусству учениц самое серьезное внимание, а он, как начальник заведения, по долгу своей службы будет строго следить за этим. Опять, значит, новая обуза на нас же, словесников! Правда, мы, вовсе уж не такие профаны в этом деле, как аттестовал нас директор, и по мере возможности требовали от учениц выразительного чтения стихотворений и в классе, и на литературных вечерах, уделяя последним иногда немало времени. Но при том количестве уроков, какое отведено у нас на русский язык, количестве значительно меньшим, чем в мужских учебных заведениях (на словесность, например, в реальном училище отведено 16 уроков в неделю, а в женских гимназиях только 10), крайне трудно проработать даже и чисто образовательную программу, тем более что на этих уроках надо заниматься и рассказыванием и спрашиванием, и письменными работами, и разбором их, и даже диктовками (которые ныне в VI классе опять отнимают у меня по 1 уроку в неделю). Само собой разумеется, что заучивание стихотворений и выработка у учениц выразительного чтения отходит на второй план, т<ак> к<ак> не хватает времени даже на самое необходимое (хотя бы на орфографию, которую всякое начальство требует в первую очередь). Но реформаторский пыл нашего председателя не иссяк на этом. Продолжая открывать давно известные Америки, он стал говорить о пользе литературных утр и предложил заняться устройством таковых, не считаясь с том, что лишь недавно гимназия отвела грандиозный спектакль с участием около 70 учениц, а на масленице и без него уже предлагался вечер VIII класса. Пришлось тем не менее согласиться, чтобы дать возможность директору хоть в чем-нибудь проявить свою инициативу и выдвинуться этим перед начальством (с этой целью он все свои предложения просит обязательно заносить в протокол). Поэтому на масленице оказались заняты два дня подряд: в пятницу вечер у восьмиклассниц, а накануне — литературное утро. И главная работа со всеми этими затеями падает, конечно, опять-таки на меня как словесника. Теперь и так у меня через воскресение должны идти рефераты, которые требуют тоже немало времени и энергии, а в промежутке, значит, пойдут еще литературные утра. И это все еще сверх той массы обязательной работы с уроками, конспектами и сочинениями, которая и без того отнимала у меня даже праздничные дни. Попробовал бы везти такой воз сам почтенный реформатор, получивший уже на шестой год своей службы тепленькое местечко директора с жалованьем вчетверо или впятеро против моего!
19 января
Сегодня состоялся первый реферат. Были председатель, начальница, кой-кто из педагогов и до 80 учениц. Читала восьмиклассница Ч-ва об «Очерках бурсы». Реферат был довольно обстоятельный, но сильно проигрывал от того, что Ч-ва читала слишком быстро и недостаточно разборчиво. После реферата две «официальные оппонентки», ознакомившиеся с рефератом еще заранее, выступили со своими возражениями. Я предлагал еще обратиться к желающим высказаться, а в заключение думал сам сделать резюме. Но лишь только кончили оппонентки и возражавшая им Ч-ва, как наша юная публика, думая, что все кончено, поднялась с мест и, аплодируя, направилась к выходу. Останавливать было уже неудобно, да и председатель нашел, что можно кончить. Так и кончили без конца. Все это, конечно, результат новизны дела. В следующий раз надо будет урегулировать вопрос о прениях, взявши на себя роль руководителя и заранее записавши желающих говорить.
Председатель остался, по-видимому, удовлетворен. По крайней мере он лично благодарил Ч-ву «за доставленное удовольствие». Мне же он предложил взять у Ч-вой реферат и вместе с протоколом собрания сдать на хранение в гимназию на случай какой-нибудь выставки и т.п. Едва ли не здесь-то и «зарыта собака!»
20 января
В VII классе было задано к сегодняшнему дню прочитать «Театральный разъезд» Гоголя. Задано было это еще 5 дней назад, т. е. времени у учениц было вполне достаточно. Но сегодня сначала еще до урока подошли ко мне несколько девиц и с несколько конспиративным видом отказались от урока. А когда я вошел в класс, то услышал толки об общем отказе. Напомнив, что у них времени было достаточно, я вызвал лучшую ученицу П-ву. Но та со смущенным видом заявила, что не знает урока. Сразу было видно, что она (всегда бывшая такой исполнительной) отказывается просто из солидарности с классом. Другие подхватили, что все отказываются. Тогда я несколько повышенным тоном сказал, что таких отказов я не принимаю и никогда не намерен принимать. Почему? — спрашивают ученицы. Потому что, говорю я, этого не может быть. Не может быть, что весь класс не мог приготовить урока, тем более что Гоголь есть у очень многих. Соседки П-вой начали ей тогда шептать: отвечай! Значит, «забастовка» кончилась. «Театральный разъезд?» — с невинным видом переспросила П-ва и начала отвечать. Отвечали и две другие, спрошенные за ней. Отвечали и те, кого я спрашивал на беглые вопросы. Большинство класса несомненно знало урок. И вся «забастовка» вызвана, наверно, несколькими лентяйками, которые, не приготовив урока, пожелали укрыться за спину товарищества.
21 января
Вчера после урока в VII классе, я задал им к сегодняшнему дню прочитать 1-й том «Мертвых душ». О том, что мы будем разбирать это произведение, было сказано ученицам еще в начале учебного года, когда я дал им список всех произведений, которые мы будем проходить. Потом напоминал о том же и перед рождественскими каникулами, и после них. Но ученицы, по обыкновению, дотянули до последнего дня. Пришлось читать все в один вечер. И в результате сегодня коллективно отказались по закону Божию и по истории, заявив преподавателям, что я задаю им так много, что совсем не хватает времени на другие предметы. Законоучитель выразил было сомнение, чтобы не приготовились все, и спросил у той же ученицы П-вой, которую спрашивал вчера я, неужели и она не знает урока. А когда и П-ва заявила, что не знает, подруги вслух похвалили ее: молодец! Перед уроком в VII классе у меня зашел об этом разговор с начальницей, и, хотя я на этот раз к ее помощи не обращался, она сама решила поговорить об этих забастовках с ученицами. А когда я после этого разговора пришел в класс, ученицы коллективно от урока уже не отказывались, но одна из них от имени класса заявила, что прочитали только до VI главы. Я стал тогда говорить им о том, что они сами виноваты, дотягивая чтение целого произведения до последнего дня, что забастовки эти вызываются теми, кто не приготовил урока и прячется потом за спину товарищества, что они, наконец, просто лгали мне, например, вчера, когда знали урок и все-таки отказывались. Адвокатом класса выступила г. С-ва, но, оправдывая подруг, сама прибегла к явной натяжке, заявив, будто они вчера не говорили, что не знают урока, а только то, что он трудный. Я уличил ее в этой передержке. А ученицы стали жаловаться, что из-за меня у них вышли неприятности с другими преподавателями, которым они принуждены были отказываться. «А мне приятно разве, — возразил я, — когда вы жалуетесь на меня другим преподавателям, будто я обременяю вас работой и т. п.?» «С вами обращаешься по-человечески, — добавил я, — а вы устраиваете разные безобразия». В заключение я, вспомнив, что на днях они приглашали меня вместе с ними сниматься, заявил, что после этого и сниматься с ними не желаю. Но когда после этих нотаций я приступил к спрашиванию, то скоро успокоился, и хотя нарочно придерживался серьезного тона, однако уже с трудом выдерживал его. Но могу, да и только, я долго сердиться на них!
25 января
Опять полным ходом идет проверка тетрадей. Но с каждым разом все с меньшей и меньшей охотой берешься за этот труд. Вот работы V класса. Девицы еще первый год учатся у меня. В первых четырех классах они прошли уже всю грамматику и, теоретически рассуждая, должны бы к V классу быть уже грамотными, хотя бы в смысле орфографии. Не тут-то было! Большинство работ (особенно классных) вопиюще безграмотны. Изложение у многих тоже какой-то не то детский лепет, не то записки сумасшедшего. Причин этого, конечно, много и причины разные. Одни от природы не умны и малоспособны, другие слишком мало читали. Дома же на исправление этих дефектов, по обыкновению, не обращают никакого внимания. Вот малоспособная и совсем еще не развитая девочка из полуинтеллигентной семьи. Отец очень отрог и деспотичен. За плохие отметки дочери жестоко достается. И в то же время он не даст ей ничего читать, отнимая у нее единственное средство, которое могло бы ее несколько развить. Вот дочь одного из первых в городе богачей. У него есть свои заводские лошади, свои псарни, есть специальная учительница музыки для детей. Но дочь гимназистка не развита и безграмотна. И никто не подумает об этом, пока она не получит переэкзаменовку. Вот дочь одного состоятельного юриста. Семья вся интеллигентная. Но родители заняты чем угодно, но только не детьми. Девочка вот уже третью четверть получает колы и двойки, и никто не позаботится о том, чтобы направить ее. Отдали в гимназию — и с плеч долой!
А мне приходится, заливая их сочинения красными чернилами, волей-неволей ставить им то, что заслуживают эти работы: то двойку, то единицу. Требуешь, конечно, исправлений, разбираешь ошибки. Но толку от всего этого почти никакого. Тут надо не по несколько минут в неделю (при 30–40 ученицах и при трех уроках больше времени на каждую не придется), по несколько часов в день. И что же в результате? Вчера и сегодня, например, шла раздача сочинений в двух пятых классах. Ученицы волнуются, нервничают. Я стараюсь говорить как можно спокойнее, ласковее. Но баллы все-таки производят свое впечатление. Вот одна из лучших учениц в классе, умненькая С-ва, наделавшая в классной работе по рассеянности грубейших ошибок и получившая за них 2, в отчаянии закрыла лицо руками и так, в каком-то оцепенении, сидит весь урок. Вот залилась горючими слезами дочь заводчика П-ва, получившая единицу. Другая — дочь адвоката, с тем же баллом по сочинению, нервно смеется и говорит, что ей 5; но этот смех, несомненно, перед слезами. Вот встает малоспособная и неразвитая С-ва, тоже с единицей за сочинение, и просится выйти из класса. Там, в коридоре, вспомнив грозного отца, тоже, конечно, даст волю слезам. Но это еще дело обычное. Как бы она чего не устроила над собой? — мелькает у меня тревожная мысль, которая так часто приходит теперь в голову при работе с этой донельзя нервной и неуравновешенной молодежью. А тут живая как ртуть, болезненно раздражительная и невоспитанная К-ва! Ей, правда, 3. Но она и то уже в претензии. Вот она, подойдя к кафедре, сердито тычет рукой в сочинение и вступает со мной в пререкания по поводу каких-то ошибок. Немного погодя она уже горячо толкует о чем-то с подругами, стоя между парт, и вдруг в гневе топает ногой. Это, наконец, возмутило меня. «Вы совсем забыли, где находитесь, — говорю я ей повышенным тоном, — прошу выйти из класса!» К-ва сидит. Я угрожаю тогда, в случае непослушания, перенести дело в педагогический совет. К-ва подчиняется, но, уходя из класса, в утешение себе, замечает с невинным видом: «Пойти, напиться водички…» Но лишь только пробили звонок, она снова явилась в класс и, войдя в дверь, опять демонстративно топнула ногой. Я показал вид, что этой выходки не заметал. На этот раз мнение класса было, по-видимому, не на стороне К-вой. По крайней мере, в перемену она, в сопровождении лучшей ученицы класса, способной и развитой Л-ской, явилась к дверям учительской и, вызвав меня, со слезами извинилась, говоря, что топала вовсе не по моему адресу. Я немного попенял ей, сказав, что мы, учителя, ведь не топаем же на них и что топать так на кого бы то ни было недопустимо. На этом, я думаю, и окончился инцидент. По крайней мере, я не намерен давать ему дальнейшего хода, считая, что К-ва и так достаточно наказана. Карать же ее за это еще — значит только озлобить и изменить мнение класса в ее пользу.
Снова о положении учителей
27 января
Обыкновенно принято изображать в самом жалком виде положение народного учителя. Материальное положение его действительно незавидно, но и положение нас, учителей женских гимназий, принимая во внимание больший образовательный ценз, немногим лучше их. Что же касается условий работы, то в этом отношении положение народного учителя несравненно лучше, чем положение учителя средней школы. Несмотря на то что их гораздо больше но числу, они более объединены между собой, чем мы. Учительские общества (общества взаимопомощи учащих и учивших) среди них обычное явление и существуют почти в каждом городке. Для объединения же педагогического персонала средней школы нет никаких аналогичных обществ. Для народных учителей каждое лето устраиваются разные курсы и съезды. Состоялся недавно даже всероссийский съезд. Из наших же коллег могли устраивать съезды только классики да математики. О съезде же преподавателей гуманитарных наук или даже о курсах для них нет и речи. Об общих же для учителей средней школы съездах никто и не заикается. А между тем разве средняя школа — переживающая такой жесткий кризис — меньше нуждается в них? Но этого мало. Самое главное — это возможность свободной работы, возможность быть хозяином своего дела. В этом отношении опять нет никакого сравнения между учителем средней и низшей школы. Правда, и деятельность народного учителя опутана разными циркулярами. Но не в них дело. Важно то, что за десятками, а то и сотнями народных школ стоит только одно лицо — инспектор, который бывает в школе всего раз-два в год, а то и того реже. За плечами народного учителя не стоит, таким образом, неотступно «некто в синем», и в своих ежедневных занятиях с детьми он не связан с мелочным вмешательством начальства. Он до некоторой степени сам хозяин своего дела.
Совсем иное у нас. Здесь в каждой средней школе есть своя власть, одаренная большими полномочиями. И эта власть в лице директора или председателя, как у нас, держит всю «вверенную ему» школу в своем кулаке. 10–20 преподающих в этой школе педагогов — все у него на глазах. И он имеет полную возможность следить за каждым их шагом. До свободы ли и самодеятельности тут, когда на каждом шагу своей работы приходится выслушивать указания, замечания и нотации. Чтобы обезопасить себя от чересчур придирчивого отношения к своей деятельности, приходится чем-нибудь задобрить начальника, не вступать с ним в пререкания, быть почтительным, сделать в праздник визит и т.п. Всего хуже, когда начальник окажется специалистом по твоему предмету. А таков именно наш нынешний председатель Ш-ко, преподававший раньше словесность. Как из рога изобилия, сыплются теперь разные указания, замечания, реформы и прочие мероприятия — и все на мою шею! Оттого ли, что он интересуется постановкой словесности, или оттого, что хочет подсидеть меня за то, что я не пошел по его приглашению встречать к нему новый год (обидевшись, что он не отплатил мне визита), но только он то и дело стал внезапно являться ко мне на уроки словесности.
Правда, ничем предосудительным я на них не занимаюсь. Но в то же время я не намерен пускать пыль в глаза опрашиванием лучших учениц и т.п. Это обычные рабочие уроки. И, как назло, Ш-ко вот уж по два раза попадает в VII класс тогда, когда я спрашиваю слабых учениц. Те, разумеется, «плетут». И в результате председатель заметил мне сегодня с неудовольствием, что мои ученицы очень неразвиты (в прошлом «Русское знамя» как раз, наоборот, обвиняло меня в стремлении развивать учениц). Единственная панацея от этого, по мнению председателя, это введенные им рефераты, в которых на самом деле будут участвовать, конечно, только сливки гимназии. Но главный конек нынешнего председателя — это декламация стихотворений (он сам недавно издал сборник стихотворений для заучивания наизусть и теперь все время носится с ним). Сегодня, например, он выразил мне свое неудовольствие по поводу того, что в его присутствии я не спросил ни одного стихотворения. На будущее время я должен буду у каждой ученицы в его присутствии (по его требованию, даже и вообще у каждой спрашиваемой) обязательно требовать декламации какого-нибудь стихотворения. Это займет минимум 1/3 каждого урока, если даже только выслушивать их, чего, конечно, недостаточно. А между тем, дай бог, и без этих затей еле-еле кончить программу. И так уже приходится спешить, вызывая недовольство учениц и проходя некоторые произведения (например, «Ревизор») слишком бегло. Но этим дело не ограничивалось. В VIII классе, где ныне стихотворений наизусть не учили, теперь, по требованию председателя, придется заняться исключительно этим делом: учить, декламировать, повторять, потому что он велел, чтобы в каждом экзаменационном билете (весной) было вставлено по стихотворению. Опять, значит, в угоду фантазиям нового барона придется нарушить весь ход занятий. Скомкать или бросить совсем романы Л. Толстого и Достоевского и заняться заучиванием и повторением раньше заученных стишков. Говорю «стишков», а не стихов, потому что здесь тоже придется сделать своеобразный выбор. О том, что мы раньше проходили в VI классе «Размышления у парадного подъезда», «Песня Еремушки» и т. п., я не смею теперь и заикнуться. И даже, когда я упомянул о стихотворении «На смерть Пушкина», Ш-ко с неудовольствием спросил: «Неужели проходили и последние строки? Ведь это можно отнести и к нашим современникам!» Пришлось успокаивать его, что освещение этому давалось чисто историческое, без всякого сопоставления с современностью (да и действительно так!). Во всяком случае, приходится все это «мотать на ус». Но сам режиссер всего этого остается в стороне, а расхлебывать кашу приходится нам — слепым исполнителям чужой воли. Когда я объявил сегодня о заучивании стихотворений в VIII классе, ученицы стали было сами намечать материал для заучивания. Одна напомнила о «Парадном подъезде», другая пожелала выучить «В минуты унынья, о, родина мать»… из «Кому на Руси…» Пришлось положить свое veto. И из богатого хорошим, идейным материалом Некрасова, остается теперь выбирать для моих специалисток-словесниц, стоящих уже на пороге жизни, такие детские «стишки», как «Школьник», «Влас», «Несжатая полоса» и т.п. Ибо все остальное не попало в сборник нашего председателя. И с этим со всем приходится нам считаться. Попробовали бы работать при таких условиях народные учителя. Едва ли бы они позавидовали нам!
2 февраля
Сегодня был второй реферат. Читала ученица VIII класса С-ва на тему «Театр и кинематограф». На этот раз, пользуясь опытом прошлого реферата, я внес некоторые усовершенствования в саму технику ведения дела. Небольшой зал весь наполнен ученицами старших классов. В первых рядах сидели начальствующие и преподаватели. В центре возвышалась кафедра, на которой помещалась референтка. По одну сторону ее стола классная доска с написанным на ней планом реферата. А по другую сторону стоял длинный стол с зеленым сукном, за которым лицом к публике сидели два секретаря — ученицы VIII класса, 6 оппоненток, заранее записавшихся и бравших реферат на дом, а в центре я как руководитель собрания. Получалась картина довольно необычная для учебного заведения. Когда референтка кончила и под аплодисменты публики села тоже за стол, я предложил записаться тем, кто пожелает что-либо говорить из публики. Желающих не нашлось. И я предоставил тогда слово одной из оппоненток, ученице VI класса. Пока она говорила, я основные ее положения записывал. А потом предоставил слово референтке, и она — по указываемым мною пунктам — давала ответ на возражения оппонентки. Та опять ей отвечала, а я по большинству пунктов старался формулировать мнения той и другой или сделать из них какой-либо общий вывод. Так же шло дело и дальше. Это внесло известный порядок в прения. А сама тема и обилие оппоненток оживили собрание, и реферат в общем сошел удачнее, чем предыдущий. Когда оппонентки уже исчерпали свои возражения и стали повторяться, слово взял учитель математики и сказал, что и театр, и кинематограф только тогда будут удовлетворять своему назначению, когда из рук спекулянтов перейдут в руки общественных организаций. Раздался гром аплодисментов. Председатель тоже поаплодировал, потом встал и, попрощавшись со мной, пошел к выходу, так как он спешил в другое место. Присутствующие поняли, что все кончилось, и тоже двинулись из зала. Таким образом, я опять не успел сделать никакого резюме. Надо было уже после прений еще обратиться к ученицам и пригласить желающих высказаться. Такие, по-видимому, нашлись бы, потому что уже после окончания всех прений они еще оживленно спорили между собой и заявляли, что хотели бы кое-что сказать. Надо, значит, еще внести некоторые изменения в технику этого дела. Но во всяком случае реферат, видимо, оживил учениц и пробудил у них ряд мыслей. И мне гораздо приятнее было чувствовать себя среди них не учителем, изрекающим что-то ex cathedra, а просто — как primus inter paves. Жаль только, что это все мало вяжется с общим строем и духом современной школы, что все это похоже на вливание «нового вина в мехи ветхие». И мне вдвойне тяжело было садиться вечером за проверку тетрадей и гнуть двойки за разные буквы «ѣ». Не с большим удовольствием, наверно, и ученицы брались за свои обязательные, надоевшие уже учебники.
8 февраля
Отношения с VII классом за последнее время вошли в нормальную колею. Правда, как-то на днях семиклассницы, усердно болтавшие друг с другом, на мое замечание стали беззастенчиво отрицать, что они разговаривали, чем несколько рассердили меня; и когда одна из них, через некоторое время вторично замеченная в разговоре, не знала даже, о чем идет речь, я поставил ей единицу. Но это был все-таки частный случай. С целым же классом теперь восстановились прежние отношения. Этому до некоторой степени способствовал и реферат, читанный как раз семиклассницей. Потом оказалось, что референтка еще и поэтесса. Я брал альбом с ее стихами, нашел их весьма недурными. И теперь на ближайшем литературном утре другая семиклассница-декламаторша будет их читать. Потом оказалось, что нашлись в VII классе и еще поэтессы. Одна из них тоже обещала показать мне стихи. Все это, конечно, значительно сблизило нас. Не было, к счастью, ничего портящего отношения и в учебной работе.
Но зато теперь все больше и больше портятся у меня отношения с «моими детьми» — с VIII классом. Хотя они и раньше иногда вели себя в классе шумно и развязно, но я не сердился на них за это, хотя сам не раз слышал от классных дам и других коллег, что «мои дети» чересчур шумят и мешают заниматься. С неделю назад они, однако, довели свою развязность уже до непозволительных пределов и обидели меня. Говоря, по психологии, о чувстве любви, я отметил преобладание в нем иррационального элемента. Предполагая, что слово «иррациональный» многим известно (через несколько дней одна восьмиклассница оказалась не в состоянии объяснить даже слово «альтруистический»), я, по обыкновению, хотел записать его на доске. Но лишь только я взял мел, как ученицы подняли гвалт, шум и визг, крича, что не надо писать, что они и так знают. Пришлось положить мел и восстановить тишину; поступок же их я, несколько раздраженный им, назвал «довольно глупым». В перемену коллеги говорили мне насчет того, что восьмиклассницы мешали им заниматься, и удивлялись, что они так вели себя не одни, а при учителе. Но я никакого хода этому делу, конечно, не дал.
Прошло несколько дней. Восьмиклассницы, всецело занятые подготовкой к своему вечеру, стали заметно манкировать своими занятиями. Особенно сказывалось это на словесности. Надо было разбирать «Войну и мир». Но ученицы, видимо, или совсем не перечитали романа (заданного еще на святки), или только бегло просмотрели его. А потому даже с моей помощью дело шло очень туго. При разборе каких-то героев, я сказал, что Наташу и кн. Марию не будем разбирать, т<ак> к<ак> о них будет реферат. Наступило 6 февраля — день классной работы у моих словесниц. Я дал им тему, которая еще с осени была послана в округ: «Наташа и Соня». Девицы, видимо, не ожидали ее и остались несколько недовольны. Но никаких протестов мне не заявляли, и я, посадив к ним классную даму, сам ушел в другой класс. Каково же было мое удивление, когда через некоторое время ко мне на урок влетела классная дама и сообщила, что словесницы отказались писать. Я не мог оставить из-за них свой урок и попросил позвать в VIII класс начальницу. Та потом рассказала мне, что ученицы заявили, будто бы я обманул их с темой, и они не знают, как на нее писать. Начальница успокоила их, рассказала кое-что на тему, и девицы начали писать. Оказалось, что они мои слова о том, что Наташу и кн. Марию не будем разбирать, относившиеся исключительно к устному разбору, поняли в том смысле, что и писать о них не будем, и потому к этой теме не готовились. Ученицы, видимо, дулись на меня, и когда я о чем-то спросил их, то едва удостоили меня ответом. Я же был обижен их выходкой, совершенно безосновательной, по моему мнению, а главное тем, что они назвали меня обманщиком.
В этот день урока словесности у них не было, и уже на следующий день, оставшись с одними словесницами, я указал им на полную неосновательность их забастовки и на оскорбительность их заявления, что я обманул их. Ученицы стали говорить, что они, значит, не так меня поняли. Другие говорили, что, хотя и знали, что говорится об устном разборе, но думали, что я не дам им писать о том, чего они еще не разобрали. Я указывал на неосновательность такого заключения, на легкость темы, с которой может справиться всякий, внимательно прочитавший роман. «Разве только слепой не заметит в «Войне и мире» Наташи; тему же о Соне они уже вовсе не имели никаких оснований не ждать, тем более что я на этот раз, вопреки обыкновению, заранее указал, что тема будет именно из «Войны и мира». Ученицы как будто согласились с моими доводами, но извиниться, конечно, и не подумали. Я был не столько рассержен, сколько обижен и опечален этим инцидентом. Урок шел страшно напряженно. Двое, правда, получили четверки. Но одна, живая и легкомысленная З-ва, отказалась от урока, по-детски мотивировав отказ тем, что якобы не слыхала, что было задано. Другая начала было читать стихотворение, но сбилась, остановилась и никак не могла прочитать его, хотя и утверждала, что знает. Не желая, чтобы не увидели в этом месть, я ни той, ни другой ничего не поставил. Думал, что это подействует на словесниц и примирит нас. Не тут-то было! Сегодня произошел инцидент уже и на общем (для всего класса) уроке — педагогике. В начале урока, когда я обратился за чем-то к некоторым словесницам, те отвечали подчеркнуто грубо и неприязненно. З-ва завязала с одной подругой оживленный разговор. А когда я остановил ее, она бесцеремонно заявила, что она не разговаривает. «Как Вам не стыдно лгать прямо в глаза!» — сказал я, возмущенный ее поведением. Несколько успокоившись после этого, я рассказал урок дальше. Время еще осталось. Надо было спрашивать. Но ученица, которая начала (довольно слабо) отвечать в тот раз, и которая ждала, что ее спросят, предусмотрительно вышла из класса. Спрошенная мной В-ва сразу же начала говоришь нелепости (смешала религиозное чувство с эстетическим и т.п.). Я был особенно недоволен из-за того, что в ту четверть, несмотря на слабые знания, поставил ей 3 в надежде, что она исправится. Пришлось посадить. Поискав в журнале, я вызвал Ч-ву, которая получила в начале четверти 3–, и которую я, как хорошую ученицу, хотел исправить. Она тоже начала путаться. Я, уже несколько раздраженный всем предыдущим, недовольно указал ей на это. Самолюбивая Ч-ва была, видимо, обижена, но продолжала отвечать. Инцидент разыгрался из-за такого пустяка, на который не стоило бы обращать и внимания. Отвечая о религиозном чувстве, Ч-ва употребила слово «благоговение», произнесши его (как послышалось мне) «благовление». Я переспросил.
Ч-ва произнесла правильно. «А ты сказала «благовление»», — сказала ей сидящая впереди подруга. Я тоже подтвердил это, хотя не придавал такой оговорке никакого значения. Но Ч-ва обиделась на это и стала утверждать, что она так и сказала, как надо. «Не виновата же я, — к чему-то сказала она, — что я произношу «г» мягко», хотя тут дело было не в «г». Я не сдержался и заметил ей, что она отрекается от своих слов, а когда она стала еще возражать, посадил ее (не думая, конечно, оценивать этот разговор баллом). Ч-ва покраснела, про должая выражать свое возмущение. «Почему же К-ва (назвал я ее подругу) слышала то же, что и я?» — повторил я свой аргумент. Другие стали раздраженно говорить, что Ч-ва сказала верно. «Незачем и спрашивать учениц, — отрезала Ч-ва, — раз я сказала, значит так!». С этими словами она захлопнула дверь. Класс продолжал шуметь. Я тоже встал и раздраженно заявив: «С Вами невозможно заниматься!», ушел из класса… После пятого урока мне пришлось еще почти целый час сидеть в VII классе, где была письменная работа, и я давал возможность кончить всем запоздавшим. Когда осталась уже одна ученица, я оставил ее и пошел по опустевшим коридорам гимназии, подавленный всем происшедшим. Услышав в зале звуки рояли, я заглянул туда, но, увидав там группу восьмиклассниц, ретировался обратно. Вдруг скрипнула дверь. Одна из восьмиклассниц, чувствительная и немного влюбленная в меня поэтесса Т., догнала и остановила меня. Печальная, расстроенная, с полными слез глазами, она впилась в меня своим взглядом. «Вы сердитесь? — говорила она, — Не сердитесь!.. Дайте мне руку…» — и она пожала ее. Я стал ее успокаивать. Но она ушла.
Спасибо тебе, добрая, чуткая девушка!
10 февраля
За эти два дня (вчера было воскресенье) я успокоился, и когда сегодня пришел в VIII класс, у меня уже не было против учениц никакого чувства обиды. Девицы тоже не проявляли по отношению ко мне никакой враждебности, а в перемену одна из них пригласила даже меня вечером к себе на именины, где были и другие восьмиклассницы.
13 февраля
Четверг на масленой. Сегодня был только один первый урок. А с 10-ти часов началось литературное утро, на котором были только педагоги и ученицы всех классов. Сошло утро очень мило. Было много номеров декламации и на русском, и на иностранном языках (последнее еще новинка у нас). Было и пение. Особенно мило вышел дуэт двух маленьких сестер З-вых (одна в приготовительном, другая — во II классе), пропевших «Сижу за решеткой». Под конец выступила 3. В. (семиклассница) со своим собственным стихотворением «Кокуйское озеро». Стихотворение публике понравилось, но своим чтением она несколько испортила его. Потом читала одна из лучших декламаторш — семиклассница Ч-ва. Когда после чтения «Матери» Надсона ее вызвали на бис, она объявила: «Стихотворение С-вой» (ее подруги по классу), — и прочла его. Раздался гром аплодисментов и крики: «Автора! Автора!» Смущенная С-ва появилась на эстраде и раскланялась. Ч-ва прочла на бис другое стихотворение С-вой. Опять вызовы «автора». На этот раз Ч-вой едва удалось притащить смущенную поэтессу на эстраду, овациям по ее адресу не было конца. А по окончании утра подруги подхватили ее на руки и так донесли до прихожей.
15 февраля
Вчера был вечер восьмиклассниц, устройство которого всецело поглотило за последнее время их внимание. Концертное отделение было небольшое, но довольно содержательное и исполнено очень хорошо. На этот раз в качестве режиссера готовил учениц один артист, и влияние специалиста сказалось на большей выразительности и драматизме их чтения. Очень хорошо провела, между прочим, мелодекламацию ученица З-ва, у которой декламаторский талант оставался до сих пор неизвестным в гимназии, да едва ли о нем знала и сама З-ва. Интересно было также выступление восьмиклассницы Т-вой со своими стихотворениями.
После концертного отделения шли танцы, а я занимался разговорами то с той, то с другой ученицей. Много говорил, между прочим, с шестиклассницей З-вой, умненькой, но чересчур бойкой и невыдержанной девицей. За вторую четверть ей была поставлена четверка за поведение из-за самовольного ухода с моего урока, и она первое время сторонилась меня. Но теперь горечь обиды, видимо, прошла; а, может быть, она и сама сознала свою неправоту. Во всяком случае, она беседовала со мной весьма дружно; говорила и о своем внеклассном чтении, и о реферате, на котором она выступала в качестве оппонентки с чересчур резкими и не всегда основательными возражениями, в чем сегодня сама созналась.
Вообще в этом сближении педагогов и учениц не на официальной почве я вижу одну из самых симпатичных сторон таких ученических вечеров.
16 февраля
Теперь масленица. Народ гуляет. Закрыты и магазины, и все правительственные учреждения. А я по-прежнему принужден сидеть почти целые дни за проверкой ученических сочинений…
17 февраля
Сегодня возобновились занятия, но ученицы «раскачиваются» с трудом. Особенно мало было в VIII классе, да и то просили их не спрашивать. Я, заранее учитывая это послепраздничное настроение, принес сегодня номер «Свободного воспитания», и на уроке методики мы читали одну статью о школе нового типа. Некоторые ученицы, правда, начали было разговаривать и перешептываться, но когда я сказал: «Может быть, неинтересно», — ученицы запротестовали, и разговаривавшие после этого тоже стали слушать.
В VII классе я раздавал классные работы. При проверке этих сочинений оказалось, что ученицы «с Камчатки» списали свою работу («Чичиков и Молчалин») с учебника; в том числе моя «приятельница» по прошлому и позапрошлому году Е-ва, ученица ленивая и неразвитая, но очень обидчивая (на днях она отказывалась у меня от урока, якобы по причине болезни, тогда как накануне была вместе с матерью в кинематографе). Раздавая сочинения, я — не называя фамилий — сказал, что «две особы» списали свои сочинения, и сопоставил их поступок с поведением Чичикова, о нравственной низости которого они писали. «Разница только в том, — добавил я, — что Чичиков мошенничал все-таки умно; здесь же было сделано глупо, потому что если Вы знаете свой учебник, то неужели учитель не знает его?» Все это я говорил, отнюдь не сердясь, и класс реагировал на это смехом. Как чувствовали себя виновные, не могу судить; но никаких возражений или эксцессов с их стороны не было.
18 февраля
Сегодня на конференции разбирались пробные уроки моих «словесниц» по грамматике. Председатель, мало смысля в методике преподавания, хочет, видимо, все-таки показать себя и выступает с замечаниями по меньшей мере курьезными. Сегодня, например, он поставил в вину практикантке, что она писала «т» как j, и «ъ» как t. Другая оказалась виноватой в том, что употребляла общепринятые названия «твердый и мягкий знак», тогда как, по мнению председателя, это названия не научные, и называть эти буквы надо «ер» и «ерь». А когда я указал, что ведь и «р» называется «ер», и при одинаковом названии ученики могут смешивать эти буквы, председатель недовольно заметил, что «р» называется «эр», а «ъ» — «ер». Но к чему вводить в современную школу эти тонкости старинных названий — бог весть. И без того в области грамматики у нас много лишнего балласта, из-за которого не успевают усвоить даже самого необходимого. Да и «научность» всего этого более чем сомнительна. Названия «ер» и «ерь», введенные еще в X веке, употреблялись тогда, когда «р» называлось «рцы», т. е. смешения с этой буквой произойти не могло. Употребляя же теперь латинские названия букв («эр», «эс» и т. д.), мы почему-то должны, несмотря ни на какие неудобства, называть «ъ» и «ь» по-старинному. Почему же тогда и «ы» не называть, как в старину, «сры»? Пусть филологи, разбирая древнерусские памятники, где «ъ» и «ь» имели совсем другое значение, возмущаются названием «твердый и мягкий знак», и предпочитают старинные названия; мы, обучая современному русскому языку, вправе употреблять и современные названия, вполне удобные и соответствующие современному значению этих букв. И только такие псевдоученые мужи, как наш председатель, желая пустить пыль в глаза своей ученостью, могут предъявлять такие странные требования, далекие как от истинной научности, так и от живого учебного дела. Но нам, его подчиненным, приходится тем не менее со всем этим считаться. Придется даже по его приказанию следить за каллиграфией ученических работ и подчеркивать не только многочисленные орфографические и стилистические ошибки, но и неправильные начертания букв (вроде J и t), и это у учениц старших классов, т. е. тогда, когда почерк у них уже установился. Нашел, очевидно, наш сверхпедагог, что нам, словесникам, делать нечего!
Как успеть пройти все, что намечено
21 февраля
Подходит к концу уже третья четверть. Приходится соображать о том, как удобнее распределить материал, чтобы успеть пройти то, что намечено. Во всех почти классах я иду ныне с запаздыванием, хотя и так программы свои приходится с каждым годом сокращать. С одной стороны, приходится делать это под влиянием того давления, которое прямо или косвенно оказывает начальство; а с другой стороны, под влиянием тех повышенных требований, которые стали теперь предъявлять к грамотности в смысле орфографии. На эту орфографию я уделяю теперь в каждом классе по четыре урока в четверть; а в VI классе, сверх того, по одному уроку в неделю уходит на проверку списывания и предупредительные диктанты. В результате, разумеется, все остальное приходится урезывать и сокращать. В VI классе, например, ныне совсем выпустил Шиллера, и, пожалуй, Мольера; Байрона же придется скомкать. В VII классе не хватит времени на «Новь» Тургенева, а остальные его романы и критические статьи к ним придется проходить только бегло. Но всего ярче проявляется этот регресс в смысле урезывания курса в VIII классе. Три года назад мы проходили со словесницами: Герцена, Л. Толстого, Некрасова, Гл. Успенского и Чехова, притом проходили в общем довольно подробно. Глеба Успенского и Чехова пришлось вскоре бросить (после замечания из округа). Ныне — «страха ради иудейска» — выпустил и Герцена. У Толстого выбросил «Воскресение», сделал кой-какие выпуски и у Некрасова (например, стихотворения о печати). И все-таки, даже эту вдвое сокращенную программу едва успеваем пройти. И сам работаешь более вяло, и ученицы не очень усердствуют, ибо из преподавания приходится вынимать самое главное — душу. Не сметь говорить, о чем хочется, и так, как хочется, — и не можешь заразить своим чувством других. А тут еще и чисто внешние требования. Приходится гнаться не за интересом, не за знаниями, а за количеством отметок. Надо всех в четверть переспросить, надо всем выставить баллы. И вместо того, чтобы объяснять, вместо того, чтобы идти дальше, — все спрашиваешь и спрашиваешь, и спрашиваешь только на балл, только с целью проверки старых знаний.
Больно сознавать, что теперь, после нескольких лет работы, когда есть уже известный навык и опыт в деле преподавания, приходится идти не вперед, а все назад и назад.
22 февраля
Сегодня на педагогике в VIII классе ученицы несколько рассердили меня. Урок накануне был, по обыкновению, рассказан, изложен он и в учебнике. И тем не менее спрошенные сегодня ученицы отвечали из рук вон плохо. И притом не одна! Первой я спросил И-и, которой за два неудачных ответа в этой четверти я ничего не поставил. Когда она и сегодня начала «плести», я, раздосадованный, посадил ее. За ней была спрошена В-на, которой и за ту четверть было, Христа ради, поставлено 3–, хотя можно было поставить и два. Она при спрашивании И-и болтала и на один мой вопрос ответила, что не слыхала его. Когда я после И-и вызвал В-ну, она вскоре же сбилась и не могла повторить даже того, до чего добрались мы с И-и. На мой упрек за непослушание В-на довольно бесцеремонно стала это отрицать, хотя сама только что в этом созналась. Я посадил и ее. Третьей «жертвой» оказалась К-ая, которая и за вторую четверть и за репетицию получила 2, а в эту четверть все ускользала от спрашивания, то не являясь на урок, то выходя за дверь. С первых же шагов К-ая начала говорить нелепости, не будучи в состоянии отличить понятия от чувствований. Когда на вопрос о том, что такое понятие (логика пройдена еще в декабре), К-ая ничего не ответила, я — раздраженно сделав ей замечание — посадил и ее. Настроение и мое, и класса испортилось. И вот я спросил болезненную, слабенькую М-ву, которая, несмотря на свое нездоровье и частые пропуски уроков, поражает своей добросовестностью. Она, по обыкновению, блестяще, хотя и слабым, вялым голосом, ответила урок. Настроение сразу пошло на прибыль. Посадив ее, я рассказал дальше, причем за время рассказа успокоился и оживился. И урок кончился в бодром настроении. Баллов во время урока я, по обыкновению, не ставил. После же урока, здраво обсудив все происшедшее, я поставил М-вой 5, а 2 решил поставить только одной И-и как не знавшей урока в третий раз. Остальным же, учитывая свое настроение, которое могло отразиться и на них, на этот раз ничего не поставил.
Надо будет и впредь поставить себе за правило, никогда не выводить баллов сразу после ответа, за уроком, а лишь тогда, когда вполне успокоишься и сможешь объективно оценить и ответ, и все другие обстоятельства.
24 февраля
Вчера было воскресенье, но весь день ушел нарасхват. Сначала, в час дня, было назначено свидание с VII классом, с которым мы теперь уже помирились. Ученицы вторично пригласили меня сниматься, и я согласился. С четырех же часов был реферат в гимназии. Одна из моих словесниц — поэтесса Т-ва читала о Наташе Ростовой и Марии Болконской. Реферат был составлен очень живо, художественно и прочитан с чувством. После его окончания я сделал перерыв, и начались прения. На этот раз из начальства никого не было. Были только я и две классные дамы. Поэтому ученицы чувствовали себя вполне свободно, не стеснялись высказываться, и прения получились очень оживленные, хотя — судя по теме — и трудно было это предполагать. Подымались тут иногда и более жизненные вопросы. Референтка, например, упрекала Наташу, что она, погрузившись в семейную жизнь, забыла о жизни общественной. Другая же восьмиклассница возражала ей, что можно быть или матерью, или общественной деятельницей, совмещать же это невозможно. После оживленного спора обе, наконец, согласились, что женщина-мать должна быть не активной деятельницей, но должна быть в курсе общественной жизни, чтобы суметь подготовить к ней своих детей как будущих граждан. В заключительном резюме я — согласившись, что есть в реферате и недочеты, ибо «только тот не ошибается, кто ничего не делает», — напомнил о крупных его достоинствах и предложил благодарить референтку. Молодая публика поддержала меня дружными аплодисментами, а подруги Т-вой сделали даже попытку покачать ее. По окончании реферата одна восьмиклассница (из семьи моих хороших знакомых) пригласила меня к себе. Там же была и референтка, и еще около десятка восьмиклассниц. Так я и окончил этот день в кругу своих учениц.
25 февраля
Сегодняшний день опять напомнил старое, опять отравил у меня настроение. Хорошо еще, что я, собственно, тут ни при чем. Та же Т-ва, что третьего дня читала реферат, сегодня выступила с пробным уроком по грамматике. Она, видимо, волновалась и допустила несколько ошибок. Потом спуталась, стала в тупик, заплакала и не могла кончить урока. Долго потом еще ее успокаивали подруги, немного успокаивал и я. Через три часа был урок словесности в VIII классе. Т-ва успокоилась, но была, видимо, расстроена своей неудачей. Я ее не шевелил. Но вдруг она опять закрыла лицо руками, подруга начала успокаивать ее, но она была уже без сознания. Урок пришлось прервать. Т-ву, как труп, вытащили из класса. Но отводиться не могли. Побежали за докторами. Наконец, одного привели. А Т-ва все еще была в обмороке и только часа через два удалось ее привести в себя.
26 февраля
Подходит конец четверти. Мы спешим допросить неспрошенных и подвести итоги. А ученицы, нервно настроенные из-за этого, реагируют по-своему: слезами и истериками. Вчера я спрашивал семиклассницу К-ву, девицу довольно туповатую и не очень усердную. Исполняя классные работы на 2, она ныне получила за домашнее сочинение 5, чем вызвала у меня некоторые подозрения. Вчера отвечала она неважно, и я посадил ее, намереваясь поставить 2. Но она все время плакала, и я, пожалев ее, хотел для тщательной проверки спросить ее еще раз; а за тот ответ ничего не поставил.
Сегодня у меня был последний в этой четверти урок в VII классе. Но К-ва, досидев до моего урока, перед ним внезапно отпросилась у классной дамы и ушла домой, надеясь, очевидно, на свою подозрительную пятерку и не желая показать своего незнания. Это злоупотребление моей снисходительностью возмутило меня, и я был в VII классе несколько расстроен. Была спрошена Ш-ая, ученица очень ленивая и невнимательная, но в то же время хитрая. Отвечая, она то отделывалась общими фразами, то пользовалась подсказками подруг. Это, наконец, надоело мне, и после одного ответа по подсказу я посадил Ш-ую. Тогда она начала плакать, выбежала из класса и в коридоре устроила форменную истерику, оглашая воплями и причитаниями всю гимназию (потом мне передавали, что Ш-ая, между прочим, причитала, что я преследую ее за то, что она еврейка. В прошлом же году «Русское знамя» писало, будто я преследую правых. Вот и разберись тут!). Заниматься под этот аккомпанемент было почти невозможно. Ученицы сидели расстроенные, подавленные. Не лучше себя чувствовал и я. А между тем чем же я виноват, что, ничего не делая всю четверть, вечно болтая и смеясь на уроках, Ш-ая наполучала целый ряд двоек (по словесности это уже третья в эту четверть) не только по словесности, но и еще по двум предметам? Опасаясь чего-либо худшего, я хотя и поставил ей 2 за ответ, за четверть вывел однако 3–, присчитав одну четверку, полученную за домашнее сочинение.
2 марта
Сегодня опять воскресенье. Правда, теперь для меня это еще менее отдых, чем раньше, т<ак> к<ак> каждое воскресенье я занят часа по три на реферате. Но самые рефераты и прения после них, где и я, и ученицы выступают уже как равные друг другу люди, элементы самодеятельности, творчества, свободы — все это невольно привлекает меня к этому делу, заставляя забывать об усталости. Так и сегодня. Восьмиклассница В-ва читает, или, вернее, устно говорит свой реферат (вообще-то они письменные) на тему: «Идея романа «Анна Каренина»». Реферат не очень обширный. Но после него вспыхивают оживленные прения. Спорят и о характере Анны, и об идее романа. Высказывают иногда очень дельные мысли; иногда, конечно, и путаются. Многие говорят с места, без предварительной подготовки. Весьма дельно выступает с возражениями и шестиклассница З-на. Ее неукротимый характер здесь вполне уместен. И я только руковожу прениями, прибегая иногда к председательскому колокольчику. Опять затрагиваются иногда и современные вопросы. По поводу смерти Анны поднялся, например, спор о самоубийствах. Одни говорят, что здесь проявляется сила воли, другие, наоборот, считают их признаком слабоволия. Эту мысль очень дельно развивает в прениях сама референтка, цитирует откуда-то, что для того, чтобы жить, требуется иногда большее мужество, чем для того, чтобы умереть. Я поддерживаю ее в этом отношении. Из преподавательского персонала выступает только математик Ш., которому ученицы всегда с жаром аплодируют. Большинство же на рефератах даже и не бывает. Не ходит теперь на них и инициатор этой затеи — наш председатель, которых! при случае, конечно, пожнет всю славу за них. Я в заключение выступил на этот раз с довольно обширным резюме, где развивал свою точку зрения. Ученицы мне тоже поаплодировали. Оживленные разговоры среди учениц на тему реферата и в этот, и в следующие дни ясно говорят, что предприятие это не бесполезное, что оно оживляет, будит мысль. А это, конечно, самое главное.
3 марта
После того приподнятого, праздничного настроения, какое создается воскресными литературными беседами, особенно тяжело переживать те школьные неприятности, которые в таком изобилии сыплются почти каждый день. Сегодня со мной объяснялась шестиклассница А-ва. Это очень болезненная и крайне неспособная девушка, обморок которой в прошлом году дал повод выступить против меня черносотенной «Стреле» и местной газете. Ныне она из-за нервного расстройства пропустила всю вторую четверть. В эту четверть, хотя и занималась, но что это за занятия? При орфографических упражнениях она обнаружила, например, незнание даже правила о сомнительных согласных; написавши правило с «ь» в неопределенном наклонении и списывая с книги фразы на это правило, тут же писала все наоборот. На днях я спросил ее устно. Опасаясь расстроить ее, я спрашивал только за последние уроки, совсем не касаясь пропущенной второй четверти. Но и тут ее ответы говорили скорее о невежестве, чем о знании. Романтиков она называла «романистами», добавляя, что они писали романы; и это после того, как только что довольно подробно проходили о романтизме. Не могла даже сказать, при каких обстоятельствах умер Грибоедов, хотя как раз теперь проходим «Горе от ума». Вообще все спрашивание состояло почти в том, что, задав А-вой вопрос, я спрашивал какую-нибудь другую ученицу; а А-ва стояла и молчала или говорила что-нибудь невпопад. Однако и за этот «ответ», за который другой я без колебания поставил бы 2, А-вой пришлось поставить 3–, чтобы не вызвать опять истерики или обморока. И вдруг сегодня она стала выражать еще мне претензию, почему ей не поставлено 4. А когда я сказал, что ответ ее по-настоящему заслуживал только двойки, она была, видимо, обижена и ушла из гимназии со слезами. Как бы опять не вышло по-прошлогоднему! По-моему, таким еле живым и неспособным ученицам совсем не место в обычной нормальной школе. Теперь же, занимаясь с ними, или приходится ставить баллы не за знания, а за болезнь, или оценивать их так же, как остальных под угрозой сделаться невольным убийцей.
Этим, однако, неприятности сегодняшнего дня не окончились. Между четвертым и пятым уроком у меня вышел резкий конфликт с классной дамой Д., сухой и злой старой девой. Стремление ее и некоторых ее коллег увильнуть от своих обязанностей уже давно возмущало меня, т<ак> к<ак> это часто прямо касалось моих интересов как преподавателя. На этой же почве противоречия интересов преподавателей и классных дам вышел инцидент и сегодня. Придя в учительскую, я увидел, что учительница французского языка чем-то огорчена. Оказалось, что она оставила за шалости IV класс на пятый урок. Но сидеть с ними некому. Приходится или отпускать их, или оставаться самой. Я стал говорить, что ведь на это же есть классные дамы. В это время в учительскую как раз вошла классная дама этого класса Д. и стала настаивать, чтобы учениц отпустили, т<ак> к<ак> ей некогда с ними сидеть. Я вмешался в этот разговор и заметил, что этим подрывается авторитет учительницы. Классная дама довольно резко оборвала меня, потребовав, чтобы я не вмешивался в это дело, т<ак> к<ак> оно меня не касается. Я стал говорить, что классные дамы вообще уклоняются от своих прямых обязанностей, и что это дело вовсе не частное, и я как член педагогического совета вправе его обсуждать. Д. продолжала стоять на своем и аргументировала исключительно повышением тона. Под конец разговора я сказал: «Вы стоите за отмену наказания вовсе не ради интересов учениц, а ради своих собственных интересов». Тогда классная дама бросила мне какой-то намек на мои отношения к ученицам. Это так напомнило мне Б-ского с его доносами на меня, что я — уходя из учительской — бросил по адресу Д.: «Пишите доносик!» Д., как потом оказалось, была в свою очередь очень возмущена моими словами. Вечером, после совета, у нас по этому поводу было опять бурное объяснение, и я ушел домой в самом угнетенном настроении.
Стихи и анонимки
4 марта
Нервное возбуждение вчерашнего дня привело к бессоннице, и я пошел в гимназию совсем не отдохнувшим. А там ждали новые сюрпризы. Когда я стоял в коридоре с одной восьмиклассницей и просматривал ее реферат, ко мне подошел внезапно появившийся в гимназии председатель и пригласил меня в кабинет. Там он вручил мне анонимное письмо с жалобой на меня. Автор, по-видимому, родитель, винит меня в нервности и пристрастном отношении к ученицам. Особенно возмущен он оценкой последнего сочинения шестиклассниц. В прошлом году Б-ский, — вспоминает анонимный автор, — собирал сочинения учениц и заменял отметай учителя своими. Почтенный родитель требует, чтобы и новый председатель сделал так же. Собрал работы, переделал баллы, изменил четвертные отметки, и до исполнения этого отложил совет. «Иначе, — угрожает аноним, — мы будем жаловаться выше, и тогда Вам же будет неприятно». Председатель, такой чуткий к вопросам карьеры, был, видимо, напуган этой угрозой и, даже не проверив справедливости доноса, просил меня, если четвертные баллы еще неизвестны ученицам, изменить их, где можно, к лучшему. Но так как баллы были уже объявлены ученицам, то подрывать моего авторитета на манер Б-ского он все-таки не захотел. Работы шестиклассниц он, однако, просил при первом удобном случае представить ему для проверки. Оказалось, что жалобы поступали на меня уже и раньше. Родители, так лениво собирающиеся для выборов родительских комитетов, очень охотно действуют из-за угла. Уже раза два-три являлись к Ш. почтенные папаши и мамаши, указывая, что я будто бы пристрастен к их дочкам, ибо одни ученицы мне как мужчине нравятся больше, а другие меньше. Жаловались даже не только на то, что я их дочкам поставил два или три, а и на то, что я кому-то другому поставил четыре, т. с., по их мнению, слишком много. Фамилий этих жалобщиков председатель не назвал, но сказал только, что были жалобы и от родителей семиклассниц, и от родителей восьмиклассниц. Сам он, по-видимому, склонен верить этим жалобам уже a priori, ссылаясь на то, что он и сам мужчина, и сам служил учителем в женской гимназии. Поэтому не придавая никакого значения моим уверениям в противном, он давал мне советы, как поступать в случае подобных нареканий. А именно, если ученицы считают, что я преследую какую-либо девицу, то лучше прибавить ей балл, и наоборот. Мне, хотя и состоящему на службе больше, чем председатель, приходилось, конечно, почтительно выслушивать его советы. В заключение же я даже поблагодарил его, что он действует прямо и считает нужным по поводу доносов прежде всего поговорить с обвиняемым. Не избалованы мы на этот счет!
В большую перемену новая неприятность. Обиженная мной классная дама, явившись в учительскую, поведала о происшедшем между нами конфликте бывшим там коллегам, изобразив дело в искаженном виде и обвиняя во всем исключительно меня. Я, хотя и объяснялся со своей стороны, но коллеги, видимо, находят, что больше виноват я. Все это, конечно, еще больше сгустило мое настроение и так уже далеко не веселое в эти дни.
Но зато, когда я пришел в VII класс, там на столе оказалось посвященное мне стихотворение семиклассницы С. В неумелых и несколько наивных стихах нашелся все-таки чуткий отклик на мои переживания, и я в глубине души был автору глубоко благодарен. Вот это стихотворение:
В этом мире страстей и наживы, В этом мире печали и слез, Можно быть бесконечно счастливым, Под волною чарующих грез! После рабства, борьбы и невзгоды Заставляют они позабыть этот свет, Где всю жизнь, все долгие годы На призыв твой не дан был ответ. Где напрасно простер ты объятья, Где напрасно томился и ждал, Что поймут, что откликнутся братья, Где страдать, наконец, ты устал… Твои грезы тебя унесут В мир иной, мир любви и доверья, И усталому сердцу дадут Они сны золотые забвенья. И узнаешь ты счастье хотя на мгновенье, Но оно твою жизнь озарит!.. Пламень вспыхнет в душе вдохновенья И уснувшие чувства в тебе пробудит… С новой силою, братьев любя, Ты раскроешь свои им объятья… Но… покинут лишь грезы тебя — Вновь ответ на призыв твой — проклятья!Вечером был педагогический совет о старших классах. Интересно, что ученицы, выражавшие претензии на мои баллы, оказались слабыми и по другим предметам. Например, семиклассница Е-ва, мать которой в третьем году грозила мне самоубийством, за эту четверть получила двойки по пяти предметам. Другая семиклассница Ш-ая, на днях устроившая на моем уроке истерику и получившая от меня в общем 3–, получила зато двойки по двум другим предметам. Во мне ли, значит, тут корень зла? Правда, я довольно требователен к ученицам, но ведь без этого разве будут они знать? Утешительным для меня было то, что по педагогике все восьмиклассницы, имевшие двойки за вторую четверть, теперь исправились. Я добился-таки того, что они сдали мне все и за новую, и за старую четверть, и теперь по педагогике нет ни одной двойки. Того же бы можно было добиться и по словесности, если бы не несчастные письменные работы со своей неисправимой орфографией. Они приводят к тому, что в VI классе, например, у меня вышло 10 двоек, которые, конечно, и вызывают жалобы со стороны родителей. Если же понизить требования в отношении орфографии, то она, несомненно, падает ниже.
Много нареканий было на совете на «моих детей» — восьмиклассниц. У них часто бывают в промежутки между занятиями — пустые уроки. Естественно, что 20–30 молодых девушек, собранных в одну комнату, не будут сидеть тихо. Но классные дамы, всегда жалуясь на их шум, сами никогда не считают нужным побыть с ними свободные часы. Когда же я указал это на совете, классные дамы сами заявили, что они не пользуются в глазах восьмиклассниц никаким авторитетом. Сознаться в этом лицам, которые с младших классов знают этих девушек и якобы их «воспитывают», значит, по-моему, расписаться в своем педагогическом банкротстве. В результате постановлено обязать всех восьмиклассниц в свободные часы сидеть на уроках каких-либо преподавателей, на которых, таким образом, и удалось свалить надзор за «беспокойным элементом».
5 марта
Отношения с коллегами все неважны и продолжают трепать мне нервы, и без того уже напряженные под конец года. Классные дамы, всегда жалующиеся на массу дел (между тем, например, новая классная дама, перешедшая на эту должность из народной школы, говорит, что она теперь отдыхает, т<ак> к<ак> делать почти нечего), на самом деле стараются уклониться даже и от прямых своих обязанностей. Сплошь и рядом, когда идешь в VIII класс, видишь, как две-три классных дамы сидят в учительской, а между тем все младшие классы предоставлены сами себе, бегают, хотя был уже звонок на урок. Начинаешь заниматься с восьмиклассницами, но в соседних классах такой шум, что ничего не слышно. Приходится обыкновенно посылать одну из восьмиклассниц, чтобы призвать к исполнению своих обязанностей какую-нибудь классную даму. Сегодня, когда я шел в VIII класс и увидал, что II класс совершенно один и весь высыпал в коридор, я сразу послал восьмиклассницу за классной дамой. Те на этот раз очень обиделись; учительница, которая должна была заниматься во II классе, приняла это за намек на ее неисправность, — и все обрушились на меня…
6 марта
Ввиду заверений, данных вчера одной из классных дам, что г. Д. не думала придавать своим словам оскорбительный для меня смысл, я сегодня взял назад свои слова о доносе и извинился за них, добавив, что в остальном считаю себя правым. Таким образом, состоялось «примирение», тем более необходимое, что и коллеги считали мою выходку нетактичной, да и работать в этой атмосфере враждебности, недовольства очень уж тяжело. Теперь все понемногу входит в норму. И работа в классе идет спокойнее, т<ак> к<ак> началась новая четверть, и потому ни ученицы, ни учителя уже так не нервничают. Правда, не у всех коллег благополучно и теперь. Например, у VII класса не очень мирные отношения с историчкой. Она еще новая, неопытная учительница, не может справиться с классом и не может еще поставить себя. Поэтому, несмотря на ее мягкость, у нее больше всего конфликтов. Двум семиклассницам за дерзости по ее адресу сбавили баллы, и теперь семиклассницы ведут себя по отношению к ней демонстративно, устраивая даже «кошачьи концерты» на уроках.
С новой четвертью начались и новые письменные работы, которых предстоит опять подавляющая масса. По приблизительному подсчету, мне предстоит проверить до начала экзаменов, т. е. в течение месяца с небольшим не менее 800 писчих листов или 3200 четвертушек. Когда же тут заниматься чем-либо другим? Я не могу урвать времени даже на то, чтобы прочитать «Записки из Мертвого дома», которые на днях надо разбирать со словесницами. Другие художественные произведения разбираю только по старой памяти, не имея времени даже на то, чтобы просмотреть их, а от этого, конечно, и самое преподавание становится сухим, отвлеченным. О каком же самообразовании, расширении и углублении своих знаний может быть при этом речь?
7 марта
Председатель, почти не бывая у других преподавателей, меня все «не оставляет своей милостью». На днях он был в V классе, а сегодня неожиданно явился перед словесностью в VIII классе и, не отпуская меня ни на шаг от себя, чтобы я не предупредил учениц, вместе со мной явился на урок, попросив переспросить побольше учениц. По словесности ученицы отвечали по большей части недурно. Но стихотворения, которые стали учить наизусть по распоряжению председателя, подвели меня. Было задано повторить «Арина, мать солдатская», но ученицы, должно быть, поленились, и только одна из них смогла прочитать это стихотворение. Так же скверно знали и другие стихотворения; а может быть, мешало и волнение. С одной же из лучших учениц Ч-вой вышел форменный скандал. Читает она плохо, невыразительно, и я начал почти на каждой фразе поправлять ее. Той, очевидно, показалось это обидным. Она раздраженно сказала: «Не буду читать», и села, а потом ушла из класса. После урока председатель предложил прочесть молитву, чего в VIII классе обыкновенно не делали. Это тоже не ускользнуло от его внимания. После урока он беседовал со мной. Назвал выходку Ч-вой «совершенно неприличной», напомнил насчет молитвы и отметил одну ошибку в характеристике Анны Карениной, которую я не поправил. Таким образом, атмосфера опять сгущается.
8 марта
На общем уроке в VIII классе пришлось сегодня немного поговорить насчет вчерашних впечатлений председателя. Когда я стал говорить Ч-вой, что председатель остался ее поступком недоволен, она раздраженно заметила: «Не можете понять состояния ученицы, а еще педагоги!» Я на это не реагировал, но стал разъяснять, что ведь в моих поправках обидного ничего не было. Тогда Ч-ва недовольным тоном спросила: «Почему Вы всегда при начальстве меня спрашиваете? То при начальнице, то при председателе». Я стал разъяснять, что ведь спрашивал не одну ее, а шесть учениц, и ее спросил далеко не первой: «Неужели же составлять еще особый список, кого можно спрашивать при начальстве? В такой список едва ли кто пожелает войти!» Говорил также, что никакого злого намерения по отношению Ч-вой у меня и быть не могло, т<ак> к<ак> у нее было 5 за четверть, и я мог вполне понадеяться на нее. «Неужели же я должен был спрашивать тех, у кого двойки? Те имели бы больше оснований обидеться». В заключение я сказал: «Когда Вы, Ч-ва, успокоитесь, то сами увидите, насколько Вы не здраво рассуждаете». Дальше я сообщил классу насчет необходимости делать после 5-го урока молитву, что тоже вызвало протест, особенно со стороны одной довольно амбициозной ученицы, говорившей, что это смешно и т.п. Не вступая в спор по существу, я говорил, что раз есть известные правила, им надо подчиняться. «Ведь носите же вы форму и не рассуждаете, смешно это пли не смешно». Самой же яркой оппонентке я сказал: «Ваши возражения совершенно не по адресу. Если хотите, объясняйтесь на этот счет с председателем». Ученицы после этою замолчали. А под конец урока мы уже мирно читали интересные воспоминания Водовозовой об Ушинском («На заре жизни»), с которыми я нашел нужным познакомить восьмиклассниц.
9 марта. Воскресенье
Среди гимназисток было несколько случаев заболевания скарлатиной. Поэтому бывшее сегодня утром совещание врачей с участием начальницы и председателя решило произвести дезинфекцию гимназии и прекратить в ней занятия до 20 марта. Для нас, педагогов, это было неожиданностью. Накануне, во время уроков, нас не сочли даже нужным предупредить о возможности закрытия гимназии, и мы поэтому не приняли никаких мер. Теперь пропадает 10 дней, близких к экзаменам и поэтому очень ценных. Можно бы использовать их, хотя задав сочинения ученицам, дав им какие-нибудь работы на дом и т.п. Но, не ожидая закрытия, никто об этом не подумал. И теперь у меня почти совсем даже нет моей обычной работы — проверки тетрадей, и ученицам тоже нечего делать. А потом при возобновлении занятий придется спешить, т<ак> к<ак> в выпускных классах остается учебного времени не больше 21/2 недель.
Вечером я был по приглашению в гостях у восьмиклассницы Т-вой, праздновавшей сегодня день рождения. Ныне что-то я частенько стал попадать на такие вечеринки учащейся молодежи. Здраво рассуждая, предосудительного тут, конечно, ничего нет. Тем более что я бываю исключительно у учениц, живущих при родителях. При этом, конечно, есть возможность поближе познакомиться со своими ученицами, что для учителя очень важно. Но в то же время надо быть очень осторожным, чтобы в отношения с ученицами эти вечеринки не внесли элемента флирта. Кроме того, все это может потом подать повод и к разным нареканиям, обидам и т.п., хотя бы даже для этого и не было оснований. Все это тем более возможно, что такие вечеринки современных учащихся чужды всякого идейного элемента. Все сводится к играм, танцам и довольно пустым разговорам. Насколько лучше было бы дело, если бы была возможность устраивать, хотя бы в тех же квартирах родителей, совместные чтения, литературные беседы и т.п. Но это при существующих условиях вещь невозможная. И мы, бывая среди молодежи, должны ограничиваться тем же довольно пустым времяпрепровождением, что и она. Поэтому и сближение с молодежью получается в общем чисто внешнее и довольно поверхностное. Обучая учениц целыми годами, мы часто совсем не знаем их. Не понимают и они нас. И сколько на этой почве всяких недоразумений, неприятностей, ошибок!
15 марта
La noblesse oblige[8] — обязывает и нас, педагогов, применяться к подлости. Как ни горько это, но все-таки правда! Я имею в виду наши отношения к союзникам. В самом деле. Нас облили помоями и обругали самым непозволительным образом в черносотенной прессе в прошлом году. Нашлись бы веские данные для привлечения не только за оскорбление, но и за клевету. Но… мы постыдно промолчали. Правда, я писал потом в округ, что автором корреспонденций является наш председатель Б-ский. Но к суду все-таки не прибег. И можно ли за эго, строго говоря, судить меня? Связаться с шайкой союзников значило дать бы повод копаться в моем прошлом и настоящем. А узнай они хоть одно — что меня устранили из библиотечной комиссии, и моя служба неминуемо кончилась бы. А чего бы я добился процессом? Порядочное общество совершенно игнорирует «Русское знамя». А его читателей все равно ни в чем не убедишь. И, взвесив все это, пришлось проглотить пилюлю молча. Ныне уже другая провинциальная газетка того же лагеря снова облаяла нашу гимназию и донесла, в частности, на законоучителя, что он опоздал к царскому молебну. И что же? Вместо опровержений или даже просто презрительного игнорирования клеветнической газеты, законоучитель по предложению архиерея должен был подписаться на нее, и теперь мы имеем удовольствие видеть ее в гимназии…
Председатель местного отдела Союза русского народа, ничтожный во всех отношениях фельдшеришко, бегал в прошлом году к нашему ревизору и делал на меня чисто клеветнические доносы, совершенно наглые по своей беззастенчивой лжи. Ныне в одном частном доме мне пришлось встретиться с ним и… познакомиться. И теперь мы любезно обмениваемся поклонами… Не могу же ведь я выдавать ревизора, который сообщал все это конфиденциально. А попробуй без всяких внешних поводов не подать руки этому господину, и в «Русском знамени» снова появятся пасквили и доносы на меня. Нет, уж лучше от греха подальше! А гордость и самолюбие по боку. Так-то мы и живем.
17 марта
На днях был у председателя потолковать насчет экзаменационных программ в VII и VIII классах. Насчет объема курса в VII классе он сразу согласился, насчет программы VIII класса высказался было за включение не только литературы, но и грамматики (ее уже сдавали на полугодовой репетиции, но г-н председатель тогда не соблаговолил прийти, и потому, видимо, скептически относится к тому, что ученицы достаточно знают ее). Мне, однако, удалось уговорить его обойтись без грамматики. Но зато в другом, что является его «коньком», он остался неуклонным. Я имею в виду его пристрастие к заучиванию наизусть стихотворений. Эти идеи его мы узнали не так давно и не могли знать раньше; поэтому, хотя ученицы и занимались заучиванием, но этому не придавалось никакого исключительного значения. В VII классе выучили ныне около 10 стихотворений. А в VIII, где занялись этим всего какой-нибудь месяц назад, выучили стихотворений 6–7. Теперь же председатель настаивает, чтобы и в программе VII класса, и в программе VIII класса стихотворения были обязательно в каждом билете. Таким образом, в VII классе придется потребовать от учениц явиться на экзамен с двадцатью стихотворениями в голове (по числу билетов); а в VIII — с восемнадцатью. В VII классе со старыми стихотворениями еще удалось набрать это число. А в VIII — откуда их взять? Для заучивания вновь времени уже не хватит, т<ак> к<ак> остается всего 6–7 уроков, а пройти надо еще Достоевского («Мертвый дом» и «Преступление и наказание»). Повторять тоже затруднительно, т<ак> к<ак> и времени мало, да и некоторые ученицы поступили из других гимназий, и общеизвестных стихотворений найдется мало. А тут еще и из того, что выучено ныне, некоторые стихотворения пришлось выпустить как недостаточно «благонадежные» («Свобода», «В минуты унынья» и некоторые другие). Теперь под давлением председателя придется налегать на учениц. А им это, конечно, тоже не понравится.
21 марта
Занятия возобновились. И сразу же пришлось нагонять пропущенное время: почти каждый день то в том, то в другом классе устраивать добавочные уроки. После отдыха высидеть пять часов в напряженном состоянии весьма нелегко, и я вернулся вчера из гимназии с больной головой, да и сегодня чувствую себя после пяти уроков утомленным. Но, с другой стороны, приятно было снова оказаться среди этой милой молодежи, снова заняться любимым делом. Вот урок словесности в VIII классе. Я сообщил, что ввиду того что много уроков «пропало», вместо двух сочинений в эту четверть дам им одно. Но какое дать: классное пли домашнее? Оказывается, есть сторонницы и того, и другого. Завязывается спор. Решают голосовать вопрос вставанием. «Кто за классное?» — спрашиваю я. Встает человек пять. «Кто за домашнее?» Встает большинство. Вопрос, таким образом, решается самими ученицами. Дальше начинаю спрашивать урок (биографию Достоевского). Кой-что добавляю, стараюсь заинтересовать. Напоминаю, например, что он был и в пределах нашей губернии. Называю одного местного старика, знакомого многим ученицам, который лично видал писателя. Отвечают сегодня хорошо, знают и стихотворения — не так, как при председателе. Одна из отвечавших Л. З-на, в которой еще так много детской непосредственности, все-таки почему-то закапризничала и заявила, что она не будет читать стихотворений. Я уговариваю ее, прошу прочитать, например, «Свободу» Некрасова. Я, чтобы не смущать ее, все время смотрю в сторону. И она продекламировала очень недурно, так что я поставил ей 5. На этот раз все обошлось хорошо. Но как трудно все-таки обращаться с современной молодежью. До чего она болезненно самолюбива и нервна! На днях, когда подавали сочинения по педагогике, одна восьмиклассница принесла мне на дом несколько работ. В числе этих сочинений оказалась одна работа без имени автора (на обложке тетради все было выскоблено). В самой тетради не было не только плана сочинения (чего я обязательно требую), но даже и заглавия. О фамилии автора я догадался по почерку; но не мог понять, почему нет ни заглавия, ни плана. Я думал даже, не составляет ли эта тетрадь уже продолжения; но где же тогда начало? Поэтому, встретив сегодня в гимназии автора этого странного сочинения, я обратился к ней самым мирным тоном с вопросом о том, ее ли это работа, и почему в ней такие странности. Но ученица (девушка, в общем, вполне благовоспитанная), ничего не ответив, повернулась от меня и ушла едва ли не в слезах. Я, конечно, не стал пока от нее ничего добиваться. Она в последнее время переживает тяжелый душевный кризис на той почве, что родители (богатые коммерсанты) не хотят пускать ее на курсы, куда она рвется из своей малокультурной семьи. В сочинении (характеристика девочки), может быть, есть что-нибудь автобиографическое; может быть, си не хотелось его отдавать. С точки зрения логики, это все, конечно, не выдерживает критики. С точки зрения школьной субординации здесь можно усмотреть и небрежность, и дерзость. Но совсем не с этих формальных точек зрения надо подходить к этой нервной, неуравновешенной, но по-своему славной молодежи. Сегодня же вышел инцидент и с другой восьмиклассницей — Т-вой на конференции. Разбирался ее второй урок (первый она не могла дать из-за волнения, приведшею потом к обмороку). Начальница, указав некоторые погрешности, в извинение практикантки добавила, что это, наверно, допущено было от волнения. Председатель, любезно улыбаясь, обратился к Т-вой с вопросом: «Почему же Вы все волнуетесь?» Та не выдержала, заплакала и стремительно удалилась из комнаты; а другая восьмиклассница, по совету начальницы, пошла с ней отваживаться. Когда конференция кончилась, я оказал председателю, намекая на доносы родителей: «Вот видите, какой народ! А потом скажут, что педагоги виноваты…»
22 марта
На нашем педагогическом горизонте появилась новая личность — классная дама Т. Об особе этой стоит упомянуть. Прежние классные дамы ничего в сущности не делали, однако все время жаловались на массу дел. Поэтому сердобольный попечительский совет — не находя средств ни на книги, ни на надлежащую оплату учительского груда, ни даже на телефон — решил открыть новую должность классной дамы и выбросил из своего скудного кошелька на ветер 600 р. Но кого определить на эту должность? Ближайшим образом это зависит от начальницы. Но начальница, будучи сама избранницей попечительского совета, чувствует себя ему за это обязанной, и когда председатель этого совета (пивной заводчик) замолвил словечко за одну совершенно незнакомую начальнице особу, та сразу согласилась пригласить ее. И вот появилась в гимназии г-жа Т. Классные дамы но большей части сводятся к двум типам. Это или злые, придирчивые старые девы, ненавистные всем ученицам, или же совершенно безвольные тряпки, которых ученицы презирают и не ставят ни в грош. Госпожа Т. типичная представительница второй категории. Будучи определена классной наставницей VII класса, она сразу же распустила класс до последней крайности. Когда она сидит на письменной работе, ученицы без церемонии списывают сочинения с книг. Видя идущего в класс учителя, они в присутствии классной дамы громко называют его по прозвищу. Начались убегание с уроков, массовые отказы. Более смирные учителя не в состоянии заниматься из-за дурной дисциплины. А классная дама, даже и присутствуя на уроках, ничем не помогает им и только знает одно — отпускать из класса всех, кто пожелает. Так что даже молоденькая историчка должна была возмущенно заявить в присутствии класса, что здесь хозяйка она, а не классная дама. Все это отзывается, конечно, и на успехах учениц, и на их поведении, а главное — нервирует педагогов и портит их отношения с ученицами. У меня уже была с Т. небольшая стычка, когда она отпустила с моего последнего в четверти урока ученицу К-ву, которая хотела обойтись без устного балла.
Оправдываясь в этом случае, почтенная «воспитательница» прибегла к лжи, в которой я сразу же уличил ее. Теперь опять назревает конфликт. Я уже не раз просил ее «рассадить» двух семиклассниц, которые все время разговаривают друг с другом и от этого ничего не слушают. Т. не раз уже обещала мне сделать это. Но до сих пор все остается по-старому, и мне каждый раз, прерывая урок, приходится останавливать их разговоры. Когда сегодня я снова напомнил им о необходимости сесть отдельно и спросил, почему они не исполнили этого, те возразили, что классная дама их не рассаживала. В довершение же всего сегодня у меня сбежало с урока в VII классе около 10 учениц, о чем классная дама, конечно, знала, но не приняла никаких мер. Толковать с этой особой, вся роль которой сводится к получке жалованья и деморализации учениц, конечно, бесполезно, ибо как классная дама она ничуть не выше прогнанной со службы г-жи В. Придется воздействовать на нее через начальницу. Но та, пожалуй, тоже не посмеет принять мою сторону. А остальные классные дамы сочтут своим долгом вцепиться в меня как в задиру и обидчика угнетенной невинности.
Реферат «Сон и сновидения»
23 марта. Воскресенье
Хотя сегодня и предпраздничный день, но я все-таки почти все время с ученицами. Сначала, с часу дня, был на утре в музыкальной школе, где выступали по большей части наши же гимназистки, обучающиеся музыке. А потом, с четырех часов дня, начался у нас в гимназии реферат. Читала восьмиклассница П. Л-ва на тему «Сон и сновидения». Реферат, составленный на основе целого ряда ученых трудов по психологии, был очень дельный, но, пожалуй, слишком научный для большинства присутствующих. Официальная оппонентка была только одна, да и та ограничилась одним незначительным замечанием, заявив, что реферат опирается на очень солидные авторитеты, и спорить с Л-вой значило бы выступить против этих авторитетов. Можно было ожидать, что возражений действительно не последует, тем более что с психологией знаком один только VIII класс. Но дело этим не ограничилось, и реферат все-таки сыграл свою роль. Я предложил присутствующим, если им нечего возражать, дополнить реферат сообщением каких-нибудь своих или наиболее интересных снов, в которых мы и попытаемся общими силами разобраться. Сначала по предложению нескольких учениц подвергли разбору некоторые литературные сны («Клара Милич», «Анна Каренина», «Портрет» и др.). А потом ученицы начали наперебой рассказывать и свои сны. Все больше или сны странные, или сны, носящие характер «вещих». Вот встает скромная шестиклассница С-на и рассказывает, что она во сне поправила отвалившийся нос у статуи Петра Великого в Петербурге (где никогда не бывала), и он в награду дал ей записку, по которой можно сделаться красивой и помолодеть на 20 лет. Поэтесса восьмиклассница Т-ва рассказывает, что она сегодня сидела со сне замок, там гробницу и два громадных стула, будто бы древних царей. Семиклассница В. А-ва говорит, что она видела во сне, что умер ее отец, и что этот же сон приснился одной ее родственнице, хотя отец ее на самом деле жив. После каждого такого сообщения я предоставлял слово докладчице, и она со своей стороны старалась проанализировать этот сон с научной точки зрения, указать его причины, объяснить его странный характер и т.п. В случае неполноты этих объяснений или затруднения Л-вой выступал я и старался объяснить то, что следовало. Под конец начали рассказывать сны уже прямо с мистической подкладкой: явления святых, чудесные исцеления и т.п. Попытки Л-вой и отчасти мои объяснить некоторые элементы этих сновидений естественным путем некоторым, видимо, не понравились. Особенно энергично стала выступать против этой тенденции всегдашняя оппонентка шестиклассница З-на. Она стала один за другим приводить (из книг) самые таинственные сновидения, и когда мы с Л-вой сказали, что не все поддастся научному объяснению, она восторжествовала. Как бы то ни было, ученицы приняли довольно живое участие в обсуждении затронутой рефератом темы. Еще больше из них, не высказываясь публично, толковали на эту тему друг с другом частным образом, отчего сегодня на собрании было шумно, и мне то и дело приходилось прибегать к звонку и останавливать молодую публику. Но зато каким контрастом всему этому оживлению была присутствовавшая здесь же классная дама С-я! Рефераты для них просто неприятная повинность (хотя отбывают ее они поочередно, а их всего шесть человек). И г-жа С-я всем своим страдающим и скучающим видом выразительно подчеркивала это. Перед началом она все торопила меня, чтобы поскорее начать. А когда начали, кислая физиономия ее явственно говорила: «Скоро ли кончат?» Но для чего же, спрашивается, они присутствуют на этих столь неприятных для них рефератах? Естественно было бы думать, что для надзора за ученицами. Но в том-то и дело, что за поведением учениц классные дамы совершенно не следят. Сегодня, например, мне крайне трудно было выслушивать все возражения, давая ответы на них, и в то же время следить за порядком. Ученицы (их было человек 75, а на иных рефератах и больше сотни) сегодня вели себя слишком непринужденно: разговаривали, смеялись, выбегали из зала. Одна из них, в заднем ряду, для потехи публики даже уселась на пол. Вести собрание при таких условиях было нелегко; часто из-за шума даже не слышно было говорящих. И классные дамы на все это нуль внимания! Охваченная одним желанием — поскорее отделаться от своих обязанностей, г-жа С-я вмешалась даже самым глупым и бестактным образом в прения. А именно: когда одна ученица начала передавать содержание какого-то сна, С-я, как будто сама только что проснувшись, вдруг оборвала: «Ну, З-на, вы уж сны начали рассказывать!» Почтенная «воспитательница», должно быть, или позабыла, о чем был реферат, или не в состоянии была понять, для чего стали рассказывать сны. Во всяком случае это было грубое вмешательство в мои права как руководителя собрания, т<ак> к<ак> ученицы стали рассказывать сны именно по моему предложению. Я, однако, сдержался на этот раз и ограничился тем, что прервал слова классной дамы колокольчиком, дав возможность ученице докончить свой рассказ. Интересно также отмстить индифферентное отношение к этому делу остальных коллег, которые совсем почти не посещают рефератов (сегодня из двух десятков педагогов была только одна учительница приготовительного класса). Председатель, по инициативе которого устроены эти рефераты, взвалив их на мою шею, ограничился безмолвным посещением только двух первых рефератов, а на остальных систематически блистает своим отсутствием. Начальница, просидевшая со скучающим видом на некоторых из них, тоже предпочла совсем не ходить. Сегодня благодаря ее отсутствию негде было достать бумаги для протокола собрания, и мои секретари — восьмиклассницы принуждены были писать на каких-то клочках, оборванных от записок, старых тетрадей и т.п. Это, конечно, мелочь, но мелочь довольно характерная.
24 марта
Председатель, видимо, на меня дуется и старается под меня подкопаться, с каждым днем убеждая меня в том, что надо не служить, а подслуживаться. Обиженный тем, что я не пошел к нему встречать новый год, он теперь без всякого стеснения придирается ко мне как к учителю. Вчера была именинница его жена. Может быть, мне следовало явиться к ней с поздравлением. Учителя мужской гимназии, по крайней мере, были у него (не знаю, по приглашению или так). Но я этого не сделал; приглашена же была к председателю только начальница. Сегодня ночью мне нездоровилось: я или совсем не спал, или видел страшные, кошмарные сны (потерял, например, форменную фуражку и остался в одном старом пальто, что можно, пожалуй, истолковать в смысле потери должности). Утром я почти больной отправился в гимназию. И вдруг во время урока в VII классе явился ко мне председатель. Сон оказался, пожалуй, в руку. Внезапным посещением моего урока он, очевидно, хотел напомнить мне о моей непочтительности по отношению к его жене. Как это непосредственно у него выходит! Отвечали в общем сносно. Но стихотворения опять шли не очень бойко. Ошибались и в тексте, и в интонации, т<ак> к<ак>, спеша разобрать романы Тургенева, я не имею теперь времени заниматься стихотворениями. Это все, конечно, зачтется мне. Сверх того, председатель сказал мне после урока, что мои ученицы не умеют сами связно рассказывать. Выразил также неудовольствие, что после урока не прочитали молитвы (хотя этот урок был еще не последним). А потом, даже в присутствии других коллег, без стеснения заявил: «Я хотел было зайти на немецкий язык. Но думаю, зачем? У них и так все хорошо идет». А потому, значит, и зашел (в пятый или в шестой уже раз) к словеснику, у которого дела идут, видимо, худо. Спросив меня о том, как сошел вчера реферат, он и тут нашел, к чему придраться, и выразил неудовольствие, что перед рефератом не был прочитан протокол предыдущего собрания. Сам он не ходит на эти собрания, а я не только должен убивать на них все праздничные дни, но еще и затягивать собрания скучнейшим чтением протоколов. И это все при той атмосфере недовольства и недоброжелательности, которая окружает эти рефераты со стороны скучающих на них классных дам. Зато в протоколах педагогического совета красуется, что рефераты введены по инициативе председателя, который, конечно, и получит за свою просвещенную деятельность награду от начальства. Наш же брат, хоть стену лбом расшиби, ни от кого даже спасибо не заслужит; а все только одни придирки и оскорбления.
В отношениях с ученицами и в ходе учебных занятий «все обстоит благополучно»; может быть, оттого, что конец четверти еще далеко и письменных работ пока не было. За устные ответы, правда, было несколько двоек, но ученицы отнеслись к ним спокойно. Зато бывали и очень живые уроки. Вот я вошел в VI класс и сел на кафедру. Ученицы начинают справляться относительно исправления старых работ и подходят ко мне. За ними и другие. И они густой толпой окружают кафедру. Наконец, я шутливо говорю: «Ну, совсем задавили!» — и прошу учениц отправляться на свои места. Начинаю спрашивать характеристику Гамлета. Зашла речь о его слабоволии. Всегдашняя оппонентка З-на не согласна с этим, прерывает ответ, возражает. Ей отвечают другие. Я прошу привести доказательства. Идет спор о самом понимании разных фактов из трагедии, приводятся цитаты. Урок проходит очень живо. А восьмиклассницы, сидевшие на уроке, потом говорят мне: «Какие у Вас Белинские завелись в VI классе!»
Из письменных работ пока была у меня на руках только одна — «Характеристика девочки». Эта работа, где материал берется из жизни и основывается на собственных наблюдениях, по-видимому, исполняется восьмиклассницами с удовольствием. По крайней мере, редко приходится встречать среди ученических сочинений такие интересные, вдумчивые и живые. Некоторые хоть печатай! Помню, как вводились мной эти характеристики лет пять назад. Когда я сразу же хотел сделать их обязательными, это вызвало энергичный отпор учениц, чуть не окончившийся скандалом. Я тогда сдался и предоставил право не желающим писать характеристику заменить ее сочинением на другую тему. Так же и до сих пор я параллельно с характеристикой даю и другую тему по педагогике (например «Школьное обучение и самообучение»). Но число пишущих характеристику с каждым годом возрастает. Обычно характеристику писало около половины класса. Ныне же из 30 учениц на другую тему писали только четверо. Так, постепенно, без насилия, всего лучше можно вводить разные педагогические новшества.
Рефераты теперь ввиду приближения экзаменов окончились. Сегодня, когда после третьего урока учениц распустили на пасхальные каникулы, я пригласил желающих заслушать протоколы наших воскресных собраний. В помещении одного класса собралось около 40 человек из разных классов. Секретари-восьмиклассницы, поочередно занимая кафедру, читали писанные ими протоколы; а остальные слушали и изредка вносили кой-какие поправки. Вообще протоколы оказались довольно полными и точными.
30 марта
На днях на уроке словесности в VIII классе разбирали «Записки из Мертвого дома». Зашла речь о труде каторжан, и я на основании Достоевского пояснял, что тяжесть этого труда главным образом в его подневольности. «Это верно, — как бы про себя заметила одна словесница, умненькая и серьезная С. Т-ва, — я с удовольствием читала «Мертвый дом», пока его не задали; а как задали, всякая охота пропала». Я улыбнулся и постарался объяснить, что если бы весь класс не исполнял известной работы к определенному сроку, как же бы стали мы сообща разбирать то или иное произведение. Но едва ли я все-таки разубедил Т-ву в том, что их труд — это каторжный труд. И ведь так рассуждает медалистка, одна из лучших в классе учениц, поражающая всех своим необыкновенным усердием!
Ее подруга С. Н-ва, подавшая мне сочинение без фамилии, темы и плана, та вовсе уже живет как бы с обнаженными нервами. В сочинении я сам подписал за нее фамилию, написал тему, насчет плана ни словом не упомянул, а за работу поставил 5– и вчера выдал ее автору без всяких упреков и объяснений. Сегодня восьмиклассницы снимались со своими педагогами. Была в фотографии и Н-ва. Но вдруг отчего-то не захотела сниматься, и просидела одна в другой комнате, пока нас фотографировали.
Вчера узнал от восьмиклассницы же Т-вой, что и она с ее подругой В-вой недавно тоже сочли себя обиженными мной. Они последнее время усердно посещают почти все мои уроки в V, VI и VII классах. На днях они спросили, буду ли я сегодня проходить в VII классе что-либо новое. Я сказал, что буду спрашивать то, что рассказывал в тот раз, и статью Добролюбова (так и было на самом деле). Ни против этих учениц, ни против их присутствия я равно ничего не имел; мне, наоборот, был даже приятен их интерес к моим занятиям. И вдруг оказалось, что в тоне моих слов они заметили, что я не желаю их присутствия, страшно обиделись на меня и решили больше не ходить на мои уроки. Пришлось вчера уверять их в противоположном. Но как все-таки легко обидеть нынешнюю молодежь, даже и без всякого желания со своей стороны!
31 марта
Официально теперь пасхальные каникулы, но фактически я все равно целые дни занят. На праздники набрана у меня целая гора сочинений, и все их надо проверить, потому что на Фоминой опять получу работы из двух классов, а там начнутся письменные экзамены. Вот и отдыхай тут!
Удовольствия от проверки очень мало. За орфографию то и дело приходится сбавлять баллы, ставить двойки и единицы. Да и как может она улучшаться, когда родители на это не обращают никакого внимания! Правда, теперь, когда уже на половине последняя четверть, некоторые «взялись за ум» и, чтобы не платить за дочь второй год, пригласили репетиторов. Но разве в такой срок можно что-нибудь исправить! И ведь так поступают вовсе не какие-нибудь бедняки, а люди вполне обеспеченные и даже прямо-таки богатые. Но находятся и такие, что даже теперь не считают нужным позаботиться о своих дочерях. Вот домашнее сочинение дочери одного обеспеченного юриста. Она все время пишет на двойки и единицы. Не изменила себе и на этот раз: за сочинение пришлось поставить «кол». В результате, конечно, будут слезы девочки, переэкзаменовка и недовольство, если не жалобы, родителей. А кто же в этом виноват?
Невольно вспоминаешь с благодарностью, как внимательно следил за моими занятиями и помогал мне писать сочинения мой покойный отец, сам учившийся на медные гроши, не нюхавший даже средней школы и, однако, находивший и время, и уменье помогать в учебных занятиях своим детям.
1 апреля
Газеты принесли известие, что попытка улучшить материальное положение педагогов женских гимназий вызвала конфликт Думы с Министерством, которое, сводя свои ведомственные счеты с Думой, отказалось принимать участие в разработке этого законопроекта. Таким образом, из-за этих личных счетов мы опять остались у расколотого корыта. А между тем теперь не только все средние школы (мужские гимназии, реальные училища, кадетские корпуса, духовные семинарии, коммерческие училища) перешли уже на новые, почти втрое повышенные оклады, но те же оклады распространяют и на некоторые учебные заведения ниже среднего. Так, сравняли с мужскими гимназиями духовные училища и, кажется, уже провели закон об уравнении с ними в окладах учительских семинарий, где от преподавателей совсем не требуется даже высшего образования. Еще с осени повысили оклады и в Мариинских женских гимназиях. И только наше Министерство смотрит на свои женские гимназии как на каких-то пасынков. Не удосужившись внести о женских гимназиях своего законопроекта даже два года спустя после введения новых штатов мужских учебных заведений, министерство теперь ополчилось на Думу за ее инициативу в этом отношении. А при таком отношении Министерства думский законопроект едва ли когда увидит свет. И придется нам сидеть на прежних ничтожных окладах, когда даже низшие учебные заведения (духовные училища, учительские семинарии) перешли на новые. И все, по-видимому, только из-за того, что эти гимназии — женские. Не дождаться, — видимо, женским гимназиям чего-либо доброго от тех господ, которые видят все назначение женщины в посещении отдельных кабинетов разных «Медведей»!
«Христос воскресе!»
6 апреля
Первый день Пасхи. Ночью был у Христовой утрени в гимназической церкви. Залитая огнями и мило украшенная цветами церковь была полна девочек в белых передниках, нарядных и настроенных весело, празднично. Вот кончилась утреня. Гимназистки хлынули из церкви, и началось оживленное христосование и между собой, и с некоторыми из учительниц. На радостные возгласы звонких, юных голосов: «Христос воскресе!» я отвечаю: «Воистину воскрес!» — и старшим ученицам дружески пожимаю руки. Но вот ко мне во второй раз походит восьмиклассница Т-ва, с которой немного времени назад я похристосовался за руку. Она, восторженно смотря, снова говорит: «Христос воскресе!» И когда я снова отвечаю рукопожатием, Т-ва начинает настаивать, чтобы я похристосовался «по-настоящему». Я во избежание скандала поспешил скорее отделаться от нее, сказав, что христосуюсь только так, т.е. без поцелуев. Этот отказ, видимо, больно задел девушку, не взвесившую все неудобство такого «христосования» учителя с ученицей в стенах гимназии. И когда мне через некоторое время пришлось идти мимо нее, она с самым расстроенным видом сорвалась с места и ушла из церкви домой. А между тем, похристосуйся я с ней, какие толки вызвало бы это и среди учениц, и в городе, особенно среди разных моих «доброжелателей»!
12 апреля
Вчера восьмиклассницы устроили вечеринку в гимназии. Вечеринка носила очень скромный, домашний характер. Гостей (посторонних) было всего человек 10. Из педагогов были приглашены я, математик и начальница. Благодаря такому небольшому числу гостей ученицы чувствовали себя по-домашнему. Никакого официального концертного отделения не было, но отдельные ученицы пели, играли на рояли, было и общее пение. Танцевали мало. Но зато были игры как на обычных домашних вечеринках. В общем и хозяйки, и гости остались, по-видимому, довольны.
29 апреля
Экзамены уже идут (пока еще письменные). Но теперь у нас в гимназии другая злоба дня. Это конфликт начальницы с частью педагогов. Исходной точкой здесь послужило то ненормальное положение, которое занимают у нас классные дамы с начальницей во главе.
Придя в зал, где сидели ученицы (экзамен был письменный), я заметил, что вопреки правилам и обычным порядкам некоторые семиклассницы сидят не по одной, а по две на парте, а парт для рассаживания их в зале не хватает. Когда я сказал об атом начальнице, которая и должна была заранее об этом позаботиться, та обиделась и недовольным тоном стала говорить, что парт в гимназии не хватит и т.п. А в заключение этого препирательства вполголоса бросила мне: «Не фыркайте! Раздавайте бумагу». Оскорбленный словами начальницы (которые притом же могли слышать и близ сидящие ученицы), я ушел из зала в соседнюю комнату, где был председатель. С ним еще до этого был у меня не особо приятный разговор, т<ак> к<ак> он забраковал все три представленные мной темы (чего за 7 лет моей службы ни разу не бывало), навязывая мне свою, и едва согласился на компромиссное решение. Когда я начал разговаривать с председателем, в комнату вошла начальница и, обратившись к нему, начала раздраженным тоном жаловаться на меня: «Что это такое?! То ему классные дамы негодны, то парт мало в зале! И считал бы сам, сколько у него учениц! И за кого он считает меня, заставляя исполнять такие обязанности?!» Я стал возражать насчет парт, отстаивая законность своих требований (парты действительно нашлись, и их в это время уже таскали), но не счел удобным упоминать о том оскорблении, которое начальница мне только что нанесла.
Эта выходка начальницы сразу же показала мне, во что она превратилась теперь. Укрепив свое пополнение в глазах округа и установив хорошие отношения с новым председателем, она теперь решительным образом повернулась спиной к своим бывшим товарищам. Принимая всякое законное требование, обращенное к ней или к покровительствуемым ею классным дамам за личное оскорбление, она сама, не стесняясь в выражениях, оскорбляет преподавателей и в то же время жалуется на них по начальству, прекрасно зная шаткость нашего положения и полную зависимость от того же председателя. Председатель, как и следовало ожидать, придал ее жалобе самое серьезное значение и, приняв сторону начальницы, подробно допрашивал меня потом и выражал мне свое неудовольствие, хотя мне — вопреки собственному желанию — пришлось для реабилитации себя коснуться и поведения начальницы, и поведения ее фавориток. Начальнице после этой ее выходки я не стал подавать руки. А она, нисколько не сознавая некорректности своего поступка, считает, видимо, виноватым меня и старается мстить мне даже в мелочах. Берегись, значит, теперь: начальство объединилось!
Столько времени я уже не брался за свой дневник! Все не до того было. И времени свободного не хватало, да и настроения подходящего не было.
Прошли за это время и экзамены, вчера был последний совет, и теперь семиклассницы и восьмиклассницы уже кончили. В младших классах у меня немало переэкзаменовок, но чем старше класс, тем успехи лучше (в пятых классах десять переэкзаменовок, в шестом — четыре). В седьмом у меня «провалилась» только одна, та самая Т-ая, которая в течение года вымогала тройки слезами, истериками и обвинениями учителей в юдофобстве. Впрочем, она и по остальным предметам держала плохо (по истории и математике тройки вывели с большой натяжкой, по географии было два за год). Так что словесность явилась уже последней каплей. За письменную работу она получила два, на устном экзамене на мои вопросы почти ничего не могла ответить и вела себя так развязно и вызывающе, что я вынужден был сделать ей замечание, отказавшись ее спрашивать, попросил экзаменовать ее председателя. Однако на двойке я не настаивал и вывод среднего балла был оставлен до совета, который, приняв во внимание ее сомнительные баллы по остальным предметам, единогласно поставил по словесности два. За исключением этой девицы, остальные все по словесности сдали. А между тем у учителей, слишком снисходительно относившихся к ученицам в течение года, на экзаменах дела шли весьма неважно.
По истории, например, было почти поголовное понижение сравнительно с годовыми баллами. Некоторых спасли только годовые четверки — три двойки за экзамены. И двое все-таки провалилось. Провалилось четверо и у добрейшего математика, хотя здесь складывались вместе все три математических предмета и один мог прикрыть другой.
В восьмом классе я закончил свои уроки еще 19 апреля. После урока педагогики (когда я показывал атлас по экспериментальной педагогике) я, выходя из класса, сказал им, что теперь они кончили свои уроки, что было у нас во взаимоотношениях хорошее, бывало и худое; пожелал, чтобы они не поминали нас лихом и постарались потом, когда будут учительницами, не повторять наших ошибок.
Экзамены у них сошли недурно, хотя бывали и не очень приятные случаи. Одна математичка, например, хотела отказаться от специальности (у нее была еще другая — словесность), обиженная тройкой за пробный урок. Ее не освободили, и она нарочно написала все три работы по математике никуда негодно, чем добилась-таки своего — освободилась от математики. У меня одна словесница наделала в сочинении грубейших ошибок и получила за него двойку. Но для спасения привлекли к делу ее другие письменные работы (прошлогодние экзаменационные сочинения и прошлогодние работы по методикам), которые были написаны грамотно, объяснили ошибки случайностью и допустили до устного, который она сдала хорошо. Таким образом, все восьмиклассницы курс свой кончили благополучно. Мои экзамены, в частности, сошли очень недурно. По педагогике вышло, например, в среднем 18 пятерок и только 5 троек (из 29). По словесности вышла только одна тройка и четыре пятерки (из 14), так что, прощаясь со своими специалистками после экзамена (15 мая), я пожелал, чтобы жизнь их шла так же блестяще, как сегодняшний экзамен.
Вообще экзамены еще раз мне подтвердили, что разумная строгость по отношению к ученицам в течение года полезнее для них же самих, давая и большее количество и большую устойчивость на экзаменах. Заметно было для меня также, как постепенно улучшается успеваемость моих учениц, идя от младших классов к старшим. И без сомнения, еще выше была бы она (как показывает успеваемость по педагогике), если бы на словесника не взваливалось кроме теоретического курса и орфография и т.п., одним словом, если бы словесность была таким же устным предметом как, например, история, география, педагогика.
Вообще говоря, хотя этот учебный год и был, можно сказать, отдыхом сравнительно с предыдущим, когда мы жили под управлением Б-ского, но все-таки тяжелого было немало и ныне. Лучше всего обстояло дело с ученицами. Правда, бывали и здесь конфликты, но не глубокие и скоропроходящие. Учебное же дело шло в общем недурно. Особенно интересен был для меня первый опыт с рефератами, давший немало хороших минут и ожививший гимназическую жизнь. Но зато взаимные отношения педагогического персонала, не сдавленного ныне общими тисками, как в прошлом году, заметно испортились. Снова всплыли разные личные и групповые разногласия, и среди последних особенно рельефно сказался обычный антагонизм между классными дамами и учительским персоналом. Я лично весьма заметно чувствую неприязненное отношение ко мне большинства классных дам, не здороваюсь о начальницей и встречаю довольно холодное отношение со стороны ее фавориток из учительниц. Все это с каждым годом становится чувствительнее. Приобретая с годами педагогический опыт и знание своего предмета, неся ответственность за самый основной педагогический класс, невольно обижаешься, когда не встречаешь не только более или менее справедливой оценки твоего труда, а даже и прост корректного и предупредительного отношения со стороны каких-то надзирательниц, которые — во главе с начальницей — не стесняются даже покрикивать на неугодных им учителей (недаром когда-то так воевал с ними Ушинский!).
Еще тяжелее отзываются все эти неприятности ввиду той массы работ, которую приходится набирать себе, чтобы обеспечить сколько-нибудь сносный заработок. Ведя по двадцать четыре урока в неделю и сверх того пробные уроки, т. е. по пять часов в день, и будучи занятым почти все вечера письменными работами и подготовкой к ответственным урокам в старших классах, я совершенно лишен свободного времени, хотя бы даже для чтения. И за все это получал по 118 рублей в месяц. Насколько справедлива такая расценка, ясно хотя бы из того, что на днях один мой знакомый молодой человек, уволенный из-за неуспеваемости из VI класса реального училища в тот самый год, как я окончил высшее учебное заведение, прослужив те же восемь лет, что и я, получил уже нынче должность с жалованием в 200 рублей. Товарищи мои по высшей школе и даже значительно младшие, чем я, тоже теперь далеко обогнали меня по службе (особенно юристы). И все, пожалуй, из-за того, что я попал в женскую гимназию, где настолько невнимательны к учащим, что за семь лет службы даже не удосужились дать мне чина, несмотря на диплом высшего учебного заведения.
Особенно обидно это при сопоставлении с тем значительно лучшим положением, в каком находятся теперь учащие мужских учебных заведений, где получают то же, что и я, при вдвое меньшем числе уроков, хотя бы даже и в младших классах. (Даже учителя без высшего образования получают там 750 руб. за 12 годовых уроков, т.е. столько же, сколько в женских гимназиях полноправные педагоги с высшим образованием; при этом последние только этим и ограничиваются, а первые только из-за того, что они учат чему-то в мужском учебном заведении, получают еще пятилетние прибавки. Получают их и народные учителя, и только мы их лишены.) Желание разгрузить себя от ненормального количества работы и неприятности с начальницей и классными дамами заставили меня подумать о переходе в мужскую гимназию, где директорствует наш же председатель, сам однажды предложивший мне такую комбинацию. Правда, работать в старших классах и по словесности, конечно, интереснее, чем изучение грамматики в низших классах (там вакансия именно в них). Приятнее также работать по той сравнительно самостоятельной программе, по которой работаю я, чем по строго регламентированной и довольно неясной программе мужских гимназий. Но эта самостоятельность и развивающее значение курса литературы с каждым годом все сокращается под давлением начальства. Заниматься при таких условиях все хуже и хуже. Работа по методикам с восьмым классом теперь, с закрытием ныне последнего приготовительного класса, тоже принимает нежелательный характер, будучи сопряжена с беганьем по чужим школам и с каким-то заискиванием перед народными учителями, от которых мы теперь попадаем в зависимость. Неприятно подействовали на меня также и доносы (личные и анонимные) родителей, жаловавшихся председателю на мое якобы пристрастное отношение к их дочкам.
В результате всего этого я, хотя и со стесненным сердцем, пошел сегодня к председателю заявить о своем согласии на переход в муж скую гимназию. Но не тут-то было. Ш-ко, не так давно сам предлагавший мне это место и в глаза расхваливавший меня как самого подходящего кандидата, теперь вдруг повернул фронт. Приняв меня очень сухо, он заявил, что извещение о вакансии будет сначала послано в историко-филологический институт к сведению оканчивающих курс, и уже потом, если никто из этих новоиспеченных педагогов не пожелает сюда, можно будет хлопотать и мне. Сам же он, по-видимому, не желает сделать и шагу для поддержки моей кандидатуры. Чем объяснить такой поворот в отношении ко мне директора, сам не знаю. Может быть, тогда следовало выразить восторг и рассыпаться в благодарностях по поводу его предложения, а я просто сказал, что подумаю. Может быть, тут сказались и еще какие-нибудь посторонние веяния (хотя бы со стороны начальницы). Но, во всяком случае, отношение ко мне председателя опять изменилось. А при таком отношении не только не получить перевода, а даже и со старого места можно слететь. А между тем в здешнем же реальном училище спокойно сидят на местах учителей русского языка — в младших классах какой-то юрист, а в старших — хотя и филолог, но такой, что даже окружной инспектор аттестовал его как безграмотного. Весь город говорит, сверх того, о нем как о взяточнике. Но ученики благодаря его попустительству относились к нему весьма благодушно до сих пор, пока ныне в двух выпускных классах не провалилось по словесности сразу восемнадцать человек. Зато этот почтенный педагог не лишен других талантов: он дружит и с директоршей — и потому ему все сходит с рук.
1914–1915 Учебный год
Началась война
25 августа
Давно бы пора уже заниматься, но ныне мы все еще гуляем. В виду войны помещение гимназии было занято мобилизованными запасными, а теперь после них пришлось производить основательный ремонт. Поэтому занятия отсрочены до 1 сентября.
Пока провели (в другом здании) только переэкзаменовки и приемные экзамены. У меня по словесности в пятых и шестых классах держало немало. Но сдали почти все удовлетворительно. Провалились только двое: безграмотная шестиклассница А-ва да пятиклассница П-ва, которая и на устном и на письменном экзаменах получила по двойке.
Свободного времени теперь достаточно. Полезно бы использовать его для подготовки к занятиям, но нет подходящего настроения. Дело в следующем. По возвращении моем в городок председатель опять предложил мне место в мужской гимназии, так как его кандидата, которого он хотел выписать из института, взяли в военную службу. Хотя обратиться ко мне заставила, таким образом, только нужда, я, однако, на предложение согласился, имея в виду, сверх 11 уроков в мужской гимназии (III–V классы), оставить пока за собой шесть уроков в восьмом классе женской гимназии (словесность и педагогика). Ш-ко сделал представление в округ уже около трех недель тому назад, но до сих пор «ни ответа, ни привета». Послали телеграмму, но и на нее не отвечают. А между тем время идет, скоро уже приниматься за дело, а я все еще не знаю, где же буду служить и что преподавать. Да и не обозначает ли еще это молчание окружного начальства чего-либо более неприятного для меня? Сказал же почему-то Ш-ко, предлагая мне перевод: «Главное мое условие — не проповедовать ученикам разных там идей. Конечно, было бы еще лучше, если бы и сам учитель придерживался каких надо взглядов. Но надо, по крайней мере, не вводить своих взглядов в дело обучения. А то ведь это делают если не прямо, то как-нибудь косвенно, дают известное освещение и т. д.». Не знаю, кто так осветил меня в глазах директора, но во всяком случае это обстоятельство далеко не в мою пользу. А у нас, в ведомстве г. Кассо, на этот счет более чем строго. На днях только, например, состоялся перевод инспектора реального училища и председателя частной гимназии А-ва на место простого учителя в другой город. В прошлом году у него была борьба с директором Г-ным и его свитой и в результате этой борьбы Г-н донес в округ на А-ва как на «левого» и даже «социал-демократа», ибо он… знаком с бывшим учителем того же училища, который был уволен со службы из-за своих политических убеждений. Между тем после увольнения последнего А-в, «страха ради иудейского», перестал бывать у него и только здоровался. Когда, пораженный переводом, А-в пришел к попечителю и выразил желание объясниться, тот не пожелал даже выслушать его: «Что тут объясняться, и так все ясно». И это еще с педагогом, семнадцать лет состоящим на службе, имеющим чин статского советника и даже рекомендованным на последних выборах местным архиереем — черносотенцем в качестве выборщика. Что же стоит оклеветать нашего брата, мелкую сошку?
26 августа
Кроме предложения места в мужской гимназии я получил и еще два предложения. Ко мне обращались начальница частной гимназии г-жа Б-ч и начальница вновь открытой прогимназии г-жа К-на с просьбой занять у них место председателя педагогического совета. Г-же Б-ч я сначала дал согласие, но потом оказалось, что мой патрон Ш-ко смотрит на это косо (он стал говорите, например, о несовместимости этой должности с классным наставничеством, хотя тут же говорил, что хорошо бы предложите это место другому учителю из мужской гимназии, Л-скому, хотя классное наставничество есть и у него). А когда я пришел посоветоваться к бывшему председателю А-ву, тот сказал, что для гимназии было бы хорошо выбрать меня председателем, но «по человеческому» он не посоветовал бы мне браться за это дело, если я не одержим честолюбием, т<ак> к<ак> на этом посту много всяких трений и неприятностей. В пример он привел мне сфотографированный им донос попечителю, где ученицы гимназии изображались как проститутки, а вина в этом возлагалась на председателя, который якобы распустил их. Вообще, как я вижу, занять этот пост значило бы сделаться мишенью для всевозможных доносов и инсинуаций со стороны всех так или иначе недовольных гимназией. И на меня обрушиться, пожалуй, еще легче, чем на А-ва. В должности учителя, конечно, тоже на всех не угодишь, но здесь, по крайней мере, доносят ближайшему начальству, а не прямо в округ. Поэтому, взвесив все contra, я попросил г-жу Б-ч не поднимать вопроса о моей кандидатуре. На предложение же К-ной согласился, так как здесь дело маленькое (в прогимназии нынче только четыре класса с пятьюдесятью ученицами), да и Ш-ко не только ничего пс имеет против этого, но и сам настойчиво советовал мне занять этот пост (с К-ной у него, видимо, более хорошие отношения).
27 августа
Приехала из губернского города г-жа Б-ч, ездившая хлопотать насчет председателя. Она, оказывается, указала там двух кандидатов: меня и учителя русского языка в реальном училище (из юристов), и назначили последнего, хотя я уже семь лет занимаюсь в женской гимназии, а тот в женской гимназии никогда не служил. Перевод мой в мужскую гимназию тоже тормозится, ибо я, по мнению окружного начальства, не имею права там преподавать как не имеющий звания учителя гимназии (я кончил не университет и не институт, а духовную академию). Мотивировка весьма курьезная, т<ак> к<ак> я уже четыре года назад утвержден министром в этом звании и переписка об этом шла, конечно, через попечителя же. А почему этот вопрос не приходил окружному начальству в голову, когда оно сразу же назначило учителем русского языка в реальном училище юриста, которому звание учителя гимназии дано было уже потом, несколько лет спустя? Я же, прослужив учителем словесности семь лет и уже четыре года имеющий звание учителя гимназии, до сих пор не достоин занять тот педагогический пост, на который юрист, имеющий бабушку в округе, попал сразу со школьной скамьи. Пришлось директору гимназии послать в округ телеграмму, что я де звание учителя гимназии имею, причем справиться об этом он должен был в бумаге, посланной оттуда же, из округа. Ну и порядки, ну и публика там! В педагогическом отношении давно уже на этот Назарет махнули рукой, но они даже и в канцелярии-то не в состоянии разобраться.
28 августа
Первое же заседание педагогического совета принесло нам некоторые неприятные сюрпризы со стороны округа. Ш-ко послал туда таблицу с распределением уроков и в ответ получил «нахлобучку», т<ак> к<ак> эта таблица не соответствует министерской, составленной в… 1870 г. По этой последней число уроков в только что открывающихся тогда женских гимназиях было значительно меньше, но потом — с постоянным расширением программ — количество уроков — по особым ходатайствам педагогических советов — увеличивалось, хотя и теперь значительно отстает от нормы, принятой в мужских учебных заведениях (например, на словесность идет в женских гимназиях десять уроков, а в реальных училищах шестнадцать в неделю). Теперь же вместо того, чтобы увеличить число уроков в женских гимназиях до нормы мужских, пришлось это число сокращать, согласно таблицы 1870 г. (насколько она устарела, видно хотя из того, что по ней женские гимназии значатся только как семиклассные, педагогика является предметом необязательным, в программе физики имеются такие устаревшие понятия, как «теплород» и т.п.). Всего больше пришлось сокращать уроки русского языка в младших классах, сократили и уроки словесности на один, хотя и без того на русский язык отведено мало часов, а требования (хотя бы относительно орфографии) все повышаются. Относительно некоторых уроков, бывших раньше, постановили все-таки ходатайствовать, хотя председатель и высказался за министерскую норму (по его мнению, в женских гимназиях учатся только для того, чтобы иметь лишние шансы выйти замуж).
31 августа
Сегодня узнал, что на место учителя русского языка в мужскую гимназию приехал историк, вызванный телеграммой из западного края, хотя он преподавал только один год в частной гимназии и звания учителя гимназии не имеет. Меня же, значит, оставили.
Назначение в мужскую гимназию
1 сентября
Дело все осложняется. Сегодня получены бумаги, что я переведен в мужскую гимназию на двадцать один урок (хотя при таком числе я не имею права быть классным наставником, а их-то там и не хватает), а на мое место в женскую гимназию назначен юрист Ш-в. Таким образом, в мужскую гимназию одновременно назначены на одно место и я, и историк Б-в, да остается еще учительница Г-ва, которая должна была заниматься в I и II классах и уроки которой тоже теперь отданы. А в женской гимназии мое место уже замещено. Получилась благодаря округу такая путаница, что сам Соломон не разберет. Положение мое стало более неопределенным. А между тем сегодня уже начались учебные занятия, и Ш-ко предложил мне пока заниматься в женской гимназии, но как же тут заниматься, когда я числюсь уже не здесь и, быть может, через день-два явится на это место новый учитель?
2 сентября
Споткнувшись в гимназии (куда я торопился на совет), я повредил себе ногу и теперь сижу дома. Думая, что перевод мой все-таки состоится, занялся методиками русского языка, и первая серьезная книга, которую я стал читать — «Родной язык» Алферова, — показала мне, по каким нелегким программам придется мне работать в мужской гимназии. Все это не радует меня, а больше всего томит неопределенность. Тяжело также до сих пор сидеть без привычного дела, сидеть притом как бы под домашним арестом.
8 сентября
Все сижу дома из-за ноги. Штудирую разные учебники для мужской гимназии. Сколько ненужного балласта придется мне вбивать в головы моим будущим ученикам, следуя официальным программам! Не говоря уже об орфографии и русской грамматике, в IV классе придется заниматься грамматикой церковнославянского языка, и притом не нового, на котором печатаются теперь церковные книги, а того древнеболгарского, который употреблялся не то в Македонии, не то в Моравии в IX в. И это изучают у нас не специалисты-филологи, а мальчишки IV класса, которые не знают как следует и своей-то русской грамматики и не умеют грамотно писать. Чему может способствовать этот нелегкий курс, как не отуплению ребят и усилению их безграмотности? Разве может быть у ребят 13–14 лет какой-либо интерес к тонкостям языка Остромирова евангелия? А какой сумбур должен получиться у них, весьма нетвердых еще и в современном правописании, при виде таких начертаний, как «врачъ», «врѣмя» и т. п.! Но, сознавая нелепость всей этой программы, мне все-таки придется ее проходить. Да, немало тяжелого предстоит мне на новой службе. И эта зависимость от чужих официальных программ, которая сравнительно мало сказывалась в женской гимназии, будет, пожалуй, всего тяжелее.
9 сентября
Сегодня был у меня мой заместитель по женской гимназии. Он по образованию юрист, прослужил три года учителем русского языка в младших классах мужской гимназии из платы по найму, но так как, очевидно, имеет «бабушку» в округе, сразу же после такого стажа получил должность инспектора народных училищ, и только война помешала открытию этой должности. Теперь ему в качестве компенсации дано десять уроков латыни в мужской гимназии и мои уроки в женской. Но так как от меня остается там наследство в двадцать восемь уроков, то взять их все он не может. Особенно не хочется ему брать уроки VIII класса: педагогику, методику русского языка и мг годику арифметики, хотя ему, как кандидату в инспектора, эти предметы должны быть всего ближе, а он предпочитает им латынь. Достанется ли из-за этого VIII класс мне (чему бы я был рад) или кому другому, еще неизвестно. Дело в том, что на меня взваливается хотя и оплачиваемая, но малоприятная должность классного наставника, а при ней давать уроки в другом учебном заведении не полагается. И хотя у меня в мужской гимназии всего одиннадцать уроков, однако я должен буду высиживать там, ничего не делая, все тридцать часов.
20 сентября
Только около половины сентября мое служебное положение определилось. Получив в мужской гимназии одиннадцать уроков (III, IV и V класс), я оставил за собой VIII класс женской гимназии (тоже одиннадцать уроков). Классного же наставничества я ныне иметь не буду. В результате я буду получать почти столько же, сколько и в прошлом году, но уроков буду иметь немного меньше (вместо 26 — 22). Интересно при этом, как различно оценивается труд в мужской и в женской гимназиях: за одиннадцать уроков в мужской гимназии я получаю 1144 р. (а с прибавкой за пятилетие — 1544 р.) в год, а за гораздо более ответственные одиннадцать уроков в VIII классе женской гимназии только 825 рублей.
21 сентября
Свои занятия в мужской и женской гимназиях я начал, поправившись после болезни, с 15 сентября. Первые впечатления от моих новых учеников довольно благоприятные. Правда, пришлось уже поставить две двойки, приходилось не раз останавливать их за разговоры и шалости, но в общем все это идет мирно, не нарушая наших добрых отношений. В отношении дисциплины в IV и V классе дело обстоит вполне хорошо (особенно в V классе, где и курс интереснее, и народ полое взрослый); в III классе, где учатся еще совсем ребята и где в классе 48 человек, справляться труднее, особенно на малоинтересных уроках грамматики. Но все-таки и здесь, кроме естественных проявлений детской живости, ничего не замечается. В V классе, где начинается история словесности, занимаюсь с интересом. В третьем же (синтаксис) и в четвертом классе (славянская грамматика) курс довольно скучный, несколько оживляет дело только чтение стихотворений. Но общий дух в мужской гимназии совсем иной, чем в женской. На этот счет мы теперь часто обмениваемся впечатлениями своими с новым словесником из женской гимназии, который раньше служил в мужской. Теперь как мужская гимназия для меня, так и женская для него являются новыми. И результаты наших наблюдений и сравнений сходятся. В женской гимназии (по крайней мере нашей) более простые отношения и с ученицами, и между собой, в мужской же больше формализма, педантизма. Педагоги там выглядят более чиновниками, «человеками в футляре», чем в женской гимназии. Там не услышишь даже и никаких разговоров, кроме служебных. Первый же разговор, с которым обратился, например, к Ш-ву (преподающему в мужской гимназии латынь) один из его новых коллег, состоял в указании, куда надо записывать проступки учеников. Даже о таких вопросах, как война, разговора там не услышишь.
Возможно, конечно, что именно в здешней женской гимназии царит такой более живой дух. О других же женских гимназиях иногда приходится слышать тоже нелестные отзывы. На днях, например, я получил поклон от своей бывшей ученицы З-ой (с которой бывали в прошлом году у меня иногда столкновения, но которая зато была незаменимой оппоненткой на рефератах), которая из-за переезда родителей перевелась в гимназию другого города. Она пишет, что новая гимназия ей не нравится, что преподавание ведется там сухо, отношения к ученицам формальные.
22 сентября
Умер попечитель учебного округа, и хотя никаких теплых чувств к нему подведомственные ему педагога не питали, однако, волей-неволей пришлось проявить свое сочувствие. Директор послал всем учителям подписной лист на венок попечителю, подписав от себя 10 рублей, его поддержали подписавшиеся следующими педагоги, отвалив по 5 рублей, а остальным тоже, «страха ради иудейска», пришлось поддержать их. В результате от одной мужской гимназии набралось 50 рублей, которые будут истрачены совершенно непроизвольно, и это тогда, когда крутом столько серьезных нужд, вызванных войной.
24 сентября
В связи с современными историческими событиями толкуют иногда о грядущих льготах и свободах. В нашем же ведомстве чувствуется все больший и больший «прижим». Недавно пришел из округа циркуляр, указывающий, что часто программы преподавателей по истории и истории литературы сильно расходятся с министерскими, чего не должно быть. Ставится также на вид, что преподаватели иногда рекомендуют другие книги кроме учебников, чем обременяют родителей учащихся. Запрещается также и запись со слов учителя его лекций или добавлений к учебнику, потому, якобы, что эти записи «давно и в старших классах бывают безграмотными». Таким образом, теперь не только в мужской, но даже и в женской гимназии педагог ни на шаг не может отступить от министерской программы (в большинстве случаев очень архаической). Не может отступать даже и от текста, одобренного Министерством учебника. А между гем добавления к учебнику иногда даже и с точки зрения министерской программы необходимы. Взять хотя бы элементарный курс логики, который полагается по казенной программе проходить лишь в V классе женской гимназии вместе с теорией словесности. В принятом у нас с одобрения Министерства учебнике Белорусова этого курса совсем нет. Как же его проходить, если не записывать со слов учителя разных определений? В самой теории словесности многое приходилось дополнять, поменять, формулировать более просто — и все это мои ученицы записывали. В VI классе также на записях держался весь мой курс иностранной литературы, учебника по которому не существует. При разборе произведений, при составлении характеристик ученицы тоже сидят с тетрадями и то, что выяснялось, записывали. В VII классе все вступительные лекции к разным отделам или произведениям тоже записывались. Конспектировалось и содержание критических статей (Белинского, Писарева, Добролюбова), отчего весь этот материал усваивался не хунте учебника. В VIII классе я весь курс словесности (в который теперь у меня входит Некрасов, Л. Толстой и Достоевский, а раньше входили еще Герцен, Гл. Успенский и Чехов) проходил совсем без учебника, и ученицы благодаря постепенно выработавшемуся у них умению записывать усваивали курс весьма недурно. По педагогике, хотя я здесь сильно от учебника и не отступаю, все время тоже ведутся записи, благодаря чему курс усваивается более прочно. И вот всему этому теперь нужно положить конец. И во имя чего? Во имя, якобы, орфографии, которая может испортиться при быстром письме. Как будто орфография является какой-то самодовлеющей целью. И взрослые девушки, и молодые люди, учащиеся в старших классах, оберегая свою орфографию, должны почти ничего не писать, а то еще — Боже сохрани — ошибешься! Но этот курьезный мотив, конечно, только отговорка, и «умысел другой тут был» — оберечь учащихся от лишнего влияния педагога, который, несмотря на все «свидетельства о благонадежности», без которых там нельзя служить, уже по самой природе своей кажется начальству крамольником. Ладно еще, что в женской гимназии у меня ныне только VIII класс и разрушать налаженную систему преподавания словесности в V–VIII классах придется не мне, а моему заместителю. От иностранной литературы в VI классе он сразу же отказался, в VI классе выпустил также Радищева, а в V классе ввел логику, которую я брал только в минимальной дозе (вернее, даже не из логики, а из психологии заимствовал я сведения об ощущении, представлении и понятии, необходимые для понимания различия между прозой и поэзией). Но и этого оказалось мало. Председатель Ш-ко, напуганный циркуляром, вооружился старыми министерскими программами и, сидя в совете, сверял их слово за словом с программами учителей. Каждый пункт приходилось отстаивать с бою, и Ш-ко не раз принужден был уступать. Слишком уж устарелы и нелепы были по годам министерские программы (еще 74 года!).
28 сентября
Занятия в мужской гимназии, особенно в IV и V классах, на каждом шагу напоминают о бездарном бюрократизме нашего ведомства, не способного не только создать что-либо творческое, но даже урегулировать такой вовсе не сложный вопрос, как вопрос о программах. Еще в 1905 г. при Министерстве было совещание о программах русского языка и словесности. В результате этого совещания только через 7 лет, в 1912 г., появился в «Журнале министерства» «проект программы», где русский язык распределяется по классам довольно нелепо, а словесность изучается с весьма тенденциозными купюрами. Но и эта программа сравнительно с действующей была бы шагом вперед хотя бы потому, что она вводит таких писателей, как Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский, которых в действующих программах совсем нет и которых мы официально не имеем права преподавать, хотя и в реальных училищах, и в женских гимназиях они введены уже несколько лет назад, и только абитуриенты излюбленных Министерством классических гимназий, получающие «аттестат зрелости», могут не знать их. Но «проект программы», опубликованный еще два года назад, до сих пор остается только проектом, а действует все та же допотопная программа. Между тем и новой программе появился уже целый ряд приспособленных к ней учебников (Саводника, Сиповского и др.), которые одобрены Министерством и введены в употребление. Таким образом, мы теперь принуждены заниматься по новым учебникам и придерживаться в то же время совершенно несогласованной с ними старой программы. Получился сумбур больше прежнего. В IV классе, например, вместо того, чтобы познакомить учеников с теорией сочинения и дать им элементарные сведения по теории слов (что делается уже давно и в женских гимназиях, и в реальных училищах, и что предположено в новой программе мужских гимназий), мы должны проходить только древний церковнославянский язык. В V классе начинаем изучать историю русской словесности по учебнику Саводника и здесь на первых же порах встречаемся с употреблением таких слов и понятий, которые для учеников, не проходивших теории словесности, совершенно незнакомы. Тут и поэзия, и проза, и эпос, и лирика, и стихосложение. Попутно объяснять такие сложные понятия невозможно, отнимать на это особые уроки мы не имеем права, так как по старой (т. е. действующей) программе теория словесности полагается только в VIII классе, да и на курс пятого класса тогда времени не хватит, оставлять всего этого без объяснения нельзя, а давать сведения сверх учебника и тем более предлагать ученикам их записывать тоже не полагается. Вот и вертись тут!
Новый распорядок дня
29 сентября
Министерство преподнесло нам, учителям русского языка, новый сюрприз. Сегодня читали циркулярное сообщение, что в виду улучшения материального положения учащих в мужских учебных заведениях особое вознаграждение за исправление письменных работ отменяется. Таким образом, вместо того чтобы повысить существующее мизерное вознаграждение за исправление письменных работ, отнимающее у нас, словесников, вдвое больше времени, чем у преподавателей устных предметов (как, например, закон Божий, история), Министерство отняло и последнее. Правда, и раньше давалось крайне мало (в мужской гимназии 100 рублей в год за работы всех классов), но все-таки признавалось, хотя в принципе, что учителя, имеющие письменные работы, и особенно преподаватели русского языка, несут лишнюю работу. Теперь же, сославшись на новые штаты, Министерство сравняло нас с теми, кто совсем не имеет письменных работ, признав, таким образом, напряженный труд, отнимающий у нас почти все вечера, совершенно недостойным оплаты. А между тем требования, предъявляемые к словесникам, все повышаются и повышаются.
26 октября
Целый месяц не брался за свой дневник: не до того было. К занятиям в женской и мужской гимназиях, отнимающим — благодаря письменным работам — немало времени, прибавилась еще новая работа: по представлению учредительницы частной женской прогимназии я назначен в этой прогимназии председателем педагогического совета. Должность эта пока не оплачивается, так как бюджет прогимназии очень скромный, да и попечительский совет, от которого зависит установить то или иное вознаграждение, еще не сформулирован (о каждом члене наводятся справки в отношении благонадежности, и когда это кончится — Бог весть). Но дел с новой должностью прибавилось порядочно. Правда, на уроки туда я еще не ходил, но и одной канцелярской работы (переписка с округом) достаточно.
Теперь мой обычный «порядок дня» такой. С утра отправляюсь в школу, где мои восьмиклассницы дают пробные уроки. Потом бегу в мужскую гимназию, где даю два урока, в большую перемену иду в женскую гимназию и последние два урока даю в VIII классе. А возвращаясь с уроков домой, захожу в прогимназию. Наиболее приятной частью моей работы является руководство пробными уроками. Отрадно наблюдать, как эти девушки, которые постепенно развивались на моих глазах и отчасти под моим руководством, теперь, уже им пороге самостоятельной жизни, делают первые шаги, руководя целым классом и приобщая к начаткам человеческой культуры новые поколения. Но с прошлого года, а ныне особенно, по воле «благопопечительного» начальства эти пробные уроки поставлены в ненормальные условия. С закрытием приготовительных классов при гимназии мы теперь принуждены скитаться по разным школам, где являемся незваными гостями. На ходьбу в школу непроизводительно тратится время и у учениц, и у преподавателей, которые из-за этого принуждены опаздывать на свои уроки или уходить с пробного уроки до его окончания. Сговариваться с учительницами, не принадлежащими к гимназической корпорации, насчет материала, методов и т.п. — тоже нелегко. Присутствовать на конференциях, при разборе уроков, на которых всегда бывали учительницы приготовительных классов, эти школьные учительницы тоже не могут. Выбирать школу для пробных уроков приходится, руководствуясь только ее близостью к гимназии, причем подбор учительниц там оказывается далеко не всегда образцовым. Да и помещения школ благодаря отсутствию собственных зданий иногда переполняются, особенно ныне, когда часть школ занята для военных нужд. Начали мои восьмиклассницы ходить в одну ближнюю школу, ходили с полмесяца, привыкли несколько к детям — и вдруг перед началом пробных уроков школу эту переместили на окраину города, и пробные уроки пришлось начинать в другой школе, с незнакомым составом класса. Но к эта школа через неделю переедет, должно быть, на окраину, куда ходить для пробных уроков будет совершенно невозможно.
К мужской гимназии я теперь уже несколько привык. В IV и V классах, где классы небольшие и публика уже довольно взрослая, чувствую себя недурно, занимаясь в привычной атмосфере. Но третий класс все еще является для меня тяжелой обузой. Уже одно поддержание дисциплины среди 48 мальчишек стоит немало труда. Ко прибегая пока ни к записям, ни к жалобам, я, однако, принужден прибегать по отношению к заядлым шалунам к своим мерам воздействия: ставлю их на ноги за партой, а на кого и это не действует, вызываю стоять к стенке. Занять же их самим делом и заинтересовать довольно затруднительно. Курс грамматики, да еще повторительный, — вещь вовсе не интересная для мальчуганов. В течение четверти я должен всех переспросить на балл по крайней мере по одному разу. И в угоду этому чисто бюрократическому требованию приходится все время спрашивать более или менее обстоятельно определенных учеников, удержать же остальных в ото время в состоянии внимания очень мудрено.
А тут еще почтенные родители со своими нелепыми претензиями! В III же классе есть один «папенькин сынок» — толстый немец, большой любитель жаловаться на своих товарищей. Отец почти никогда не отпускает его от себя. В гимназии в перемену всегда почти можно видеть этого сердобольного, но глуповатого (несмотря на свой инженерский диплом) папашу, который то тащит завтрак сыну, то узнает его баллы, то объясняется с учителями. После первой же письменной работы, когда я поставил его сыну тройку, этот родитель явился ко мне объясняться. «Как Вы находите моего сына? Какой он, по-Вашему, ученик?» — «Средний», — отвечаю я. «Что Вы? — обиделся папаша, — он должен быть очень хороший ученик: ведь с ним же дома репетитор занимается». Что было ответить на такой аргумент? Но дальше пошло клянчанье, чтобы я прибавил его сыну балл, что я решительно отклонил, тем более что баллы были уже объявлены классу. Вскоре была другая, на этот раз уже домашняя работа: надо было исправить грамматическую задачу (разбор подлежащего и сказуемого в предложениях), которую большинство исполнило скверно. И что же? У нашего немца оказалось в исправлении — что ни слово, то ошибка, хотя после неудачного исполнения задачи мы два урока посвятили на то, чтобы разобрать эти примеры, и уже тогда я велел им сделать дома исправление. Пришлось ему поставить единицу. Папаша сразу же явился в гимназию и пустился в объяснения. По его словам, виноват в таком небрежном исправлении и безграмотном разборе («измученную», например, оказалось подлежащим) не его сын, а… репетитор, который плохо просмотрел работу. И в заключении — опять конфиденциальная просьба: «Прибавьте хоть половину». Я, конечно, опять отказался и нажил в лице этого недоумка-папаши смертельного врага. Когда вчера он явился зачем-то в гимназию и я сам сообщил ему, что его сын получил теперь пять с минусом, он, все еще оскорбленный до глубины чувств моей единицей, довольно резко напал на меня, говоря, что некоторые ученики обманули меня, сказав, что потеряли тетради, и я поверил им; что если полкласса исполняет работу неудовлетворительно, то виноваты тут уж не ученики, а кто-то другой. Одним словом, все оказались виноватыми: и учителя, и репетиторы. Невиновен только один — его заплывший жиром сынок. Это объединение меня очень задело и расстроило. Насилу отвязавшись от папаши, я отправился на урок в женскую гимназию, куда — из-за этого объяснения — опоздал. А там меня ждала новая неприятность от исконных врагов — классных дам. Бывая в женской гимназии нынче сравнительно мало, я думал, что избавился, наконец, от столкновений с тиши особами, и только с сочувствием слушал жалобы нового словесника, которому классные дамы надоедали своим неотвязным присутствием на уроках, причем ученицы при классных дамах всегда, в нику им, сидят гораздо хуже. При веем своем природном благодушии мой заместитель успел уже возненавидеть наших классных дам, которые, в свою очередь, начали допускать по отношению к нему бестактные выходки, даже в присутствии учениц (на днях, например, одна из них не позволила выйти из класса ученице, которая получила на это разрешение от преподавателя). Но, сидя там, где их вовсе ненужно и где, кроме вреда, они ничего не приносят, классные дамы по-прежнему оставляют на произвол судьбы целые классы, где нет преподавателя, не исполняя, таким образом, своих прямых обязанностей. Так и сегодня. Из-за объяснения с полоумным немцем-папашей в мужской гимназии я пришел в женскую гимназию с опозданием. Восьмиклассницы, предоставленные самим себе и никем не занятые, конечно, изрядно шумели, и никто не потрудился побыть с ними (в мужской гимназии классные наставники, получая за эти обязанности нисколько не больше классных дам, всегда дежурят в свободных классах, которые поэтому и без преподавателя сидят тихо). А между тем начальница, она же и классная наставница VIII класса, сидела у себя в кабинете, три классных дамы ушли уже домой (в мужской гимназии классные наставники не имеют права уходить до конца уроков), а из оставшихся — одна сидит в учительской, а другая водворилась на уроке словесника, раздражая своим присутствием и его, и учениц. И вот эта-то особа, не понимающая, где ее присутствие нужнее: в свободном классе или там, где уже занимается преподаватель, — налетела на меня, лишь только я пришел, с резким замечанием, что восьмиклассницы без меня так шумели, что пня принуждена была уйти с урока словесности и унимать их. Почему за шум восьмиклассниц должен отвечать отсутствовавший преподаватель, а не присутствовавшие в гимназии классные дамы и начальница — бог весть. Но, не ограничиваясь этой неуместной выходкой, желчная старая дева донесла и начальнице, что я опоздал на урок, и та, считая во всем виноватым тоже меня, язвительно спросила потом: «А Вы когда на урок-то пришли?» На этот раз я сдержался и ничем не реагировал на новые и ничем не вызванные с моей стороны выходки этой бабьей своры, но под влиянием всех неприятностей вчерашнего дня очень я плохо спал сегодняшней ночью и, сели будет так продолжаться, вероятно, опять не сдержусь и наговорю теплых слов этим особам.
27 октября
Получил из Петрограда коллективное письмо от четырех курсисток, окончивших прошлой весной наш восьмой класс. Все с удовольствием вспоминают о своей гимназии, шлют приветы и мне, и другим преподавателям, о классных же дамах никто и не упоминает.
4 октября
Вчера в женской гимназии был четвертной совет о младших классах, на котором я не был, так как председательствовал на совете в прогимназии. На этом совете в гимназии разыгрался серьезный инцидент, последствия которого все разрастаются. Преподавательницы, вследствие скудного вознаграждения, и без того обремененные работой, несли еще до сих пор безвозмездно и классное наставничество, т. е. часть той работы, которая должна бы лежать на органах надзора, т. е. на классных дамах. Классные дамы, совершенно свободные во время уроков (если у них нет своих уроков, с особой платой) и отвиливающие даже от прямых своих обязанностей по надзору, с каждым годом все облегчают и улучшают свое положение, так как благодаря поддержке число классных дам вырастает, а вознаграждение увеличивается. Такое ненормальное положение преподавательниц сравнительно с классными дамами (которые почти сплошь при том не отвечают своему назначению) вызвало, наконец, протест. Предварительно сговорившись, учительницы выступили на совете с коллективной просьбой о сложении с них классного наставничества и возложении его на классных дам. Те, конечно, стали возражать. Председатель старался замять этот разговор ввиду присутствия на совете постороннего лица (городского головы). Но когда совет кончился и преподаватели ушли, классные дамы и начальница, оставшись с председателем, со слезами и прочими бабьими аргументами стали защищать себя как людей, заваленных работой, выступление же учительниц истолковали как демонстрацию и, по-видимому, указали даже «подстрекателей». Инспирированный этой сворой председатель сегодня вызвал к себе учительницу истории и географии в младших классах, на которую давно уже точат зубы начальница и классные дамы, и стал обвинять ее в организации этого выступления. В качестве доказательства того, что инициаторшей была только она, он выдвинул только то, что на совете у нее блестели глаза и горели щеки. Напомнив ей, что и предыдущий председатель Ф-ов (однажды бывший в пьяном виде у нее на уроке) оставил о ней не очень хороший отзыв, Ш-ко пригрозил ей увольнением, и оскорбленная учительница расплакалась. Эта нелепая выходка Ш-ко, так напомнившая там времена Б-ского, страшно возмутила нашу корпорацию и отношения к классным дамам и начальнице, не постеснявшимся сделать совершенно необоснованный донос на неугодное им лицо, весьма обострились.
Вечером был опять совет, после которого учительницы хотели остаться с председателем и выяснить ему свою точку зрения на вчерашнее выступление, где нет ничего ни демонстративного, ни тем более преступного. Но классные дамы, как прирожденные шпионы, не дали учительницам остаться с председателем наедине, вследствие этого разговор сразу же принял не очень мирный характер. А когда председатель стал открыто осуждать вчерашнее выступление, атмосфера еще более сгустилась. И после того, как он остановил одну учительницу, не состоящую классной наставницей, но принявшую в споре горячее участие, та, как человек горячий, почти крикнула ему: ««Вы не имеете права делать мне замечаний!» — «Прошу не разговаривать со мной таким тоном», — ответил председатель и, круто повернувшись, ушел. Классные же дамы, благодаря которым все это произошло, с удвоенной энергией напали на учительский персонал.
5 ноября
Сегодня учительница французского языка, повздорившая вчера с председателем, не подала ему руки. А председатель долго беседовал со мной, стараясь оправдать себя, и советовал мне не вмешиваться в эту историю, которая может, по его словам, кончиться плохо. Он почему-то (вероятнее всего, под влиянием начальницы) видит здесь противозаконную стачку, демонстрацию, хотя в то же время как будто бы соглашается, что взваливать на учительницу бесплатное классное наставничество — несправедливо и незаконно. Интересно при этом, что, будучи настроен против учительского персонала, он и то, что прямо говорит против классных дам, склонен обращать в их пользу. Нынче в гимназии у нас прибавилось двое преподавателей-мужчин. И классные дамы, несмотря на все благодушие и деликатность этих преподавателей, успели уже им отравить существование. Сидя постоянно у них на уроках и тем связывая их по рукам и ногам, классные дамы в то же время нисколько не помогают им в деле поддержания порядка. Даже наоборот. В отсутствие классных дам ученицы, подчиняясь авторитету преподавателей, сидят лучше, при классных же дамах, в пику им, устраивают разные шалости, и те, хотя и злятся, но совершенно не в состоянии воздействовать на учениц. На днях оба преподавателя говорили на эту тему с директором, но он обратил внимание не на классных дам, являющихся корнем зла, а на учениц, которых и классные дамы, и начальница изображают как каких-то отчаянных сорвиголов. Пошло расследование, кто из учениц больше шалит, и когда оказалось, что в числе таких учениц оказалась и сестра злополучной географички, заподозренной в организации «заговора», председателю оставалось, с присущим ему глубокомыслием, воскликнуть: «Эврика!» Теперь он окончательно убедился, что во всем виноваты учителя. И если ученицы шалят, если они изводят классных дам, то и здесь виноваты не классные дамы, а те же педагоги, настраивающие против классных дам своих сестер, знакомых и т.п. учениц. Не принято во внимание только одно, что от такого поведения учениц стонут именно учителя, классные дамы к такому обращению уже привыкли. Но для председателя и таких случайных совпадений достаточно, и над головой географички собирается теперь грозная туча начальнического гнева.
А между тем лучшими агитаторами против классных дам и в среде учениц, и в среде педагогов являются сами же классные дамы. Своим поведением они объединили весь учительский персонал — и старых и новых педагогов, и состоящих классными наставницами, и не состоящих, и мужчин, и женщин. Даже учитель пения, это забитое существо, стоящее в стороне от всей корпорации и даже не бывающий на советах, и тот, даже ничего не слышав о нашем конфликте, заговорил в одном духе с другими. Один на один со мной этот скромный педагог конфиденциально, полушепотом спросил вдруг меня, для чего существуют классные дамы: для порядка или нет. И когда я сказал, что поддержание порядка — на их же обязанности, учитель пения рассказал мне, что классные дамы, сидя у него на уроках и на спевках, позволяют ученицам делать что угодно, за порядком совершенно не следят, и ему приходится и петь, и репетировать, и играть на скрипке, и в то же время следить за порядком. И в результате этого — полный хаос. Об этом он не раз уже заявлял начальнице, но та (как я сам слышал) всегда говорит с ним грубым, высокомерным тоном и никакой помощи не оказывает. Классные дамы, пользуясь его скромностью и беззащитностью, тоже усвоили по отношению к нему грубый и дерзкий тон и не стесняются покрикивать на него даже при ученицах (об этом ученицы и сами мне не раз говорили).
И вот эти-то особы, являющиеся настоящей язвой гимназии, пользуются особым покровительством начальства, учительский же персонал, посмевший из самозащиты выступить против них, третируется как шайка каких-то чуть не революционеров!
6 ноября
Служу нынче в трех местах, и в каждом месте свои неприятности. В прогимназии, где я состою председателем, начинает показывать когти учредительница прогимназии г. К-на, и на почве двоевластия — обычного зла в женских учебных заведениях — уже начались недоразумения. Как содержательница прогимназии г. К-на считает себя первым лицом, а на председателя педагогического совета склонна смотреть просто как на своего секретаря. Несмотря на то что я ни гроша не получаю с нее за свой труд, во внимание к скудному бюджету прогимназии, — г. К-на начала уже проявлять но отношению ко мне свой характер, хотя я со своей стороны виновен разве только в излишней уступчивости. Вызывающее отношение ко мне г. К-ной сказалось уже на первом четвертном совете. При обсуждении поведения учениц она все время спорила со мной, отстаивая, например, ту мысль, что обман относится не к поведению, а к прилежанию. Говорила все больше свысока и аргументировала тем, что она в этом более смыслит, так как у нее есть дети, а я холостой. Спорить пропив таких аргументов я не стал. А г. К-на, не ограничиваясь этими выходками на совете, после совета наедине высказала мне свое неудовольствие по поводу того, что я, получив бумагу о назначении учительницы, диплома ее ей не показал (хотя г. К-на об этом и не просила). Если так будет продолжаться и дальше, то остается только раскланяться с г. К-ной и ее прогимназией.
В мужской гимназии другое. Enfant terrible мой — это III класс, где сорок восемь мальчишек и папаша-немец, стоящий всех сорока восьми. Желая отомстить мне за четвертную тройку его сыну, он чуть не каждый день бегает к директору с доносами и грозит написать окружному инспектору, с которым он большой приятель. Последний очередной донос на меня состоял в том, что я требую от учеников выразительного чтения, а когда директор это одобрил, Ф-ман (такова фамилия немца) пожаловался, что я не показываю ученикам, как надо декламировать. Директор сделал мне замечание, и я решил сегодня исправить эту ошибку. Хотел было прочесть ученикам «Полтавский бой», но не успел прочитать и трети стихотворения, как увидел, что несколько человек уже начали шалить, пользуясь тем, что я спустил их с глаз. Рассерженный этим, я прервал чтение, поставил трех человек на ноги и сделал им довольно резкий выговор, указав, что они не понимают, когда с ними хотят обращаться по-человечески (до сих пор, несмотря на постоянные шалости, я ни на кого еще не жаловался и никого не записывал в кондуит), что несколько сорванцов мешают работать всему классу, не дают ни объяснять, ни отвечать, я что если так будет продолжаться, то остается только уволить из класса несколько человек, так как класс и так слишком велик. Ребята присмирели и весь урок сидели так тихо, как никогда.
Что же касается женской гимназии, то там одно зло — начальница и ее фаворитки — классные дамы, с которыми теперь у учителей и учительниц все время идут неприятные разговоры. Классные наставницы получили пакеты от директора, где он освобождает их от канцелярской работы по должности классных наставниц (выставление баллов в дневниках, четвертные отчеты и т.п.), сохранив за ними моральное влияние на учениц. А классные дамы, чувствуя, что эта работа может быть возложена на них, стараются доказать, что они и так страшно заняты, а указание на то, что у них работы сравнительно мало, считают за личное оскорбление. Но интересно для их психологии то, что когда на совете директор, отстаивая то, что классными наставницами должны быть учительницы, аргументировал тем, что классные дамы никакого авторитета в глазах учениц не имеют, те не сочли это обидным для себя и вполне с этим согласились. И эти особы считают себя тоже педагогами! Не будучи в состоянии оказать какое-либо воздействие даже на средние классы, классные дамы стараются даже и не заглядывать в VIII класс. Тот, предоставленный сам себе, в свободное время, конечно, шумит и шалит. А классные дамы каждый восьмой класс рисуют как каких-то извергов рода человеческого. И в результате начальница, не желая вникнуть в существо дела и настроенная своими фаворитками против восьмых классов, то и дело обрушивается на них с обычной для нее резкостью и раздражительностью. Так было и сегодня, когда она раздавала восьмиклассницам ведомости. Когда я после этого пришел туда на урок, мои словесницы (их нынче только семь) были, видимо, страшно расстроены и стали делиться со мной своими огорчениями. Начальницу за ее резкость и несправедливость девушки очень обвиняли. «Она накричала на нас, — говорили они, — назвала нас «сумасшедшим домом»». Всякая мелочь вызывала ее раздражение. «Теперь война, столько жертв, а вы… завиваетесь!» Но особенно обидными показались ее нападки на одну бедную девушку, учащуюся на благотворительный счет. Выкорив ее перед всем классом за это, начальница говорила, что она только зря занимает место в гимназии и т.п., чем довела ученицу до слез. Немало горьких чувств сеют в ученицах такие педагоги, и ученицы, с дрожью в голосе и со слезами на глазах рассказывая мне об этом, от души говорили, что им нечем будет помянуть гимназию, — «только вот с девочками-подругами жаль расставаться». «Да Вас еще вспомним», — подумав добавила одна. — «Скажете: вот двойки-то нам ставил», — возразил я. «Нет, Вы хоть и ставите, да справедливо», — ответила одна, получившая от меня в этом году уже не одну двойку. На этот раз вместо спрашивания они попросили меня еще раз прочитать заданные стихотворения. Я, принимая во внимание их настроение, согласился на это. Одна из них начала читать «Медвежью охоту» Некрасова, а я останавливал их внимание на наиболее выдающихся местах. Они, видимо, сами заинтересовались, а блестящая характеристика людей 40-х гг. («Диалектик обаятельный») так им понравилась, что они сами выразили желание выучить ее наизусть.
Среди всех неприятностей, какие то и дело обрушиваются на нашего брата — педагога, такие славные, задушевные уроки оставляют самое отрадное впечатление. И как далеки эти чуткие, откровенные девушки от тех отчаянных сорвиголов, какими представляются они нашим псевдопедагогам!
9 ноября
В женской гимназии благодаря начальнице с классными дамами и подпавшему под их влияние председателю отношения все запутываются и получается какой-то сумбур, всех нервирующий, раздражающий и безусловно вредный для дела. Сам председатель, не чувствующий под ногами никакой твердой почвы, совсем избегает ходить в гимназию, для сношения же с педагогами стал прибегать к способу официальной переписки, а для сообщения своих декретов по разным вопросам завел особую книгу. При всей своей расположенности к начальнице и ее свите, он, несмотря на розыски инициаторов «преступного заговора», принужден был отчасти пойти к ним навстречу, так как никаких законных оснований для возложения на учительниц воспитательских функций не оказалось (о классных наставницах из учительниц — нигде ни слова, и наоборот, есть прямое указание, что «воспитательная часть всецело лежит на начальнице и избираемых ею классных надзирательницах»). Но снять с учительниц ту работу, которую они несли только из любезности по отношению к классным дамам, и возложить ее на последних, как и требуется по закону, председатель все-таки не осмелился. И получился нелепый компромисс. Выставление баллов в дневники и четвертные отчеты он с учительниц снял и возложил их на классных дам. Но ответственность за поведение и успехи классов, выговоры и наказания ученицам, объяснения с родителями и т.п. — осталось за учительницами же, числящимися все-таки в должности классных наставниц. Каким образом могут все это осуществлять учительницы, которые в уроки заняты преподаванием, а в переменку должны отдохнуть, — этого председатель, конечно, не подумал.
И к чему может свестись, например, все «наставничество» хотя бы немки в VII классе, где она занимается только с несколькими ученицами, а остальных не знает и в глаза? Но зато на почве такого странного разделения труда пышным цветом расцветают всякие недоразумения с классными дамами, которые теперь страшно озлоблены на учительниц и готовы им всячески досадить. Вот, например, классная дама тоном начальства замечает учительнице, состоящей классной наставницей в одном классе: «Потрудились бы Вы хоть раз прийти на молитву — посмотреть, как Ваши ученицы безобразно себя ведут!» Та, считая, что надзирательские обязанности к ней не относятся и за поведением учениц на молитве отвечают во всяком случае получающие за свое надзирательство классные дамы, конечно, вспылила и довольно резко отчитала вообразившую себя начальством надзирательницу. Классная дама, по обыкновению, донесла начальнице, начальница — председателю, и в результате учительница же получила от него выговор. Другая классная дама, демонстративно подчеркивая свое недовольство возложенной на нее работой с дневниками, требует, чтобы классная наставница собрала их и подала ей. А в другой раз эта же зазнавшаяся особа посылает к учительнице на урок восьмиклассницу, и та, прервав ход занятий, передает учительнице приказ явиться к ней, классной даме, для переговоров о дневниках.
Как же могут реагировать на подобные выходки каких-то надзирательниц, которые сами сознаются, что не имеют авторитета даже и глазах учениц, сколько-нибудь знающие себе цену преподавательницы (почти половина их даже с высшим образованием)?
И что же может доброго возникнуть на почве таких отношений!
Конфликты — там, конфликты — здесь
10 ноября
В виду отношения директора и форменной обструкции со стороны классных дам некоторые учительницы на запрос директора ответили, что они согласны оставить за собой все обязанности по классному наставничеству, если нельзя избавиться от него совершенно (на что председатель не согласился); другие же, хотя уже были освобождены от канцелярской работы, с возложением ее на классных дам принуждены были отказаться от «услуг» последних и снова взять всю работу на себя. Таким образом, классные дамы победили и в гимназии водворился «мир». Но может ли быть такой вынужденный мир прочным?
15 ноября
На эту неделю у меня вышел неприятный инцидент в IV классе мужской гимназии. Уже с начала учебного года здесь стал заявлять о себе великовозрастный второгодник — Б-в, ученик, про которого можно сказать: «На грош амуниции, и на рубль амбиции». Желая проявить перед товарищами свою независимость, он то и дело пускался на моих уроках во всякие пререкания. То выражал недовольство, что на уроках церковнославянского языка я требую сопоставлений с русским, то указывал мне, что я лишний раз подчеркнул его ошибку в переносе (и в той и в другой странице). Своими неосновательными возражениями — «оппозицией ради оппозиции» — он порядочно надоел мне. Но я ни разу не жаловался на него и благодаря этому он получил за четверть пять за поведение. Ободренный этим, он в новую четверть стал действовать еще нахальнее.
4 ноября он от лица класса заявил, что урока не поняли (дело было на уроке церковнославянского языка, где я уроков обыкновенно вперед не объясняю, так как проходим фонетические явления вслед за соответствующими явлениями русского языка). Я спокойно спросил, что именно непонятно в сегодняшнем уроке. Б-ков, не без труда ориентировавшись по книге, указал, что могло вызвать некоторое недоумение. Я объяснил это и стал продолжать урок. Видя, что «забастовка» до некоторой степени удалась и желая отделаться от спрашивания по неприятной для них славянской грамматике, четвероклассники решили прибегнуть к тому же приему и на следующем уроке. Не считаясь с тем, что содержание этого урока для ученика, повторявшего предыдущие уроки по русской фонетике, было простым (деление согласных и смягчение зубных и губных, т. е. то же, что пройдено было уже по-русски), четвероклассники вновь «забастовали». Дежурный сказал, что он, как уполномоченный класса, заявляет, что урок не поняли. Я, раздраженный этой новой выходкой Б-ва и компании, вызвал дежурного и стал его спрашивать, что же именно он не понял в сегодняшнем уроке. Но оказалось, что он даже не знает, что и задано. Я вызвал заявлявшего о непонятности урока Б-ва. Он кое-что знал, большую часть не знал, но указать, что именно непонятно, совершенно не мог. Отчитав того и другого довольно повышенным тоном, я вызвал третьего — Л-ва (который еще вчера вызывающим тоном возражал против моих поправок в его сочинении). Он тоже не мог даже сказать, о чем сегодня задано. Поставив всем трем по единице, я спросил, кому еще непонятно. Вызвался еще один, из более хороших учеников. Я прежде проверил его, что для него непонятно. Он указал несколько строчек, но когда я выяснил, что это тоже самое, что мы недавно проходили на уроках русского языка, он согласился со мной и сконфуженно сказал, что он это просто забыл. Я похвалил его за чистосердечное признание и спросил, кто еще не понимает урока. Никто не отозвался. И я, поговорив им о нелепости их «забастовки», стал спрашивать урок, причем один ответил на три, а другой на четыре.
30 декабря
Больше месяца не приходилось браться за дневник, так как три учебных заведения, где я занимаюсь, отнимали все мое время. Больше всего, конечно, убивал времени за проверкой письменных работ, отнимающей у словесников все вечера и оплачиваемой по-нищенски даже в мужских учебных заведениях (по мужской гимназии, проверив больше 800 работ в полугодие, я должен получить за это maximum 50 рублей). В результате за все это время я не мог прочесть ни одной книги. А теперь, когда наступили короткие зимние каникулы, надо и отдохнуть, и почитать. И так как потребность отдохнуть и побывать в обществе, как реакция против полугодия однообразной работы, сказывается заметно, то чтение научных книг идет туго. Когда же, наконец, наши педагоги получат возможность читать, хотя бы по своей специальности, в обычное учебное время, а не в виде какой-то праздничной награды — два-три раза в год? Ведь это не роскошь для нас, а предмет первой необходимости!
Писать теперь, спустя время, довольно затруднительно, но отмстить кое-что все же надо. Буду писать уже не по дням, а по учебным заведениям.
В мужской гимназии — после первой четверти, когда я избегал всяких репрессий по отношению к ученикам (за исключением постановки на ноги в III классе) и тем несколько распустил их, теперь, во второй четверти, пришлось усиленно подтягивать учеников и в учебном, и в дисциплинарном отношении. В дисциплинарном отношении труднее всего было справиться с многочисленными мальчишками-третьеклассниками. Приходилось и ставить их на ноги, и в угол, и изредка записывать в кондуит. Усмирить класс все-таки удалось, по я, пожалуй, слишком перетянул палку в сторону усмирения, для детей же нужна не только строгость, но и ласка. Необходимо отыскать какую-то среднюю, равнодействующую.
В IV классе четверть началась с забастовки на церковнославянских уроках. Потом уже коллективных отказов не было, но нежелание заниматься грамматикой сказывалось у очень многих и привело к целому ряду двоек и единиц. Под конец четверти большинство, однако, взялось за ум. Появилось желание исправиться. Один, например, чистосердечно сознался, что до сих пор (до декабря) не открывал еще учебников, но обещал догнать и просил через неделю вызвать его. Я, действительно, под конец четверти переспросил всех двоечников, не исключая и «забастовщиков» (некоторых даже по нескольку раз), и в результате в IV классе вышло по устному всего только три двойки. Глаже всего шли дела в V классе. Здесь курс (словесность) более интересный и ученики более старательные (их ленивые товарищи «застыли» в IV классе). Поэтому устно двоек совсем не вышло. Но трения бывали и здесь ввиду преувеличенного мнения учеников о своих талантах и знаниях. Особенно недоволен бывал моими баллами за сочинения некто Г-в — ученик, не обладающий, по-моему, ни особенным умом, ни даром слова, — но пользующийся среди товарищей репутацией литератора (он даже состоял редактором ученического журнала). Он даже однажды, недовольный моим баллом, хотел «подвести» меня в присутствии директора. «Разве «пишете» пишется через е (после ш)?» — спросил он вдруг среди урока, думая, что я ошибся в рецензии. Говорил о своем недовольстве мной директору и один четвероклассник, получивший за свое невежество в области грамматики два. Вообще отношения с гимназистами у меня еще не наладились, и пока преобладает у них недовольство мной как слишком строгим учителем (особенно много недовольных моими баллами за письменные работы, которые исполняются — особенно в III классе — довольно безграмотно). На вопрос одного знакомого доктора, довольны ли мной ученики, один гимназист так формулировал свое отношение ко мне: «Совсем мы им недовольны. Пусть бы лучше оставался он у своих девчонок!»
Причиной таких отношений служит, с одной стороны, моя требовательность в отношении уроков и письменных работ, а с другой стороны — некоторые особенности мальчуганов, к которым я не успел еще приспособиться, так как в женской гимназии они проявляются меньше. Это меньшая исполнительность и старательность учеников сравнительно с девчонками и в то же время большее самомнение и склонность к резонерству и критиканству, а в III классе, сверх того, и просто мальчишеская живость и шаловливость.
Надеюсь, что со временем, когда я привыкну к ученикам, а они ко мне, все это сгладится. Теперь же недовольство многих учеников, почти исключительно «двоешников», вполне понятно.
Но более странно, когда с необоснованными претензиями насчет отметок лезут не ученики, а люди взрослые и солидные — их родители. А между тем от объяснений с ними и даже оскорблений мы совершенно не гарантированы. В мужской гимназии в этом отношении совершенно исключительное место занимают родители ученика Ф-мана, которые могут с чисто немецким нахальством объясняться из-за каждой отметки (по их мнению, их сынок может получать только пятерки). В высокомерном обращении с учителями Ф-ман опирается на свое знакомство с окружным инспектором, которому он все время грозит жаловаться. Теперь же, на нашу беду, и попечителем округа назначен тоже немец — фон Г-ман, и наш Ф-ман вообразил себя чуть не Вильгельмом. Не ограничиваясь критикой моего преподавания (он не признает, например, исправления письменных работ и оценку исправления баллами), он начал прямо противодействовать мне. Например, он стал брать у учеников на просмотр проверенные мной работы и не возвращает некоторые из них, вследствие чего ученики не могут исправить их, и получают из-за того пониженные баллы. Но всего больше досталось от него в эту четверть француженке. Пока его сын получал у нее пятерки, папаша находил, что она «идеально преподает». Но лишь только стали попадаться иные баллы, и отношения нашего немца сразу изменилось. Он стал пускаться в критику ее преподавания и однажды позволил себе это даже в классе в присутствии учеников, куда он с обычным нахальством забрался в переменку. Под конец четверти все обострявшиеся отношения между Ф-маном и учительницей привели к личному объяснению. Мадам Ф-ман потребовала у учительницы по телефону объяснить, почему ее сын сделал так много ошибок, и потом наклеветала на нее, якобы она дала диктант, не объяснив правила. Француженка пригласила родителей объясниться в гимназии, и здесь произошла характерная сценка. У стола учительской стоит бледная, изнервничавшаяся учительница, переутомленная массой работы. А перед ней упитанные родители-немцы, люди обеспеченные и живущие в свое удовольствие. Француженка старается сдержать свое негодование, а буржуи-немцы объясняются заносчиво и вызывающе. Мадам Ф-ман винит, например, учительницу в том, что она диктовала несколько слов, которых нет в учебнике, а учебник этот одобрен Министерством народного просвещения, и отступать от него учительница не имеет права. Что было отвечать на эти благоглупости, снабженные притом, по немецкому обычаю, «истинно русским» штемпелем? Но, несмотря на сдержанность учительницы, толстая, как бомба, немка сама же сочла себя оскорбленной и, перейдя на немецкий язык, пригласила мужа идти, заметив, что здесь еще оскорблений дождешься, «а мы лучше будем жаловаться дальше», — закончила она и, вскинув плечами, вылетела из учительской, не простившись ни с француженкой, ни с другими учителями, бывшими в комнате. Когда через несколько времени я снова вошел в учительскую, немцев там уже не было, но учительница, закрыв лицо руками, плакала, за столом: нервы ее, наконец, не выдержали, и слезы обиды закончили эту безобразную, но далеко не исключительную нашей школе сцену.
31 декабря
В женской гимназии в отличие от мужской отношения с моим единственным восьмым классом весьма хорошие. За последние годы мне, кажется, удалось-таки найти надлежащий тон для занятий с девицами этого возраста. Ничуть не понижая своих требований и будучи довольно строгим как учитель, я в то же время стараюсь быть среди них как старший товарищ, и они платят мне сердечным и доверчивым отношением, принимая и двойки как должное, т. е. не обижаясь на них. Часы, проводимые мною в восьмом классе, несмотря на серьезную работу там, являются для меня как бы отдыхом: так весело, просто и непринужденно идет здесь вся работа. И мне глубоко жаль, что это, наверное, уже последний мой восьмой класс, и что теперь, когда мне удалось установить здесь надлежащие отношения, придется бросить эту работу и приспособляться к новым условиям — в мужской гимназии. С моими бывшими ученицами из других классов мне почти не приходится иметь дела, но говорят, что они сожалеют о моем уходе и не совсем довольны преподаванием нового словесника, хотя он требует меньше и более щедр на баллы. Однажды мне это пришлось выслушать и от самих девиц. Группа восьмиклассниц (в том числе и те, что не раз плакали от моих двоек) окружила как-то меня, стали спрашивать кой-каких разъяснений насчет данного им сочинения, упрекали, что я оставил их, и жаловались на преподавание моего заместителя. «Хоть бы с этого полугодия Вы взяли наш класс!» — упрашивали они. Таким образом, со стороны учениц, как настоящих, так и бывших (за некоторыми, впрочем, исключениями вроде Т-кой, оставшейся в седьмом классе на второй год и теперь не здоровающейся со мной), отношение совсем другое, чем со стороны учеников. Но что прямо-таки противно в женской гимназии, так это отношение к преподавательскому персоналу со стороны начальницы и классных дам. И это не мое только субъективное впечатление. Когда на днях спросили знакомые нового словесника, доволен ли он девицами в гимназии, он ответил: «Девицами-то доволен, а вот дамами нет». — «Какими дамами?» — «А классными». Под этим подписался бы каждый из нас, педагогов, присоединив к числу «дам» еще и начальницу. Со стороны этой почтенной компании продолжалась по отношению к учительницам, осмелившимся отказываться от классного наставничества «в пользу» классных дам. прежняя травля. Двусмысленное положение учительниц, полуосвобожденных от этих обязанностей, только способствовало этому. Получались, например, такие сцены. Баллы в свидетельства выставляет классная дама, а подписывает его классная наставница из учительниц. И вот начальница вызывает совершенно не подчиненную ей учительницу и делает замечание, почему в свидетельстве пропущен минус. «Но ведь это же писала классная дама», — возражает учительница. «Но ведь классная наставница Вы, Вы и должны отвечать», — упрекает начальница, которой только этого и надо было. Другую учительницу она почти каждый раз вызывала в гимназию по телефону, когда та несколько опаздывала на урок, а когда учительница, взбешенная таким отношением, обратилась за защитой к директору, начальница назвала ее «наушницей», не считая, очевидно, за наушничество те постоянные доносы на учительский персонал (хотя бы на меня или на М-ну в ту четверть), которые у нее самой (бывшей курсистки!) вошли уже в плоть и кровь. Благодаря ее властной поддержке и бесхарактерности попавшего к ней под башмак директора классные дамы все больше третируют учителей. А попечительский совет, где от педагогического персонала никого нет, заботится тоже исключительно о классных дамах, совершенно игнорируя нужды учителей. Насколько неравноправно распределяются здесь средства между учительской и «классно-дамской» корпорациями, видно из примера других гимназий, более объективно смотрящих на дело. Так, вновь прибывшая из другого города классная дама поразилась обеспеченностью и легкостью труда здешних классных дам, рассказывая, что в К. (где она служила) у каждой классной дамы по два класса, причем оба по сорок человек, за этими классами они не только должны следить, но и помогать отстающим (в целях большей осведомленности они и сидят на всех уроках), и за все это классная дама получает там только сорок пять рублей в месяц. Наши же классные дамы, имея лишь по одному классу и вовсе не занимаясь с отстающими, получают по пятьдесят четыре и более рублей. Зато учительницы там, будучи совершенно освобождены от классного наставничества, получают вознаграждение больше, чем здесь: со средним образованием по 60 рублей за урок (у нас по 45–50), а с высшим по 75 (у нас в младших классах те же 45, а в старших по 60). И при таких-то исключительно благоприятных условиях наши классные дамы еще недовольны своей судьбой (в угоду им с нового года открывается еще новая должность классной дамы, вопрос же об увеличении учительского жалования или хотя бы оплате труда по классному наставничеству даже и не поднимается). Скромная же попытка учительниц обратить внимание на свою судьбу и избавиться хотя бы от бесплатной помощи классным дамам вызвала целую бурю и обратилась в глазах начальства в «бунт» и «ниспровержение». При таких ненормальных условиях, разумеется, не может быть добрых, товарищеских отношений между зазнавшимися классными дамами и обойденным учительским персоналом. Эта-то язва и разъедает нашу гимназию, с которой я так сроднился, но из которой приходится уходить.
Председатель прогимназии
6 января
Теперь остается сказать о прогимназии, где я председательствую. По самой должности с ученицами здесь приходится мало иметь дела. Поближе познакомиться с ними пришлось только во время устройства вечера, бывшею 6 декабря в пользу раненых и запасных (ото был первый здесь платный благотворительный вечер, на котором позволено было участвовать в качестве исполнителей учащимся). Больше приходится зато иметь дела с учительским персоналом. Посещал я и некоторые уроки, после которых делал учительницам кой-какие указания. Слабы оказались уроки только у вновь вступившей на службу учительницы русского языка. Несмотря на блестящий диплом с высших женских курсов, она, что называется, и шагу не умеет ступить. Это, конечно, не ее вина, а результат того странного положения, что в наших высших учебных заведениях, готовящих учителей средней школы, на практическую подготовку к педагогической деятельности не обращается никакого внимания.
Пришлось поэтому давать ей целый ряд довольно элементарных методических указаний и снабдить кой-какими пособиями по методике. Но всего больше вредят делу преподавания те бюрократические порядки, которые так прочно царят в нашем ведомстве. С этими порядками ныне мне пришлось воочию познакомиться. Благодаря обычной путанице в канцелярии попечителя (вследствие которой и я сам с осени едва не остался без места), за одно только полугодие в одной только прогимназии было уже два случая назначения по два человека на одну и ту же должность. Сначала сверх назначенной на должность учительницы истории на эту же должность назначили и другую, хотя последнюю представляли только на географию. Еще ярче проявилась бессмысленная и вредная для дела канцелярщина мри назначении учительницы русского языка. 15 августа занимавшаяся раньше по русскому языку начальница просила назначить вместо нее кого-нибудь другого. А с 16-го она же представила на эту должность некую г. П-ю, весьма интеллигентного и опытного педагога. И вот эти две бумажки об одном и том же пошли разными путями и… даже не встретились. С 16 августа пошла переписка о г. П-й. С нее потребовали прошение, потом марку на прошение, сделали запрос губернатору о ее благонадежности, там тоже «пошла писать губерния». В результате же первой бумаги (от 15 августа) округ стал сам искать кандидаток, нашел такую и назначил ее с 1 октября. В ноябре она явилась к нам (это та самая неопытная курсистка К-на, о которой я писал) и занималась всю вторую четверть. А в конце декабря получили в округе свидетельство о благонадежности П-й и там, нисколько не смущаясь, назначили к нам и ее, хотя ее место было уже давно занято. Теперь идет об этом переписка. А в результате всей этой канцелярской волокиты мы получили неопытную учительницу вместо опытной (притом первую пришлось «выписывать» и оплачивать ей прогоны, вторая же и так живет здесь). П-я же, сверх того, ввиду выставления ее кандидатуры на должность учительницы должна была прекратить возбужденное ею ходатайство об открытии собственной школы и, таким образом, осталось ни при чем. Еще хуже обстоит дело с рисованием, преподавание которого совершенно расстроено из-за обычного нашего тормоза — благонадежности. С осени был допущен к преподаванию его молодой художник, с умением и любовью принявшийся за дело. Но он занимался только до тех пор, пока шла переписка о его благонадежности. Под конец же первой четверти вдруг пришла бумага, что, по сообщению губернатора, он «не может быть терпим на педагогической службе». За что, спрашивается? За какую такую крамольную деятельность? Оказалось за то, что несколько лет назад этот молодой человек (тогда еще совсем юнец) был на маскараде в костюме, изображавшем «свободу слова» (замок на губах). И этого оказалось достаточным, чтобы навсегда закрыть для молодого художника поле педагогической деятельности. Он оказался опасен даже в качестве учителя рисования! А в это время как раз он с обычным усердием хлопотал над декоративной частью устраиваемого прогимназией патриотического вечера. Его сестра держала экзамен на сестру милосердия, чтобы отправиться на войну. А двоюродный брат его немного спустя погиб в Пруссии смертью героя. И все это перевесил в глазах нашего ведомства какой-то маскарадный костюм, в глазах того ультрапатриотического ведомства, которое даже теперь, в разгар войны с Германией, ухитрилось назначить нам в попечители фон Г-мана!
Немало повредила эта пресловутая «благонадежность» и в организации при гимназии попечительского совета, так как даже из семи избранных в члены почтенных горожан один оказался, при наведении справок, неутвержденным. Притом как раз тот, на кого возлагались особенно большие надежды как на деятельного и влиятельного в коммерческих сферах члена. Пришлось вместо него выбрать в председатели попечительского совета другого члена, далеко не столь подходящего к этой должности. И дела пошли, что называется, «через пень колоду». А между тем финансовое положение прогимназии весьма критическое. Несмотря на признаваемую самим округом потребность в здешнем городе в прогимназии, новооткрытая прогимназия не получает от казны ни гроша. Город, стесненный в своем бюджете и израсходовавшийся на войну, тоже ничего не дает. И женская средняя школа вступает в жизнь, по обыкновению, как какой-то пасынок. Через несколько лет, когда дело разовьется (если только не погибнет), казна, может быть, и даст подачку в какую-нибудь одну-две тысячи в год, на что не наймешь даже и одних стен. А пока приходится перебиваться и без этого. Плата за учение сразу же взвинчена до 75 рублей в год (в мужской гимназии только 40 рублей). Но и при этих условиях получился громадный дефицит. Придется клянчить у богатых купцов, избирать их почетными попечителями, устраивать разные увеселения, продажи и т. д. Но и этого мало. Необходимо сокращать расходы до минимума. Жалованье учительницам назначено нищенское (по 40–45 рублей, даже для лиц с высшим образованием и многолетней практикой). А начальница, секретарь педсовета и я согласились работать этот год совсем бесплатно (начальница, сверх того, бесплатно же преподаст еще рисование и чистописание). С таким женским трудом приходится пробивать себе дорогу женскому образованию! И несмотря на то, что казна оплачивает только начальное образование женщин, а все среднее и высшее женское образование женщин создано на частный счет, число учащихся женщин все растет и растет, и даже у нас в городе при полуторных мужских средне-учебных заведениях (реальное училище и 5 классов мужской гимназии) открыта уже третья женская средняя школа.
7 января
Каникулы живо промелькнули, и сегодня мы снова оказались по классам. После каникул учащихся нелегко раскачать, а особенно сегодня, когда многие до двух ночи веселились на вечере реального училища. Поэтому я сегодня не стал уж спрашивать учащихся. В третьем классе мужской гимназии объяснял новое правило, в пятом рассказывал о частушках. В восьмом классе женской гимназии сначала читал вслух полученные восьмиклассницами с войны благодарности за подарки. А потом стали обсуждать программу затеваемого ими благотворительного (на нужды войны) вечера. Позвали в класс и начальницу, и оба моих урока, не выходя из класса, провели в разговорах на эту тему. Жалеть пропавших из-за этого уроков не приходится, так как ученицы после святок и особенно после вчерашнего вечера, в котором некоторые принимали деятельное участие, выглядели весьма утомленными. Притом и все эти связанные с войной спектакли, сборы и т.п., к которым ныне допущены учащиеся и в которых они участвуют со всем присущим им жаром, не менее важны для них в воспитательном отношении, чем все книжные педагогики.
Немало тяжелого, трагическою внесла война в частную жизнь.
Но она же всколыхнула все общество, сбросила с него апатию последних лет и сплотила разрозненные человеческие существования в живой общественный организм, эпидемия самоубийств прекратилась, ибо сердца бьются уже в унисон и живые токи снова связывают всю страну. И наша молодежь, в прошлом году так нервничавшая из-за всякого пустяка, полная разочарования и близкая к самоубийству, теперь почувствовала себя частью великого целого. Общественный инстинкт снова пробудился. И те же гимназистки, недавно еще не знавшие, куда девать свои юные силы, теперь нашли себе точку приложения и самой жизнью начинают воспитываться уже со школьной скамьи как гражданки. Отрадно видеть это, но жаль, что только такие исключительные, кровавые события направляют на время нашу школу и жизнь в то русло, которое должно бы быть для нее нормальным.
10 января
Снова начались занятия, появятся скоро и тетради и опять нам, словесникам, не придется заниматься ничем посторонним, кроме их проверки.
Новые штаты мужских учебных заведений, улучшив материальное положение учителей, не устранили, однако, той ненормальности, что словесники, несущие по меньшей мере двойной труд сравнительно, например, с историками, географами или естественниками, получают столько же, сколько и те (за тетради по русскому языку дастся не больше 100 рублей в год, да и из этого делается еще четырехпроцентный вычет). И в результате словесники оказываются в худшем положении как со стороны количества работы, так и со стороны материальной. Вот историк, два года преподававший русский язык и теперь то и дело выражающий свое удовольствие, что, наконец, избавился от тетрадок. Имея обычное число уроков, он совершенно свободен дома, много читает и не знает даже, куда убить свободное время, из-за этого он даже не прочь взять себе и частных уроков. А вот словесник — мой заместитель по женской гимназии. Он, получая гораздо меньше, страшно завален работой и, хотя нуждается в средствах, не может взять ни одного частного урока, так как не имеет свободного времени. Преподавая какую-нибудь историю, вовсе нетрудно давать все то максимальное число уроков, какое полагается по новым штатам (18 при классном наставничестве и 24 без него), и учителя обыкновенно стремятся захватить их побольше. Для словесника же заниматься с шестью классами (24 урока) вещь совершенно непосильная, так как нет никакой физической возможности проверять такое количество письменных работ. И потому нам, словесникам, даже и с материальным ущербом, приходится урезывать себя в отношении числа уроков. Я, например, когда останусь в мужской гимназии, мечтаю об одном: нельзя ли будет ограничить число уроков двенадцатью, так как даже шестнадцать уроков (т. е. четыре класса) дают такое количество письменных работ, которое отнимает все время и силы.
15 января
По ошибке округа назначенная к нам в прогимназию учительница русского языка продолжает служить обузой для учебного заведения и не столько учит учениц, сколько портит. Она имеет блестящий диплом, но курс грамматики совершенно забыла и не пытается его возобновить в своей памяти. Педагогической практики за все время у ней никогда не было (даже в форме частных уроков). Методик ома тоже не проходила и не знает даже самых элементарных приемов. Поэтому приходится как можно чаще ходить к ней на уроки и учить ее как какую-нибудь восьмиклассницу. 9 числа я был у нее в третьем классе на грамматике. Весь урок был сплошное недоразумение. Не говоря уже о полном неумении преподавать, видно было и крайне слабое знание грамматики самой учительницей, так как целый ряд грубых ошибок систематически одобрялся учительницей, а на доске без всякого исправления красовались неграмотные фразы. Пришлось достать записную книжку и писать на уроке, а несколько раз пришлось даже вмешаться и указать, что разбирают и пишут неверно.
После урока все свои замечания я выложил учительнице и дал ей целый ряд методических указаний. Когда же я сообщил потом о своих впечатлениях начальнице прогимназии, та рассказала, что она еще раньше слышала от учениц, что г. К-на многое объясняет не так как нужно, и стала настаивать, чтобы я предложил К-ной в интересах дела подать прошение об отставке, чтобы освободить место для г. Н-й, вместо которой она и попала. Я сначала склонился было к этой же мысли, но когда стал лично беседовать с К-ной, то, сообщив о предложении начальницы, со своей стороны предложил ей хлопотать о переводе на словесность в старшие классы какой-нибудь гимназии, а если перевод не состоится, то работать до конца года. Вчера я опять был у нее на уроке, причем оказалось, что она приняла во внимание мои указания и ведет теперь уроки уже гораздо лучше. Поэтому, хотя прошение о переводе она и подала, но я теперь колеблюсь посылать его в надежде, что она может поправиться. Но хлопот с ней будет, конечно, немало.
16 января
Еще 1 июля утвержден новый закон о попечительных советах, значительно расширяющий их компетенцию (право представительства в педагогическом совете, на уроках и на экзамене, право наблюдать за учебной и воспитательной частью, право представлять к назначению и увольнению всех лиц учебно-воспитательного персонала, не исключая и председателя педагогического совета, право обжаловать постановление округа в Министерство), вместе с тем и вообще учебные заведения приобретают некоторую самостоятельность, а педагогический совет имеет в попечительском совете своих представителей и может, следовательно, влиять как на хозяйственную, так и на административную часть учебного заведения. По точному смыслу действию этого закона подлежат все женские гимназии и прогимназии, содержимые на частные средства, появившиеся после его издания, а существовавшие раньше могут или принять его, или остаться при старом положении. Но Министерство, косо смотря на это либеральное детище Думы, стремится ограничить его применение или даже совсем свести на нет, чему, правда, способствует и индифферентизм самого общества. Попечительные советы обеих гимназий даже не заикаются о преобразовании на основе нового закона. Начальница прогимназии, не зная этого закона, посылала членов попечительного совета на утверждение в округ (по новому закону они никем не утверждаются), и округ, ничтоже сумняшеся, даже забраковал одного из них на основании каких-то неблагоприятных сведений из полиции. А на мой запрос в округ о применении этого закона к прогимназии — «ни ответа, ни привета».
17 января
В мужской гимназии только стали налаживаться отношения, опять произошел неприятный инцидент и опять с тем же четвероклассником Б-вым, с которым была история и в ту четверть. Еще в перемену я мирно разговаривал с ним, спрашивая, какой танец он исполняет на вечере у гимназисток, кто еще танцует и т.п. На моем уроке он оказался на чужой парте, и вскоре между ним и его соседом завязался разговор. Я остановил их в шутливом тоне: «Вы думаете, что Т. скучает без С-ва и его надо обязательно занимать?» Через некоторое время разговоры опять возобновились. Я вызвал тогда того и другого, они ничего не могли ответить, не могли даже сказать, о чем спрашивают. Тогда я поставил им по единице и рассадил на разные парты. После урока Б-в вдруг обратился ко мне с запросом, за что им поставили единицы, за ответ или за внимание. Я ответил: «Можно сказать, как угодно, так как и ответа Вами никакого не дано». Б-в стал возражать против этого и в заключение потребовал, чтобы я указал в журнале, за что именно поставлены единицы («Вы должны пояснить…»). Считая такой тон совершенно недопустимым, я прекратил с Б-вым дальнейшие разговоры и заявил, что запишу его в кондуит, что и сделал. Когда после этого я вышел из учительской, Б-в догнал меня, я думал, не с целью ли извинения, но не тут-то было. Спросил грубоватым тоном, записал ли я его, Б-в потребовал, чтобы я дал ему провесть эту запись, так как в ту четверть я записал его якобы неправильно. Возмущенный этой новой выходкой Б-ва, я пошел назад и добавил к своей записи его новое заявление. Потом я ушел в женскую гимназию и не знал, как реагировали на это мои коллеги, но и сам был весьма расстроен, так как у Б-ва и за ту четверть была уже тройка поведения, и теперь дело могло кончиться увольнением. Пришедший на конференцию директор тоже был, видимо, расстроен. После конференции он пожелал поговорить со мной по поводу этого инцидента. Он, со своей стороны, не желая шума с увольнением, определил наказать Б-ва карцером на пять часов. Но из его разговора выяснились и еще некоторые детали, касающиеся отношения ко мне коллег. Они, ничего не говоря мне лично, насплетничали директору, будто ученики худо сидят у меня на уроках и я не могу справиться с дисциплиной.
Пришлось по этому поводу давать ему объяснения, что я не сторонник мертвой дисциплины, чтобы ученики сидели весь урок как какие-то истуканы, но, с другой стороны, не оставляю и без внимания их шалостей, разговоров и т.п., что показывает хотя бы сегодняшний инцидент. По, упрекая меня в излишней мягкости, директор в то же время как будто не прочь обвинять меня и в чрезмерной строгости, так как советовал подтягивать учеников не сразу, а постепенно. Таким образом, не знаю теперь, как себя вести. Не воздействовать на разных Б-вых мерами строгости — значит вовсе распустить их, а если воздействовать, то возникают разные неприятные инциденты, в которых и коллеги, и директор склонны усматривать мою же вину.
Подготовка вечера в пользу раненых
18 января
Единственным моим утешением является восьмой класс. С ними я провожу первый пробный урок в школе, к ним же, как на отдых, иду на последние уроки, отбыв свою очередь в мужской гимназии. Теперь мои восьмиклассницы заняты подготовкой своего вечера в пользу раненых. Хлопот у них с этим вечером много: много и организаторской работы, и подготовка к сценам, к живым картинам, к декламации, к музыке, к пению, к характерным танцам. Нередко теперь и на уроках идет у нас разговор по поводу разных деталей вечера, пробуем иногда те или иные стихотворения для декламации, а две восьмиклассницы составили даже собственные стихотворения на темы войны. Сегодня был на первой репетиции этого вечера, ведшейся под руководством одного артиста-любителя. Эта подготовка к ученическим вечерам едва ли не интереснее, по-моему, самих вечеров. Война положила на эти вечера яркий отпечаток. Цель их теперь не просто веселье, а помощь жертвам войны; содержание, соответственно этому, чисто идейное. Тут и монолог Минина, и Орлеанская Дева, и песни брюссельских кружевниц, и живые картины на темы войны. От тех пошловатых водевильчиков, какие ставились иногда на ученических вечерах два-три года назад («Счастье только в мужчинах» и т.п.), теперь не осталось и следа.
В учебном отношении зато мы ныне в восьмом классе идем гораздо медленнее. По педагогике проходим еще то, что обычно проходили в начале декабря. По словесности до сих пор сидим на Некрасове, так что и на Л. Толстого времени мало останется. Раньше же бывало проходили не только всего Некрасова и Л. Толстого, но еще и Герцена, Глеба Успенского, Чехова. Но тогда я делал весь почти год добавочные уроки. Ныне же нет возможности делать это. да и не хочется и на учениц очень уж налагать: и добрые отношения хочется сохранить, да и военные нужды тоже их отвлекают. Не устраивается поэтому ныне и рефератов, так как настроение какое-то неучебное и желающих читать рефераты в восьмом классе не нашлось.
20 января
Начальница и классные дамы потеряли, наконец, всякую меру наглости. На днях мне пришлось проверять конспект у одной восьмиклассницы после пятого урока. Мы сидим в учительской с дверями, настежь раскрытыми в коридор. Начальница же, узнав, что я и ученица остались, не находя достаточным своего присутствия в гимназии, вернула уходившую уже домой классную даму. Та пошла наверх, забралась в учительскую и без всякого стеснения уселась около нас, ясно подчеркивая своим присутствием, что учителя нельзя оставить с ученицей наедине даже в стенах гимназии. Свое сидение и классе эти шпионки в синих платьях мотивируют часто разными и благовидными предлогами вроде надзора за ученицами, поддержанием дисциплины и т.п. Чем же можно мотивировать этот случай, применяя к педагогу, уже восемь лет преподающему в восьмом классе и его ученице такого чисто тюремного надзора? И как благотворно должны действовать такие «педагогические» приемы на учениц, уже взрослых девушек, готовых вступить в жизнь!
И ведь это не какие-нибудь новые в гимназии лица, которые не знают меня и не могут мне доверять даже настолько, чтобы караулить хотя не в той же комнате. Нет, начальница все восемь лет служила вместе со мной, а классная дама в первый год моей службы даже была моей ученицей. Место, видно, действительно красит человека!
22 января
К нам в город явился на ревизию окружной инспектор А-ов, гроза всех педагогов здешнего округа. Три дня он ревизовал реальное училище, разносил и учеников, и учителей. А сегодня явился и к нам, в мужскую гимназию. Перед моим уроком в третьем классе он обещал, что придет, но пошел сначала во второй класс. Я несколько нервничал в его ожидании, а ученики, как нарочно, отвечали один другого хуже. Когда я отправил одного из них на место, он залился слезами, как раз не во время! Я прикрикнул, чтобы он перестал плакать или убирался из класса. Вызвал другого, но не успел он еще начать, как явился ревизор в сопровождении директора. А-в отправил вызванного мной ученика на место, вызвал другого и заставил его писать на доске пример, а потом предложил мне разобрать его с учениками. Так же разобрали и еще два-три примера. Отвечали в общем ладно. Были, конечно, и ошибки, но после наводящих вопросов ученики поправлялись. Не могли только объяснить, отчего нельзя сократить одного определительного предложения. Я сказал тогда, что этих случаев мы еще не проходили, ревизор же указал, что мы уже перешли к дополнительным предложениям и теперь возвращаться к сокращению определительного будет неудобно. Пришлось также сказать, что мною пропущены придаточные предположительные подлежащие и сказуемые. Несколько затруднило еще меня и учеников разбор слова «сам» в предложении «Мальчик сам попался». Один из учеников сказал, что это определение, я согласился. Другой назвал это 2 подлежащим, я сказал, что и это, пожалуй, верно. Но вполне определенного ответа не дал. Урок наконец кончился. Ревизор пошел и, остановившись перед учениками, вдруг похвалил и поблагодарил их за занятия. Это, конечно, быстро разнеслось по гимназии и, когда я пришел в IV класс, ученики меня даже поздравляли. Таким образом, класс, на который я меньше всего надеялся, неожиданно выручил меня. Что-то будет дальше?
25 января
Оказывается, «класснодамская» партия проявила себя как нельзя лучше. Начальница нажаловалась окружному инспектору на свою родственницу — учительницу П-ву, которая как-то возмутилась ее начальственным тоном по отношению к себе и сообщила об этом директору. Устроена была очная ставка, где окружной инспектор, выслушав их препирательства, нашел, что это все пустяки и что они, как лица с высшим образованием, должны бы стоять выше этого. П-ва вполне согласилась с этим и указала, что из мухи сделали слона именно директор и начальница, нашедшие нужным зачем-то сообщать об этом ревизору. На это А-в, не вникая в суть дела, заметил, что при таких отношениях невозможно вместе служить — нужно кого-нибудь перевести, «но не забывайте, — заметил он, чти начальница утверждается Министром и с ней гораздо труднее это сделать, чем с Вами». Ш-ко, ободренный таким оборотом дела, стал горда без стеснения доносить на учительниц, что они неохотно исполняют обязанности классных наставниц, А-в поддержал, что если не хотят исполнять своих обязанностей, то могут уходить. А директор добавил, что к учительницам могут присоединиться и учителя, и тогда получится полный развал. «Почему же Вы думаете, что они к нам же присоединяться?» — спросила П-ва. «Да ведь они всегда против начальства!» — ответил ей ревизор. Таким образом, с его точки зрения, несогласие с классными дамами есть бунт против начальства. А те, в свою очередь, конечно, постарались использовать свое положение. На днях, например, произошел обычный при наших порядках конфликт. Восьмой класс, предоставленный самому себе, изрядно шумел, а классная дама гуляла спокойно по коридору. Занимавшаяся в соседнем классе учительница П-ва должна была, наконец, выйти с урока и сказать классной даме, что восьмиклассницы мешают ей заниматься. Классная дама, обидевшись, возразила, что она и так уже вышла из учительской в коридор. П-ва заметила, что обязанность классных дам вовсе не в том, чтобы сидеть в учительской. На этом разговор кончился. Но классная дама на этом не остановилась. Она сообщила об этом начальнице, та — председателю, последний — ревизору. И учительнице П-вой пришлось объясняться по поводу того, что она осмелилась якобы сделать замечание классной даме (которая притом много моложе ее и была в свое время ее ученицей!). Воспользовалась случаем и другая зазнавшаяся фаворитка начальницы — учительница рисования К-ва. Эта особа, попав в фавор, сразу возомнила о себе и, как истая хамка, выразила это тем, что не стала ни с кем первая здороваться, не только с мужчинами, но и с дамами, а когда с ней здоровались, она то не замечала, то нехотя протягивала руку, как будто делала какое одолжение. Одна учительница указала ей как-то на это, но К-ва возразила: «И так ведь каждый день видимся!» Но, когда другая учительница, уже здоровавшаяся с К-вой, сказала ей, когда та снова протянула руку: «Мы уже видались!», — эта особа вдруг обиделась. И этот столь важный факт опять-таки был доведен до сведения окружного инспектора как улика против учительниц, и ему пришлось делать по этому поводу разбирательство. До такой подлости по отношению к своим коллегам и до такой мелочности не доходам, пожалуй, даже и фаворитки пресловутого Б-ского! Немудрено поэтому, что учительский персонал, объединенный гадливым чувством по отношению ко всей этой своре и их покровителям, чувствует себя, как в помойной яме.
И эту атмосферу удалось создать нашей начальнице, бывшей курсистке, которую все мы так жаждали видеть на этом посту, но из которой два-три года пребывания у власти успели вытравить даже элементарную порядочность!
13 февраля
Давно уж не приходилось мне браться за дневник, хотя и нужно было бы сделать это, но времени свободного совершенно не было. На масленой вместо отдыха пришлось возиться с годовым отчетом по прогимназии, с составлением формуляров и другой канцелярщиной; даже тетрадей некогда было проверять, и они скопились у меня целыми грудами.
А между тем за это время было кой-что и интересное. Придется излагать по отдельным учебным заведениям.
Прежде всего о комитете начальников средних и низших учебных заведений по внешкольному надзору. Это учреждение возникло по распоряжению нового попечителя фон Г-мана. На учредительное собрание комитета собравшиеся туда директора, председатели, начальницы и инспектора явились не как педагоги, объединенные общими целями, а как чиновники, желающие подсидеть друг друга. Сразу же почувствовалась взаимная отчужденность и враждебность. Прочли циркуляр попечителя, начавшего с воспитательных идеалов древнегреческих философов и кончившего необходимостью организовать внезапные коллективные облавы на учащихся. В дальнейшем и обсуждался главным образом этот вопрос. Была выработана стройная система, на манер жандармской, с внезапной рассылкой председателем комитета всем надзирающим секретных предписаний явиться туда-то тогда-то, а там, конечно, «тащить и не пущать». Слежка за учащимися теперь будет коллективная, т. е. со стороны учащих всех учебных заведений и за учащимися во всех; таким образом, учащиеся под перекрестным огнем. Но всего характернее то, что видимая тенденция у надзирающих и руководящих надзором в том, чтобы ловить не своих, а чужих учеников, чтобы посадить в калошу «враждебные державы», т. е. другие учебные заведения. Таким образом, получился — правильнее говоря — «комитет взаимного подсиживания начальников учебных заведений».
14 февраля
В женской гимназии за это время произошла перемена в педагогическом персонале: мой заместитель — словесник получил место инспектора народных училищ и оставил гимназию. Человек он был мягкий, добрый, и ученицы (особенно пятиклассницы, для которых он был еще первым учителем) пожалели о его уходе. Но для поста инспектора народных училищ, т. е. руководителя школьной жизнью целого района, этого, по-моему, все-таки недостаточно. По образованию он юрист, учебная же служба его состояла только в том, что он три года служил по вольному найму в мужской гимназии, а на четвертый прослужил несколько месяцев в женской. С делом начального (школьного) обучения он совершенно не знаком ни теоретически, ни практически, так что, когда ныне представлялась ему возможность занять мои уроки по педагогике и методикам в восьмом классе, Ш-в категорически отказался и предпочел взять уроки в мужской гимназии, хотя и с меньшей оплатой. Свое быстрое повышение по служебной лестнице Ш-в сам объясняет тем, что, учась в губернском городе, где находится учебно-окружное управление, он завел там знакомства и старался чаще показываться на глаза, чтобы напомнить о себе (однажды, например, приехав в город, специально ходил к попечителю, чтобы «явиться» ему).
Неожиданное назначение Ш-ва в инспектора было большим сюрпризом для директора гимназии. Из-за того, что Ш-в не сделал ему визита и держался довольно независимо, Ш-ко недолюбливал его и был, видимо, рад, что ревизор обнаружил в его преподавании некоторые недочеты. Но когда, вскоре после отъезда ревизора, Ш-в вдруг получил приглашение в инспектора, Ш-ко не мог поверить этому и ждал, что у него попросят характеристики Ш-ва на учителя. Но его мнением никто не поинтересовался, и через несколько дней Ш-в был уже назначен инспектором. Когда он показал телеграмму с назначением, Ш-ко, понявший вдруг, что у Ш-ва очевидно в округе есть «рука», сразу переменил свое отношение к нему, стал рассыпаться в любезностях, звать к себе в гости и сожалеть, что они раньше не познакомились ближе.
Как бы то ни было, охотников сидеть на месте словесника в женской гимназии семь лет, как сидел я, нашлось не много, и первый же мой заместитель (даже не имеющий, как я, звания учителя гимназии) сбежал с половины года. Пришлось искать нового словесника. Воспользовавшись этим, я посоветовал Ш-ко пригласить из прогимназии учительницу русского языка К-ну, как словесницу по образованию (она окончила курсы). Ш-ко, чтобы не остаться без учителя, ухватился за эту комбинацию и, не интересуясь, какова К-на как педагог, спросил только, «не интриганка ли она»; я, конечно, успокоил его, и через несколько дней К-на была по телеграфу ужо перемещена в женскую гимназию. Дело, таким образом, устроилось, к общему удовольствию: Ш-ко получил учительницу, К-на попала на предмет, более знакомый ой, чем грамматика, и на больший оклад, прогимназия избавилась от неопытного педагога, уроки же русского языка заняла там П-кая, которая и была представлена на эту должность, но вследствие ошибки округа осталась не у дел.
К-на начала заниматься вместо Ш-ва. И здесь сразу же сказалось, что начальница и классные дамы считают своим долгом именно шпионить за учителями, а не поддерживать порядок среди учениц. Сколько крови испортил бедный Ш-в из-за неотступного сидения на его уроках классных дам, которые готовы были даже оставить несколько классов без всякого надзора, лишь бы не оставить учителя вместе с ученицами. Но вот вместо мужчины-учителя появилась барышня. Казалось бы, если в задачи классных дам входит поддержание порядка на уроках (свое сидение у Ш-ва они обыкновенно объясняли тем, что ученицы у него шумят), нужно было тем более помочь новой неопытной учительнице хотя на первых порах ее службы. Не туг-то было! С заменой учителя учительницей классные дамы сразу же бросили ходить на уроки словесности, что должно было, конечно, броситься в глаза даже наиболее тупым из учениц. А между тем здесь-то как раз и была некоторая надобность в надзоре. Молодая учительница является в V класс, который огорчен и уходом Ш-ва и назначением вместо него не учителя, а учительницы. Ни начальница, ни классная дама не сочли нужным ни проводить учительницу в класс, ни отрекомендовать ее ученицам. Та является совершенно одна, растерянная, смущенная, ученицы сразу же встречают ее криком: «Как Вас зовут?» Учительница, ошеломленная таким приемом, хочет водворить тишину, но не может и в раздражении топает ногой на учениц, что их в свою очередь тоже возмущает. Ставит потом на ноги одну из пятиклассниц, те кричат, что они уже большие и что так с ними никто не поступает, учительница сдается перед толпой, чем сразу же роняет свой авторитет. А классные дамы, так ревниво тюкавшие опытного учителя, прекрасно справляющегося и с мальчуганами в мужской гимназии, сидят в это время спокойно в учительской, довольные тем, что избавились, наконец, от мужчины.
Опять начальницы, классные дамы и учителя
15 февраля
В прогимназии, где я председательствую, учредительница ее, утвержденная недавно в звании начальницы, проявляет свой характер все больше и больше. Я лично уже немало получил от нее уколов своему самолюбию, хотя сам ничего дурного не сделал си, и г. К-на должна бы быть, мне кажется, благодарна, что нашелся человек, несущий безвозмездно тот труд, за который председатели других здешних гимназий получают по 1000 и более рублей в год, хотя работать гам приходится меньше, так как есть платные секретари и дело все уже налажено. Не считаясь с этим, г. К-на, видимо, все время старается за что-то уколоть и уязвить меня. Вернее всего за то, что я являюсь по самому положению своему лицом, ограничивающим ее власть, а она, привыкши самовластно управлять своими собственными учебными заведениями, все не может отрешиться от мысли, что теперь она не хозяйка, а одна из служащих в прогимназии лиц. И хотя преобразована ее школа в прогимназию по ее же собственному желанию и в умалении значения г. К-ной я никакой роли не играл, однако, попав в прогимназию по ее же настойчивым просьбам, я сразу почувствовал, что она смотрит на меня как на соперника. Сразу же, лишь только я занял пост председателя, К-на начала подчеркивать, что она тоже начальство, да еще, пожалуй, поглавнее меня. На мой визит она не сочла нужным ответить, хотя, упрашивала меня занять эту должность, сама была у меня. На советах сразу же стало сказываться стремление во что бы то ни стало противоречить мне даже в самых мелких вопросах, причем все время подчеркивалась ее опытность, ее возраст, мои же все заявления опорочивались и шельмовались.
Но вся эта история оставила тем не менее во мне самый неприятный осадок. С удовольствием бы бросил эту прогимназию, которая, кроме массы хлопот и неприятностей, ровно ничего мне не даст. Но бросить дело было бы малодушно. Я не хочу уступать поле сражения этому Б-скому в юбке и не могу оставить учительский персонал, вмешавшийся в эту борьбу, без поддержки.
18 февраля
Начальница прогимназии К-на без всякого стеснения перенесла свои личные отношения к учительницам на служебную почву и старается сразу же отомстить им. На днях она уже сообщила мне (якобы со слов матери одной ученицы), что учительница арифметики Д-ва плохо объясняет уроки, дает задачи на недостаточно усвоенный материал и т.п. Ввиду этого начальница, раньше отзывавшаяся о Д-вой с лучшей стороны, предложила мне почаще бывать у нее на уроках. О другой своей противнице Ч. начальница еще раньше говорила мне, что она очень строга к ученицам, что она довела как-то девочку до истерики и т.п. Учительницу же А-ву, которая поддерживает все время начальницу и даже оказывает ей разные хозяйственные услуги, г. К-на вдруг «ни к селу, ни к городу» стала расхваливать.
22 февраля
В женской гимназии, где начальница и председатель объединились против преподавательского персонала, положение постоянно становится все невыносимее. Не знаю, чему больше удивляться: нечистоплотности начальницы или легковерию и глупости председателя. Главным объектом наушничества начальницы и гнева председателя является учительница П-ва. Будучи весьма нелестного мнения о начальнице, она иногда не стесняется в выражениях о ней, тем более что та ей приходится родственницей. Ш-ко же, услышав от окружного инспектора фразу, что преподаватели должны обращаться с начальницей почтительно, ставит теперь всякое лыко в строку и, не обращая никакого внимания на существо заявлений преподавателей, вяжется к их форме. Недавно он, призвав меня в свою канцелярию, стал в присутствии делопроизводителя и писца возмущаться поведением П-вой, сказавшей как-то ему, что начальницы даже и сторожа-то не слушаются. Весьма повышенным тоном он заявил мне, что напишет в округ об увольнении П-вой, которая все не может помириться с начальницей и проникнуться почтением к ней. И хотя я указывал, что начальница нам не начальство и почтительность к ней должна быть такая же, как и по отношению к коллегам вообще, Ш-ко стоял на своем, забывая, что тон самой начальницы по отношению к преподавателям бывает часто крайне грубый и раздражительный. Мало того, под влиянием, очевидно, той же начальницы и классных дам (тащивших меня в прошлом году к товарищескому суду за намек на доносительство) Ш-ко настроен весьма враждебно и по отношению к остальному преподавательскому персоналу. На днях он выражал, например, мне свое неудовольствие, что в женской гимназии учителя опаздывают на уроки, на это я возразил, что причина тут в классных дамах, несколько не следящих за порядком, вследствие чего еще долго после звонка ученицы толпами гуляют по коридорам, так что учителю трудно даже пробраться в класс, а заниматься при царящем везде шуме и беспорядке и вовсе невозможно (в мужской гимназии классные наставники наоборот сразу же водворяют учеников по классам и успокаивают их), но Ш-ко, опять-таки сваливая все на учителей, не хотел и слышать о какой-либо вине классных дам. На учителей же сваливается ответственность не только за их занятия, но и за то, что их вовсе не касается. Так, на днях Ш-ко сделал мне замечание, что восьмиклассницы часто пропускают уроки, но, если следить за пропусками и выяснять, кто из девиц не был по уважительной, кто по неуважительной причине, должен учитель, то в чем же обязанности начальницы гимназии, состоящей в VIII классе классной наставницей? Все эти нелепые выходки и придирки нервируют преподавательский персонал, вовсе не желающий быть козлом отпущения за чужие грехи.
Ш-ко же все гнет свою линию и, не обращая никакого внимания на отношение к своему делу начальницы и классных дам, не останавливается даже перед доносами на преподавателей. Несмотря на то, что они в общем очень добросовестно относятся к своим обязанностям и редко пропускают уроки, Ш-ко, видимо, сообщил в округ противоположное, потому что в женскую гимназию (и только в нее одну) пришло распоряжение попечителя, чтобы вместо каждого пропущенного преподавателем урока давалась в соответствующем классе письменная работа по его предмету. В результате создалось крайне нелепое, обидное и тягостное для преподавателей положение: учитель, прохворавший, например, неделю (шесть учебных дней), получил для поправления здоровья двадцать четыре письменных работы (если у него по четыре урока в день), т. е. столько, сколько не бывает и за год! Эта дикая мера, разумеется, может быть понята только как наказание за манкировки и притом наказание крайне тяжелое даже для здорового педагога. Что же сказать об учителе действительно больном? А ведь пропускают уроки (по крайней мере у нас) действительно только из-за болезни! Этим обязаны мы, конечно, не столько бездушному бюрократу-попечителю фон Г-ману, сколько нашему председателю. Прочитав его объявление об этом распоряжении (которое он притом для смягчения в наших глазах ложно назвал «циркуляром»), преподаватели, конечно, в своем кругу не раз критиковали эту меру. Начальница (а может быть и классные дамы) не постеснялись сразу же донести ему об этом. И теперь у Ш-ко новый «козырь» против учителей: они смеют критиковать распоряжения попечителя! А между тем учителя созданы только для того, чтобы повиноваться и совершенно ни о чем «не могут сметь свои суждения иметь». Даже такой вопрос, как вопрос о расписании уроков, и тот они не могут обсуждать. Составили на днях новое расписание в женской гимназии, расписание для некоторых неудобное. Официально об этом они никому не заявляли, но, читая расписание в учительской, в своем кругу говорили, кому стало удобнее, кому неудобнее. И эти разговоры, несмотря на всю их обыденность и незначительность, оказались опять переданными председателю, и тот, по обыкновению делая из мухи слона, «рвет и мечет»! Они, какие-то учителя, смеют быть недовольными! «Если так, — гремел в моем присутствии и в присутствии служащих в канцелярии Ш-ко, — я проявлю по отношению к ним всю полноту моей власти!» «А председателю дана, — продолжает он запугивать, — громадная власть!» Забыл обиженный властью председатель только одно, что одобряется расписание уроков, как и многое другое, не лично им, а педагогическим советом, состоящим из тех же учителей. Так гласит закон, но с законом у нас редко кто считается, особенно из начальствующих. Немало мы вынесли уже мытарств от такого зазнавшегося председателя, как Б-ский. Теперь, очевидно, предстоят нам новые испытания. И кто знает, чем они кончатся? И начальство, принявшее тогда нашу сторону, может теперь посмотреть иначе, да и соотношение сил теперь иное, ибо начальница и классные дамы, попавшие теперь в фавор, идут тоже против нас и без зазрения совести пускают в ход все те меры, которыми возмущались во времена Б-ского.
Но чем бы ни кончилась эта новая война, уже самый факт этих раздоров крайне неприятен. Неся немалый труд по трем учебным заведениям, отнимающий у меня все свободное время, я хотел бы лишь одного, чтобы оставили в покое мои нервы, которые и так все время треплются на педагогической службе, чтобы дали возможность заниматься своим делом, не ставая в противоречие с своей совестью. А между том надо не только работать, а еще и подличать, унижаться, предавать, если не хочешь, чтобы у тебя отняли самую возможность работать.
6 февраля
На одном из последних советов в женской гимназии Ш-ко прочитал нам в подлиннике бумагу из округа, где говорилось о замещении пустых уроков письменными работами. Обнаружилось, как и следовало ожидать, что это вовсе не циркуляр, а специальное распоряжение по женской гимназии, вызванное, значит, специальным же сообщением, притом и изложена бумага у самого попечителя более мягко, чем в редакции Ш-ко: там ничего нет, например, об обязательной оценке каждой работы баллами. Преподаватели, раздраженные этим сюрпризом, которым мы обязаны, несомненно, председателю. стали доказывать неосуществимость этого распоряжения, и Ш-ко, хотя и заявил, что критиковать распоряжения начальства нельзя, пошел на некоторые компромиссы, согласившись, например, иногда заменять письменные работы чтением. Это не прочь бы с удовольствием сделать всякий преподаватель и раньше. Я сам, например, давно уже сожалел, что уроки, на которые не пришел преподаватель, пропадают без толку, тогда как ученицам многое надо бы прочитать сообща (хотя бы проходимые по словесности романы, критические статьи, которые имеются в небольшом числе экземпляров). Но все благие пожелания наталкивались на неодолимое препятствие в лице классных дам. Эти квазивоспитательницы никогда добром не согласятся занять свободный урок чтением: они лучше распустят учениц, а сами уйдут домой. А если кто из них и соглашался иногда посидеть на чтении (даже не читать, а только сидеть!), то и в таком случае толку все равно не получалось: они не в состоянии не только не заинтересовать чтением учениц, но даже не в силах поддержать необходимую для слушания тишину и порядок. Ученицы не раз говорили мне: «Останьтесь Вы сами, а то мы все равно не будем слушать!» Так всегда и выходило. А ныне, когда классные дамы подняли головы, это и совсем вывелось, и ученицы в пустые уроки всегда отпускались по домам, что могло привлечь внимание попечителя, даже если Ш-ко (как он утверждает) и не писал специального доноса на учителей. Таким образом, этой карою египетской мы обязаны опять-таки своим классным дамам, которые, не будучи в состоянии исполнять прямых своих обязанностей, оказались во всем правыми и подвели под замечание того, кто совершенно невиноват. Да и теперь, когда заговорили на совете, что особенно полезно было бы устраивать чтение по таким предметам, как физика и т.п., по которым затруднительно устраивать письменные работы, препятствие встретилось с той же самой стороны. Ш-ко, так близко принимая к сердцу интересы классно-дамской своры, вдруг стал возражать против этого. «Как же это? Будут при классной даме читать какую-нибудь статью, а вдруг ученицы попросят ее что-нибудь разъяснить, ведь этим можно поставить классную даму в неловкое положение!» Интересно, что это в сущности очень обидное заявление (что классные дамы не в состоянии понять даже статьи, данной специально для учениц) классных дам совсем не обидело, и они были, видимо, даже довольны, что их «защищают» и что им не придется поэтому сидеть лишний час в классе.
Все остальные вопросы разбирались в том же духе. Председатель и начальница, дружно сидя визави в середине стола, все время поддерживали классных дам, тесной кучей сидевшей по одну сторону, и явно пристрастно относились к преподавательскому персоналу, сгруппировавшемуся с другой стороны. В пику нам председатель поднял и вопрос о нашем опаздывании на уроки, хотя я объяснил уже ему, что виноваты здесь те же классные дамы. А мне лично он при всем совете поставил в вину абсентеизм на моих уроках в VIII классе, причем прибегнул к явным натяжкам, утверждая, что у меня отсутствует иногда по 50 % (это от того, что из семи словесниц как-то не прошло трос!), хотя на общих моих уроках из двадцати пяти учениц отсутствует обыкновенно ученицы по три. Я, раздраженный этой нелепой выходкой, стал возражать, что особенного абсентеизма в VIII классе не наблюдается, что следить за причинами пропусков вовсе не мое дело, а дело начальницы (состоящей в VIII классе и классной наставницей), которая может сноситься по этому поводу с родителями и с доктором, может посещать и квартиры подозреваемых в манкировках учениц (чего, однако, не делается, хотя об одной восьмикласснице В-вой уже вторую четверть тянется в журнале «подозревается в манкировках»), В заключение я поставил начальнице вопрос: кто из восьмиклассниц пропустил хотя один урок по неуважительной причине? Она замялась и ответила, что все ученицы объяснили свои пропуски достаточно вескими причинами. Таким образом, даже alter ego председателя — начальница не могла подтвердить его обвинения против меня, и оно как явно пристрастная клевета повисло в воздухе.
Через некоторое время подошли и четвертные советы, и снова встал на очередь больной вопрос о классных наставницах. Попечительный совет, не подумав о вознаграждении несущих бесплатный труд учительниц, снова проявил заботливость о классных дамах: учредил новую должность седьмой уже классной дамы, выбросив на эту затею 600 с лишним рублей в год. Труд классных дам, таким образом, еще более облегчился. У каждого нормального класса есть теперь своя классная дама (в VIII — начальница), но остается еще три параллельных класса, за каждую параллель классные дамы поручают сверх обычного особое добавочное вознаграждение, но классное наставничество в этих классах возложено не на них, а на учительниц, которые ничего за это не получают. Раньше Ш-ко под влиянием их протеста пошел было на уступки и, оставив за ними моральное воздействие на учениц, какового, по его словам, классные дамы оказывать не могут (хотя семь классов все-таки поручены им), официальными бумагами освободил их от канцелярской работы (дневники, отчеты, свидетельства). Теперь яте, когда прибавилась еще классная дама, он вдруг снова потребовал от учительниц, чтобы они исполняли и эту канцелярскую работу, угрожая даже жалобой в округ и увольнением. «Пишите, если совесть вам позволяет!» — ответила ему одна из учительниц. А в беседе с другой он потом возмущался: «Помилуйте! Молодая дама, и не хочет взять работы с человека, которому пора уже на покой!», имея в виду главную «язву здешних мест», старую, но еще совершенно бодрую классную даму (1 кую, которая больше всего и подзуживает его против учительского персонала. Она-то, видимо, и подняла эту склоку, отказавшись писать свидетельства параллельного класса, но не отказываясь от жалования за него. А меледу тем, не говоря уже о том, кто обязан это делить по закону (там о возложении наставничества классного на учительниц нет ни слова), кто является и более свободным из них: учительница ли, преподающая в утренние часы, а в вечерние готовящаяся к урокам, или классная дама, занятая только в перемену, а во время уроков совершенно свободная (дежурства на спевках, в театрах и т.п. при семи классных дамах бывают весьма не часто)? К характеристике этой «почтенной» классной дамы не мешает прибавить, что, командуя начальницей, а через нее и председателем, она теперь даже покрикивает на учительниц (как недавно крайне повышенным и повелительным тоном требовала, чтобы историчка бежала, оставив завтрак, вниз и сказала что-то ученице, так как классная дама не может ее уговорить), а замечания с ее стороны стали уже обычным явлением, на днях, например, она отчитала немку, пришедшую на урок через три минуты после звонка. И все это считается в порядке вещей. Когда же наш брат указывает на явно мешающий занятиям беспорядок классной даме или начальнице, поднимается целая история, начинаются вопли об оскорблении, и дело докатывается даже до окружного начальства. Едва ли где найдется еще такое засилье надзирательской корпорации над учительской, какое создалось у нас благодаря начальнице и председателю!
7 марта
Отравляя жизнь учительскому персоналу, не брезгуя ни доносами, ни шпионством и попав благодаря этому в милость к начальству, классные дамы нисколько не импонируют даже и ученицам. Более мягкие из них презираются ученицами и служат ширмой для их шалостей, обманов и т.п. Более же строгие благодаря своей придирчивости и мелочности ненавидятся ими. На днях еще на последнем четвертном совете судили одну четвероклассницу, которая написала на доске «А. А. (инициалы С-кой) дура». Не обращая внимания, когда подобные же характеристики пишутся ученицами по адресу злосчастного учителя пения, классные дамы на этот раз подняли шум, довели дело до совета, придали ему громадную огласку и настояли на тройке поведения девочки, но написанное на доске этим едва ли опровергли. О каком-либо авторитете этих особ среди учениц старших классов, конечно, и говорить не приходится. Начальница по отношению к ученицам тоже ведет себя не лучше. Будучи человеком бесхарактерным и в то же время раздражительным и грубым, она не может спокойно и последовательно приучить учениц к своим требованиям и то распускает их, то обрушивается на них чуть не с бранью. Былое хорошее мнение о ней как об учительнице теперь отошло уже в область предания, и я сам недавно слышал, как в одном обществе дружно отзывались о ней как о человеке грубом, «унтер-офицере», оскорбляющем учениц своими выходками. А на следующий день (5 марта) пришлось еще раз убедиться в этом. В VIII классе у меня была назначена письменная работа по методике русского языка. Первый час я сам просидел с ученицами. Все было мирно и хорошо. Потом я ушел в мужскую гимназию, оставив учениц на попечение классной дамы. Когда же я снова пришел на урок в VIII класс, то оказалось, что за время моего отсутствия там произошел целый скандал благодаря обычной «тактичности» нашей инспекции. Классная дама все время придиралась к ученицам, не давая им ни слова шепнуть, делала все это, конечно, с манерой истого полицейского и справиться все-таки не могла. Ретировавшись из класса, она донесла на восьмиклассниц начальнице. Та явилась и разгромила их. Кричала, тащила за руки из-за парт и уводила из класса, отнимала тетради и т.п. Восьмиклассницы, возмущенные ее поведением, в голос стали жаловаться мне, лишь только я вошел в класс. Я постарался их успокоить, взял отобранные тетради у начальницы и на своем уроке позволил ученицам докончить работу.
Вообще, с нынешним восьмым классом отношения у меня установились вполне хорошие. За весь год было столкновения два с отдельными ученицами, но и те быстро ликвидировались, и обидевшиеся на меня ученицы (как, например, К-на, выражавшая претензию на мою двойку) вскоре сами же выказывали мне свое доброе отношение. Приходится, конечно, то и дело останавливать более бойких из них. нередко бывают и двойки. Но девицы не обижаются на это, а я не сержусь. И часто после неудачного ответа, оцененного двойкой, мы весело шутим и смеемся. «Надеюсь, мы с Вами еще побеседуем но педагогике», — говорю я одной. «Да еще как!» — весело отвечает та, хотя за эту «беседу» получила только два.
В мужской гимназии тоже постепенно привыкаем друг к другу. Ребята освоились с моими требованиями, втянулись в работу. Я тоже обыкновенно не сержусь уже на их шалости или плохие ответы. И уроки нередко проходят теперь довольно дружно и спокойно. Но все-таки, по-моему, с девицами отношения как-то более задушевны, и мне было бы жаль расставаться с женской гимназией, если бы не начальница и классные дамы. Да и восьмиклассницы тоже нередко переходят от негодования на гимназические порядки и грубость начальницы к чувству сожаления о том, что скоро, скоро уже конец их школьной жизни. Сегодня одна в перемену сыграла им что-то на рояле, и это сразу ударило их по напряженным нервам. Когда я пришел в VIII класс, то многие еще не могли успокоиться и, закрыв лицо, плакали.
Внешкольный надзор за учащимися
8 февраля
Министерстве повеяло кажется новым духом, а до нас в лице попечителя фон Г-мана (ставленника бар. Таубс) только теперь докатилась в полном объеме старая волна кассовского режима. По предписанию попечителя местный комитет начальников средне-учебных заведений организовал чисто панический внешкольный надзор. Учащиеся могут быть на улице до семи часов вечера, а после этого начинается «ловля», предъявление билетов-паспортов, удостоверение личности, стычки с наблюдающими и т.п. Желающие из педагогов могут заниматься этим каждый день, но обязаны к этому классные наставники и классные дамы. Эти лица участвуют и в облавах, которые время от времени устраиваются по распоряжению председателя комитета. В назначенный председателем день от него летят в запечатанных конвертах предписания лицам надзора: быть во столько-то часов между такими-то улицами. И вот несчастные педагоги рассыпаются по всему городу, чтобы «тащить и не пущать», а председатель комитета «легкой тенью» скользит среди них, «проверяя посты». Дожили до времени, нечего сказать! Между учениками и учителями вырастает новая пропасть, отношения портятся, возникает взаимная подозрительность (в IV классе мужской гимназии на другой день после облавы один ученик вдруг спросил меня: «А Вы на каком углу вчера дежурили?» Я возразил, что классным наставником не состою и меня это не касается), растет ложь, обман. Началось переодевание учеников, вместо гулянья по улицам пойдет картежная игра дома.
Скоро ли выкурят, наконец, из нашей злосчастной школы эти кассовские пережитки вместе с его бывшими сотрудниками из истинно русских немцев!
12 марта
Внешкольный надзор привел уже к нескольким скандалам. Особенно усердствуют в поимке «чужих» реалистов мои коллеги по мужской гимназии. Один из них, С-в, довольно снисходительный к своим, поймал как-то на улице трех реалистов и, так как они отказались сообщить ему свои фамилии, донес на них в реальное училище. Там пришлось устраивать очную ставку: С-в стоял у дверей, а перед ним проходили класс за классом, чтобы он их опознавал. Опознать, кажется, так никого и не удалось, но скандал получился хоть куда! Узнав об этом, одно местное общественное учреждение (библиотечная комиссия), где С-в состоял до сих пор членом, исключило его из своего состава. А на последнем заседании комитета даже его председатель должен был поставить на вид надзирающим (имея в виду надзирающих из мужской гимназии), что они ведут себя весьма нетактично, обращаются к ученикам громко, при публике, говорят сразу в повышенном тоне, спрашивают учащихся, зачем они здесь, посылают домой и т.п., тогда как следует только, отозвав в сторону, негромко спросить фамилию, выяснять же причины пребывания ученика на улице уже дело его учебного начальства. На этом же заседании начальница частной гимназии г-жа Б-ч сделала заявление от лица своего педагогического персонала, который отказался обсуждать правила внешкольного поведения, так как находит внешкольный надзор нецелесообразным и ввиду новых веяний в Министерстве просит комитет подождать с его введением. Заявление произвело на присутствующих впечатление большой бестактности, так как комитет именно и создан для внешкольного надзора, а директивы об облавах и т.п. даны самим попечителем и в официальном заседании, где все только и ищут, чтобы подкопаться друг под друга, выразить солидарность с этим заявлением никто не посмел. Среди гробовой тишины председатель комитета заявил: «Самое лучшее, если мы будем считать, что Вашего заявления совсем не было, если же мы примем его и занесем в протокол, то от корпорации Вашей гимназии никого не останется». Тогда и сама начальница, и председатель педсовета стали усиленно заявлять о своем несогласии с протестом педагогов. А по окончании заседания г-жа Б-ч выразила даже соболезнование председателю комитета, «пропечатанному» в газете за меры по внешкольному надзору. К этому соболезнованию присоединилась и начальница нашей прогимназии г. К-на, хотя она за глаза все время возмущалась внешкольным надзором, так как у нее самой есть учащиеся дети.
А внешкольный надзор привел только к одному: учащиеся изощряются в обмане: переодеваются так, что их даже родные не узнают, и ходят везде, куда им хочется, подвергаясь при этом гораздо большим соблазнам, чем в форме. Недавно слышал, например, что гимназистки из интеллигентной семьи переодевались, чтобы пройти по улице, под вид горничных, и в результате к ним на улице даже «парни приставали», чего бы не посмели сделать, видя перед собой барышень-гимназисток.
Не лучшие результаты даст и установленная комитетом цензура кинематографических картин. На днях, например, цензора-педагоги одобрили для учащихся картину с самым отчаянным танго, председатель разослал одобрения по веем учебным заведениям. И потом даже сами ученики и родители возмущались этой картиной.
14 марта
Ну и денек сегодня выдался! О работе уже и не говорю, хотя отсидеть пять уроков дело, конечно, нелегкое. Но одних неприятностей столько свалилось, что, пожалуй, несколько дней не придешь в себя. Начну по порядку. При входе в III класс один ученик И-в вдруг со слезами на глазах просит меня позволить ему стоять весь урок. На мое недоумение И-в показал мне кисти рук с многочисленными ссадинами и сказал: «У меня все тело теперь такое, и я совсем не могу сидеть». О причине же этого он сообщил классному наставнику. Что же оказалось? Это его отец, узнав о полученной учеником двойке по географии, избил его всего ремнем с пряжкой, так что бедный мальчуган не в состоянии даже сидеть. Учителя, узнав об этом, конечно, возмущались поступком отца и даже подымали речь о медицинском освидетельствовании мальчика и только учитель географии Л-й все время злорадно повторял: «Так ему и надо!»
Все же факты этого дня, в своей совокупности, так угнетающе подействовали на меня, что я и дома чувствую себя как очумелый, нервы взвинчены, на душе тяжело, спать, наверно, опять не придется. Хорошо еще хоть то, что завтра неучебный день. А то в таком состоянии извольте-ка заниматься!
10 мая
Почти ровно два месяца не приходилось браться за дневник, хотя за ото время было много такого, что стоило записать, но под конец учебного года скопилась масса работы, мешавшей посвящать время дневнику, а еще больше выпало на мою долю неприятностей, писать о которых легче теперь, когда они уже несколько сгладились. Попытаюсь восстановить в памяти более существенное, но уже не по дням, а по предметам, группируя их по тем трем учебным заведениям, где я занимался.
Но прежде всего несколько слов о нашем окружном начальстве, вернее — о тех порядках, которые там царят, как в исто бюрократическом учреждении. Насколько аккуратно и своевременно получаются оттуда распоряжения, которые мы, подчиненные, должны исполнять! Накануне Пасхи, в страстную субботу, получаю я, например, бумагу из округа с подробнейшими наставлениями насчет отправки в армию… пасхальных подарков. Правила и списки вещей вырабатывались в какой-то особой комиссии при Министерстве, потом одобрялись министром, шли по округам, оттуда по учебным заведениям, и в результате получены были по местам, когда было поздно отправлять пасхальные подарки даже и по телеграфу. А между тем бумага снабжена еще в заключение стереотипной припиской: «О последующем прошу уведомить». Что же может тут «последовать»? И что бы у нас последовало вообще, если бы вся Россия, полагаясь на распорядительность начальства, пассивно ждала его указаний? В частности и здесь, пока чины Министерства в разных инстанциях пописывали и почитывали о подарках в армию, от нашего города уже два раза — и к Рождеству, и к Пасхе — были отправлены груды подарков специально сорганизовавшейся комиссией, причем в работе над подарками самое деятельное участие принимали именно учащиеся, Столь же своевременно посылаются у нас уведомления и по чисто учебным делам. В день окончания экзаменов получили, например, от попечителя распоряжение о том, чтобы прием экзаменов в разных учебных заведениях одного города не совпадал между собой в один день. Эта новелла нового министра была разослана по округам телеграфно, а оттуда отправлена почтой, и пока это, видимо экстренное, распоряжение шло, экзамены уже кончились. Расписание экзаменов, которое должно утверждаться попечителем, получено мной из округа 27 апреля, тогда как по этому утвержденному попечителем расписанию они должны начаться с 20 апреля, а 27-го уже кончаются. Что бы опять, спрашивается, получилось, если бы все учебные заведения вздумали в точности исполнять все действующие нелепые правила, т. е., например, не начинали бы экзаменов до их утверждения? Получилась бы настоящая «итальянская забастовка»! Не в меру усердный законник, забегающий вперед перед начальством председатель женской гимназии, Ш-ко вздумал было поступить по букве закона и насозывал совет для составления расписания экзаменов, пока не получил утверждения предельных сроков (начала и конца их). В результате были пропущены все пасхальные каникулы, ученицы слышали, что на Фоминой начнутся экзамены, но когда и какие, не знали. В понедельник на фоминой они с трепетом явились в гимназию, ожидая русского письменного, но оказалось, что экзамена нет, что педагоги и сами ничего не знают и что даже расписания не составляли. Тогда только пришлось Ш-ко бросить строгое следование законам, созвать без особого разрешения совет, составить расписание и завтра же начать осуществлять его. В других же учебных заведениях, где не жались так за буквой закона, расписание составили еще на страстной, ученицы две недели спокойно готовились к экзаменам, считаясь с их распределением, и в понедельник на Фоминой уже держали письменный русский.
Но, будучи само столь неаккуратно, окружное начальство в отношении к нам, своим подчиненным, весьма требовательно. По должности председателя мне пришлось воочию убедиться и в том, и в другом. Взять хотя бы вопрос о срочных представлениях в округ. У нас нет никакой официальной табели таких представлений, никаких официальных сборников руководящих правил. Приходится идти ощупью, действовать наугад, справляясь у знакомых, отыскивая указания в неофициальных сборниках (Кузьменко, Елисеева и т.п.), которые притом и найти здесь трудно (в прогимназии их, например, совсем нет, потому что сборник Кузьменко, выписанный еще с осени, до сих пор не получен). При таких условиях весьма недолго попасть впросак и оказаться без вины виноватым. Так обстоит, например, дело с представлением учащих. Видал в табелях, изданных Шпенцером, что для этих представлений указаны три срока: к 1 января, 1 октября и 1 мая. Не представлял я только учительницу К-ну, с назначением которой вышла из-за самого же окружного начальства большая путаница, вызвавшая подачу прошения К-ной о переводе, каковой вскоре и состоялся. И вот, когда ее новый начальник представил ее, из округа прилетела грозная бумага с запросом, почему она не представлена своевременно. Ввиду ссылки этой бумаги на циркуляр 1912 г. стали искать его в архиве женской гимназии, едва там нашли и увидали, что он требует представления не позднее как через семь дней после назначения, угрожая виновным в промедлении административными карами.
Экзамены на звание народного учителя
12 мая
В мужской гимназии кроме своих обычных занятий с учениками приходилось немало возиться с держащими на специальные звания, и больше всего — на звание народного учителя. Эти экзамены, оплачиваемые довольно скудно (по три рубля с человека, тогда как с экстернов берется по десять рублей, хотя те держат вместе с учениками), отнимают у учителей мужской гимназии много времени: тут и несколько письменных экзаменов (русский, арифметика, история, география) и еще больше устных, а потом — конспекты по русскому языку и арифметике и пробные уроки, причем и устные экзамены, и пробные уроки должны вестись в присутствии всего педагогического совета. Помимо того, что эти экзамены на учительское звание являются для педагогического персонала большой обузой, они и с чисто деловой точки зрения являются каким-то недоразумением. В самом деде, как могут проверить подготовленность к делу преподавания в начальной школе учителя мужской гимназии, которые в этом деле обыкновенно сами ничего не смыслят ни теоретически, ни практически? Ведь никто же из них вовсе не обязан знать ни методик начального обучения, ни практической постановки школьного дела! И вот на этой почве возникает целый ряд курьезов. Так как в гимназии до меня не было ни одного учителя, знакомого с делом начального обучения, то экзаменов по методикам русского языка и арифметике совсем не производилось, хотя они и полагаются. Но зато директор ввел ни с того ни с сего экзамен по методике чистописания. И вот кандидаты на учительское звание детально экзаменовались учителем рисования по методике чистописания, когда же я спрашивал их, знакомы ли с методиками русского языка и арифметики, то оказывалось, что это для них terra incognita. Конспекты на данный им материал они кое-как, часто с чужой помощью писали, потом вызубривали их, говорили начало урока, а так как слушали их такие же профаны, как и они сами, то все благополучно сходило с рук, и они получали свидетельство, делались учителями, но как они там преподавали — бог весть. Ведь у многих из них не было не только знакомства с методиками, но и практических наблюдений за школьными занятиями. Недаром инспектор народных училищ говорил как-то директору гимназии, что он наши свидетельства ни в грош не ставит. Мне, как лицу, уже восемь лет преподающему методики в женской гимназии и руководящему там пробными уроками, эти ненормальности сразу бросились в глаза, и я заявил об этом однажды на педагогическом совете, чем предусматривающие, видимо, не очень были довольны. Решили, однако, применять правило об экзаменах по методикам к делу, но только с будущего года. Я, однако, и ныне стал настаивать, чтобы кандидаты в учителя читали кой-какие методики, хотя официально экзамена по ним и не проводил. Но экзаменующиеся, обнадеженные прежними порядками, не считали нужным заранее готовиться по методикам (кроме методики чистописания), и по большей части мне самому приходилось уже по окончании теоретических экзаменов говорить им, какие методики следует почитать. Ненормально также, что для этих кандидатов на учительское звание не требуется никакого практического стажа в виде посещения школы и некоторой практики там. Я опять, вопреки заведенным в гимназии порядкам, стал осведомляться у них на этот счет и рекомендовал посещать ту или иную школу (интересно, что этого не требуют и министерские правила). Но «шилом моря не вычерпать» — и посещение школы в течение нескольких дней, притом часто под конец учебного года, когда нового уже ничего не проходится, ничего почти не даст и тем, кто слушается моих советов, тем более что наиболее важный для практиканток период — звуковые упражнения и обучение грамоте — обыкновенно является ко времени экзаменов периодом давно прошедшим, а одних методик для ознакомления с этим безусловно недостаточно. Жертвой этой ненормальной постановки экзаменов в мужской гимназии сделался, между прочим, один юноша из крестьянской раскольничьей семьи, державший экзамен перед Пасхой, С большим трудом одолев необходимые науки, он сдал удовлетворительно все теоретические экзамены, но оказалось, что о методиках он никакого понятия не имеет, в школе никогда не бывал, да и сам и школе не учился. Поэтому конспект по русскому языку (на обучение грамоте) он написал скверно и устно обнаружил в области начального обучения полное невежество. Пришлось ему, хотя и с сожалением, поставить два за урок, и свидетельства он не получил. Мне это, конечно, очень тяжело (парень даже заплакал, когда узнал, что провалился). Но что же было делать? Нельзя же давать право на преподавание лицу, совершенно неподготовленному! Ведь учиться ему пришлось бы на живых людях.
Занятия с учениками в мужской гимназии благополучно закончились еще 14 апреля. Неудовлетворительных годовых баллов у меня вышло вовсе не так много (даже в многолюдном III классе двоек семь за письменный русский, а за устный еще меньше). В IV классе тоже вышло двоек пять за письменный, а в V только три или четыре. Но и эти двойки, за небольшими исключениями, приводят только к осенним переэкзаменовкам, которые при нынешних четырех месячных каникулах вполне можно сделать удовлетворительно. При выставлении годовых баллов мне пришлось познакомиться еще с одной несимпатичной чертой нашего директора Ш-ко — с его лицеприятием по отношению к некоторым ученикам.
Обычная практика здешних средне-учебных заведений была такова, что с одной и двумя годовыми двойками давали осеннюю переэкзаменовку. а с тремя — оставляли на повторный курс. И вот как раз у сына почетного попечителя мужской гимназии П-ва дело стало склоняться к трем двойкам, так как ученик — детина крайне тупой и неразвитый. Посидеть лишний год для него было полезнее, чем для кого-либо другого, но ведь его отец — почетный попечитель! И этого было достаточно, чтобы наш директор стал всеми правдами и неправдами вытягивать его. Так как, к моему несчастью, две двойки (устная и письменная) выходили как раз по моему предмету, то директор и налег на меня — нельзя ли ему хотя бы по устному поставить тройку. Я спрашивал в эту четверть П-ва и так уже два раза (громадное большинство других учеников только по разу), но он за первый ответ получил два, а за второй, когда я его хотел исправить, даже единицу. Директор тем не менее настаивал, чтобы я его еще спросил. Я исполнил его просьбу и, отнимая у класса время, спросил его в третий раз. Чтобы балл был чужд элемента случайности, я спрашивал его довольно долго и из разных отделов курса, но П-в во всем — как в истории литературы, так и в теории словесности — проявил полное невежество, были кой-какие случайные отрывки знаний, но ничего основательного, продуманного, существенного. Пришлось поставить ему опять два, а так как за вторую четверть было тоже два, а за первую три с минусом, то и за год П-в получил тоже двойку, как ни неприятно это было директору, который не стесняясь говорил учителям, что неудобно оставлять на второй год сына почетного попечителя. И лазейка все-таки нашлась. На заседании педагогического совета, когда обсуждались вопросы о переводе и оставлении, директор доложил прошение почетного попечителя, чтобы его сыну ввиду краткости учебного года и продолжительности каникул, разрешили держать осенью три переэкзаменовки. Директор при этом сделал справку, что в правилах нет категорического запрещения относительно допущения к переэкзаменовкам имеющих три двойки, и вопрос был решен в благоприятном для П-ва смысле. Может быть, это и законно, и справедливо, но для всех было ясно, что дело тут не в законности и справедливости, а только в том, что П-в сын почетного попечителя, простой же смертный никогда не мог бы на это рассчитывать. Да и на этом же совете без колебаний, хотя и вопреки моим возражениям, оставили на второй год некоего Р., у которого по русскому языку было колебание между двойкой и тройкой; и я поставил два только тогда, когда увидал, что это будет только вторая двойка, что не влечет за собой оставление. Но на совете директор и К0 убедили латиниста переделать годовую тройку на двойку, и когда таким образом, хотя и с натяжками, вышло три годовых двойки, участь Р. была решена. Вообще, как я замечаю, про директора далеко нельзя сказать, что он «не зрит на лица человеков»: общественное положение просителя, личное отношение к нему, да и женская красота способны оказывать на него значительное давление. Взять хотя бы вопрос о приемных экзаменах. Из 70 державших были написавшие диктант совершенно безграмотно и получившие колы. Но когда в числе этих мальчиков оказался сын известного здесь адвоката, жена которого энергично насела на директора, тот поддался ее воздействию, настоял, чтобы все были допущены к устному экзамену (хотя, по-моему, допускать к устному с колами — значит принимать заведомо безграмотных), а адвокатскому сыну Н-ву натянул, сверх того, до двойки, хотя обычно он баллы понижает. В результате, как и следовало ожидать, Н-в прикрыл письменную двойку устным баллом и зачислен кандидатом в первый класс. Очень хотелось Ш-ко вытянуть также некоего купеческого сынка Ф-ва, за которого хлопотала его репетиторша, хорошенькая К. П-ва, но здесь, к великому огорчению директора, дело не выгорело. Естественно, что эта тенденция директора прекрасно учтена и в женской гимназии, где такие особы, как, например, классная дама С-я, уже давно славятся своим нескрываемым заискиванием перед дочками влиятельных и богатых лиц. Ныне держала там в I классе внучка председателя попечительского совета В-на, от которого С-я не раз получала «великие и богатые милости». Как же тут «не удружить родному человеку!» Девочка написала диктант, как говорят, очень плохо, но учительница первого класса Ч-ва, человек довольно слабый перед начальством, поставила ей при соответствующем вынуждении 3. Другая учительница не захотела кривить совестью и поставила двойку. Тогда С-я, сразу же подскочившая к ней узнавать балл В-й, узнав, что та поставила двойку, выразила свое неудовольствие и потом бросила ей вслед: «Ну, тогда следующий ассистент окажет давление!» И следующий ассистент — г-жа начальница, конечно, оправдала ее надежды.
Последний совет в гимназии ознаменовался скандалом, эффектно завершившим те распри, которые царили в этом году в руководимой Ш-ко женской гимназии. Когда совет подходил уже к кощу (на нем, между прочим, был председатель недавно утвержденного родительского комитета), учительница французского языка К-я сделала директору запрос, почему она уволена от должности и почему бумага об увольнении, пришедшая сюда 13 апреля, сообщена ей только 21-го. Для всех нас это заявление, как и самый факт увольнения К-и, был полной неожиданностью. Директор стал говорить, что К-я уволена как неполноправная в отношении ценза учительница: по та не согласилась с ним и заявила, что увольнение ее — результат его доносов, что он доносчик. Ш-ко стал оправдываться и давать честное слово, что доносов он не писал. Потом, несколько оправившись, он заявил, что это педагогического совета не касается, пригрозил закрытием заседания и перевел речь на другие вопросы. Но какова бы ни была официальная мотивировка увольнения, для всякого ясно, что дело тут не в цензе, т<ак> к<ак> с этим же цензом К-я служила уже три года. Все дело в том, что именно К-я, после объяснения с Ш-ко в женской гимназии насчет классного наставничества, не стала подавать ему руки и не подавала до конца года. Очень возможно, что Ш-ко, как он уверял, и не писал на нее доносов. И зачем было писать, когда он достаточно побеседовал об этом с окружным инспектором, бывшим здесь на ревизии? Результаты этого теперь и сказались. Сказалось также и «благородство» Ш-ко. В самом деле, что может быть благороднее: использовать труд педагога в течение всего учебного года и даже в течение недели после его увольнения, о котором предусмотрительно молчали до окончания экзаменов, а потом вдруг преподнести такой сюрприз и лишить, таким образом, даже вполне заслуженного летнего жалования!
Не поминайте лихом!
13 мая
В женской гимназии факт увольнения К-й прошел почти незаметно, т<ак> к<ак> директор заявил, чтобы бывшие на совете в мужской гимназии не оглашали происшедшего на совете как служебную тайну. Отношения же между учительской и класснодамской партией за последнее время как-то сгладились, и наступило то, что называется «худым миром». Не берусь судить, лучше ли он «доброй ссоры», как гласит поговорка, в моральном отношении, но в отношении практическом при нем, конечно, спокойнее, и нервы, не раздражаясь разными перепалками, дают по крайней мере возможность работать.
С ученицами же VIII класса отношения были совсем хорошие. За последнее время уроков на них, правда, находило совсем не деловое настроение. Весенняя погода и некоторое утомление оказывали свое влияние, и во время спрашивания часто было их трудно сдержать. Но я относился к этому более снисходительно, чем в течение года, и уроки всегда шли мирно. Наконец, подошли и последние дни занятий. Я проверил последнюю годовую работу восьмиклассниц — характеристику девочек, и еще раз убедился, что такая работа, близкая к жизни и отвечающая исконным интересам девушек как будущих матерей и воспитательниц, исполняется ими всего лучше. Почти все без исключения характеристики со стороны содержания были хороши, а некоторые даже прямо превосходны. Раздавая эти работы восьмиклассницам, я хотел некоторые из них прочесть всему классу, но первая же, у которой я просил разрешения на прочтение, запротестовала, заупрямилась, хотя была всегда раньше послушной и относилась ко мне вполне хорошо. Я был неприятно поражен этим, не стал даже и просить других и вместо чтения начал спрашивать урок по методике. Но это прошло без всяких дурных последствий, т<ак> к<ак> ученицы были, видимо, больше недовольны заупрямившейся С-вой, чем мной. Впрочем, и она после нескольких дней неловкости стала как будто снова относиться ко мне по-прежнему. Наступил, наконец, и последний учебный день — 8 апреля. Я пришел на урок в VIII класс — последний свой урок с этими ученицами, а может быть, и в женской гимназии вообще. Сначала я опять попросил разрешения прочесть характеристику С-вой. На этот раз она согласилась, и я прочел эту живую, интересную работу. За ней прочел еще одну характеристику, написанную нашей поэтессой, богато одаренной, искренней и живой И. С. Оставалось еще с полчаса, и я стал говорить. Напомнил о том, что и я, и они восемь лот назад вступили сюда в стены гимназии, и вот теперь, через какой-нибудь месяц, они расстанутся не только со мной, но и друг с другом, чтобы со многими никогда уже больше не встретиться. До сих пор, — говорил я, — у вас было много общего, гимназическая жизнь вас сближала; но теперь, по окончании гимназии, ваши жизненные пути разойдутся. Одни окажутся в аудиториях курсов, другие — в бедных сельских школах, третьи будут, может быть, выезжать на балы. И многим покажется тогда, что гимназия вам ничего не дала, что все, что вы учили здесь, неприменимо к жизни. Но такое впечатление только кажущееся. Правда, многое из того, что учили, вы позабудете потом, многое вам никогда не понадобится; но жизнь поможет вам сохранить наиболее существенное из того, что вы изучали, — сохранится, наконец, если не знание, то способность к умственной работе, известный умственный уровень, который отличает всякого интеллигентного человека. Стоит только вам сопоставить себя с девушками ваших же лет, но не прошедших систему женской школы, и вы увидите, что между вами большая разница, что гимназия, следовательно, не бесследно прошла для вас. И этот-то уровень интеллигентности, эти умственные запросы и благие стремления, которые внушали вам здесь, вы и должны сохранить в своей последующей жизни.
Если будете вы на курсах, помните, что они доступны для очень немногих и что годы учения там должны быть не годами развлечения, а годами труда, подготовки к жизни. Но и те, кто не попадет на курсы, пусть не сетуют на свою судьбу, потому что в какой-нибудь сельской школе интеллигентный работник еще более нужен, чем в столицах, и какая-нибудь учительница, прошедшая только гимназию, часто бывает гораздо интеллигентнее и полезнее для окружающей среды, чем ее более образованная сестра. Вспомнил я также, что, вступая сюда восемь лет назад, я застал здесь еще отголоски бывшего перед тем общественного движения, когда и среди учащихся были живы общественные интересы, когда ученицы VIII класса устраивали кружки, издавали журнал и т.п. Потом наступили годы реакции, когда общественные интересы заглохли, когда каждый замкнулся в свою личную жизнь и из-за неудач в этой личной жизни готов был пустить себе пулю в лоб. Но эти годы, видимо, прошли. Война снова всколыхнула всю Россию. Все почувствовали себя детьми своей родины, частичками великого целого. Общественный, гражданский интерес снова пробудился, и они, гимназистки, уже на школьной скамье немало работали, чтобы помочь родине в ее борьбе, чтобы облегчать долю страдающих братьев. Пусть же эти впечатления будут живы и впредь, пусть они помнят, что родина нуждается в нашей помощи не только в военное, но и в мирное время; пусть не забывают они, что не только в таких грандиозных событиях, как битва, можно проявить себя гражданином, но и в мирной работе в какой-нибудь школе. В заключение же, вспоминая о тех добрых отношениях, которые я встречал как со стороны этого последнего выпуска, так и со стороны предыдущих, я в лице присутствовавших от души поблагодарил за доброе отношение ко мне своих бывших учениц. «Не поминайте же лихом!» — закончил я и, низко поклонившись, вышел из класса.
Вместо послесловия
В 1937 г. Шубнин Николай Феоктистович был репрессирован органами НКВД. На все наши запросы о его судьбе следовал стандартный ответ: «Десять лет без права переписки». В 1956 г. я получил справку президиума Алтайского краевого суда, где было сказано: «Постановление тройки УНКВД Алтайского края от 25 сентября 1937 г. в отношении Шубкина Николая Феоктистовича отменено и дело прекращено». А в мае 1955 г. мне выдали свидетельство о смерти 1-БЮ № 001605. В нем указывалось, что Шубкин Н. Ф. умер 19 марта 1944 г., а место смерти в свидетельстве просто прочеркнуто — вроде бы нет такого места.
Специально следует сказать о дате смерти отца. В бесконечных очередях к разным окошечкам НКВД, где якобы давались справки о репрессированных, стоявшие там шепотом порой говорили, что «десять лет без права переписки» означало расстрел. Можно ли тогда верить официальному свидетельству о смерти, где утверждается, что Шубкин Н. Ф. умер в 1944 г.?
Видные советские демографы рассказывали мне о попытках, предпринимавшихся нашими доморощенными фальсификаторами истории, сталинистами, перебросить даты смерти расстрелянных на другие годы[9], в частности на военные годы, чтобы обелить Сталина и себя, чтобы на 1937–1938 гг. не приходилось слишком много погибших. А там, дескать, война все спишет.
Об этом мне удалось опубликовать заметку в «Огоньке» № 44 за 1988 г, высказать открыто то, что мучило меня долгие годы.
Однако проходил месяц за месяцем, и никакой официальной реакции. Только друзья и сослуживцы выражали соболезнования, да откликнулись мои довоенные школьные товарищи, ученики отца и их дети.
Прошло больше года. И вдруг рано утром телефонный звонок.
— Это Шубкин? — донесся откуда-то издалека незнакомый голос.
— Слушаю.
— Владимир Николаевич?
— Да, да.
— Это Ваша заметка «Восстановить справедливость» опубликована в «Огоньке»?
— Да. Но с кем я говорю? Может быть, Вы представитесь?
— Из Барнаула. Прокурор Алтайского края Гущин Иван Павлович.
«В Барнауле уже разгар рабочего дня» — сообразил я.
— Слушаю Вас.
— Я прочел заметку и затребовал дело Вашего отца. По долгу службы я имею доступ к соответствующим архивам. Вы писали, что Шубкин Н. Ф. был арестован в 1937 г. и осужден на 10 лет без права переписки, что в свидетельстве о смерти сказано, что он умер 19 марта 1944 г…
— Что Вы установили?
— Все это не так…
А вскоре я получил от И. П. Гущина «Алтайскую правду», где было опубликовано его «Открытое письмо профессору В. Н. Шубкину», с большими выдержками из протоколов допросов, проходивших в барнаульском отделе НКВД в 1937 г.
Спасибо Ивану Павловичу! Ведь мог бы и не прочесть моей заметки. И не затребовать дело отца. И не позвонить мне. И не написать статью. Все это он вполне мог бы и не делать, и никто из начальства ему ни одного осуждающего слова не сказал бы. А он еще вдобавок, когда я приехал в Барнаул, позвонил в управление КГБ по Алтайскому краю, чтобы дали мне возможность ознакомиться с делом — 22498.
* * *
Странно: как все-таки жило общество, когда жить нельзя? Тяжкий пресс каждодневных забот? Жизнестойкость? Умение забыться, оттеснять ужас бытия? Фатализм? — не берусь судить…
Продолжаю читать дело. Вот постановление, вынесенное помощником оперуполномоченного 3-го Отдела ЦНКВД по Запсибкраю младшим лейтенантом Синельниковым о привлечении гражданина Шубкина Н. Ф. в качестве обвиняемого по ст. 58-2-11 УК. Мера пресечения — содержание под стражей в барнаульской тюрьме. В июле 1937 г., когда пришли арестовывать отца, его не было в Барнауле. В связи с этим к делу приобщена справка, что Шубкин Н. Ф. выехал (с женой, сыном и дочерью) 2 июня 1937 г. на Алтай временно (на лето) и должен побывать в Ойрот-Туре, Чемале и других местах.
Хорошо помню лето 1937 г. Весь учебный год отец и мать брали дополнительные уроки, прирабатывали, чтобы скопить денег на поездку всей семьей на Алтай. И все сбылось, что намечали; пароходом добрались до Бийска, удачно проголосовали на Чуйском тракте и добрались до Чемала, где сняли у крестьянина пол-избы. Повезло и с погодой: по ночам гремели грозы, но днем, как по заказу, сияло солнце.
В тот день, в конце июля, я, переполненный впечатлениями, прибежал к ужину домой и уже начал было рассказывать о том, как на Катуни перевернуло лодку, но мама остановила меня: «Подожди. Послушай. Сегодня пришло письмо от тети Нади из Барнаула. Она пишет, у нас дома был обыск и сотрудники НКВД предъявили ордер на арест папы…»
Едва я лег спать, кто-то постучал в окно, и я узнал голос нашего семейного врача, старого приятеля отца, который тоже отдыхал здесь. Кухню, куда отец привел гостя от комнаты, где мы спали, отделяла дощатая перегородка, и мне были хорошо слышны их голоса.
— Вчера, — сказал отец, — я получил от Наденьки письмо. Вот читай.
Выборов долго чиркал спичкой, прикуривая:
— Значит, и ордер на арест она видела?
— Да.
— Что же ты думаешь предпринимать? — помедлив, спросил врач.
— Не знаю пока…
— Ну, так знай. У меня дома обыск был накануне. И тоже с ордером. Не сказал я тебе вчера, не хотел отпуск омрачать.
— Значит, одна судьба.
— Дальняя дорога в казенный дом.
— Неужели в центре не видят?
— Все видят. Вчера я в местной газете прочитал, секретарь обкома говорит: «Тот не коммунист, кто не разоблачил ни одного врага народа».
— Какой же в этом смысл? Уничтожить всю мыслящую Россию?
— Ради власти, конечно. Она всегда в опасности. Желающих много, а запас власти ограничен. Вот и кажется, что все на нее как на орлеанскую девственницу посягают. И не только врага, сколько соратники, соотечественники.
— Но ведь корни рубят, на которых страна стоит.
— Эх, дружище. Когда мальчики кровавые в глазах — не до того.
— Так что же все-таки делать?
— Вчера я звонил своему начальнику в больницу. Он, конечно, обо мне ничего не знает, сам дрожит как осиновый лист. Я попросил его дать мне в связи с плохим самочувствием два месяца за свой счет. Мне там показываться нельзя. А разыскивать меня при таких масштабах рубки вряд ли будут.
— А я думаю, завтра ехать домой.
— Ты с ума сошел? У тебя же еще целый месяц отпуска…
— Если я честный человек, я должен немедленно выяснить, в чем дело…
— Ты сумасшедший! С кем выяснить?
— Я не могу и не хочу ловчить и прятаться. И так последние годы живу против совести, отрекаюсь от себя шаг за шагом. Преподавал по «бригадному методу», хотя большей абракадабры педагогика не знала со времен средневековья. Цитирую на уроках жалкие мысли этих недоучившихся семинаристов. Должен поносить Достоевского, объяснять, что Пушкин не народный поэт, а выразитель взглядов дворянства, участвовать в комедии выборов… У каждого свой предел. Больше не могу. Они хотят, чтобы на потеху им я теперь как заяц метался по стране, спасая свою шкуру. Я не виноват перед своей страной и перед своим народом.
— Но нельзя же быть самоубийцей! Подумай хоть о семье…
— Все мои помыслы о них…
— Тебя просто уничтожат.
— Пусть. Свое я прожил. Об одном жалею…
Самый конец я не расслышал.
Отец уехал на следующий день. Я думаю, у него не было иллюзий. Его последнее письмо нам из Барнаула датировано 31 июля 1937 г. «Сегодня… отправляюсь в больницу на операцию, — иносказательно писал он, — так что скоро писем от меня не ждите. С операцией придется, наверное, подождать, так как больных немало». Тетя Надя потом рассказывала: «Я только уговорила его помыться в бане, захватить белье. Я проводила его до Серого дома. Его долго не впускали, видимо, наводили справки. Потом вышел кто-то в форме, и дверь захлопнулась».
Трудно сейчас понять мотивы поступков людей в те страшные годы. Нет, я не верю, что никто не знал, что происходит с народом: имеющий уши — слышал, имеющий глаза — видел, имеющий сердце — сострадал. И не надо изображать наших соотечественников слепыми кутятами, которые только после того, как Хрущев сунул их мордой в море крови, начали догадываться что к чему.
Но, как и миллионы других людей — тех, кто выращивал хлеб, строил дома, растил детей, сеял разумное, доброе, вечное — отец не мог представить всей чудовищности этой системы, ее сатанинскую тягу к насилию и убийству. Не чувствуя за собой никакой вины, что их гибель — это гибель страны — как могли такие люди бросать дом, семью и уходить в бега?
С 1907 г. Н. Ф. Шубкин непрерывно работает словесником в гимназиях, школах, техникумах Барнаула. Это был тяжкий труд…
«Предыдущая работа, — записывает в дневнике 12 декабря 1912 г. Н. Ф. Шубкин, — сказывается и теперь. И все время чувствую недомогание. Придется, видно, похворать в свободное время, а потом — для восстановления сил — опять приняться за старую работу. А она способна скоро исчерпать мои силы. Да и не только мои. На днях я познакомился с новым словесником из реального училища. Он уже 10 лет на службе. И за это время каторжная работа над тетрадями успела превратить его почти в инвалида несмотря на то, что он (по его собственному признанию) смолоду отличался цветущими здоровьем и был благодаря гимнастике прекрасно развит физически».
Ночами, после подготовки к урокам и проверки беспечных диктантов и сочинений, он пытался осмыслить свою жизнь, вел дневники. В восьмой книжке «Нового мира» за 1984 г. были опубликованы отрывки из этого дневника с предисловием Сергея Залыгина. Он живо рассказал об учительской, барнаульской среде того времени, о моем отце и матери Шубкиной В. А., у которой Сергей Павлович учился в школе.
В нашем семейном архиве хранятся и диссертация кандидата богословия И. Ф. Шубкина «Возрождение идеализма в современной русской философии», которая, как мне представляется, весьма актуальна и ныне, и его исследования трудов Ф. М. Достоевского, и другие работы.
До сих пор не могу решить, правильно ли поступил отец. Но если раньше считал это донкихотством, то теперь я все больше понимаю его, он все ближе и дороже мне, он тогда надеялся спасти близких, считал, что должен нести свой крест во имя нас.
Тогда, после ареста отца, у матери начались сердечные приступы. Задыхалась от рыданий и становилось плохо с сердцем. Так каждый день. И безнадежные хождения в очереди за справками в УНКВД, в Домзак, как по новому называли теперь барнаульскую тюрьму. Грубый лай из узеньких окошечек: «Десять лет без права переписки», «Пятьдесят восемь пункт десять», «Передачи запрещены», «Следующий!»
Отойдя подальше от этих заведений, знакомые шепотом делились слухами, догадками. «Передач не принимают — значит выслали», «Надо запрашивать Магадан или бухту Нагаева». «Какая там бухта Нагаева? Всех их тут и расстреляли». «Но ведь мне официально сказали: десять лет только без права переписки». «Говорю я Вам: нет такой статьи — без права переписки». «Мало ли что нет. Это, может быть, секретная статья»…
Мать пришла из школы. В глазах отчаяние: «Меня уволили»… «То есть как? За что? — возмущенно спрашивал я, все еще не понимая, что с нами произошло. «За связь с врагом народа, как сказала мне завуч». «Что они с ума сошли, эти наробразовцы? — утешал я мать. — Увольнять за связь с мужем? Да и не получили мы никакого документа об отце».
Перед Рождеством кто-то из нашего 7-го класса Первой средней школы написал в перемену мелом на доске «X. В.» — Христос Воскрссе. Меня на занятиях не было. Разразился шумный скандал. Долго, истово искали виновного. Нашли. Было объявлено, что подлинным организатором этой антисоветской демонстрации был сын врага народа Владимир Шубкин… Меня тут же исключили из школы без права поступления.
Мир вокруг сузился, многие бывшие знакомые, сослуживцы отца перестали заходить к нам, не узнавали на улице. После увольнения мамы жить стало не на что. Мы почти голодали. Продавали вещи, книги. Очень поддерживала нас сестра отца — учительница-словесница Н. Ф. Шубкина. Ее пока не тронули, и она продолжала получать какое-то жалованье.
Многим приходилось хуже. Через три дома от нас на Никитинской улице стоял чистенький деревянный дом зубного врача Стройкова. Его сын Толя — мы его звали Дик — был моим школьным товарищем. Внезапно были арестованы его отец и мать. Толю забрали в детприемник. Я ходил к нему, и мы разговаривали через щели в заборе. А вскоре весь детприемник куда-то исчез. В дом Стройковых на Никитинской въехали сотрудники НКВД. Да и в первой средней школе, где много лет преподавал отец, арестовывали одного учителя за другим: прекрасный химик Пешковский, любимец старшеклассников физик Лебедев.
«10 лет без права переписки». Нет, я, конечно же, тогда не знал, но ото означало расстрел. И мать, и тетка, и сестра — все мы надеялись, что Н. Ф. Шубкин жив. Пройдет слух: этой ночью из Барнаула отправили эшелон заключенных. И все начинали гадать — куда? Опять: Магадан, Воркута, Камчатка. «Хоть бы теплые вещи разрешили передать» — сокрушалась мама. Кто-то рассказал о счастливце, которому удалось привязать записку к камню и перебросить через забор пересыльной тюрьмы. Записка будто бы дошла. И все начинали ждать писем и вестей от родных и близких. Когда же прошел слух, что расстреляли «тройку», которая хозяйничала до этого в городе, все семьи репрессированных воспрянули духом. «Теперь то уж, когда этих врагов разоблачили, наверняка начнется пересмотр всех наших дел». Но на смену одной «тройки» пришла другая, и все двигалось по тем же накатанным рельсам. Только для хозяев жизни — энкаведешников отстраивались новые дома, стадионы, спортивные залы, водные стадионы «Динамо», а в двух кварталах от нашего дома открылся клуб НКВД…
А потом докатывались другие слухи. Что тюрьмы так забиты, что заключенные задыхаются до смерти. Что страшно пытают и калечат во время допросов. Что на горе, которую омывает Обь, возле Домзака слышали ночью залпы. Значит, опять расстреливали. И таяли надежды, что отец когда-нибудь вернется к нам. Но мне не хотелось допустить возможность такого исхода. И многие верили казенным ответам из окошечка НКВД, предполагали, что есть особо секретные лагеря, где содержат людей без права переписки. Но если это так — неужели никто из зеков не мог изловчиться и хоть два слова передать на волю? — думал я. И снова спрашивали мы своих знакомых — нет ли вестей от наших. Но, видно, была очень строга охрана в спецлагерях без права переписки: письма отца не доходили.
А в 1955 г. выдали свидетельство с гербом СССР и печатью. Выходит, не врали, что отец был осужден на 10 лет? — думал я. — Почти семь лет провел он в этих секретных лагерях без права переписки? Был бы покрепче, отбил бы весь срок и вернулся, но вот склероз кровеносных сосудов…
19 марта 1944 г. Такие даты навсегда остаются в памяти близких. А тут еще тайна — место смерти. Где он умирал? Наверное, где-нибудь на Колыме? Где же он похоронен? Иллюзий на этот счет не было. Уже наслушались о штабелях замерзших трупов с деревянными бирками на голых ногах.
Я не был проницательнее других. Хотя я и считал Сталина палачом задолго до того, как об этом объявил Н. С. Хрущев. И не был я «сыном XX съезда партии»: у меня был настоящий отец. Но такова уж природа человеческая: трудно находиться в противоборстве с обществом, в котором ты живешь.
Получив свидетельство о смерти Н. Ф. Шубкина, я и верил и не верил тому, что в нем говорилось. Сначала больше верил. Потом, когда процесс реабилитации стал набирать обороты, я встречался с людьми, отсидевшими 10, 15, 20, 25 лет. Но никто из них не был в лагерях «без права переписки». Никто не встречал людей с таким приговором. Но если энкаведешники лгали в этом, почему им не солгать в другом? — рассуждал я и сомневался все больше.
Листаю дело № 22498 дальше.
Выписка из протокола № 33/д.
Заседание тройки управления НКВД Запсибкрая от 25 сентября 1937 г.
Дело № 22498 Барнаульского опер./сект. НКВД
Слушали
Шубнин Николаи Феоктистович 1880 г. рожд. уроженец г. Барнаула Запсибкрая
Обвиняется в к.-р. кадетско-монархической эсеровской повстанческой деятельности
Постановили
Шубкина Николая Феоктистовича
Расстрелять.
Лично принадлежащее ему имущество конфисковать.
Выписка верна: Инспектор 8 отд. УКБ УНКВД по ЗСК
Часто спрашивали мы в семье друг друга: почему не забрали наш дом? Мне это и сейчас непонятно: ведь отец был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Почему же не вышвырнули нас на улицу? Пообещали отцу за дачу нужных им показаний не трогать семью? Но разве мог он верить обещаниям этих нелюдей? Или наш дом не подошел для них — нашли лучше? Или просто в кровавом тумане забыли, что сами написали в решении «тройки»? Этого я, видимо, уже никогда не узнаю.
Рядом с решением тройки пожелтевшая бумажка.
Выписка из акта
Постановление тройки УНКВД Запсибкрая от 25/IX месяца 1937 г. о расстреле Шубкина Николая Феоктистовича приведено в исполнение 2/Х мес. 1937 г. в «» час.
Верно.
(Сотрудник оперштаба Берл… (дальше не разборчиво)
Вот и ответ на вопрос о свидетельстве о смерти. Все документы хранились. Все знали, но лгали десятилетиями. Обвинялся Н. Ф. Шубкин не по статье 58.10 УК РСФСР — контрреволюционная пропаганда, а по статье 58-2-11 — «к.-р. кадетско-монархическая эсеровская деятельность». И причина смерти не «склероз кровеносных сосудов», как сказано в официально выданной нам бумаге с гербом СССР. И не прожил отец до 19 марта 1944 г., не своей смертью умер, а был расстрелян 2 октября 1937 г. И место смерти известно: Н. Ф. Шубкин был убит в том же городе, где он родился, где родился и жил его отец землемер-самоучка Феоктист Шубкин, освобожденный от крепостной зависимости по реформе 1861 г., где жил его дед, крепостной горнорабочий на демидовских рудниках Иван Шубкин.
* * *
Нет такого дня в календаре, когда в тысячах семей не собирались бы близкие люди, чтобы помянуть погибших родных. Ставят фотокарточки в траурных рамках, зажигают свечи, достают немногочисленные оставшиеся семейные реликвии, письма, свидетельства о смерти. Нет, я сейчас говорю не о 27 миллионах, погибших в войну. Вечная им память! Как уже понимает читатель, речь идет о репрессированных, «врагах народа» — расстрелянных, замученных в подвалах центральных и местных лубянок, погибших от голода и холода в тайге, в эшелонах, в Архипелаге ГУЛАГе. Общее число их превосходит чудовищные цифры наших военных потерь, во всяком случае по десятки миллионов душ.
Но не в те дни собираются миллионы родных репрессированных. Напрасно всматриваются они в свидетельство о смерти — там все ложь. Государство, партия, КГБ сначала убили их родных, а потом еще обманули детей, матерей, родных и близких убитых. Обманули просто так «по государственным соображениям». И этот массовый обман продолжается по сей день. На их могилах не стоят монументы, не горит вечный огонь. Да, вроде бы нет и самих могил. В графе место смерти в официальных документах прочерк, дескать, нет такого места…
Еще в «Архипелаге ГУЛАГ» приведены данные о том, что в ФРГ к 1966 г. осуждено восемьдесят шесть тысяч преступных нацистов, а у нас по опубликованным данным осудили около тридцати человек.
«Загадка, — пишет А. И. Солженицын, — которую не нам, современникам, разгадать: для чего Германии дано наказать своих злодеев, а России — не дано? Что же за гибельный будет путь у нас, если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле? Чему же сможет Россия научить мир?.. Страна, которая восемьдесят шесть тысяч раз с помоста судьи осудила порок (и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодежи) — год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него…
Разумеется, те, кто крутил ручку мясорубки, ну хотя бы в тридцать седьмом году, уже немолоды, им от пятидесяти до восьмидесяти лет, всю лучшую пору свою они прожили безбедно, сытно, в комфорте — и всякое равное возмездие опоздало, уже не может совершиться над ними… Но перед страной нашей и перед нашими детьми мы обязаны всех разыскать и всех судить! Судить уже не столько их, сколько их преступления. Добиться, чтобы каждый из них хотя бы сказал громко:
— Да, я был палач и убийца…
Мы должны осудить публично самую идею расправы одних людей над другими? Молчать о пороке, вгоняя его в туловище, чтобы только не выпер наружу, — мы сеем его и он еще тысячекратно взойдет в будущем. Не наказывая, даже не порицая злодеев, мы не просто оберегаем их ничтожную старость — мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости. Оттого-то они «равнодушные» и растут, а не из-за «слабости воспитательной работы». Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказуется, но всегда приносит благополучие.
Неуютно же и страшно будет в такой стране жить!»[11]
Наверное, и об этом задумается читатель этой книги, ибо в ней не только социологическое описание будней дореволюционной русской гимназии, но и трагическая судьба самого автора, столь характерная ми многих поколений отечественной интеллигенции.
В. Шубкин
Предисловие к публикации дневника Н. Ф. Шубкина «Будни словесника» (Новый мир. 1984. № 8)
Почему-то принято считать, будто мемуары и дневники представляют интерес лишь в том случае, если они принадлежат перу людей необычных, даже исключительных и повествуют нам о событиях исторических.
Но исключительные личности в исключительных обстоятельствах — это ведь далеко не вся история, и очень жаль, что мы не ценим, не ищем, а найдя, не публикуем свидетельства людей рядовых.
Ведь как было бы интересно прочесть нынче, скажем, записки крестьянина времен отмены крепостного права в России, или рабочего какой-то мануфактуры конца прошлого века, либо рядового чиновника губернской управы перед началом первой мировой войны — вот где заговорила бы даже и не история, а само время с его приметами, с его собственным стилем и мышлением.
Из таких свидетельств мы без посредников узнали бы многое о прошлом, а значит, и о самих себе нынешних, ведь познание современности, наверное, невозможно без последовательного сравнения ее с прошлым. Может быть даже, что без таких сравнений личность современника замкнется только на себе и на своем сегодняшнем существовании, станет гораздо менее значительной, менее интересной для других и для самой себя…
Так вот, несомненный интерес представляют, мне кажется, дневниковые записи учителя словесности барнаульской женской гимназии Николая Феоктистовича Шубкина, которые он вел в 1911–1915 годах.
Мы получим общее представление о том, чем было это учебное заведение — женская гимназия, кое-что узнаем о провинциальных нравах той поры и, конечно, о самом авторе — человеке, безусловно преданном своему делу и, как говорилось в свое время, безусловно порядочном. Даже и само слово «порядочность» тоже явится в том смысле, как его когда-то понимали.
Возможно, что я несколько пристрастен, рекомендуя эти записки читателю? — спрашиваю я самого себя. Но нет, пристрастие, если око и существует, все равно кажется мне вполне оправданным.
А дело в том, что я немного знал Шубкина.
Мне известно, что с приходом советской власти он был выбран заведующим Барнаульским городским отделом народного образования (тогда это была выборная должность), что затем он преподавал в 1-й городской совшколе. Жена Шубкина, Валентина Андреевна, была моей учительницей русского языка в 22-й совшколе, где я кончил семь классов (тогда говорили не классы, а группы), а затем поступил в сельскохозяйственный техникум.
Я никогда не думал об этом раньше, но теперь, когда я прочитал эти записки, я понял, что помню, кажется, не только Н. Ф. и В. А. Шубкиных, но и вообще ту учительскую среду, которая трудилась на ниве народного просвещения еще до революции, затем прошла и через революцию и через гражданскую войну, приняла советскую власть без колебаний и вот заканчивала свой путь где-то в 20–30-х годах.
Конечно, помню…
Был у нас географ Порфирий Алексеевич Казанцев, человек, увлеченный эсперанто, поэт, в прошлом еще и редактор одной из местных газет. Свои уроки он вел просто, легко, показывал нам сотни открыток с пейзажами, которые он получал от коллег-эсперантистов со всего света. У нас география была как бы в не в счет; на уроках — смех, шутки, «неудовлетворительно» наш Порфиша никогда и никому не ставил.
Развлечения, а не уроки и не предмет.
Но вот что потом выяснилось; что географию-то мы любим. Я, к примеру, после техникума долго выбирал, куда пойти учиться дальше — на гидромелиоративный факультет Омского сельхозинститута или на географический Томского университета. Выбрал Омск, но, окончив только семь классов, уже будучи студентом, я преподавал географию на вечернем рабфаке за девятый класс, причем вел уроки без особой к ним подготовки — оказывается, я неплохо знал предмет. Тут-то я и вспомнил Порфишу не раз и всегда добрым словом.
В техникою у нас вел ботанику Виктор Иванович Верещагин, в прошлом преподаватель реального училища. Верещагин был настоящим и крупным ученым, беззаветно преданным своей науке, он, кажется, и женился-то только около шестидесяти, а до этого ему было некогда: зимой — преподавание, летом — экспедиции.
Свой предмет он вел очень дельно, суховато, к ученикам неспособным относился с заметным презрением, весь его облик и манера поведения, занятия, которые он проводил почти что шепотом, — все это внушало к нему такую почтительность, чуть ли не благоговение, при которых получить у него «неуд» значило нанести самому себе душевную рану.
Помню я двух химиков — Ефима Ефимовича (Ехим Ехимович) Бекаревича и Валентина Петровича (Вальпет) Лебедева, математика Шастана, физика Лучшева (Шеебойный — у него немного подрагивала голова), который был, кажется, сыном того самого городского головы, о котором не без симпатии упоминает автор «Дневника», помню учительскую семью Петропавловских и нашу милую, но очень требовательную В. А. Шубкину. Да, эго все была интересная учительская среда, по большей части интеллигенты первого поколения, сами вышедшие из низов, правда, были и интеллигенты потомственные, различное происхождение их ничуть не разъединяло, а соединяло — общие взгляды на жизнь и призвание соединяли их; все это были бессребреники, люди, которые, избрав однажды подвижнический путь учительства, готовы были всегда и при любых условиях отдавать этому делу все свои силы.
Они учили еще в то время, когда обучение было делом не обязательным, а избранным, для многих детей оно было подвигом в силу материальных условий их жизни и других обстоятельств, подвигом оно было и для учителей — такая уж взаимосвязь, такая общая участь.
Дальше…
Приходилось мне несколько раз бывать и в доме Шубкиных — крохотный такой домишко из пережженного пестрого кирпича на улице Никитинской (бывшей Бийской). В 1914 и особенно 1917 гг. в Барнауле были грандиозные пожары, и вот, разбирая так называемые погорелки, местные жители и строили из остатков свои жилища.
После тех углов и крохотных комнатушек, в которых ютилась наша семья, двух-, а может быть, даже и трехкомнатный дом этот казался мне чем-то непостижимо роскошным. На самом же деле и это тоже была почти что бедность — ничего, кроме предметов самых необходимых, топором рубленных столов, стульев, книжных полок и кроватей.
Так же жили и другие мои учителя — маленькая комната в большой коммунальной квартире, и если печь отапливается «от себя», а не от соседа — это прекрасно!..
А еще мне хотелось бы сказать несколько слов о городе Барнауле той поры, а также времен несколько более отдаленных.
Конечно, захолустье, но ведь и захолустье захолустью рознь. Уже тот факт, что в небольшом уездном городке были две женских, одна мужская гимназии и одно реальное училище, говорит о многом. В соседних уездах — ни в одном — не было и этого.
И тут сказывалась история города: в свое время он был центром крупнейшего Горного округа со многими рудниками, принадлежавшими лично императору российскому, или, как тогда говорили, кабинету, удельному ведомству. И земли и леса в обширном этом уезде, но площади почти что равном Франции, тоже были кабинетскими, поэтому Барнаул имел особый статус, далеко не во всем подчиняясь администрации губернского Томска. По линии удельной он сносился непосредственно с Петербургом.
Это наложило свой отпечаток и на культурный облик города — он имел обширные частные и народные библиотеки, прекрасный музей, здесь появилась первая в Западной Сибири метеорологическая станция, существовало множество обществ — любителей слоистости и фольклора, экономическое и содействия переселенцам, краеведческое, которое занималось главным образом изучением не только русского, но и монгольского Алтая, — все экспедиции, туда направлявшиеся, были связаны с местными исследователями; здесь выходило несколько газет и печатались книги — поэтические сборники нашего Порфишы и его же учебник географии тоже издавались в Барнауле.
Долгие годы существовало в городе механическое училище, нечто подобное техникуму, оно было открыто еще Демидовым как горно-механическое, а при советской власти на его базе организовали сельскохозяйственный техникум.
Не оставался Барнаул в стороне и от технического прогресса, отнюдь, именно здесь была сконструирована Ползуновым первая в мире паровая машина, на Змеиногорском руднике выдающиеся мастера отец и сын Фроловы построили крупнейший в мире гидравлический подъемник и одну из первых железных дорог на конной тяге.
Этот перечень технических достижений я мог бы продолжать и продолжать — и в области горного дела, и в области дубления кож, и в других отраслях местной промышленности, но дело не в том — я только хотел несколькими деталями дополнить тот общий фон, на котором столь убедительно, правдиво и с присущей ему скромностью Николай Феоктистович Шубкин пишет о себе, точнее, о своей учительской деятельности, о том пути, на котором существовало в то время так много препятствий.
Думаю, что эти записки, из которых возникает благородный образ народного Учителя, найдут и своего читателя, и своего ценителя.
Сергей Залыгин
Примечания
1
Полвека для книги. Литературно-художественный сборник, посвященный пятидесятилетию издательской деятельности И. Д. Сытина. М., 1916. С. 30, 31, 32.
(обратно)2
Цит. по: Новый мир. 1970. № 10. С. 271.
(обратно)3
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Л.: Наука, 1981. Т. 23. С. 75.
(обратно)4
Союз Михаила Архангела.
(обратно)5
Полвека для книги. Литературно-художественный сборник. С. 32.
(обратно)6
Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. М.: Современник, 1979. С. 453.
(обратно)7
Человек человеку волк. — В. Ш.
(обратно)8
Положение обязывает. — В. Ш.
(обратно)9
См. об этом: Шубкин В. Насилие и свобода. М., 1996. С. 117–118.
(обратно)10
Мысль. 1881. № 4.
(обратно)11
Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. М.: Центр «Новый мир», 1990. С. 128–130.
(обратно)
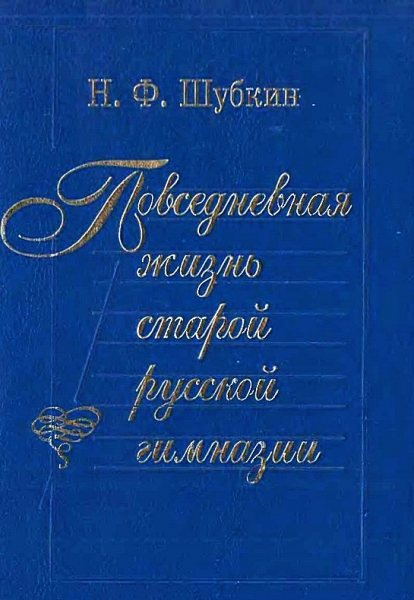

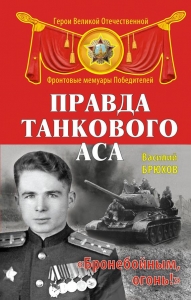
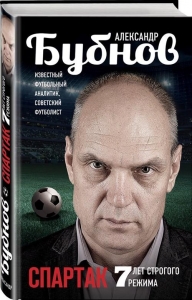



Комментарии к книге «Повседневная жизнь старой русской гимназии», Николай Феоктистович Шубкин
Всего 0 комментариев