Жан Кокто
ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ
МОЕ ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ АНДРЕ ЖИДУ
Мой дорогой Андре,
как-то раз вы упрекнули меня в излишней чопорности, в боязни «дать волю перу», и примером моего бегства на свободу назвали заметку из «Петуха и Арлекина», где я описываю первый джаз-банд.
Вы сами подали нам пример, отправившись в путешествие.
Теперь я с преданной душой дарю вам эти путевые заметки, и в недостатке свободы вы меня уже не упрекнете.
Ж.К.
Эти старые шрамы,
земля,
придают очарование
твоему лицу воина.
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА 80 ДНЕЙ В УТОПИИ ЖЮЛЯ ВЕРНА И НА САМОМ ДЕЛЕ • ДЕТСКИЕ ФАНТАЗИИ • СОН • НЕДОРАЗУМЕНИЕ, ПОЗВОЛИВШЕЕ НАМ ПОСЕТИТЬ РИМ
Прежде чем начать рассказ об этом кругосветном путешествии, важно объяснить, что стало для него поводом, и раскрыть читателю суть нашего предприятия.
Книга «Вокруг света за восемьдесят дней» известна всем. Шедевр Жюля Верна, роскошное издание в красном с золотом переплете, и пьеса, в которую он превратился за красным с золотом занавесом театра «Шатле», будоражили наше воображение в детстве и раньше, чем карты мира, привили нам вкус к приключениям и жажду странствий.
«Тридцать тысяч банкнот ваши, капитан, если мы прибудем в Ливерпуль до часа дня». Этот возглас Филеаса Фогга по-прежнему звучит для меня как зов моря, и ни один настоящий океан не будет так же зачаровывать мой взгляд, как зеленое полотно, которое приходило в движение над спинами рабочих сцены, пока Филеас и Паспарту, уцепившись за обломок судна, смотрели на загорающиеся вдали огни Ливерпуля.
Сюжет романа Верна вы знаете. Филеас Фогг, флегматичный джентльмен из Реформ-клуба, точный, как часы, даже в мелочах, доказывает, что Земля становится меньше (с учетом скорости транспорта), и держит пари, что обогнет ее за восемьдесят дней.
Вот его маршрут:
«Из Лондона в Суэц, через Мон-Сени и Бриндизи поездом и пакетботом
7 дней
Из Суэца в Бомбей пакетботом
13 дней
Из Бомбея в Калькутту поездом
3 дня
Из Калькутты в Гонконг (Китай) пакетботом
13 дней
Из Гонконга в Иокогаму (Япония) пакетботом
6 дней
Из Иокогамы в Сан-Франциско пакетботом
22 дня
Из Сан-Франциско в Нью-Йорк поездом
7 дней
Из Нью-Йорка в Лондон пакетботом и поездом
9 дней
Итого:
80 дней».
В тот же вечер он покидает Лондон в компании своего слуги француза Паспарту, доверив ему сумку с банкнотами, и, несмотря на все уловки детектива Фикса, который ошибочно подозревает, будто Фогг ограбил Английский банк и пустился в бега, вопреки всевозможным препятствиям выигрывает пари, которое считал проигранным.
Цитирую:
«Но как же столь точный, столь аккуратный человек мог ошибиться на целые сутки? Как он мог думать, что прибыл в Лондон в субботу, 21 декабря, когда на самом деле он приехал в пятницу, 20 декабря, — всего лишь через семьдесят девять дней после своего отъезда?
Вот причина этой ошибки. Она очень проста.
Филеас Фогг, сам того не подозревая, выиграл целые сутки по сравнению со своими записями, ибо, совершая свое путешествие вокруг света, он двигался на восток, и, напротив, он потерял бы целые сутки, если бы двигался в противоположном направлении, то есть на запад.
Действительно, продвигаясь на восток, Филеас Фогг шел навстречу солнцу, и, следовательно, дни для него столько раз уменьшались на четыре минуты, сколько градусов он проезжал в этом направлении. Так как окружность земного шара делится на триста шестьдесят градусов, то эти триста шестьдесят градусов, умноженные на четыре минуты, дают ровно двадцать четыре часа, то есть сутки, которые и выиграл Филеас Фогг. Иначе говоря, в то время как Филеас Фогг, двигаясь на восток, видел восемьдесят раз прохождение солнца через меридиан, его коллеги, оставшиеся в Лондоне, видели только семьдесят девять таких прохождений.
Если бы знаменитые часы Паспарту, которые неизменно показывали лондонское время, помимо часов и минут, показывали бы еще и дни, то они отметили бы это обстоятельство».
Из этого дня-призрака Жюль Верн создал свой сюжет.
Благодаря ему Фогг преодолевает все преграды, спасается от разорения и женится на мисс Аауде, молодой индуске, избежавшей участи индийских вдов и вырванной из рук палачей между Бенаресом и Аллахабадом.
Много лет мои пути пролегают по странам, которые не нанесены на карты. Часто я оказывался в неведомой дали. В этом мире без атласов и границ, населенном тенями, я черпал опыт, который не всегда был приятным. На виноградниках этого невидимого края родится черное вино, опьяняющее тех, кто молод. Словом, я без устали трудился на некую Intelligence Service, о которой трудно сказать что-либо определенное.
Моей целью было покорить неведомое, освоить его наречия. Иногда я привозил с собой всякие опасные вещи, возбуждающие любопытство и дурманящие, как мандрагора. Они пугают одних, а другим помогают жить.
Любить, валиться с ног от усталости, ждать чудес — другой тактики у меня не было. Разве не заслужил я право отдохнуть, ощутить почву под ногами и, как все, прокатиться на поезде или сесть на корабль?
Я постепенно приходил в себя после болезни. Мы с Марселем Киллем решили продолжить наши робкие попытки писания очерков — из рыбацкой лодки в Средиземном море — и отправиться вдаль, не важно куда.
Изначально идея путешествия вокруг света принадлежит Киллю, которого я отныне буду звать Паспарту. Предполагалось отправиться по следам героев Жюля Верна, чтобы отметить его столетие и восемьдесят дней побездельничать.
Восемьдесят дней! Мы думали, что этот прыжок в бездну в 1876 году станет в 1936-м неспешной прогулкой с ленивыми остановками в каждом порту.
Жан Пруво, директор «Пари-Суар», заинтересовался. Газета принялась за изучение нашего плана, и оказалось, что знаменитые восемьдесят дней были неосуществленной реальностью, мечтой Жюля Верна так же, как его фонографы, аэропланы, подводные лодки, скафандры. Все верили в них благодаря убеждающей силе шедевра. В общем если исключить перелеты и уплотнить пересадки, то в 1936 году, чтобы выиграть пари Филеаса Фогга и в точности повторить его путь, требовалось восемьдесят дней, ни больше ни меньше.
Таким образом, план в корне менялся. Вместо прогулки по следам любимых героев, которые помогали нам благополучно переболеть корью и скарлатиной, нас ждало непростое испытание: мы собирались поставить рекорд.
Решено было выехать немедленно, 28 марта, и вернуться 17 июня, прежде чем часы пробьют полночь.
Малейшее опоздание судна, малейшая неувязка, малейшая ошибка в расчетах — и все пропало.
Ничего лишнего брать не следовало.
Два чемодана, в которых не мнется одежда, и сумка с бельем. Был также этюдник, который Паспарту не доверил бы никому; в самый неподходящий момент, когда надо спешить, его ножки раскладывались со скорпионьей яростью. Ящик пришлось бросить в Сингапуре. Андерсен сказал бы: «Ну и пусть себе лежит!»
С самого начала нам предстояло войти в ритм жизни семейств Перришон и Фенуйар, месье Вьебуа и месье Криптогама. Эти персонажи Топфера и Кристофа еще старше, чем персонажи Верна, они стояли у истоков приключенческой романтики, которая живет в нас с детства и не дает усидеть на месте.
Настоящая Япония — это когда мадам Фенуйар и ее дочери опаивают стражника, чтобы освободить главу семьи, прорвав бумажную стенку. Настоящая Азия — это когда месье Криптогам отогревает все семейство Фюрко.
Да, с этих веселых эпопей начинается полет фантазии. Дети переделывают их на свой лад, получая те «кирпичики», из которых строят свой тайный мир чудес.
Итак, мы решили — Бог знает почему, — что экспресс на Рим отправляется в 22 часа 40 минут, и убедили в этом других. На самом деле он отправлялся в 22 часа 20 минут. Мы узнали об этом в 21 час 50 минут от телефонистки моего отеля: она удивилась, что расписание вдруг поменяли. Швейцары помогли нам впихнуться в такси вперемешку с сумками, и за пять минут до отправления экспресса мы были на месте.
Я рассказываю подробности, чтобы вам стала понятна эта французская неспособность сдвинуться с места без альпенштока, не штурмуя подножку, не шаря по карманам в поисках билетов и не роняя пакеты.
И вот мы в пути. Родной язык нам уже не поможет, изъясняться будем междометиями и жестами.
Проводник спального вагона утверждает, что нам повезло: выходить не надо до самого Рима (прибытие на следующий день в девять вечера); в Риме в половине первого ночи мы пересядем на поезд до Бриндизи, куда он прибудет в десять утра, а оттуда в полдень в сторону Греции отплывает «Калитея».
Однако в Милане все равно приходится выйти и сделать пересадку. Зато эта ошибка позволяет нам три часа любоваться ночным Римом. Странная, словно нереальная прогулка по местам, где мы с Пикассо жили в 1917-м, пока готовили для Дягилева балет «Парад».
Моя усталость, оцепенение человека, который вдруг очнулся, проспав несколько лет кряду, непростые попытки жить наяву, а не существовать, как сомнамбула, гуляя по краю крыши («Рыцари Круглого стола» — моя последняя сновидческая пьеса, а «Портреты-воспоминания» были написаны на грани между сном и бодрствованием), — весь этот новый период после намеренной спячки, начавшейся в 1914 году («Потомак»), будет отчеркнут и достигнет развязки в римском экспрессе. На меня навалился нормальный человеческий сон — но сон необычный, грузный, непроницаемый; он прерывается просветлениями, выныриванием на поверхность сознания и пейзажами, бегущими в обрамлении окна у меня в ногах.
Поезда исполняют симфонии Бетховена. Фразы из них всегда приходят на память сами собой в ритме придыхания скорости, словно то, что они родились из глухоты, роднит их с тишиной, составленной из тысячи природных шумов. Пульсация крови, этот мрачный артериальный метроном, торжественные марши, ночные вокзалы, а днем — белые, почти арабские города, кубы, белье и минареты на берегу моря, голубого, как мыльные пузыри, — все это будут антракты в театре сна, где актеры разыгрывают непереводимые драмы.
Наш путь — это змей, и он мне знаком; змей, обвивший земной шар, — такого же попирает ногой Святая Дева; демон любопытства, который заставляет нас покинуть свой дом и в конце концов туда же нас и возвращает.
В Париже его голова и хвост смыкаются: отправление, прибытие. Мне знаком его изгиб, который повторяет очертания итальянского сапога и отрывается от него у лодыжки, над каблуком.
Так между двумя провалами в сон, в легком тумане полудремы в одном из редких такси (шофер свистом подавал знаки прохожим) мы проехали по Риму — знакомому для меня и незнакомому для Паспарту.
РИМ, НОЧЬ, 29 МАРТА • ЛЕЙТМОТИВ ДУЧЕ • ВСЕГО НЕ ЗАПРЕТИШЬ • ФОНТАНЫ • РИМ, ТЯЖЕЛЫЙ ГОРОД
Рим ночью. Мертвый город. Немой город. Город, где фасады и стены позволяют себе единственный выкрик, один и тот же, лишь с небольшими вариациями — «дуче»; всюду его лицо в фас и в профиль, в колпаке с султаном или в каске, доброжелательное или устрашающее.
Слепой и глухой город с отрубленным языком выражает себя только через красноречивые гримасы Муссолини.
Но всего не запретишь. И старый город любви поет свою жалобную песнь голосами фонтанов, которые по ночам слушал и переводил Ницше. Благодаря этим струям, рвущимся вверх на площадях, я вновь оказываюсь в Риме карнавала и оперы. Вновь вижу Форум, разоренный, как вилла после бегства грабителей; вижу Колизей с его подвалами, кулисами смерти — огромную чашу крови и лунного света, бездонную, изрешеченную арками и звездами; вижу благочестивых ангелов моста Сент Анджело, Апостольский дворец с его каменными щупальцами, площадь Испании и дом Китса, плененный лестницами, как мельничное колесо — падающей водой.
Я вижу, как мы с Пикассо возвращаемся ночью из отеля «Минерва», где жили русские танцовщицы, в наш отель на Народной площади.
Мы больше любили Рим при свете луны, потому что ночью видно, как устроен город. Он пуст, люди не искажают масштаб его декораций; он становится меньше, ближе к вам, и самые величественные фасады запросто начинают что-то шептать вам на ухо. Ночью становится ясно: тяжелый город Рим, город-патриарх, постепенно оседает под весом своих сооружений и статуй.
Мы рассматриваем его торс, когда он, напрягшись изо всех сил, поднимается на локтях и его узловатые мышцы вздуваются, как у раба Микеланджело.
Венеция — полуженщина, полурыба — сирена, которая разлагается в болоте Адриатики. Рим, столько раз погребенный и откопанный, продолжает свои торжественные похороны. Все в нем наклонно, все непрочно, все вязнет, углубляя собственную могилу.
Рим не приводит меня в волнение. Он сбивает меня с толку.
Пение фонтанов выдает настоящий город, некрополь ускользает из-под кирки бывшего работяги Муссолини.
Слои, слои... скелеты, черви, голод, лихорадка, чума, Венеры, страдающие каталепсией и спящие с открытыми глазами, роковые украшения, гибельная порча. Рим ночью! Никак не устану по нему бродить. Это он тянет нас за шиворот? Хочет закопать заживо? Не дает сесть в поезд до Бриндизи? Нас словно проглотил этот спрут. Кажется, здесь все подчинено опущенному пальцу императора: он велит добить побежденного тем же жестом, каким набивают трубку или сажают семя.
Кровью пропитана принимающая это семя почва, откуда мрамор выбрасывает гибкие стебли и большие белые непахнущие цветы и куда он уходит своими извилистыми корнями.
«Так, — писал я в одном стихотворении, — римский бюст себя ведет». О греческом бюсте речь не шла.
Я представлял, как ночью этот бюст распускает нескончаемую нить всех образующих его линий, продевает ее в щели дверей и в замочные скважины и затягивает на шее спящего — душит.
Мы несемся с одного поезда на другой, из одного сна в другой, но для меня это картины не меняет.
Фашизм смел все подчистую. И вот вам в Нью-Йорке и в Чикаго уродливый слепок нравов итальянского Возрождения.
Гангстеры, их заправилы, их жены, их костоломы, субтильные убийцы а-ля Лоренцаччо, их доспехи, их яды, лицемерная обходительность, обмен погребальными венками и перемирия, пока Карузо поет «Тоску», — во всем этом я узнаю Рим и Флоренцию, кочующие по всему свету.
Душа страны не меняется. Она следит за нами из одетых в броню особняков, под прикрытием спокойствия и дисциплины, романтических мундиров, из-под трагической и комичной маски дуче.
И нынче ночью я слышу, как она задыхается, бормочет, откровенничает, требует чего-то в лунных водах фонтанов.
Громкоговорители сообщают о продвижении войск и взятии Аддис-Абебы. Но в конце концов громкоговоритель — это всего лишь невидимый человек, которому пригрозили, чтобы он говорил. Свободные фонтаны — дальше. Они рвутся выше цензуры, и в легких облаках их влаги отклеиваются афиши. Я все про вас понял, римские фонтаны. Этой ночью вас ничто не потревожит. Повелитель гордится вашими скульптурными ртами и не намерен душить их признания.
БРИНДИЗИ, 30 МАРТА
Простенькое ландо, возница — молодой великан в сюртуке и пастельно-синей яхтсменской фуражке. У лошади, впряженной в коляску, хомут украшен бирюзой, на голове торчит перо вождя краснокожих. У лестницы с внушительными ступенями, на вершине которой снизу видна колонна и постамент с обломком, напоминающим массивную первобытную женскую фигуру, разместились здание таможни и порт.
Рассказав о своей затее, мы облегчаем себе жизнь: нам достается роскошная каюта на «Калитее», небольшом белом судне. Оно похоже на корабли, которые обслуживают маршрут из Ниццы на Корсику.
АФИНЫ, 31 МАРТА • АКРОПОЛЬ • КРОВЬ ПАНТЕОНА
Пирей (десять часов утра). Туман скрывает от нас Акрополь. Все греки из команды расстроены донельзя. Такого еще не бывало. В глубине души я рад. Впереди ждет сюрприз, и никакого официоза первых впечатлений — его я традиционно отвергаю.
Уже час эти холмы похожи на холмы Вара. Это сходство объясняется тем, что греки останавливались в местах, напоминавших их края. Но холмы Греции похожи на холмы Вара так же, как Изольда на своих служанок. «Это она?» — спрашивает брат лже-Изольды. «Это женщины из ее свиты», — отвечает Тристан. «Это она?» — «Это Брангена Верная». Когда появляется Изольда, брат прощает Тристану его вероломство.
Простите меня, холмы Вара. Спрятавшийся Акрополь позволяет нам думать только о высадке на берег. Набережная — это магазины, грязные прилавки, теснящие друг друга вывески и торговцы, которые, чтобы привлечь внимание, тянут вас за рукав. Готов поклясться, Греция не сильно изменилась на протяжении веков! Вот подтверждение — афиша бань. Без изысков, только вчера приклеенная, но рисунок наверняка с амфоры; а у фотографов полотняные «задники» напоминают паруса на ветру и расписаны под фрески.
В первый момент столбенеешь от настойчивых окликов зазывал, обилия товаров и машин. У грека руки загребущие, пора менять наши доллары на драхмы.
Мы находим открытый банк. Наши жалкие доллары превращаются в тысячи драхм, и, выходя из банка, воодушевленный Паспарту меняет заданный стиль нашего путешествия и вскакивает на подножку допотопного автобуса. Это шумная трясущаяся колымага, набитая канцелярской братией. Паспарту проскальзывает вперед, мне за ним не пробраться. Колымага так и везет нас под железный лязг: Паспарту впереди — стоит, сложившись пополам, я кое-как примостился сзади, рядом сидят четыре грека и о чем-то бурно спорят над пригоршней шелковистых зерен, разжевывают их, прячут по карманам, снова достают, снова разжевывают, ругаются, потрясают ими — и так без конца. Отвлекаются, только чтобы подмигнуть молоденькой машинистке, которая нависла надо мной не то сидя, не то стоя. Она в очках, уперлась рукой в бок.
В треугольнике, описанном ее бюстом и рукой, тянется пригородный тулонский пейзаж. Я подремываю, просыпаясь на каждой кочке.
И вдруг мои глаза распахиваются. Что я вижу? В рамке женского тела видна небольшая сломанная клетка, продолговатая и низкая, — дети сплетают такие из соломы и сажают туда кузнечиков. Она висит в воздухе, вокруг пустое пространство. Что это? Мое сердце начинает биться. Эта выпотрошенная клетка... Неужели?.. Да, это он, это Парфенон!
Я хочу крикнуть Паспарту: «Смотри... Парфенон!» И не решаюсь. Наверняка он заметил. Почему так спокойны все эти люди? Почему продолжают сидеть? Почему не вскакивают, не кричат громким криком что-нибудь вроде Thalassa, как их предки?
Я забыл, что Акрополь впечатляет их не больше, чем нас Эйфелева башня. И молча, напрягшись, смотрю, как подскакивает под локтем девушки эта клетка, где афиняне держали в заточении Минерву, кузнечика с греческой скалы.
Клетка открылась, Минерва сбежала, а в вышине — на этот раз любопытные задирают головы — самолет (уж не Меркурий ли, бог торговли?) пролетает над клеткой и исчезает в небе.
Парфенон теперь невидим. Начинаются Афины и их предместья. Конечная остановка. Я выхожу на площади Согласия, нарочито броской, исчерченной трамвайными путями, пестрой от реклам. Паспарту знакомит меня с полицейским из нашей колымаги: этот славный малый, ребенок-великан, как раз учит французский и вызывается сопровождать нас до двух часов дня.
В два ему возвращаться на службу.
Почему нет? И вот, следуя за полицейским и чувствуя уважение к себе, мы стремительно осматриваем подвижный город, где растет перец, и пробегаем по музею с красной стеной и колоннами.
Толпу радует узнавание. Поэтов — познание. Вопреки инстинкту, который направляет туристов к достопримечательностям, известным по фотографиям, нас влечет то, что неизвестно и чего мы еще нигде не видели.
Золото, слоновая кость, мрамор, бронза, древесная кора внутри нас подспудно притягиваются к древесной коре, мрамору, бронзе, слоновой кости и золоту статуй.
Останавливаемся у головы быка, выструганной из вереска, с позолоченными рогами, ноздрями и ушами; и у бронзового юноши, который, видимо, скачет на лошади; слишком большая голова тянет его вперед, крылатые ноги взлетают сами. Замираем перед лунами, покрытыми золотой сусалью, — микенскими масками; перед животными и богами, обращенными в камень каким-то стихийным бедствием.
Я именно за такой метод. Сживаться с предметами или бегло их оглядывать. Едва ли я смотрю. Я фотографирую. Заполняю свою камеру-обскуру. Проявлять буду дома.
Обед — продолжение сна, виденного мною в поезде; нас трое — Паспарту, сержант полиции и я, столик прямо на тротуаре площади Согласия под ярким солнцем в толпе прохожих. Впрочем, с нами полицейский, и нас не толкают. Курица с рисом, старинное вино, от которого душа кувырком, и ракия, мраморная водка. Едва вода соприкасается со спиртом, образуется мраморное облако вкуса восхитительного пастиса.
Провожатый покидает нас: служба зовет. Это первый из многочисленных друзей, которых Паспарту находит по дороге; позже их отзывчивость не раз спасет нас от краж и потери времени.
Рим — тяжелый город. Афины — город легкий. Рим уходит под землю. Афины воспаряют. В Риме все устремлено вниз. В Афинах все стремится вверх и трепещет на крыльях; надо отсекать их у статуй, как греки поступили со статуей Победы, — иначе улетят.
И вот, на этот раз без тумана и видимый от основания до вершины, знаменитый холм — более доступный, чем Нотр-Дам-де-ла-Еард в Марселе, уютнее пристроившийся в Афинах, чем холм Монмартр в Париже.
Отвратительная мода нагнетать красоту, раздувать мифы отдаляет их от человека.
Во Флоренции из возвышенностей и долин за окном вагона складывался почти персидский пейзаж — с павлинами и ланями. Здесь пейзаж шерстяной, с козами и козлами. Вагон останавливается, выходишь как будто на чью-то частную улицу.
Разве Барресу, чтобы расчувствоваться, нужен был настрой и маленькая раздавленная девочка?
Сдерживаю слезы, чтобы не выглядеть нелепым. Я грешу этой нелепой боязнью нелепости. Скорее! Перепрыгивая через ступени, взбегаем по лестнице и оказываемся прямо в гостях у богов. И вдруг я понимаю, почему Барресу вовсе не нужна была кровь этой девочки.
— Но... — восклицает Паспарту, — тут не развалины, тут все раскурочено!
Сказано в точку, я задумываюсь. Паспарту не знал о бомбардировке английского флота, я поведал ему эту историю. Да, раскурочено, взорвано бомбами, покалечено, разрушено. От безмятежности руин нет и следа. Вместо нее — ужас непредвиденности, окаменевшего движения, скорости, обращенной в статую. Кровью маков окроплены трава, камни и мраморные конечности. Сияющая кровь веков циркулирует по загорелой розовой плоти мрамора, рисует оранжевой сангиной грани и яркие отблески на сколах колонн. Эту кровь можно собирать у основания стволов в кладовых сосновых рощ.
Слева и справа холм покрыт рельефами. Пусть это слово обретет здесь свои истинный смысл. Мраморные кости, мраморные бутылки, мраморные консервные банки, мраморные старые газеты и сальная бумага — все мраморное. Мы оказались здесь после пикника богов.
Паспарту подает мне знак: голоса... кто-то разговаривал. Кто? Оборачиваюсь, наклоняюсь. Никого. Зато справа, у подножия холма, в театре, который при взгляде с высоты птичьего полета распахивает свой каменный веер, посетитель спорит с женой. Мы слышим все, что они говорят. Так же и народ мог слышать спор Креона с Антигоной, не платя за вход. Видел ли Креон, как волнуется и размахивает руками толпа, рассевшаяся на росе в пять часов утра, когда поют петухи?
Фотография и комментарии сообщают нам не много. Вот фасад Парфенона и совсем рядом, слева, Эрехтейон: женщины, поддерживающие храм, смотрят на нас. Я думал, они смотрят в пустоту.
Из их обители, из-под их локтей почти так же, как мне посчастливилось рассматривать Парфенон в миниатюре, я увижу высокий прозрачный массив его дышащих колонн и его фронтонов. Я доберусь туда, вскарабкаюсь по ступеням, прикоснусь к трещинам этих колонн, к колесикам и шестеренкам тонкого механизма, который по-своему выковывает время и заставляет его идти в ритме, несвойственном для его привычного хода.
Я буду наблюдать за солнцем, которое бродит среди мрамора, скользит по нему, затеняет его прожилки, и за солнцем, которое исхлестало храм, сводя патину с фальшивых колонн и покрывая патиной настоящие, и за солнцем, накопленным в течение веков, чей свет мрамор продолжает источать, отражая все его изменения в здании, более чувствительном, чем живой колосс, и более прозрачном, чем кристалл.
Почему Моррас не настаивал на плотском начале этой постройки? Я не стал бы его высмеивать, и не пришлось бы теперь перед ним извиняться. Ведь я сам, не удержавшись, приложился губами к одной из колонн израненного, но неразрушенного храма.
Да, если римский Колизей перекосился и оседает, напоминая при луне водную арену Нового цирка, то у Акрополя на солнце вырастают все новые и новые крылья, тянут его вверх, отрывают от фундамента.
И даже крылатые лунные кони живут на карнизах, как ласточки; они разлеглись в углах фронтона, где легко увидеть их светлые профили, а быстро подняв глаза к небу, можно заметить и лунного конюха: он сидит, наклонившись вперед, свесив голову ниже коленей.
Солнечная колесница разбилась в щепки, налетев на коней. В колеснице ехал бог. Видимо, за мраморным треугольником фронтона, этим воздушным змеем, луна — солнце руин — как раз прячет свою колесницу и распрягает лошадей.
Я ухожу прочь от воздушной конюшни: не хочу быть навязчивым, приставать с вопросами к тишине, вникать в тайны, которые меня не касаются.
Ухожу от фасада, где необычные лошади вьют свои гнезда.
Я немного приуныл. Эти группы, этот ансамбль... сколько ими ни восхищайся, на нерукотворном пьедестале остаются только мужской башмак и женская туфля — по ним восстанавливается картина преступления.
С другой стороны, утешает, что криминальный мотив, тупиковый, неудачный, пустой, сближает нас с этими колоссами и придает им человеческую теплоту.
Со временем к ним можно настолько привыкнуть, что турист думает, будто без труда поднимет ту или иную глыбу, но эту легкость — кажется, бери и клади в карман — создают бегущие по ним изысканные арабески.
Я увезу из Акрополя только свои слезы, недомогание, грусть, уверенность, что не будет больше обрядов, для которых понадобятся подобные декорации, и счастье, что мы увидели все это без тени назидания и без налета любой другой пыли, кроме пыли дорог.
РОДОС, 1 АПРЕЛЯ • СРЕДОТОЧИЕ НАЦИЙ • С ДВУХ ТРИДЦАТИ ДО ЧЕТЫРЕХ: ОСМАТРИВАЕМ ГОРОДСКИЕ СТЕНЫ И ПЕРВЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ УЛИЦЫ
Существовал ли Колосс Родосский?
Если его выдумали, это не значит, что одним чудом света на нашем пути стало меньше.
Мы поверили в путешествие Филеаса Фогга — так же верят и в Колосса. Корабль проходит у него под ногами.
Римский бриллиант. Афинская жемчужина. Завтра — египетский скарабей. Родос — первый неправильный камень в ожерелье.
Микены, Греция, она самая, Византия, крестовые походы, рыцари ордена святого Иоанна, турки, Патмос, где евангелист съедает книгу и пишет Апокалипсис, Гиппократ, Гомер, Тиберий, Цезарь, Август, Цицерон, Сулейман Великолепный — на это средоточие наций, городов и легендарных имен смотрит, разведя в стороны волосы и опершись на колено, Венера Родосская.
Все языки Вавилона перекликаются возле персидского фонтана. Он украшает площадь, выйдя на которую я оказываюсь прямо в гуще событий «Тысячи и одной ночи». Еврейский мальчик, идущий с урока, обращается к нам по-французски.
Нас встречает выплеснувшаяся на улицы жизнь Востока. Начиная с Родоса, что ни улица — то спектакль, а лавки без четвертой стены — театральные подмостки, где никогда не опускается занавес.
Брадобреи и сапожники. Самая популярная в театре восточных улиц пьеса — о брадобрее, поскольку религиозные секты требуют, чтобы при стрижке учитывалось бесчисленное множество нюансов. Лежа навзничь, клиенты млеют в руках, которые с одинаковым мастерством могут и стричь, и брить, и пытать.
Всюду гроздьями свисают сапоги. Всюду их дубят, шьют, начищают, продают. У всех брадобреев и сапожников портрет дуче; искусное сочетание цветовых пятен отпечатывается на радужной оболочке, и при свете дня взгляд переносит их на яркие стены домов, которые каждую неделю перекрашивают женщины, обмакивая кисти в известку.
Там, где стояли ноги колосса, по обеим сторонам порта возвышаются две колонны. На одной Ромул и Рем сосут молоко римской волчицы, на другой бронзовый олень смотрит в сторону острова охотников и роз. Стены с заостренными фестонами, башни и дозорные пути опоясывают город кольцом. Войти туда можно через ворота замка-крепости. Вы теряетесь в лабиринте плоских крыш, переходов, сводов, рвов, мостов, бойниц и вскоре оказываетесь в исходной точке.
Итальянский солдат, выделяясь на фоне неба, кричит Паспарту, чтобы он зачехлил свой «кодак». Паспарту собирался фотографировать не крепость, а старую мусульманку, которая закуривает, перегнувшись через край византийского колодца. Какое кощунство: источник со святой водой, правоверная курильщица. Но ее оберегают черная чадра и солдат. Чадра редко приоткрывается. Морской бриз обволакивает ею лица. Затененные глаза и рты превращают проходящих женщин в прокаженных с головой Смерти.
«Кто пил воду из фонтанов Родоса, непременно на Родос вернется». Эту истину я повторяю себе и думаю, что наверняка больше не увижу этот остров, где остановка у нас длится всего четыре часа.
Я заметил первые тюрбаны того самого красного цвета, который выгорает на солнце до светло-сиреневого. Мальчишки мелом рисуют на стенах звезду Давида — два перекрещенных треугольника; а портовые грузчики обматывают голову тканями, скручивая их на затылке и завязывая концы на груди. Впервые — дыхание Египта: гранитный платок покрывает головы их богов.
АЛЕКСАНДРИЯ, 2 АПРЕЛЯ • БАЗАРНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ • БАКШИШ • КОМБАКИР • СТРАННОЕ КАФЕ
Уродливость пришла в Египет из Александрии и из предместья Сент-Антуан. Мебель Левитана грозит простоять дольше, чем мебель Рамсесов, и таксист, который гонит, как ненормальный (так в Египте принято), с гордостью показывает нам бесконечную панораму домов.
Хорошо, что еще сохранился Старый город. И чистильщики сапог, и женщины, у которых черная чадра крепится на носу с помощью золотой клипсы. И эти юные создания, которые прогуливаются, сплетя два пальца. Самое неприметное из них затмило бы всех красавиц на балу благородством походки, ниспадающим одеянием с разрезами, разворотом плеч, созвездием рта и глаз.
Чадра у женщин становится все прозрачнее. Иногда ею прикрыт всего один глаз, и некоторые похожие на пухлых кукол особы находят причудливые компромиссы между обычаем и модой.
Мы появляемся в разгар праздника. Это нечто вроде египетского Рождества. Своего рода Богоявление. На улицах полно лотков с красными сладостями: боги, ослы, сосуды, обелиски, голубки украсят семейный алтарь, а потом их съедят дети.
Иначе выглядит та часть, где находится сук, — его коснулась лепра уродливости, о которой я упомянул; сук, благоухающий мастикой и миррой, возбуждает наши ротозейские души. Паспарту знакомится с евреем, который говорит на нашем языке и продает вещи из Парижа: его зовут Ассун-Соломон.
Он поможет нам понять нюансы церемонии, определяющей то, как продают и покупают в Египте. Чтобы цена была объявлена, а клиент платил и забирал товар — такого здесь не бывает. Надо торговаться, менять цену, откладывать вещь, пожимать плечами, прогонять покупщика, ждать, когда он вернется, морщиться на его предложение, предлагать ему подороже товар похуже, догонять его, если уходит, или посылать помощника вдогонку, снова завязывать спор — от этих удовольствий египетский торговец и его покупатели не откажутся ни за что на свете.
Бакшиш начинается в Египте и будет сопровождать нас до самой Индии, где просят не так басисто, все больше исподтишка: «Бакшиш! Бакшиш!» Весь этот рабский народ висит на тебе и просит милостыню.
«Бакшиш» — от арабского глагола: давать ни за что.
«Дай мне ни за что». Бакшиш дается сверху. Получив плату, торговец требует еще.
Арабская кровь Паспарту подсказывает ему хитрость. Он притворяется, будто понял, что ему предлагают гашиш: проситель в ужасе, он сбит с толку, и мы от него отделываемся.
Вечером Ассун представляет нам свою многочисленную семью, живущую в небоскребе; он хочет быть нашим сопровождающим. При этом он сочтет долгом чести заплатить за нас и не принять чаевых.
Египетский ужин. Сезам — это трава-ключ, выпускающий на волю аппетит, и аромат мяса.
Пьют воду; поэтому голова остается светлой и с возницей можно отправиться в квартал любви.
Как и рю Бутери в Марселе, когда-то это была обычная улица: улица Анастасии. Но полиция побаивалась смешения обычной торговли и торговли особого рода. Улица Анастасии умерла. Вместо домов терпимости — склады, а дома терпимости занимают новый квартал. То самое «come back here», которое женщины кричат морякам, превратило квартал в Комбакир. Так его и называют, а название Сад, настоящее, известно куда меньше прозвища.
Представьте вереницу небольших лачуг, прижатых одна к другой. Все похожи между собой, и улицы, по обеим сторонам которых они стоят, выстроены по одному образцу. Мрак и гнусь, строгость и опрятность, ни порока, ни любви.
Женщины сидят в дверях этих лачуг, похожих на общественные туалеты, от которых их отличает только то, что привратница провожает клиента. Постройки прозаического назначения, и дамы получают немногим больше тех, кто занят вязанием на пороге старого парижского писсуара.
Ночное небо лежит плоской крышей над запутанными коридорами Комбакира. Время от времени на месте какого-нибудь заведения появляются балаганы для ярмарочных игр, а свет из кафе озаряет улочки, соединяя это шумное пространство с уснувшими кварталами.
В некоторых кафе изначально были мрачные притоны. Два подставных проводника приводили туда американок: их обчищали, а потом они куда-то исчезали.
Вход в кафе, куда мы ввалились, еле живые от усталости, стоптав все ноги в узких коридорах, лабиринт которых можно расшифровать только с высоты птичьего полета, находится за растительной изгородью; с притоном ничего общего.
Да, странное кафе! Стоит и впрямь отправиться вокруг света, чтобы узнать, что такое существует.
Описать его будет непросто.
Стойка, стулья, столы, два старика курят длинную трубку в форме арфы, пожилая матрона, привратница в одной из лачуг, и маленький мальчик, которого жрут вши, и от зуда он дергается, словно в пляске святого Витта; они завсегдатаи в этом неухоженном и грязном кафе-саду.
Полутемное помещение с живыми деревьями и настоящими цветниками, на которых больше пыли, чем внутри провинциального казино. На утоптанном земляном полу валяются продавленные лейки, беззубые грабли, пустые ящики. Это в саду решили вдруг сделать кафе или высадили в кафе уродливый сад? Есть ли здесь крыша над головой? Усталость и полудрема окончательно делают это место незабываемым.
Понять его помогут лишь некоторые чердаки из детства да сараи, где под слоем пыли свалены ненужные инструменты, мишени для стрельбы из лука, атрибуты игры в пассбуль и гробик с принадлежностями для крокета.
Мы спешим прочь, чтобы не слиться с причудливыми предметами вокруг нас, иначе если уснуть, то, проснувшись, можно обнаружить, что мы превратились в арабов, в стулья и покрылись вековой пылью.
После этого кафе Комбакир выглядит почти радостно, писсуары почти удобны, а женщины почти красивы.
3 АПРЕЛЯ • ЗАЧЕМ КЛЕОПАТРА ЗАВОРАЧИВАЛАСЬ В КОВРЫ
День магазинов, банков, «Истерн телеграмз», шашлыков с пахучими травами, которые можно отведать в лавках, и прощаний с Ассуном-Соломоном.
В Египте обо всем договариваются и деньги берут только с загадочным видом, а самая бесхитростная сделка обставляется, как подозрительное шахер-махерство. При любой покупке обязательно разыгрывается сценарий с подмигиваниями и перешептываниями. Надо идти на расстоянии друг от друга, прижиматься к стенам, исчезать в тупиках, возникать из подвальных окон, ждать гонцов, общаться знаками и т.д. и т.п. Без таких церемоний торговля не торговля, а продавец умрет с тоски. Некогда вам? Уличный торговец лучше бесплатно бросит вам товар в лицо, чем упакует его по твердой цене.
Надо потратить немало часов, заключая грошовую сделку, а еще увидеть саркофаги, вложенные один в другой, и понять, что появление Клеопатры перед Марком Антонием — не каприз: в этом суть Египта. Имя царицы — Египет. Египет — это она. Она обязана придумать способ появления «со смыслом».
Победителю приносят товары — ковры. Первый ковер, второй, третий, четвертый — один изысканнее другого; а когда он устанет ими любоваться, развернут последний ковер. И выйдет лежавшая в нем царица.
КАИР, 4 АПРЕЛЯ • ГОРОД СМЕРТИ • «МЕНА ХАУС» • ПУСТЫНЯ В НОМЕРЕ
На карте Египта сам Египет — надгробная плита. Пять лет назад меня потрясла газетная статья. Один офицер-авиатор описывал свой перелет и задавался вопросом: что, если Сфинкс, пирамиды, обелиски, дельта Нила — это иероглифы, текст, доступный богам?
Умели ли египтяне летать, предвидели ли возможность полета, обращались ли к птицам, которым поклонялись? На каменной плоскости столько загадок, если смотреть снизу, но сверху смысл проясняется, и знаки, покрывающие ее, обретают толкование.
Подойдем ближе и бросим на Египет первый и самый верный взгляд, о котором наблюдатель потом жалеет, но на который нередко впоследствии ориентируется. Это подтверждает гора писем: «Как вам удалось так быстро разглядеть?..» — и тому подобное. Все просто. У меня не было времени исправлять первое впечатление.
Каир — город смерти. Сразу по приезде понимаешь, что смерть — главный египетский промысел, Египет — это некрополь, и жизнь египтян подчинена заботе о могилах.
Сон метельщиков похож на смерть. Липкая и пахнущая падалью пыль покрывает их серым брезентом. Хищные птицы в ленивом прерывистом полете кружатся над этими ненастоящими трупами. Соколы, вороны, грифы заполняют небо над улицами и усаживаются на карнизах. Смерть властвует над городом и его рекой. Крокодилам должна нравиться эта вода цвета коварного абсента. Мухи, скарабеи, скорпионы, кобры, аспиды, шакалы, крокодилы... Эти обожествленные твари символизируют любовь народа к мумиям и бальзамировщикам.
Одно из египетских бедствий — проводники. Месье Гольдман, швейцарский немец, проводник из Александрии, налетел на нас, как целая стая саранчи.
Паспарту проводник не нужен. Но от месье Гольдмана не отделаться.
Паспарту удирает, месье Гольдман за ним гонится. И вертит в лукавых руках канотье, со-ломенные поля которого превращаются в лотерейный барабан. Получится ли у него? Барабан вращается. Он от нас не отстает. Но мы с честью выберемся из расставленных им ловушек. Рассел-паша (современный фараон), начальник полиции, выдает нам карточку — рекомендацию для египетских полицейских. С ней мы приходим в бюро драгоманов, где к нам приставляют Абделя: у него темный силуэт, светлый взгляд, оливково-зеленый халат и важная глупость, от которой здорово смущаешься. Абдель советует нам провести эту ночь в «Мена Хаус», отеле близ пирамид. Поспешный отъезд под носом у месье Гольдмана, который роняет лотерейный барабан. Канотье катится по ступеням «Континенталя», роскошного отеля с необычайно высокими потолками. В них египетский стиль минус чувство меры.
«Мена Хаус» — другое дело. Добираться туда по прямой — по освещенному шоссе, напоминающему дорогу от Обаня до Марселя. «Мена Хаус» — изысканно-утонченный отель. Английская «Тысяча и одна ночь». Халиф не решился бы искать там приключений. Подтянутый служащий ведет меня... — что я говорю? — ведет Филеаса Фогга в номер. С Абделем встречаемся после обеда, чтобы посетить пирамиды и Сфинкса. Комната в англо-восточном стиле. Комната мистера Фогга. Я распахиваю ставни. Окно выходит на балкон с арабской резьбой, а балкон — на пирамиды.
Как-то вечером у княгини де Полиньяк оркестр исполнял сюиту Дебюсси. В первом ряду прекрасная, старая и знаменитая графиня Морозини кивала, моргала, открывала рот и трясла головой. Она привыкла к романсам, которые врезаются в память, и была сбита с толку, окунувшись в эту несколько сумбурную музыку. Она выискивала мелодию. «Бедная, — шепнула мне графиня де Ноай, — она не привыкла, чтобы ее заставляли так долго ждать наслаждения».
Вот о чем я вспоминаю, оказавшись нос к носу с пирамидами. Можно сказать, они прямо здесь, в комнате: в Мюррене ледник дышит в окна отеля бриллиантовой свежестью, так же и пирамиды в двухстах метрах от «Мена Хаус» шлют дыхание смерти.
Афины, Рим, Венеция — их красота раскрывается иначе, чем Клеопатра открылась Антонию: наслаждения ждать они не заставляют. В этих знаменитых романсах мелодия выпевается сразу. В Венеции я был совсем юным. С вокзала все тут же кинулись в гондолу. Моя мать воспринимала эту феерическую гондолу как омнибус для перевозки багажа — ни больше ни меньше. Венеция должна была начаться на следующий день.
Но ребенок и поэт — что одно и то же — желали, чтобы Венеция началась немедленно.
В «Мена Хаус» поэту посетовать не на что. Достаточно перешагнуть через резные деревянные перила балкона, спуститься с дюны, и в конце своеобразного Млечного Пути, бледной дороги, полукругом идущей вверх, он достиг бы первой вершины. За ней рикошетом следуют другие. Наш помощник — лунный свет, омывающий пустыню всполохами затмения. Ужин не затягивается. Мы быстро проходим через романтическую столовую, где английские дамы в тюлевых платьях в сопровождении сыновей в смокингах оставляют за собой цикламеновый шлейф и пьют шампанское, слушая великие венские вальсы.
Абдель нас уже сторожит. Перед оградой отеля, рядом с погонщиками, ждут верблюды, возлежащие на собственных тенях. Абдель садится на осла. Мы взбираемся в седла, и верблюды поднимаются. Так же при замедленной съемке движется сложившаяся втрое стена, если прокрутить изображение назад. Караван отправляется в путь.
Верблюд — водное животное; пространство, которое он пересекает, — подводное. Силуэт у него допотопный. Когда-то, должно быть, шея этой рептилии торчала над водой, а лапы гребли во все стороны, как плавники. Море исчезло, тварь превратилась в скакуна. И помнит ритм волн, так что я представляю себе, будто на высоком корабле плыву навстречу Хеопсу.
СФИНКС
Путешественники никогда не рассказывают (то есть рассказывают, конечно, но увидеть это нужно самому) о том, как раскрывается красота и где именно она обитает.
Они выделяют ее из всего остального. Смотрят так, словно она вращается на постаменте, а вокруг — пустота.
Не случайно я не понял Абделя, когда он объявил, что перед нами Сфинкс. Где он его увидел? Я возвышаюсь над песками на своем верблюде. Луна плавно и нарочито вытягивает слева одну из сторон пирамиды Хеопса. А дальше, справа, у безупречно гладкой вершины второй пирамиды, искажает линии перспективы, и кажется, будто кончик покосился.
Развалины и песчаные дюны создают рябь у нас под ногами. Изгибы и бугры повторяются в силуэте верблюда.
Но где же Сфинкс? Я различаю яму, резервуар, песчаный бассейн, который огибают наши оседланные животные; на дне читаются очертания, напоминающие судно в сухом доке.
И вдруг мой взгляд словно разгадал скрытую в рисунке загадку: я все понял, просто не мог не понять. Фигура на носу корабля медленно поворачивается в профиль. Возникает голова Сфинкса, а за ней и все остальное: круп, закругленный хвост, задние лапы и передние, длинные, выпрямленные, — мраморная плита между ними украшает грудь, а фаланги на концах обрисованы, как грани и округлости песочного печенья, которое достали из формы.
Верблюды останавливаются и складываются тремя рывками, медленно. Я спрыгиваю, бегу. Упираюсь в отвесную стену — вокруг ямы, где лежит Сфинкс после того, как в 1926 году обнаружили его лапы. Он веками прятал их в песке, как версальские сфинксы — в муфте.
Сфинкс — не загадка. Бесполезно задавать ему вопросы. Он — ответ. «Я здесь, — говорит он, — я сторожил наполненные гробницы и сторожу пустые. Какая разница? Воля прекрасного, искра гения, очеловеченный феникс без конца возрождаются из пепла. Даже в разрушении они черпают новые силы. Мы лишь межевые столбы в мире, объединяющем разрозненные души и принуждающем их, вопреки скоростям и умиранию веры, совершать паломничества и останавливаться в пути».
УЛЫБКА СФИНКСА
Руины — это замедленное крушение. Благодаря протяженности драмы во времени мертвая красота может принять облик женщины, превратившейся в статую, застывшей скорости, гула, ставшего тишиной, даже если не успела к этому подготовиться. Протяженность уберегает ее только от гримас и поз пугающей насильственной смерти. Но вокруг нее обитает страх.
Сфинкс и пирамиды — мизансцена, способная устрашить простодушный народ.
Мизансцене, придуманной астрономами, нужны звезды и лунный свет. В ненастную погоду или при нехитром театральном освещении, когда зрелище повторяют днем, все теряется.
Этот жалкий пес, служивший незрячему и ослепший вслед за ним, — Сфинкс, сторож пирамид, тоже обзавелся сторожем, который освещает его с помощью магния за несколько пиастров.
Магний — изобретение, достойное жрецов Египта. У этих первоклассных химиков наверняка было вместо него какое-нибудь средство. На секунду магний переносит Сфинкса на край освещенной зоны, выделяет его из остального мира, придает сходство с обломком судна, выхваченного маяком, изобличает ироничную улыбку шпиона, которого застали с поличным, осветив лучом карманного фонаря.
Магниевая вспышка гаснет, и мы словно читаем его мысли:
«Ну да, я шпион, и что? Разве вам это что-нибудь дает? Какой державой я завербован? За кем шпионю? Что выведываю? Из нас двоих вам это открытие принесет больше хлопот. Поверьте. Спрячьте в карман свой фонарь, оставьте меня и ложитесь спать, как будто ничего не видели».
Но мы не уходим. Многие тысячи взглядов скользили по этому лицу, оставив свои следы. Взгляды-слизняки затянули его клейкой пленкой, и мы вынуждены добавить еще: от него невозможно отвернуться.
Невидимая толпа выталкивает нас вперед, не дает отступить, обрекает Сфинкса на одиночество в многолюдье.
По счастью, он обитает в своей медвежьей яме. Туристы, которые расписываются на знаменитых памятниках, не оставят на нем автограф, потому вниз не спускаются. Они наверстывают упущенное в пирамидах, где даты и рисунки на каждом шагу.
Этой ночью жаловаться нам не на что. Мы одни. И никого не встретим; ни одной парочки из тех, кого определенно привлекает этот тонкий песок и тайники.
Наша прогулка напоминает рождественскую ночь 1916 года в окопах у Изера. Тогда наступила такая же тишина (никто не стрелял, было перемирие), такая же торжественная пустота, и тени от магниевых вспышек немецких ракет танцевали на таком же песке с вырытыми в нем коридорами и могилами.
И та же луна освещала судьбоносного Сфинкса.
Луна словно припорошила снегом бельгийский и египетский песок. Я привыкаю к Сфинксу, он становится ближе, превращается в животное, вылепленное из снега и оставленное детьми. Для работы был собран снег, теперь вместо него яма; осыпания, трещины, расселины в камне дополняют иллюзию.
Не от детских ли снежков приплюснут нос у снеговика? Утверждают, что дело тут не в снежках, а в ядрах, что это все солдаты во время египетской кампании. Абсурдная легенда. Это не ядра и не снежки. Наполеон уважал величие. До него грабили, жгли, рушили, чтобы украсть золото. Уважение к царским могилам началось с момента завоевания — генерал внушал его своим солдатам[1].
Впрочем, вряд ли Сфинксу было что терять. Нос не изменил бы его физиономию. В его приплюснутых чертах обобщены народный феллахский тип и черепа женщин, укутывающихся в черное, когда дует самум.
ТЕРМИТЫ
Сфинкс возникает из обратного хода веков. Чем он ближе, тем меньше кажется: таково всякое истинное величие. Он дает себя приручить и станет есть у нас с руки.
Я боялся колоссальных размахов Египта, но его колоссов не назовешь неимоверными: они не могут поколебать шкалу, которой люди измеряют землю. Это племя гигантов, только и всего.
Конечно, Сфинкс отличался внушительностью и в дни праздников походил на царицу муравьев, восседающую посреди муравейника, как золотой телец.
Но масштаб все равно позволяет ему соприкасаться с толпой. Жрецы Египта не совершили ошибки, обрекшей на нечеловеческую боль в шее прихожан в Сикстинской капелле, когда они смотрят на молодых и куда более очеловеченных колоссов Микеланджело.
Мы застываем в каком-то оцепенении. Звездный снегопад летит на пирамиды, на Сфинкса, на дюны, на нас и на верблюдов. Паспарту тянет меня за пиджак. Пора возвращаться, нельзя пресыщаться зрелищем, которое даже слава не лишила загадки.
Я встряхиваюсь и стряхиваю звездный снег. Как все ново для детских душ! Сколько сокровищ делают простодушных богаче! В каких небывалых ракурсах предстает мир, подобно нашему собственному лицу, которое мы, бывает, не можем узнать в игре трехстворчатых зеркал. Как я рад, что наивен.
На обратном пути пирамиды перестают удивлять. Они куда больше напоминают творения насекомых, термитники, чем гробницы, которые правители заказывали строительных дел мастерам, архитекторам, геометрам, астрологам.
Без гладкой обшивки, благодаря которой их треугольники казались большими и сияющими, они теряют четкость, грани сглаживаются, вершины приминаются, по ступеням умеючи можно быстро забраться наверх, а краски не отличают их от груды камней.
С нашего балкона фантасмагория возобновляется. Поднимаю глаза. И что вижу? Большая Медведица — уже не та старушка Медведица, скромный Ковш в небесах моего детства в Сэн-э-Уаз. Медведица встает на дыбы, Ковш опрокидывается.
На следующее утро надо возвращаться к пирамидам и к Сфинксу. Идем на прогулку, как дети, которых тащат за руку, намереваясь доказать, что висельников и оборотней сотворили луна и тени. Верблюды (моего зовут Роза, а верблюда Паспарту - Сара Бернар) проходят позади «Мена Хаус». Они направляются к пирамидам окольным путем, который ведет нас между палатками Кука, расставленными для туристов, предпочитающих ночевать под открытым небом.
Отсюда пирамиды окончательно превращаются в постройки термитов. Пустыня представляет их нам наравне с кустами фенхеля и скалами.
Внутреннее устройство Большой пирамиды, проем, через который в нее попадаешь, ее наклонные плоскости, по которым карабкаешься, согнувшись в три погибели, суровый голос проводника: «Головы, берегите головы», отзвуки, полумрак, коридоры, углубления, вентиляция и даже неразрешимый вопрос о рукотворности алебастровых и гранитных глыб, которые невозможно сдвинуть, — все наводит на мысль о загадочных способностях, которыми обладают насекомые.
ДЕЛЬТА • САДЫ В ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЛАПЕ • ДУМАЮ О КЛЕОПАТРЕ • ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАИР • УРНА АНУБИСА
Мы возвращаемся в город. Жара бодрит мух и хищных птиц. Они пролетают так близко, что можно различить клюв и крылья — такие же украшают барельефы и пскенты царей, которые с широко открытыми глазами восседают в глубинах смерти, как ныряльщики, погрузившиеся в глубины вод.
Запах падали усиливается. Опускается вечер. На фронтонах зданий загорается реклама аспирина на английском, французском и арабском. В этом языке, состоящем из точек, зигзагов и крючков, само начертание — пульсация головной боли. Мы берем машину и просим отвезти нас в дельту.
Картина быстро меняется. Справа и слева — оросительные каналы, плотины, стоячая вода, теплая вонь, взбухшая люцерна, обмазанные илом хижины, библейские крестьяне, тучные и тощие коровы из сна Иосифа.
Луна и солнце встречаются в небе цвета потухшей бирюзы. Они огромны. Луну, мужское божество в Египте, невозможно представить иначе чем в виде руин. Одни руины озаряют другие, и закатное солнце высвечивает огненный шар, который станет землей, когда мы превратимся в луну. В грозном космическом ракурсе являются египетские солнце и луна. И не сопутствуют им ни очарование, ни радость. К этим шарам — одному, мертвенно-бледному, и другому, раскаленному, — обращалась несгибаемая Клеопатра, восседавшая среди своих гребцов. О ней думаю я в этот вечер, пока автомобиль катит в сторону дельты, растопырившей перепончатую лапу, всю в зеленых садах.
Я закрываю глаза. Пытаюсь превратить царицу в обыкновенную женщину, которой она, очевидно, и была. Вращать правой рукой в одну сторону, а левой — в другую так же нелегко, как воскресить имя, если память отвергает его, потому что с ним связано только плохое. Я не сдаюсь, сосредоточиваюсь. И что в итоге? Клеопатра: маленькое несносное существо, которое приносит несчастья.
Оставив позади мосты со средневековыми по-тайными ходами, плотины и шлюзы, лужайки, масла и цветы дельты, мы возвращаемся в Каир, огромный мусорный бак, — у Анубиса, который в нем роется, уши торчком.
БЕСПЛОДНЫЕ ЦВЕТЫ
Этот квартал Каира — не для всех. Театральные примадонны сидят на порогах комнат, перед стенами, которые усыпаны звездами красных ладоней — рук Фатимы. Одни, рельефные, напоминают вывески перчаточников, другие, плоские, словно оставили, уходя от погони, неведомые убийцы — отпечатали, прилепили к наличнику двери, прежде чем шмыгнуть к женщинам.
На полу в кельях и в лавках брадобреев — разноцветный желтый, розовый, сиреневый, фиолетовый песок. Подмигивают кельи любви! Отчаянная уловка бесплодных цветов, чтобы привлечь насекомое. Здесь не разносится пыльца. Красная лампа, зеленая, желтая мигают поочередно. Механизм продолжает действовать, пока женщина трудится за перегородкой, обтянутой кретоном, который шел на костюмы клоунам во времена нашего детства — с кошками-живописцами и кошками-музыкантами. Легкие перегородки вибрируют, улавливая ритм невидимых экзерсисов. Попеременные сигналы ламп настойчиво летят в никуда. С щедростью расточаются театральная красота, драматический свет, чистосердечие.
Театральный эффект — в мягком освещении келий и ацетиленовом сиянии за колышущейся перегородкой. Ложатся тени — китайские. Волосы высветлены известью; черные корни, белокурые волны — что-то в этом есть сатанинское.
Мелодраматические примы украшают свои кельи афишами американских фильмов. И нередко прислоняются надменными головами к гигантским лицам Клодетт Колбер и Марлен Дитрих.
Кельи углублены в полутьму, как небольшие сцены с бледно-голубыми кулисами, которые увешаны фотографиями: на них борцы, уродцы, толстушки в купальных костюмах.
На улицах, ведущих в этот квартал, где всегда пребудет правда города и его истинное лицо, кишат толпы местных; они переходят из кафе в кафе, наблюдая, как одни раскрашенные юноши танцуют вокруг жезла или размахивают им, а другие ждут, непринужденно положив друг другу голову на плечо. Периодически кто-нибудь из них встает и сменяет солиста.
Виртуозы Верхнего Египта дуют в свои гнусавые дудки, округляют щеки и мчатся сквозь века долгим траурным штопором. Из одного кафе мы никак не решимся уйти. Танец живота запрещен. Встревоженный взгляд на дверь: хорошо, что там страж, и выступающий юноша может придумывать свои бесконечные речитативы, подергивая в паузах бедрами, вскидывая худой живот и щелкая пальцами над головой.
Мы просим трубку — большую треугольную трубку в форме арфы с тлеющими углями — и тонем в восточном сиропе, который останавливает в нас жизнь.
Женские хитрости ничто по сравнению с александрийским Комбакиром. В каждой келье любви изумляет неяркое чудо грима и света. Хитрости бесплодных цветов — все равно что ухищрения, которые служат для передачи пыльцы. Метерлинк рассказывает, что некоторые цветы упорно создают парашюты, которые падают на землю, не успев раскрыться, если растение недостаточно высокое. Каирские женщины вполне способны расставлять сети абсурда, и их уловки складываются в захватывающий спектакль. Сравнятся с этим неистовым зрелищем разве что парады на ярмарочных боях.
На следующий день, 7 апреля, удивительный экипаж доставил нас в Музей. После смерти графини де ла Сала, в прошлом шумно знаменитой каирской кокотки, ее коляска «виктория» превратилась в фиакр, но лошади не изменили стиль: шелковые чулочки, подрисованные глаза, розовые ноздри, кокарды и все прочее.
Месье Лако покидает свой пост в Музее. Он спускается мне навстречу в рубашке, без пиджака. Возле его дома теннисный корт, где мой дядя Рэмон Леконт, в бытность свою в египетском посольстве, играл с представителями семейств Масперо и Базилей. Я растроган воспоминаниями, которые оживил месье Лако, наполнив призраками пыльный сад. У месье Лако роскошная седая борода. Он очень мил. Любит свои саркофаги. Недоверчив и советует мне не увлекаться книгами аббата Море46. Мне кажется, в силу прямоты характера он сгущает краски и принимает за романтическую фантазию высшую реальность, отраженную в роскоши и изысканности гробниц.
ТУТАНХАМОН • ЕГО «МИСТЕРИ-ТЕАТР» • НЕВЕСОМАЯ МУМИЯ ПОДНИМАЕТСЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ВЕКОВ • ПОДЗЕМЕЛЬЯДОЛИНЫ ЦАРЕЙ
Мы на бегу осматриваем театр смерти, его подвалы, ловушки, бутафорию, украшения, костюмы, статистов, ложи.
Первые саркофаги. Ящики укороченные. Хоронить было принято в позе зародыша (при Третьей династии). Затем началось святотатство. Муравейник выпотрошили, улей разорили, обитателей мира теней выгнали из их тайников, и они продолжают расточать свои чары при свете дня, направо и налево.
Описывать сокровища Тутанхамона бесполезно. Лично мне описания и иллюстрации нисколько не помогли, и я только повторил бы ошибки их авторов.
Юный семнадцатилетний фараон после смерти устроил свою жизнь в изысканной роскоши. Он продолжает существовать в песке, как бриг в северных льдах. Демонстрирует нам свою нетронутую мебель, колесницы, украшения, костюмы. Его имущество не успели заменить символами. И погребли в хаосе привычных вещей. Царь стал звездой «мистери-театра», куда ломился народ и где он представал во всем своем золоте. Золотая посуда, золото с червонными прожилками, золотая филигрань; предметы в витринах — свидетели этой театральной системы.
Кресла, троны, складные стулья, опахала из страусовых перьев, пленные враги в роли скамеек, бумеранги, фанфары, сандалии, перчатки, плетка от злых духов, пастуший посох, головной убор, где кобра указывает на север, а сокол на юг, реликварии, вложенные один в другой, — полые статуи, внутри которых и лежал этот юноша. Ложа с пастями химер и жесткими лазуритовыми подушками, на которые опиралась прекрасная вычурная голова, полная экипировка юного фараона, — суть театр, притворство, манок, инсценировка.
Тяжелые золотые лари, многочисленные раздвижные шторы, полые статуи, то и дело разверзающиеся ловушки, пьедесталы, бесконечные маски. Наконец мертвец встает и начинает говорить. «Здравствуйте, господа», — произносит он, как китайский император в «Соловье» Андерсена, и выступает вперед меж алебастровых ваз, по сравнению с которыми сложносплетения Мажореля и Лалика остаются далеко позади.
Удивить раба, поразить его, затмить, попрать, подавить, выцедить из него кровь и золото, как выжимают вино, танцуя на собранном винограде, — вот для чего служит реквизит театра Тутанхамона.
По странной случайности этого царька, укрытого и охраняемого каббалой, нашли. Единоличный хозяин Долины царей уцелел, но доказал, что слава преходяща. Он утверждает бренность всего земного, свидетельствует о катастрофе и безумной роскоши: Сенусерт, Рамсес, Клеопатра, Ур, Содом, Гоморра, Карфаген, Кер-Ис, Атлантида, уничтоженные мумии, возвышенные, угасшие, исчезнувшие цивилизации. Вечная борьба, чтобы существовать, и ее тщетность на земле, само существование которой не вечно, да и по-настоящему не имеет смысла.
Залы Тутанхамона поражают нас до глубины души — о других мы просто забываем. Вот идет деревянный человек; в недрах смерти гипсовая охристая чета, сидит, уставившись в одну точку; зеленый бронзовый царь обут в собственные бедра; корова, разрисованная трилистниками, кормит фараона в молитвенно чистом стойле; живые портреты, предметы культа, цели и силы — все говорит о том, что Египет не волновало искусство ради искусства.
Паспарту пакует наши сумки в отеле. Я бегу за ним. От месье Лако удалось добиться, чтобы музей оставили открытым. Не хочу уезжать из Египета, пока Паспарту не познакомился с этим невероятным хранилищем мебели. Он немного упирается, я его тащу. Мы завтракаем у Камачо — это имя он носит по праву: кровяная колбаса и мясо у него, как у Камачо на свадебном пиру. И мчимся в музей, к Тутанхамону. Вместе обегаем вокруг рефрижератора, набитого плоскими блюдами и алыми плодами, и это чудо уподобляет нас старику сыну, который видит своего молодого отца, сохранивше-гося в глыбе льда.
За стеклами, во льдах, позволяющих видеть во весь рост молодого лежащего государя, золоченая юность торжествует над эпохами. Распрямившись, прижав руки к телу и сомкнув ноги, широко рас-пахнув эмалевые глаза, чуть шевеля пальцами ног в металлических футлярах, Тутанхамон проплывает сквозь века, оставляя шлейф пузырей, и выныривает на поверхность. Он поблескивает, не сохнет, не иссыхает. Он сохраняет свежесть морской звезды в соленой воде или плывущей медузы, актрисы в свете рампы или квартала любви, где потребность в утолении старых, как мир, желаний не дает проявиться патине и благородной коросте шедевров.
Как так вышло, что дерзкие богатства не рассыпались в прах от контакта с воздухом или, по примеру ядовитых грибов, не лопнули, не рассеялись дымкой от прикосновения? Лорду Карнарвону теперь знакомо слово «тайна». Он единственный мог бы нам ответить. Тянуть жребий, опуская руку в урну, выбирают самого юного — так же совсем юный фараон, видно, оказался тем избранным, который должен раскрыть тайны пустой сокровищницы.
Без него понять Древний Египет и его подземелья было бы нелегко.
Сокровища Тутанхамона — закупоренное вино из царских погребов, жемчужина, играющая живыми красками и поднятая золотым ныряльщиком со дна мертвых морей, — едва не обошлись нам слишком дорого. Мы возвращаемся в отель, где журналисты сбивают нас с ног и заталкивают в автомобиль — он быстрее, чем коляска графини. И снова наш отъезд станет чудом. И опять в окна отходящего поезда будут бросать вещи, и мы сыграем на бис сцену отправления по законам оперетты, секретом которых владеет Франция.
7 АПРЕЛЯ, ОДИННАДЦАТЬ ВЕЧЕРА, ПОРТ-САИД
Отель «Марина». За остекленным балконом порт. Магазины ночью открыты. Здесь тропическая прихожая: хинин, панамы, шлемы любых форм, зеленые зонтики, ветрозащитные лампы, рефлекторы, шорты, бинокли, темные очки, бутылки-термосы. В Порт-Саиде начинается настоящее солнце, настоящая жара.
8 АПРЕЛЯ
«Стратмор»52. Шесть часов утра. Таможня. Призывные клубы пара. Местные ныряльщики, уговаривая бросать доллары, визжат, как резаные поросята. Мы скользим между других кораблей. Встречаем французский. Хочется спать. Бесконечный Суэцкий канал. Каждый раз, когда я открываю глаза, в иллюминаторе слева направо тянется вереница пальм. Суэцкий канал бесконечен, как Лондон, из которого невозможно выбраться. Красное море. От не нашей жары — особое недомогание. Ночью пот ручейками прорывается сквозь кожу, образуя тяжелые капли. С этой жарой, как и с лихорадкой, ничего не поделаешь. В вентиляционные отверстия вдувается свежесть, созданная из жары, искусственная прохлада.
Я заглядываю в каюты стюардов (все думают, что там лучше, чем на своей территории); там только хуже. Несчастные голые парни ртами глотают воздух, точно мухи, которые гроздьями висят на липких лентах. Хрипящие спазмы сна. Механистический ад. Жара все сильнее.
АДЕН, 12 АПРЕЛЯ, ОТ ВОСЬМИ ДО ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ТРИДЦАТИ МИНУТ • ДОЛИНА ПРОКАЖЕННЫХ • ЗЛОВЕЩИЕ КРАСАВЦЫ • ОЛОВЯННОЕ СОЛНЦЕ • АДЕН, ВОНЗЕННЫЙ НА МОЕМ ПУТИ, СЛОВНО НОЖ
У молодых сомалийцев, которые окружили трап и ставят на дыбы свои лодки из древесной коры, видимо, те же корни, что и у Черной Девы, приводящей в изумление церковь. То ли ангелочки, то ли чертенята в аденском аду. В Аден, к вратам ада, и доставят нас эти черномраморные фавны со светлыми кудрями, алыми щеками, ноздрями, губами, надбровными дугами и тонкими запястьями.
Аден, Долина прокаженных. Безрудная шахта. Южная жара монотоннее северных холодов. Бесплодная почва и не думает ничего давать. Здесь перекресток рас и товаров, здесь встречаются аэропланы и военные корабли, тут казарма британских часовых.
Шикарные автомобили разъезжают по красивым ровным дорогам в обрамлении из шлака, слоящегося асфальта, цинка, волнистого железа. Такие пейзажи дети создают из земли, железяк и старых пустых коробок, в которых хранились оловянные солдатики. Оловянные солдатики расплавились на оловянном солнце. В недрах этой пустыни, где прорастают только стены тюрем и казарм, битые стекла факиров да кресты на могилах, угадывается золото. Все храмы разных религий. В Адене кто только не живет.
Красота завораживает и утомляет. С уродством свыкаешься, обручаешься, и те, кто любит Аден, ни за что не хотят отсюда уезжать.
Как шедевры возникают из тоски, одиночества, из нехватки материала, из преодоленного сопротивления, так и безлюдный Аден порождает чистую кровь всех рас.
Широкие плечи, гибкие шеи, узкие тазы, тонкие лодыжки, впалые животы, круглые бедра — всюду на нашем пути встречаются призраки во плоти, гордые скелеты, облаченные в темную кожу, принцы, с которых кожу содрали живьем и укутали шарфами ядовитых цветов: зелено-желтыми, сине-зелеными, фиолетово-красными. Пышный тюк тюрбана помогает сохранить равновесие и благородную поступь. Подвязки для носков порой подняты так высоко, что смотрятся, как орнамент.
Садятся эти зловещие красавцы, опускаясь меж лоснящихся бедер в качели шарфа, пятки смыкаются с ягодицами, колени подняты к плечам.
Изящество плохо свыкается с упрощенностью. Нет ничего проще, чем индусская простота. Индус одевается так, что полы его европейской рубашки лежат поверх дхоти: это тканое полотно, которое облегает крестец, а в складках балдахинов, скрывающих ноги, гуляют ветер и взгляды.
Водружение тюрбана — долгая пантомима. Темные, сухие, ловкие руки взбивают ткань, похожую на сахарную вату, которой торгуют ярмарочные кондитеры.
Азия прячет женщин. Женщин Адена замечаешь, когда они перебегают от одной двери к другой, и их многочисленные красные юбки колышутся, как у цыганских гадалок.
Эти угольно-алмазные одушевленные шедевры, сжав в руке хлыст, спешат куда-то по белым, как ненависть, дорогам, через туннели, врезанные в холмы и похожие на кусочки ладана, продающегося на рынке; их удел — жизнь в хижинах, построенных из старых бензиновых канистр.
Рынок (множество дворов за ослепительными стенами) спешит выложить в тени своих аркад и сводов рыбу-пилу, электрического ската, рыбу-иглу, осьминогов, плавники акул и прочих злобных тварей, и у тех, кто их продает, тоже злобные лица, тонко отточенные, под огромными увядшими розами тюрбанов, украшенными веткой дерева.
А в кафе прокаженный, чья кожа — как розовый в белых пятнах бодрюш, играет в шахматы, надев черные митенки. Есть также розовые овцы с черными головами — клянусь, это правда.
Чего мы лишимся, чего будет нам не хватать, о чем мы пожалеем по возвращении в Европу и даже затоскуем, так это по церемониям и мизансценам. Вернутся похлопывания по плечу и подножки — основы европейской кадрили.
Аден, прихожая Индии, скудный уголок, скорпион, кактус, колыбель загадочных рас, не оставил места неге и благодати. Это противоположность Родоса. Безнадежность, отчаяние, горечь, вонзенные в мир, словно нож.
15 И 16 АПРЕЛЯ • УСЛЕДИТЬ ЗА ВРЕМЕНЕМ И ОБМЕННЫМ КУРСОМ • БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ • ВИЦЕ-КОРОЛИ
Хорошо, что мы застряли на «Стратморе», иначе никуда бы не успели, ведь каждый день часы надо переводить на полчаса или минут на двадцать вперед. В Адене мы никуда не двигались: от этого вовсе теряешь временные ориентиры.
Наш маршрут основан на разнице во времени, за которой Паспарту следит, как за обменным курсом. В магазинчике на борту я покупаю ему наручные часы — в самый раз для кругосветного путешествия. Время на них указывают два ртутных шарика. Они движутся благодаря скрытым магнитам. Это не знаменитые часы Паспарту, которые всегда сориентированы на Лондон, зато символ нашего предприятия. И лучше, чем стрелки, дают представление о времени и о движении земного шара.
Майор Б., Intelligence service. — В племени англичан рядятся по-разному, говорят на двадцати пяти диалектах (Индия говорит на 258) и воскресают под новой личиной после мнимой смерти. Слуга майора, мусульманин, восхищен часами Паспарту. У него на лице шрамы: так местные жители пускают кровь при лихорадке, а я решил, что это отличительные знаки племени.
В Индийском океане стало чуть свежее. Большая Медведица окончательно перевернулась вверх тор-машками. Синяя метиленовая вода — тихая, как в озере; «Стратмор» скользит — не идет, даже не покачнется. Луна перестала напоминать погребальную алебастровую урну, нет черной дымки, нет призрачного ореола.
Завтра утром, 17-го, мы в Бомбее.
Задержаться там не получится, если мы хотим по-пасть на British India, единственную судоходную линию, по которой можно в срок добраться до Сингапура.
Теперь ясно, почему даты «пляшут» и почему мы чуть не провалили наше путешествие. Корабль должен идти восемь дней, а идет девять, потому что везет вице-короля, лорда Линлитгоу, а в субботу увозит бывшего вице-короля, лорда Уиллингдона.
Два вице-короля должны встретиться в дверях Британской Индии, не задерживаясь там одновременно.
17 АПРЕЛЯ, 7 ЧАСОВ
Обернулись в два счета, дамы и мадемуазели, все произошло на сторожевом катере «Ране». Траур по королю Георгу: белые платья, черные кокарды. Особого воодушевления нет. Прежнего вице-короля уважали. У нового непростая роль. В семь тридцать его увозит сторожевой катер «Даймонд». На белых шлемах торчат султаны из красных петушиных перьев. Он в гражданском, цилиндр жемчужно-серый. Редингот. Двери в Индию видны издалека. Триумфальная арка, под которой встречаются вице-короли, отбывающие и вновь прибывшие.
Красные дорожки. Залпы военных кораблей. Светло-синий и сиреневый туман. Следующая очередь — наша. «Стратмор» замирает у причала, как в «Шатле».
Путаница с таможней, с билетами на поезд («поезд» Кима).
Туземец наслаждается, маринуя человека с белой кожей, обшаривает и перетряхивает наши чемоданы. Нам помогают случайные знакомые. Осталось четыре часа, чтобы осмотреть Бомбей и сесть на поезд Империал Мэйл, проходящий сквозь индийский пожар. На карте это — как расстояние от Гибралтара до Марселя. По плану нам предстояло отправиться 18-го. Если мы не уедем 17-го, то пропустим корабль, который должен доставить нас из Калькутты в Рангун. Это два дня и две ночи пути.
БОМБЕЙ • БАШНИ МОЛЧАНИЯ • СКОТ ЖЕНЩИН • ТРИ ВОСПОМИНАНИЯ: «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ», «ЧУМА В ФИВАХ»; МАЛЬЧИК С ОБЕЗЬЯНАМИ
Малабар-Хилл.
Башни молчания. Замок Смерти. Здесь живет всемогущая повелительница, и служат ей жрецы, которым запрещено выходить за ворота, а еще крылатый эскорт хищных птиц. Стража, выставленная у ограды Лувра, не может помешать Смерти войти к королю. Короли же, напротив, не могут попасть к ней на Малабар-Хилл.
Чтобы войти, нужно принадлежать к ее касте — парсам. Для молодого короля Георга сделали макет, воспроизводящий Запретный двор. Этот амфитеатр Антинеи. Саркофаги стоят по кругу — стенка к стенке[2].
Служащих в Индии офицеров, охочих до любви, царице было бы мало. Она требует мужчин, женщин, детей. Они летят сверху вниз, сквозь этажи. Кости падают, плоть воспаряет. Смрад очаровывает придворных, как версальский навоз на много километров услаждал носы свиты Людовика XIV.
Во время грозы весь Бомбей окурен этими тошнотворными миазмами, и подданные царицы ликуют.
Иногда какой-нибудь стервятник роняет на улицу палец, ухо, а то и хуже — остаток того, что еще полнее символизирует смерть, будучи инструментом, творящим жизнь.
Наша затея многого не дает нам увидеть. Значит, нужно смотреть на ходу, участвовать в представлении, не зная программы.
Иметь нюх на зрелища. Фиакр — лучшее средство. Пешком ходить утомительно, а автомобиль разгоняет толпу. Впервые во время прогулки — чувство, что мы очень далеко.
Это уже не «Вокруг света за восемьдесят дней», и не «Пять су Лавареда», и не «Вечный жид». Это «Чудодейственный порошок», «Лесная лань», антураж, в котором существуют и суетятся тысячи сказочных персонажей — хищники и лани, всего пять минут назад превратившиеся в людей.
Глаза с коричневыми сосудами, по-особому смыкающиеся с землей подошвы ног, кожа, у которой есть глаза и уши, мокрые физиономии в бетелевой крови, ночная шерсть выдают всякого зверя в момент превращения.
Нет ни собак, ни кошек и почти нет детей. Только зловещие жертвы взмаха волшебной палочки. И тот парнишка, совершенно голый, худой, прямой, как палка, суровый, с длинным локоном, вьющимся между лопатками, который исчез, едва мы застыли перед ним в изумлении — словно застали его при переходе из одного царства в другое.
Улицы похожи на лавки птичников на набережной Лувра.
Бесчисленные клетки, насесты и качели для птиц свалены в кучу. Птичий театр, птичья Опера, а еще трава, деревья, лианы, бегущие от одной клетки к другой, освежая улицу, которая течет, как сиропная река, а по ее берегам на подмостках, площадках, сваях возвышаются ложа, где распростерлись тучные торговцы в нижнем белье — болтают, курят, состязаются в лени и роскоши, а их обмахивают черные рабы с профилями молодых орлов.
Завалы из клеток, кружево домов, бледно-голубое, бледно-розовое, фисташковое, лачуги на сваях, хижины — такие строили в детстве на ветвях — чередуются с фасадами, перегруженными от обилия рельефных и красочных узоров.
Там прячутся боги со слоновьими хоботами, Шивы со скрещенными ногами, заклинающие тигров и играющие на флейте, бесчисленные богини в грозном вентиляторе рук. Эта наивная пестрота, эти детские сласти под стать толпе, которая рисует на лбу знаки бессчетного множества каст и ступеней очищения.
Красные точки, желтые прямоугольники, линии, пятна и не поддающееся расшифровке многообразие причесок и наклеек.
Из фиакра, в котором вообще-то нам не хватает только зеленого покрывала классического Филеаса, открываются задушевные картины труда, сумрак магазинов, уходящих в глубину за парадными авансценами, деталью которых мы становимся и где под сенью балдахинов и штор отдыхают халифы, сапожники и ювелиры «Тысячи и одной ночи».
Бедняк-индус побирается реже, чем бедняк в Египте. И не так унижается. Здесь все более лицемерно, более опасно. Ведь эти взгляды могут вас усыпить, завести, куда вздумается, нагнать на вас порчу. Они обладают гипнотическим свойством. На вас никто не смотрит; но вы на виду. Да и как бы вы укрылись от чар этих орлов, тигров, кобр, превратившихся в людей, от чувственных жгучих глаз и окрашенных бетелем ртов, которые усеивают землю звездами светлых, расцвеченных кровью плевков?
Женщины Бомбея — вьючные животные. Конечно, встречаются исключения — с брил-лиантовыми инкрустациями вокруг ноздрей, в драпировках с золотой лентой, которая наискось перерезает их, как карточных королев.
Вьючные самки с суровыми взглядами, кривоногие, неулыбчивые, переносят на головах обломки разрушенных домов под взглядами бесцеремонных самцов, которые, кажется, способны сделать усилие, только когда фантастическими движениями раскручивают и закручивают тюрбан.
Некоторые несчастные — их можно встретить — от старости и усталости почти лишились рассудка и потрясают дряблыми грудями и седыми прядями, как ведьмы из «Макбета».
Бомбей — город замаранный, и чистый, и хорошо пахнущий. Парадная форма. На полицейских берлинская лазурь, желтые шапочки надвинуты на глаза, ручка широкого зонта заткнута под пояс с левой стороны. Колледжи утопают в зелени, оксфордская архитектура, шушуканья учеников. Водоносы балансируют с шестами, на концах которых сверкают медные ведра. Упряжка белых волов: погонщик правит, выкручивая одному из них хвост.
Тремя воспоминаниями отмечен наш путь по местам, куда никто не решается совать нос. Где все выжжено полуденным солнцем. Первое — место сцены из Киплинга, жестокая стычка мангуста и кобры. Факир и его помощник расставляют подозрительного вида корзины. Слышится гугнивая музыка — но что попало тут не сыграешь. Соломенный котелок вдруг словно начинает кипеть, крышка приподнимается, содержимое выплескивается наружу. Отвратительное, сливочно-желтое, текучее... высвобождается... и устремляется на тротуар. Тогда факир открывает нечто похожее на лотерейный барабан, откуда выскакивает мангуст. Через миг он уже рядом с утекающей сливочной желтизной, начинается поединок. Обхваты, рывки, каллиграфические знаки, росчерки и взмахи хлыста. Розовая морда отчаянно хочет вцепиться в затылок. Кобра трижды распрямляется: ее мышцы распределены таким образом, что она может стоять на небольшом завитке хвоста. Она стоит, и ее голова целится в мангуста, как револьвер. Мангуст прыгает и побеждает. Из шеи кобры хлещет кровь. Она замирает. Но змея — это долгая вереница; голова мертва, а хвост еще бьется. Новость не успела дойти до конца.
Второе воспоминание — греческий храм на вершине величественной лестницы у берега моря. Ни надписей, ни статуй. Полуденное солнце ослепляет фасад, колонны, ступени памятника убитым офицерам. Наверху, посреди площадки, на которую выводят ступени, спит нищий. Его смуглая кожа поблескивает; красное полотно тюрбана зигзагами легло по ступеням, как преступная кровь.
Почему он поднялся и решил спать здесь, под ярким солнцем? Почему его не прогнали? Как бы то ни было, этот храм и лестница стали постаментом для напряженной мизансцены, смыслом существования спящего, театром этого неподвижного трагика. Мы с Паспарту в восторге от этой случайной драмы, и даже моровая язва в Фивах при любом Эдипе с ней не сравнится.
Третье воспоминание. Маленький мальчик несет на себе барабан и обезьянок. Лицо, рука, торс, ноги, тюрбан, туника, барабан, торба, веревки, сандалии, обезьяны — хрупкое изваяние, шедевр под однородным слоем белой пыли. Одушевляет эту живую статую только взгляд — словно из черных прорезей в маске — и розовое пламя бетеля, когда приоткрывается рот.
Но незабываем этот персонаж романа «Без семьи» по-индусски, этот Ким-акробат благодаря обезьяньим лапам: под пыльной массой обезьян не отличить, они сливаются с веревками, с драпировками, с барабаном, и кажется, будто из тела парнишки вырастают маленькие ручки и тянутся за милостыней.
ПОЕЗД ИДЕТ В АД
Поезд в час. А ведь когда-то я читал «Кима» на берегу Аркашонского залива и мне казалось, что кругом жара! Из поезда виден наш корабль у причала, флаги, трапы, все те же, что и в «Шатле», где так точно была мне показана картина нашего путешествия.
Несносные носильщики требуют добавить чаевых. Паспарту решает их припугнуть. Они разбегаются. Потом возвращаются и липнут к окнам вагона-ресторана, где нам только и остается упасть друг против друга за столик без сознания — иначе не скажешь.
Я и не знал, что бывает такая жара и что в этих проклятых широтах можно жить. Поезд трогается. На ходу замечаю старые пушки — в начале рассказа о Киме он сидит на таких верхом.
Индийский пожар добела выжигает листы железа, стекла, леса, покрывает нас текучим клеем, который до тошноты нагнетает жар, и вентиляторы начинают сбивать это липкое тесто.
Не предупрежденные о свойствах этой пытки, мы оставляем открытым окно. Дремлем и просыпаемся, покрытые серой коркой: рот, уши, легкие, волосы всюду пепел от огня, которым охвачен наш путь. От этого ада лишь ненадолго можно спастись под холодным душем, который вскоре начинает кипеть, и с помощью кусочков льда, которые тают и становятся горячей водой, — и это все, что мистеру Фоггу и Паспарту дано узнать об Индии. Они пересекают ее на паровозе, перепрыгивающем через препятствия (ведь рельсы «гуляют» не на шутку — очевидно, коробятся, сближаются под влиянием невидимого пламени).
Будем сидеть, не шелохнувшись. Зерно, рис, рисовые поля, погрязшая в грязи деревня и проклятые, которые трудятся на полях этого ада. Но вот снова сине-бирюзовая с черным сойка, редкие кокосовые пальмы и деревья с роскошными буколическими тенями. Иногда одинокий кедр красуется в пустыне.
Вокзалы. Рубашки навыпуск. Зонты. Рабочие умываются и растирают себя кулаками. Затем топчут свое белье и выкручивают его. Все те же вьючные женщины. Слепцы с детьми-поводырями. Теперь жара не такая сумасшедшая. Ночью почти свежо. Завтра ад нахлынет с удвоенной силой.
КАЛЬКУТТА, 19 АПРЕЛЯ • СПЯЩИЕ НОСИЛЬЩИКИ • ГОРОД ЛЕЖАЩЕГО СКОТА • КУПАНИЕ В ХУГЛИ • ПУТЕШЕСТВИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВРЕМЕНИ
Четыре часа утра, поезд останавливается. Я дремал. Поднимаю штору и вижу: Калькутта, вокзал, рассвет. Перроны выложены рядами плит размером три на пять метров. В каждой клетке этой гигантской шахматной доски — эбеновая фигура: спящий носильщик. Носильщики ждут, когда начнут пустеть поезда. Сон сковал их в позах пловцов и борцов. Руки, ноги, шеи выкручены: как будто это застывшие кадры из фильма, где все двигалось, бесновалось.
На грязном крепдешине развязанных тюрбанов, заменяющем постель, судорожно вздрагивают обнаженные темные части тел. Странно наблюдать это яблонево-каучуковое чередование трупов — как страшное месиво после расстрела или эпидемии чумы. В этом восковом музее в конце концов начинаешь нервничать. Дышат ли они или нам это только кажется? Я опускаю штору: пусть за ней остается сонное царство и тела в животной спячке, словно бетелевые плевки.
Я завидую Филеасу Фоггу: между Канпуром и Варанаси ему пришлось взять напрокат слона, ведь железная дорога заканчивалась в Аллахабаде.
На слоне, наверное, было свежее, чем в нашем коробе.
Один ирландский господин, которому тоже надо на корабль, вдруг открывает дверь и сообщает: «С вокзала пора бежать». Мы кое-как одеваемся, забивая сумки и карманы. Трупы воскресают, поднимаются, хватают сумки, семенят гуськом.
Мне встречаются совершенно голые старики, удерживающие в равновесии свертки на голове. Рассевшиеся на земле семейства: слуги обмахивают отцов, вращая веера-флюгеры, а сами отцы увещевают ораву завернутых в лохмотья маленьких сокровищ. Восхитительные женщины с бриллиантовыми ноздрями, с браслетами из зеленого стекла. Рассвет. Мы жарим по Калькутте — она жарит нас. Миновав вереницу носильщиков, мы проходим по металлическому мосту — воздушному тоннелю, который звучно гудит, запруженный белыми быками и спящими погонщиками. Они не шелохнутся, мы через них перешагиваем.
Река Хугли, приток Ганга. Широкая, желтая, илистая. Маленький прогулочный пароход, на котором индусы курят такую же трубку в виде буквы V, что и египтяне. Дым парохода тянется через реку до «Таламбы», нашего корабля, который еще не виден. Соломенные кресла. Справа, на дальнем берегу реки, к красным аркадам поднимается широкий каменный склон. Девушки-индуски купаются. Купание сакрально, река — божество.
На другом берегу такой же склон, те же аркады, тот же плещущийся муравейник. Кремовая желтизна реки испещрена высокими лодками — их толкают, ворочая длинными веслами, стоящие на корме гребцы. Три шага вперед, три назад. Весло вместо руля. Фабрики. Фабрики. Доки. И вот три черных корабля «Бритиш Индия». Наш, «Таламба», — в чистом виде жюль-верновский. Сесть на него непросто. С противоположной стороны (там, где доки), лицом к кораблю — многоярусная толпа.
У одних посадка, другие машут платками. Тучные мусульмане возвращаются из Мекки, бороды у них с ярким розовым отливом. Есть и англичане в бриджах, и красивые дамы, завернутые в золотистые муслиновые вуали. Воскресенье. Дорожные чеки у нас не принимают. Катастрофа. Корабль дает гудок. Паспарту утирает пот. Наконец молодой англичанин, отец которого работает в египетском отделении «Истерн телеграф», соглашается взять чек. Сдачу он перешлет нам в Рангун. Трап поднимается. Успели.
Наше путешествие посвящено не антуражу, а времени. Участникам умозрительной антрепризы, в которой задействовано время, расстояние, долготы, меридианы, география, геометрия и все прочее.
Жюль Верн ни разу не упоминает о жаре, о морской болезни. Он придумывает детектива Фикса — удивительная находка! Да, мы постоянно вызываем подозрения и выглядим чудно всякий раз, когда действуем по непривычным для нас правилам.
Этой ночью я ищу спички. Пошатываясь от стенки к стенке, выхожу на палубу. Индусы укутались в ровные гладкие саваны. Ниже, где саванов нет, — месиво тел, как на расписных фасадах Бомбея. Сколько ног, сколько рук! Как у богов и богинь, у каждого спящего их по четыре, по пять.
20 АПРЕЛЯ
«Таламба» мне нравится. Мы на корабле тех времен, когда компании не стремились скрыть от пассажиров, что это дом на воде. Корабельный стиль. Великолепный. Много темного дерева; никакого мрамора. Легкое облако в решетках вентиляторов, покрашенных в белый цвет.
Наше предприятие становится тягостным в том смысле, что нет возможности углубиться и посмотреть места, где мы оказываемся; видим мы только транспорт. Бенгалия. Бенгальский залив. Желтое море. Розовые, в кирпиче, берега; и зеленые (это бенгальские огни). Здесь страна «Книги джунглей». Корабль останавливается, бросает лот: песчаное дно меняет форму, есть риск сесть на мель.
Отплываем. Корабль идет вперед. Экономия движений. Экономия мыслей, взглядов. Время перепрыгивает часы; смотрим на циферблат: девять, девять с четвертью, девять тридцать, без четверти десять... Огромные пространства. Через распахнутые ноздри в пустой желудок рвется ветер. Железные колпаки направляют воздух на иллюминаторы; чем-то похоже на шлем рыцаря д’Ассаса, заявляет Паспарту.
Из воды всплывают золотые купола храмов Рангуна.
РАНГУН • ХРАМОВЫЕ ТОРГОВЦЫ • БОЖЕСТВЕННЫЙ ЛЕС
Пагода «Шве-дракон». Своей красотой и внушительностью большая рангунская пагода затмевает все поверхностные зрелища, с которыми мы обречены сталкиваться на своем пути. Она стоит в одном ряду с замком Сент-Анджело, с Акрополем, с пирамидами.
Пейзаж перед городскими воротами; мы идем через Булонский лес мечты, мимо озер — Victoria Lakes, — где повсюду клубы плавания и гребли. Сначала видим портики с изображениями чудовищ, ларьки с сакральными безделушками, с бетелем (отдельный стеллаж) и сигарами из листьев деревьев.
Затем все разуваются. Оставляют обувь и носки и, обжигая подошвы ног о плиты, поднимаются по лестницам с лотками храмовых торговцев по обеим сторонам. Здесь продают живые и искусственные цветы, благовонные палочки, игрушки, приношения — целый блошиный рынок суетится, ест, курит, оставляет алые плевки до порога святилища и даже в вестибюле у богов. Божественный лес, более белый и частый, чем свечи в наших церквах, наступает на эспланады, прилегающие к храму, увенчанному монументальным золотым колоколом.
В храме, обустроенном внутри гротов и подземных ниш, где за решетками отдыхает Будда, купаясь в благоухании чайных цветов, фонарей и красных палочек, молятся на коленях местные женщины в рубахах из накрахмаленного тюля, их лица обмазаны мелом, в массе волос, поднятых наверх и заколотых аляповатыми украшениями, щетинятся масляные пряди, а само святилище вот-вот извергнется наружу, превращаясь в своеобразный зоопарк. Зверьми в этом зоопарке стали бы боги. Они расположились в анфиладе дворов, окруженных пещерами, нишами, часовнями с золотыми колокольчиками на вершинах. В этих обителях приютились алебастровые будды всех размеров, будды-светильники, собрания лунных людей, бледные колоссы-судьи, здесь расправляются со снежными статуями, а иногда в глубине какой-нибудь беседки лежащий в одиночестве леденцовый божок, опершись на локоть, приподнимает ногу под накрывающей его золотой волной в россыпи бриллиантовой пены. Солнце хлещет по оградам маленьких часовен, разлиновывает плененных богов, придавая им сходство с тиграми, чьи эмалевые глаза светятся в темноте. Бонзы в желтых одеждах с золотыми пуговицами ходят взад-вперед и следят, чтобы у вас в руках не было фотоаппарата. Черепа у них бритые, жемчужно-серые. На влажных губах пожар. Они сплевывают красноту, и на асфальте во дворах остаются следы непрекращающегося кровяного ливня.
Мы уходим по площадкам, сменяющимся ступенями. Справа и слева — храмовые торговцы; они присматривают за лотками.
У подножия священного холма все надевают обувь, и снова вокруг необузданный великолепный простор, где глициния и жимолость не смогли бы заглушить звучание шального оркестра ароматов.
22 АПРЕЛЯ • КИТАЙСКИЙ ГОРОД • УСНУВШИЕ СИКХИ • КАЗАРМА СНОВИДЕНИЙ • ПЛАВНОСТЬ ПЛАМЕНИ • КРАСОТА: СТАРАЯ ЗНАКОМАЯ
«Стрэнд Отель». Днем мы бежим из лавки в лавку. Проходим по огромным хранилищам, складам тканей, где живут семьи торговцев. Вечером портье в отеле и лакеи предупреждают, в какие кварталы, по их мнению, соваться опасно.
- No, no, master. Bad, bad, по good.
Мы верны себе и гоним наших долгогривых двуногих пони, кули-сикхов, в запретные районы, на разбойничьи территории. Яд гостиничного духа проник и в служащих «Стрэнда»; неприязнь к расам и сектам добавляется к осторожности богатеев, но мы-то знаем, что красота начинается там, где останавливается проводник.
Город бирманцев, сикхов, китайцев. Из восхитительной красной лакированной повозки с коваными завитками и хрупкими фонарями, которую тащат рысцой неутомимые кули, почти отрываясь от земли и взлетая в оглоблях, мы наблюдаем, как бегут улицы, где спит, снует, шатается, ест на открытом воздухе пестро перемешанный люд всех цветов кожи. Слева и справа — загоны для воздушных змеев; кулисы театра кухонь, цирюлен, подпольных игорных домов и непонятных промыслов. Афиши, вывески, домики, сараи, лавки, переулки, транспаранты, фонари. Выделяются группы: наш путь проходит мимо китайцев, бирманцев, восхитительных мускулистых сикхов.
Высокая женщина, жестом нимфы убирающая волосы в «хвост», нередко оглядывается, и мы видим бородатое лицо молодого сикха. Бесчисленные сикхи, бывшие воины, — противовес китайскому нашествию. Если китайцы вверяют себя цирюльнику вплоть до подмышек, груди и ног, сикхам запрещено стричь даже волосы. Позже, по дороге, которая поведет нас из китайского города в квартал сикхов, земля будет усыпана людьми, сраженными мертвым сном. Мужчины-амазонки спят на земле, где попало, перед двухэтажными домами, и, свернувшись в клубок, уподобляются морским конькам или горсти бирюлек.
Фигуры фальшивых мертвецов — ни один не шелохнется — мерцают под луной и в полосах света, льющихся из комнат, где Китай играет в карты, усевшись вокруг ковра и притушенной лампы, как на обложках Ника Картера.
Стрелы усталости пронзили эти тысячи безоружных и обескураженных воинов. Они спят, повернув запрокинутые головы в профиль, одна рука отведена далеко в сторону, длинные волосы распущены. Спят с открытыми глазами. От чистоты зрачков на их ночных лицах зажигаются звезды, а из уголков приоткрытых ртов нитью струится бетель.
Объезжая их, наши кули с неимоверными ухищрениями прокладывают колесам путь. Бывает, что колесо прокатывается по руке или по ноге, но не будит странную груду, приросшую к земле. Коварный мак отовсюду шлет свой глубокий запретный аромат.
Поворачиваем назад. Жестами и словечком на пиджине[3] «чоу-чоу» даем понять нашим рысакам, что хотим посетить курильню опиума. Опиум запрещен. Но весь китайский город его курит и весь бирманский, так что в конечном счете курят его везде.
Вереница домов редеет. Меньше спящих устилают собой улицы. Рысаки разворачиваются и опускают оглобли перед домом с алыми афишами. Створчатая дверь. Толкаю ее, и мы оказываемся прямо в казарме грез. Верн пишет об этих «опасных курильнях». Табак не оскверняет помещения, где на полках с циновками, расписанными бурым золотом, высокие светильники между которыми, как созвездия в темноте, парят фигуры с облаком внутри. По какой реке забвения плывут они лицами вверх? Это посещение напомнило мне пирамиды. Те же ловушки, те же лоснящиеся поверхности, бурая патина, отвесные лестницы, воздуховоды, ночники, саркофаги и невесомые мумии, следующие за нитью времен.
Заглядываем наверх, в комнаты рафинированных клиентов, но спешим покинуть благовонные покои: нельзя поддаться искушению и уступить дьяволу, который так хочет, чтобы мы проиграли пари.
— Паспарту, — говорю я, — если с помощью ускоренной съемки, как снимают растения, запечатлеть повадки монголов, то мы увидим танцующих купальщиков и волосы, водорослями плывущие в водах времен.
Как же нам будет не хватать этого спокойствия времени, и меню на тысячу блюд, и чашек, и палочек, и вычурности самых незначительных обиходных предметов, а еще тишины, и знакомого «шлеп-шлеп» китайских шлепанцев, и внешней праздности ручного труда, когда вокруг снова будет неаккуратность и спешка, обман и бросовые поделки, штампованные на станке Европы.
В порту стоим с 20-го по 23-е.
Затем нас уносит «Кароа». Мы покидаем Рангун пребывание было долгим. Оставляем друзей и воспоминания. В этом путешествии мы осознаем эластичность времени. Нельзя быть бесстрастным или чересчур увлекаться. Важно не распаляться, накапливать в сердце жар. Суть в том как гореть. В плавности пламени. Восточный человек без конца курит трубку размером с наперсток. Мы привыкли к скорости, это понятно, ведь мы познали красоту с незапамятных времен, встречаем ее, как старую знакомую. Короткие привычки - вот в чем дело! Новые привычки появлялись у нас в каждом порту. По возвращении обнаруживаю у Ницше: «Я люблю короткие привычки и считаю их неоценимым средством узнать многие вещи».
ПЕНАНГ, 26 АПРЕЛЯ • ПОХВАЛА КАФЕ ВТОРОЙ ИМПЕРИИ • НОЧЬ, В ПЕНАНГЕ ВОЛШЕБСТВО • КИТАЙ ДЕЛАЕТ ЗОЛОТО ИЗ НАВОЗА • ОПИУМНАЯ КУРИЛЬНЯ ДЛЯ НАРОДА • ТАЙНА ОДНОГО БАРА
Буйство пейзажей. Запахи, такие же сложные, как и формы. Умопомрачительно зеленая лужайка. Гроза. Деревья, пламенеющие оранжевым огнем: благодаря колонистам их названия перешли к марсельским борделям. Голубые дома, желтые, розовые. Эмалевые драконы. Цветы и ароматы. Лбы бледных горбатых волов, украшенные лирами. Взмокшие кули. У них совсем не такая рысь, как у кули в Рангуне. Они водят плечами на бегу и высоко забрасывают ноги назад.
Змеиный храм. Змеи приняли цвет камней. Замысловатая постройка: архитектурные орнаменты живут, сплетаются, расплетаются и меняют рисунок прямо у нас на глазах. Вспоминаю пещеру Ауды в «Путешествии вокруг света...». Рабочие сцены надевали змей на руки. И заставляли их шевелиться через отверстия. Актер Пуго, войдя в роль, ударяет змею палкой, чтобы защитить принцессу, а в ответ крик: «Какого черта!»
Воскресенье. Банки закрыты. У нас нет ни рупии. Обменная лавка. Мусульмане держат их повсюду. Настоящее имя Паспарту — арабское, и все улажено. Нам приносят напитки со льдом. Мы придвигаем стулья, платим.
Проходит похоронная процессия. Пагоды из кружевной бумаги на плечах обнаженных китайцев. Оркестрик послушников в белом бесконечно повторяет первые такты «Траурного марша» Шопена. Едкие, пронзительные волынки, идущие впереди кортежа, заглушают марш, словно не слышат его.
Пенанг пропитан ядом послушничества. Школы. Китайские барышни в очках, с золотыми крестиками. Ханжеский вид. Школьники на велосипедах. Ни одного белого лица.
Никакой унылой «современности», «унификации цен», «кооперации» не знают в этих городах-деревнях, созданных из неожиданностей и контрастов. Кроме мягкой шляпы (иногда двух — одна на другой), ничто не напоминает о Европе. Китайские улицы могли бы оказаться творением всемогущего почтальона Шеваля или таможенника Руссо от архитектуры. Наивных и чистых талантов. Не случайно в Париже я любил кафе в стиле 1870 года. Там сохранились темные уголки, низкие тесные залы, внутренние лестницы, плюшевые перила, бахрома, лепнина, люстры, жирандоли. Безвкусицы в них не было и в помине. С нее начинается тоска. Уж лучше настоящий дух смерти — как в Египте. Безыскусность надгробной плиты. Улей, царица, соты и черный мед. Смертная тоска бессмертия.
Я восхищаюсь Жюлем Верном, который не описывает даже инкрустированные бриллиантами ноздри мисс Ауды. Он рассказывает о «необыкновенном путешествии», а не о том, что видит за окном. Мне следовало описывать лишь партии в домино в наших каютах, одну за другой.
В целом обходится без сюрпризов. И без разочарований. Все, как я и думал, — чудесно, подробно, досконально, выпукло, непонятно. Например, я совершенно не представлял сикхов, самый красивый народ в мире.
Наше предприятие куда больше, чем декорации и персонажи, заставляет меня думать о планисферах, картах, долготах и широтах, вращающемся небосводе.
А сколько роскоши! Китай, который здесь всюду, знает в ней толк. Я имею в виду бедняков. Пусть горят синим пламенем рекомендательные письма, консультанты, послы. Мы регулярно завтракали и ужинали не на борту, а с нашими кули, и уличные праздники, которые они устраивали для нас, запомнились мне пышностью. Чем беднее Китай, тем он богаче. Его философы владеют философским камнем. Здесь нет грязи — только патина. Им известен секрет, как из навоза сделать золото.
Все воскресенье 27-го числа — погрузка и разгрузка. К нашему кораблю пришвартовалась большая баржа. Крики черных. Мешки с рисом. Заправщики с водой.
Через иллюминаторы столовой погружаемся в уникальную мизансцену. Вся носовая часть судна — зияющий трюм, квадратная пучина, в которой мешки и черные демоны, крики, взмахи рук. А вокруг движутся по нефритовому морю джонки на крыльях, как у ночных бабочек. У берега тот же зеленый оттенок, чуть менее молочный, и горы вдали чуть более воздушны, чем плотные облака и опаловые бреши; электрические лампы с приглушенной яркостью загораются среди такелажа и ждут, когда все погрузится во тьму, чтобы освещать работу.
Крики бригадиров. Китайцы в колониальных шлемах записывают цифры. У управляющих-магометан бархатные шапочки — черные, золотисто-коричневые, гранатовые.
В половине восьмого утра на нас вдруг нападает нестерпимый голод китайского города. Мы спускаем трап и падаем в сампан. Море волнуется, крупные капли дождя. Небо в бляшках просветов, розовые огни — как рассеивающиеся видения. Морось, в которую мы окунаемся, создает призмы и экраны, а на них должны проецироваться миражи. Сампан, неуклюжий, как театральный реквизит или паровая карусель, ныряет в опал, в сторону прибрежной сепии. Мимо на огромных паромах проезжают автомобили, электрические гирлянды, и нас раскачивает в кильватере.
Наши кули ждут. Не хочется идти под таким сильным дождем, когда капли разлетаются. Под арочными сводами кричат ласточки.
Ночь, в Пенанге волшебство. Улица — сцена из бесконечной комедии, обрамленная кулисами узких высоких вывесок. Вывески деревянные и бумажные. Должно быть, лиходейство здесь в порядке вещей. В этом месте невозможно представить заведения Монмартра или Марселя. «Париж со стороны, — говорит Паспарту, — это ночное кафе». Их не может быть в этом суровом пространстве, где все, что мы видим, попадается нам на глаза случайно. Из своеобразия, если его осознать и им пользоваться, рождается живописность и несерьезность. Китайские города серьезны: они знают только себя. Осушенное болото. Сваи и шесты. У любого китайского квартала озерный облик. Ни одного животного.
Носильщики останавливаются и опускают паланкин перед небольшим рестораном, узким, как коридор, пестрящим красно-зелеными афишами и репродукциями, на которых изображены китайские дамы в 1900 году и морские суда времен Русско-японской войны.
Ребенок, что-то евший на коленях у отца, при виде нас начинает вопить. Он испугался, как белый малыш при виде китайцев. Обаятельная семья уходит, но мы еще встретимся после ужина.
Китайцы думают, будто многое заимствовали у нас, но мы заимствуем у них еще больше.
Огромный кули Паспарту решил ретироваться и был таков. Мой — за ним. Мы отпускаем их восвояси. Резкий поворот в тупик, который бирманцы назвали бы разбойничьим. Отвесная лестница; мы попадаем в курильню товарищей наших кули. Ребенок попрежнему вопит от ужаса. Его голенькая сестра болтает восхитительными серо-жемчужными ножками. Ее кладут на полку, покрытую ковриком, сплетенным из рыжих планок, почерневших от тел, локтей и дыма. Курильня перед нами, раздетые китайцы в закатанных кальсонах толкутся в ней стоя. Висящее белье, календари. Красивая высоченная лампа, стекло держится на красном воске. Все остальное в доме — лестницы, комнаты, глухие уголки — в тени. Светит только опиумная лампа. Приветливость улыбок. Чарующая китайская свирепость. Индуса, наверное, плохо бы приняли...
Наш большой кули когда-то был знаменитостью среди тяжеловесов в цирке. Поездил по свету. Привез нечто вроде английского, и теперь его держат за образованного. Он окружен уважением, и мы подкрепляем эту ложь, притворяясь, будто понимаем его и можем с ним говорить. В конце концов до нас доходит, что полиция в Пенанге преследует курильщиков и назначает им норму. Нам показывают заляпанную тетрадь, в соответствии с которой по мере надобности им продают маленькие штампованные капсулы с опиумом. Дни в тюрьме — множество испещренных страниц. Хозяева смеются.
У меня перед глазами навсегда останется высокий рыжий альков, в котором теснятся китайцы необычного телосложения, с маслянистыми ляжками, радостными глазами; они стоят друг за другом и при нижнем свете с восторгом разглядывают невероятное: белых, которые уважают их обычаи.
Если появится полиция, часовой предупредит. Снаружи один паренек закричит условным криком уличного торговца. Второй защелкает бамбуковыми кастаньетами. Тогда опиум исчезает, начинает дымиться чай. Кто-то стирает белье, кто-то скребет по гнусавым струнам. Полиция может делать вид, что ничего не замечает.
Надо уходить. Возле порта остановка в небольшом английском баре. Встречаем первых белых. Четыре англичанина сидят вокруг стола под вентилятором перед стаканами с джином и давят в них тонкие ломтики лимона.
Не успев сесть, замечаем странности обстановки. За исключением невозмутимого бармена, женщины с бледным лицом, выглянувшей из-за портьер, и нескольких обнаженных сикхов, которые то входят, то выходят, завязывая «хвосты», внутри сидим только мы одни и четверо англичан за столом.
В жизни не помню, чтобы я ощущал такое напряжение, разряд непонятной электрической силы. За столом все на виду. Но вокруг себя ничего не замечают. Трое взволнованно смотрят в глаза тому, кто находится к нам спиной; особенно молодой светловолосый англичанин с бритой головой, круглолицый — он прямо перед нами.
Время от времени его глаза наполняются слезами. Может, они пьяны? Джин накаляет обстановку. Но есть еще кое-что. Могу поклясться, в жизни этой четверки сейчас самая напряженная минута. Сидящий справа от человека, повернувшегося спиной, падает на стол, обхватив голову руками. Тот похлопывает его по плечу, а двое других над столом протягивают ему руки, он протягивает левую руку в ответ для крепкого рукопожатия. Похоже, парень справа теряет все, расставаясь с человеком, повернувшимся спиной, который от них уезжает. Команда распадается по капризу судьбы. Кажется, что мужчина произносит тихую проповедь, оставляет им своего рода завещание.
Они как будто никого не замечают. У всех замерло дыхание.
Вдруг Паспарту показывает мне за стеклом, между бутылками и маленьким Джонни Уокером с лорнетом, в красном костюме, черные лица наших кули, которые шарят глазами и подают нам знаки.
Паспарту выходит. Возвращается и сообщает, что кули умоляют остерегаться четырех англичан. Мол, это опасные разбойники. Разумеется, после такой новости мы решительно не хотим уходить, и лица кули расплющиваются о стекло.
Сколько опасных ночей, наверное, пережито в этом баре! Сколько раз они встречались здесь после охоты на простаков.
Пока человек, повернувшийся спиной, похлопывая по плечу, утешает того, кто справа, Паспарту улавливает подозрительное перемигивание между двумя их товарищами. Значит, все еще более запутанно, чем казалось на первый взгляд. Если кули правы, если белые и вправду разбойники и один из них вынужден покинуть город, значит, это их главарь. Он собрал шайку. Он ее голова и душа. Возможно, один из перемигивавшихся хочет воспользоваться его бегством и возглавить промысел. Что говорят их взгляды, обращенные к тому, кто сидит спиной, чьи черты лица — крупные, изможденные, мягкие, суровые — мы можем только представить? Можно подумать, что эту компанию бросает женщина-вамп, роковая особа. Я встаю, Паспарту идет следом, сцена, предназначенная не для многих глаз, напряженная, как натянутая струна, продолжается без меня. Кули тащат двуколки и улепетывают со всех ног, словно вытащили нас из когтей дьявола.
Иногда я вспоминаю этих людей. Когда живешь в Пенанге, это уже означает, что нигде больше тебе жить нельзя... но если нельзя и в Пенанге!.. Этот квартет и его загадочная камерная музыка придали Пенангу тяжелую поэтичность и перед самым нашим отъездом стали олицетворением чего-то неуловимого, грозового, что витало над городом.
Я вспоминаю лицо китаянки, приоткрывшей портьеру, бесстрастную мину бармена и вентилятор, словно приподнимавший четырех мужчин над землей, над добром и злом.
BIG CITY
Виски с содовой в пиратском баре было самым настоящим. Я уснул. Просыпаюсь. «Кароа» стоит на месте, и ее решетят пронзительные гудки. Грохот готовящейся погрузки. Огромная река.
Порт Сьюттенхем. Здесь повсюду дух кругосветного путешествия времен Жюля Верна. Дымя и пятясь, «Кароа» входит в жемчужно-серую гавань. В таком маневре судно приблизится к железнодорожной пристани, где снуют туда-сюда приземистые локомотивы, выплевывая снопы искр.
Нищая толпа. Докеры в лохмотьях, скелеты-исполины. На всех по нескольку фетровых шляп, одна на другой. Иногда они напяливают их, как клоуны: получается шутовской колпак или треуголка.
Чтобы принять товар, перед «Кароа» со стороны реки готовы конструкции из тика и бамбука; открываются трюмы. Сладкая тошнота. Малайский полуостров имеет форму манго. У первого манго изысканный вкус, у второго слишком изысканный, третье выбрасывают, не доев. Оно как благоуханный пот.
Клубы грозовых туч и корабельного дыма смешиваются. Вдали облака обведены темно-синей каймой.
Спускаемся подальше от грохота, обезьяньих криков, перекатов цепей. Все вокруг словно окунули в ванну с рыжей сепией: канаты, балки, паруса, рубахи, тела.
Юный португальский демон предлагает нам свой «форд». Мы садимся. Друг друга не понять. Где город? Big City... Big City. Пусть едет; посмотрим. Окрестности богатые, чистые, сочные. Проезжаем через небольшие китайские городки. Автомобиль мчится на всех парах по блестящей дороге. Обгон — дело негритянской чести. Движение левостороннее. Нам, привыкшим к правостороннему, каждый раз кажется, что машины разобьются всмятку.
Небольшие храмы, окруженные фигурами с какой-нибудь паровой карусели. Вздыбленные звери, зеркала. Растительность романтична. Порой ликующая зелень распускает хвост (это веерное дерево). Изгороди из красного гибискуса. Вода, кровь, песок, промоченный кровью. Здоровое головокружение, как если, находясь в добром здравии, порезаться бритвой. Алая кровь все испачкала, а боли нет. Раны быстро рубцуются. Каучук. Каучуковые леса. От края клейкой раны в коре отделяется длинная каучуковая лента. Тонкая нить жевательной резинки.
Молодые люди на велосипедах, отпустив руль, завязывают волосы в «хвост». Они приближаются к месту, где мы остановились. Смеются. Причины для смеха нет. Опускается ночь. Электрическая канонада. Туманная пелена впитывает вспышки. Справа и слева от дороги — сказочно-изысканные виллы. Дома на сваях в колониальном стиле.
Когда-то меня восхитили слова Бюбю с Мон-парнаса: «Речные трамвайчики освещены до глубины души». Виллы, освещенные до глубины души. В прозрачной мельнице времени жизнь и изысканность просматриваются насквозь.
Big City! Big City! Дороге не видно конца. Куда мы едем? Мы катим уже час. «Кароа» грузится всю ночь, отчаливает утром. Big City... Название города... Нам слышится: «Сумбур». Так и сидим, открыв рты.
Какой он, этот Сумбур?.. Нам все кажется, что город уже близко. Железные мосты. Реки. Кварталы с лавками цирюльников, с загадочными пряностями. Снова загородные пейзажи, лес. Грезы. Составы, бесконечная вереница вагонов. И вдруг гипсовый вокзал, большой, как пять старых Трокадеро, только более легкий, вытянутый, изобилующий башенками, колоннадами, шпилями, минаретами, подсвеченными магнием. Слева, на холме, палас-отели из городов Рембо. Сто тысяч сияющих окон. «Мажестик», «Карлтон», «Сплендид-Отель», «Континенталь». Для кого? В комнаты забираются обезьяны, уносят вещи и вскрывают себе горла бритвами. Ни одного белого. Освещенные беседки в гуще зелени, на озерах, посреди цветочных островов. Бульвары. Беспорядочно свалены повозки — легкие диковины с оснасткой из золотистого металла, покрытые красным лаком; кули спят, вытянув бронзовые ноги. Все та же молочная пелена, сгустки теней, город по-прежнему не начинается.
Big City! Вон же он, такой большой, искрящийся, нежданный, как будто мы еще грезим, спим.
Машина останавливается. Весь город наполнен мурлыканьем вентиляторов и шлепаньем сандалий.
Плоские скуластые женщины с надутыми лицами, натертыми белым мелом, в пижамах с высоким жестким воротником. «Амфибии», — заявляет Паспарту. Мужчины ходят «за ручку», держась большими пальцами. Ни одного европейца. Мы решаем поужинать; выбираем китайский ресторан. Чтобы войти, надо пробиться сквозь толпу, окружившую уличных затейников. Они раскладывают на земле атрибуты азартной игры — красные листы, на которых тушью написаны лотерейные номера.
У входа в ресторан я оглядываюсь. Хочу найти Паспарту и вижу, как он остолбенел при виде жуткого зрелища. Горка какой-то серой мелочи, оказавшейся зубами, дантист сидит на корточках, ацетиленовое пламя светится на конце трубки у него на плече. Перед ним в такой же позе старик, его лысая голова закинута назад, рот широко открыт. На тротуаре лужа крови. Дантист, орудуя щипцами, рвет старику зубы, примеряет новые, откладывает, снова примеряет. За столиками ужинают и наблюдают. Я не решаюсь перейти в другой ресторан.
Язык здесь ни к чему. Нас окружают обнаженные официанты и хозяин. Посетители за соседними столиками вытаращились на нас, как на невидаль. Ковыряют в зубах. Мы пытаемся сказать: дайте хоть что-нибудь. Беззлобные смешки. Нам ничего не приносят.
Что бы мы ни делали, это их здорово забавляет.
Замолкают они, только когда мы смотрим на часы, перевязываем шнурок на туфле или сморкаемся. «How much?» Сколько за часы? А за туфли, за платок? Это все, что заботит китайцев. Единственная английская фраза, которую они знают. Всем правит доллар. Наконец мы показываем то, что нам нужно, на соседних столиках, стесняясь не больше, чем разглядывающие нас соседи.
На ужин рис, острые соусы, сушеная рыба, желатин — прозрачная вермишель, и мелкая зелень, ни с чем не сравнимая по вкусу, — ею посыпают все блюда. Дантист на корточках вырывает и ставит зубы старику. Пошли отсюда. Огромный кинотеатр. «Московские ночи», Гарри Баур (именно так). Мы бежим от Европы, но возвращаемся к ней, чтобы приободриться. Но парижский литровый кувшин наполнили китайским соусом, озвучили фильм на языке этого загадочного люда. Гарри Баур говорит с призвуками гонга, гнусавой гитары, на наречии, соединенном с механикой французского рта.
И снова улицы, слоняющийся народ. Паспарту покупает костюм из плотного сурового шелка. Дает доллар, ему почти все возвращают. Дети играют со шкатулкой и светятся вокруг нее, как светлячки. Это театр размером со спичечный коробок. Нужно вращать ручку. Театр освещается, и благодаря оптическому приспособлению начинается шествие размахивающих лапами чудовищ. Мы покупаем игрушку. На радость торговцу с золотым ртом, говорящему на китайском. Здесь, чтобы ощутить реальность, надо послушать китайскую речь, с грустью вспоминая Пенанг и Рангун. Европы больше нет. Мы написали открытки, выясняем, какие марки наклеить, чтобы дошло до Франции. Неведомая Франция. Сумбур... Сумбур... Это правда. Атмосфера скоропалительной роскоши, пресыщенности золотом; город стремительно вырос из пьяной почвы, пропитанной кровью помоев, он слишком красивый и яркий, как ядовитый гриб.
Белый человек здесь не высовывается. Где он? В банках за позолоченными гипюровыми фасадами, усыпанными красными китайскими буквами на сливочно-лаковом фоне. На складах, на окрестных каучуковых фабриках, на виллах со светлыми шторами в черных тигриных полосах, на подмостках из ценного дерева, на изумрудных полянах, в английских садах с белыми оградами. Кажется, будто город парит в ночи, распустив сто тысяч крыльев своих вентиляторов. Витрины с бриллиантами, с тканями, фруктами, благовониями. Брадобреи ленятся в креслах. Big City, Сумбур ветвится до бесконечности, изматывает зевак, рушит остатки наивной веры в призрачное главенство Европы. Теперь мы даже думать не осмеливаемся о Париже.
Я в полусне. Нас одурманивают ароматы лесов. А еще теплый мокрый туман, пар из турецкой бани; и это томление, малайское утомление, утомление Малайзией. Яды города, в котором блеск строений, товаров, огней, тайная жизнь не имеют ничего общего с населяющей его полуголой скотиной. С ласковой скотиной, рабами невидимого господина. Эта оккультная беспощадная сила напоминает мне широко распахнутые глаза новых вентиляторов, вращающихся на потолках «Стратмора» и словно наблюдающих за каждым пассажиром.
В путь! Машина едет. Туман рассеивает лучи фар, жара то и дело дает орудийные залпы. Big City остается позади. Он существует. Он сияет, затмевая все своей роскошью. Мы вспомним о нем в кварталах Беррие и Ретиро, на руинах восточного очарования, которое хранил несчастный наш городок.
Час в «форде» — и вот доки, река, пристань, мрачные призывы пароходов, которые рабочие сцены в «Путешествии вокруг света» имитируют, дуя в ламповое стекло.
Традиционный спор из-за денег. У нашего проводника вдруг лицо убийцы. Он преследует нас по пятам на «Кароа», не отстает до самых кают. Мы вновь попадаем в суматоху погрузки, окриков, свистков. Паспарту распаковывает игрушку, которая тут же озаряет все вокруг, и шелковый костюм — свидетельства реальности нашего приключения.
Big City существует. Он слишком молод для нашего старого атласа. Я даже не буду настойчиво учить, как правильно пишется его название. Наши города умрут, как и те, которые мнят себя более молодыми, хотя в них лишь перекрасили стены, и тогда он станет властелином пожирающего нас незнакомого мира и сметет прославлявший нас возвышенный тлен.
Венеция, Акрополь, Сфинкс, Версаль, Эйфелева башня, поэтическое старье, священная пыль, остов для фейерверков прошлого. Чем чаще мы станем оглядываться в сторону исходной точки, пока удаляемся от нее, тем заметнее небо будет смещать свои звезды, а часы бодрствования соответствовать часам сна и тем чаще мы будем наблюдать, как идет подготовка к нашим похоронам.
6 часов 30 минут утра. «Кароа» отчалила в шесть, а я и не заметил. Всю ночь — выкрики лотового матроса. Стоя впереди, справа, он раскачивает трос с грузом на конце. Груз уходит под воду. Он спускает трос и издает клич: три высоких звука.
МАЛАККА
Остановка в Малакке — полное разочарование. Малакка, судя по всему, живет сельской жизнью — в полном смысле европейской и благородной. Похоже на маленький провинциальный городок, где полно автомастерских, бумажных фабрик, заводов, школ, методистских церквей, магазинов, спортивных площадок. Клубы и бойскаутские лагеря. Упражняются духовые оркестры. Есть тиры. Развалины храмов. Кулеврины. Редкие старухи еще ходят на культях: гусиные перья на задранных носках их обуви покрашены яркой тушью. Редкие старики носят косы. Здесь особенно грустно, что исчезают обычаи. Народ недружелюбный, как рыбаки в Вильфранше. Только сикхи с их непослушными амазонскими гривами верны себе.
Солнце съедает краски. Вечером они воскресают в перламутровом тумане. Влага смывает пыль. Можно подумать, будто морские растения и мертвые раковины оживают в прохладной воде.
Гибискусовые изгороди. Носильщики называют их «обувные цветы», потому что окрашивают свои сандалии кармином из этих крупных замысловатых цветков, высовывающих язык.
Овощи. Улица-канал. Великолепные джонки из дорогой древесины с огромным глазом впереди.
Моряки, чтобы принять душ, поднимают грязную воду в ведре, привязанном на конце веревки. Затем моются в набедренных повязках. Они сжимают кулаки и что есть сил растирают себя.
В Малакке невозможно нырнуть прямиком в мир улиц и найти там жемчужину. Надо было бы существовать по-английски. Мы спешим вернуться на корабль, который отходит в семь часов.
СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ
Живописность и вычурная красота очень редко не доводят нас до усталости, до смертельной хандры. Формы, линии, краски обладают силой, которую человек Запада использует как попало, а человек Востока все пропускает через нее.
Восприимчивых гнетет нестройность пропорций. Глупость архитектора опаснее любой другой, ведь от ее влияния не уйти. Дело тут вовсе не в плохом или хорошем вкусе. Само место изматывает, отравляет, вытягивает все соки, неслышно, исподтишка навлекает чары и порчу. Отель или корабль могут стать источником странных лишений. И вы не будете знать, чему обязаны недомоганием, которое подтачивает ваши силы. Окоченевшая душа теряет гибкость. Болезнь не поддается анализу. Сначала вы смеетесь над уродством; оно вызывает любопытство, возмущает. И мало-помалу пропитывает вас ядом; ваш организм отказывается расцветать. Косоглазие, хромота, смерть.
Востоку знакомы эти страшные силы. Ими он пользуется, чтобы чинить вред или очаровывать. Индийский храм, китайская пагода могут нас загипнотизировать, околдовать, привести в возбуждение, усыпить посредством своих пространств, сводов, перспектив.
Памятник, который служит нам сейчас или служил в прошлом, не вызывает усталости. Колизей служил, Акрополь служил. Сфинкс служил... Поэтому они нам нравятся. Необязательно знать, чему они служили, необязательно ими пользоваться. Сам факт, что они возникли из некой надобности, что их строителями руководила какая- то цель и вынуждала подчиняться правилам, избавляет их от всяческой неупорядоченности и легковесности. Идет ли речь о том, чтобы удивлять, восхвалять, возвышаться, даровать мертвым зарок продолжения жизни в сходстве с двойником или благодаря этому сходству отпугивать разорителей могил — отправная точка всегда не случайна. Великие эпохи не ставят нас перед лицом эстетских творений. Птицы боятся пугала, мы — нет; но одна лишь потребность добиться цели вдохновляет крестьянина, который его создает и освобождает от «духовной» роли. В этом красота пугала. И негритянских масок, тотемов, египетских сфинксов.
Весомые и почти всегда тайные мотивы лежат в основе тысячи нюансов, которыми выткана суетливая красота мира. Своеобразие может показаться нам бесцельным, но в его выразительной силе всегда есть скрытые корни.
Известно ли вам, почему в Китае женщинам ломают ноги? Такова мода, ответите вы мне. Весьма долговечная мода. И, надо сказать, у нее есть неожиданный первоисточник. Лысый придумывает парик, хромой — штрипку, принцесса в красных прыщах — мушку, беременная императрица — кринолин... Многие скрытые недостатки легли в основу необычной моды.
Появление культей у женщин Китая объясняется иначе. Раса палачей не мыслит любовь без страдания. Покалеченная нога продолжает чувствовать боль в месте перелома. Одно лишь прикосновение к нему уже мучительно. Вот истинная суть обычая, возбуждающего любопытство, но исчезающего вместе с другими изощрениями. Чем больше Китай подражает нам, тем чаще отказывается от своих загадочных даров. Эротизм возвращает к европейской грубости.
Кулинарные рецепты и рецепты любви утрачиваются или превращаются в фольклор. Юной китайской новобрачной можно больше не бояться супружеских трудов, а ведь раньше в нужный момент она билась в конвульсиях и кричала от боли.
С чего начинается этикет, который от дома к дому, сверху донизу преображает все, что принято и не принято у народов?
Индусы и негры скорее умрут, чем разденутся догола перед врачом. Если английского офицера, который без одежды купается у берега реки, заметит вдруг местный житель, британец потеряет лицо, и ему придется покинуть индийские земли. Восточный хозяин открывает рот, чтобы в звуках выразить почтение гостю. Звуки другого рода — позор, после которого остается только смерть.
У майора Б*** молодой солдат-индус издает роковой звук во время учений. Вряд ли его услышал кто-нибудь из товарищей. Через час он покончил с собой в джунглях выстрелом из ружья.
Отец с шумом выпускает воздух, наклоняясь над колыбелью сына. Жена называет его «пердуном», и он вынужден покинуть деревню. Проходит двадцать лет. Он хочет увидеть сына. И возвращается в деревню тайком. Спрашивает... Его возмужавший сын стал солдатом индийской армии. Можно гордиться! Вот сын возвращается, а старая жена стоит на пороге дома. Отец забыл о прошлом; он подходит ближе. Жена его узнает. «Надо же, — кричит она сыну, — смотри-ка, пердун вернулся». Он бежит прочь и явиться вновь не посмеет.
Эти две истории были на самом деле. А вот сказка.
Принцесса любит сапожника. Ей запрещено его любить. Врачи уговаривают отца согласиться на свадьбу. Сапожника обучили манерам, и свадьба состоялась. Во время брачного пиршества сапожник также издает опасный звук. Он вскакивает из-за стола, бросается прочь и, прихватив кое-какую скотину, со всех ног бежит из дворца и из столицы. Пересекает поля, леса, деревни и оказывается в другом городе. Решает там поселиться, открывает мастерскую, женится, заводит детей.
Состарившись, он хочет вновь увидеть город своей принцессы. И как-то ночью, оставив семью, проделывает тот же путь, что и в прошлый раз, но в обратном направлении. Пересекает леса и поля. И наконец видит город, который новые памятники сделали неузнаваемым.
Он минует ворота. Идет вперед. Ему кажется, он узнал дворцовую площадь, но самого дворца нет. На его месте общественный сад и почта-телеграф.
Он подходит к нищенке, которой столько же лет, сколько ему. «Когда, — спрашивает, — разрушили дворец?»
Жестом показывая, что это было давно, она отвечает: «В год пуканья».
Ужасная история. Одно слово — и оказывается, что этот преступный звук изменил облик вещей и разделил их на то, что было «до» и «после» него. Прихотливый венец возложен на голову несчастного старика сапожника.
На Западе от такого промаха принцесса бы покраснела, а отец сказал бы: «Ну-ну!»
На Востоке обрушиваются стены и отмечаются вехи царствований.
Зачем ломают ноги, еще можно объяснить, но эта загадка — без ответа. Когда выясняется, откуда что взялось, нюансы перестают быть забавными. Непросвещенный турист, путешествующий по миру нашим способом, должен знать, что сталкивается с обычаями, в которых ни бельмеса не смыслит. Пусть зарубит это у себя на носу — глядишь, оробеет и лишится европейской бесцеремонности раз и навсегда. Чем бы он ни был озадачен, нельзя смеяться, улыбаться, нужно уважать знаки, теряющие декоративную наивность, едва наш разум проникает в их смысл.
ТРИ ЧАСА УТРА, 29 АПРЕЛЯ
«Кароа», разболтанная своими машинами до мозга костей, берет курс на Сингапур и, скользя на сияющем постаменте, расправляет два пенных крыла под беззвучные магниевые разрывы — проблески жары.
СИНГАПУР • ОДОМАШНЕННЫЕ ДЖУНГЛИ - СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА • ТОЧНОСТЬ ГРАНДИОЗНЫХ ПЬЕС
Сингапур — это укрощенные, одомашненные джунгли. Повсюду выплескивается чудовищная сила их зарослей, становясь газонами, парками, цивилизованными растениями, полями орхидей. Это самый здоровый порт в Азии.
За исключением отдельных редких случаев малярии, здесь нет болезней. Игровые площадки, бейсбол, регби. Народ лежит на газонах у моря. Английская политика. Пока молодежь веселится, она не устраивает заговоры.
Французские миссии в Сингапуре оплачивает Англия. Там больше не говорят с учениками по-французски. Миссии хотят выжить. Англия защищает их как своих политических агентов.
Два модника в тюрбанах из накрахмаленного тюля поверх остроконечных золотых шапок. Один конец тюля спускается до пояса, другой устремляется вверх прожекторным лучом, муслиновой стрекозой, гордой кокардой. Сюртук, кальсоны из белого полотна, сиреневые кожаные туфли, тонкие усы, кольца, цепи, хлыст на английский манер под рукой.
Модники расхаживают вдоль витрин, что-то обсуждают, заходят, выходят обратно. Понятно, что выбор одежды, духов и прочий адонисизм — это таинство, предмет ежеминутных забот. «Наверное, это раджпуты, — заявляет Паспарту. — Они обманывают бедных женщин и предсказывают судьбу». Я восхищен оригинальной трактовкой, подсказанной Паспарту этими принцами тротуара. Раджапуты. Они и правда из этого великого племени (раджпутана), самого благородного в Индии? Их костюмы необычны? Общее безразличие подтверждает, что одеты они, как принято, с обозначением касты или провинции. Любая экстравагантность гардероба здесь подчинена правилам. Только где же до Индии я мог видеть таких молодчиков? В театре, черт возьми! Больше того — в спектакле «Вокруг света». Костюмы и мизансцены как нельзя точны, перед постановкой импресарио явно прокатились по всем городам.
Отель «Адельфи». Из комнаты, изрешеченной створчатыми дверьми и фрамугами, попадаешь в следующую, на открытом воздухе. А из комнаты на открытом воздухе — на большую знойную террасу. Терраса выводит к храму и факирам.
ПРИТОНЫ
«Отчаянность и бесстрашие — это хорошо. Но всему есть предел. Вы делаете ошибку. Поверьте опытному колонисту». Сколько я слышал этих малодушных советов псевдомудрых трусов, которые делают понимающий вид и говорят про свой опыт. У нас теперь тоже опыт. Мы пересекли весь мир. В каждом городе мы бесстрашно шли за нашими кули в тупики, где вздрагиваешь от чирканья спички, проходили по расшатанным лестницам, грязным дворам, проникали в какие-то лазы. Для объяснений хватало жестов. Иногда из-за этого случались недоразумения, попадались подозрительные гостиницы. Нам приводили китайских цып в сопровождении матрон... Недоразумение прояснилось — все смеются, и складывающаяся дружба крепнет с каждой секундой. Все притоны без исключения отличались гостеприимством, лучшие места — для гостей. Кто спал встает, уступает место и не жалуется, что разбудили. За сигарету готовы отдать душу.
Этой ночью на чердаке, где вокруг ламп собралось десятка два сотоварищей, сосед по циновке, вздрогнув, очнулся от сна и остолбенело уставился на наши бледные лица. За перегородками - пение трубок. Мне показалось, что издалека я заметил нас в зеркале, висящем на стене, но понял, что рама этого зеркала — открытое окно, за которым другие окна, другие лампы, другие курильщики.
Разумеется, здесь несложно было бы с нами разделаться. Даже полиция не отваживается совать нос в среду вроде той, в которой живут наши дворники, а торговец опиумом издает те же крики, что и плетельщик стульев.
Один раз атмосфера вокруг нас стала вдруг напряженной. Подозрительной. Какой-то тип, старая каналья в очках, настоящая кобра, попытался заморочить головы нашим парням. Я был в них уверен, но знал, что неверный жест может сбить их с толку, по-глупому толкнуть на преступление.
Следовало сохранять спокойствие, вести себя так, чтобы им стало стыдно. Проливной дождь. Атмосфера сразу разрядилась. Выходим, и наши парни, понурив головы, сами говорят, что больше мы в эту гостинцу не пойдем.
(Такие чердаки — это гостиницы, где они спят и курят на чертежных столах или под ними.)
НОВЫЙ МИР • ТЕАТРЫ • КУХНИ
В Сингапуре есть свой Луна-парк. Даже два. Французские друзья, чета Купо, ведут нас ужинать в самый старый. В «Нью Уорлд». Белых нет. Здесь расплетается заплетенный клубок рас, все рассаживаются по театрам. Китайский театр, малайский, магометанский, японский находятся так близко друг к другу, что музыка и реплики смешиваются. Почтительные молчаливые зрители никогда не аплодируют и внешне никак не выдают своих чувств. Сосредоточенные зрители (женщины, мужчины и дети, сидящие по разным рядам) и бесконечные постановки.
Когда они начинаются? Когда заканчиваются? Можно сыграть во все игры, испытав ловкость и удачу, обойти все балаганы, перепробовать любые кухни, и на каждой сцене будет разыгрываться сюжет, где персонажам приходится вести борьбу с обстоятельствами. Длинные монологи. Над шутками никто не смеется. В малайской пьесе борются солдаты, вожди, молодые военачальники, пираты с длинными бородами, вояки со штандартами в заплечных корзинах, боги реки, лагерей, храмов, могил, видения из сна за тюлевыми занавесами.
Я вхожу, когда враги атакуют молодого военачальника, стоящего на стуле за декорацией с красной шторой, которая символизирует его шатер. Солдат бросает в него бомбу на веревке. Тот ловит ее и тоже бросает. Внизу воины в устрашающих масках размахивают шестами с оранжевыми лоскутами на концах, изображая огонь. Рабочие сцены бьют в гонги. Половина лица молодого актера, играющего военачальника, покрыта зеленым гримом. Каждый раз, переходя из зеленого света в белый, освещение он переносит с собой.
В китайском театре разыгрывают современную мелодраму. Разбойники похищают девушку. Мне попадается сцена в духе наивного реализма. Женщины в гипсовом гриме мучают свою жертву в красном платье. Ее стаскивают с железной кровати, заглушая крики одеялом.
Борьба, угрозы мучителей, метания девушки складываются в этом аквариуме в жестокую пантомиму, размеренный ритм которой прерывают галдящие барабаны.
Неподалеку, справа, за спиной внимательной толпы, на фоне минаретов и куполов дамы в коротких сорочках соблазняют юного принца из сказок Перро (в те времена краски на эпинальских картинках слегка растекались).
Сколько серьезности и внимания, ни тени нетерпения, иронии, скепсиса, пессимизма в этих залах на открытом воздухе, где следить за текстом, должно быть, совсем не просто. Но ничто не отвлекает зрителей, замкнувшихся в своих грезах: ни гомон в соседнем театре, ни карабины, ни парады, ни выкрики кабатчиков или волынки факиров.
С террасы китайского ресторана, где нам подают второе блюдо — наструганные бритвой хрустящие и светлые утиные шкурки, — мы смотрим на театры сверху вниз.
Свита малайских воинов скачет вокруг молодого военачальника, который то прячет руки в рукава, то высовывает их, выполняя пальцами череду тонких традиционных движений. В китайском театре продолжается история жертвы. Разбойники сидят за столом закусочной в кубистском стиле. Мяуканье, выспренность, гнусавые модуляции голоса долетают до нашей террасы, где продолжается смена блюд.
Забыл сказать, что, пока нам готовили, мы пробовали маленькие шашлыки в специях на открытой арабской кухне.
Шашлыки зажаривают на углях и окунают в полуострый, полусладкий червонно-золотой соус. Ничего лучше я на Востоке не пробовал. Платишь в зависимости от того, сколько палочек осталось на столе.
Перед каждой кухней на полках выставлены ингредиенты меню. Чашки с мягкими хрустальными бусинами, волоски ангела, красные лакированные крабы, инеевые шарики, мука вроде той, которой некоторые сикхи обмазывают себе лоб, снежная манка, личи — законсервированный поцелуй, ломтики яблок, груш, манго, арбузов, ананасов, папайи, наколотые на зубочистки и разложенные на кусках льда, розовый сироп, а еще пучки сахарного тростника и медовые оладьи.
ТОРГОВЕЦ ЗВЕРЬМИ
Этот парк за городом — символ того, каким мог быть Сингапур и каким он стал.
Китайский торговец зверьми на берегу моря. Кажется, что его ящики и клетки сделаны из чего попало. Обнадеживать публику не нужно: звери и не думают ломать хилые прутья.
Две рыжих гориллы в павильоне, окруженном водой. Жена (иначе не скажешь) соскальзывает в воду. Проходит по вытянутым рукам, перелезает через ограждение, обнимает нас, раздает рукопожатия, заставляет обнимать себя за шею. Все ласки — в какой-то прострации, словно она не в себе. Славная морда — красный кокосовый орех, живот — шар, кисти больше, чем у нас, мягкие, неловкие. Она провожает нас взглядом. И вдруг решает вернуться в свой павильон. В воде останавливается и сладострастно, как истинная кокетка, потягивается. Несколько раз прикрывает ладонью глаза. Как будто хочет очнуться от страшного сна.
Все звери пойманы накануне — от какаду серо-стальной расцветки с кораллово-розовыми щеками до крокодилов, которые, провалившись в зловонную тину, напоминают ссохшиеся, подбитые по краям гвоздями, зевающие башмаки Чарли Чаплина. Питоны — как рулоны из половых тряпок. И где-то, бог знает где, среди этих черных рулонов, — голова Каа с розовыми и желтыми вкраплениями — расколотая, растрескавшаяся, размозженная, превращенная в месиво в неведомой схватке. Здесь все герои «Книги джунглей»: Балу с приплюснутым носом — грустно ему за прутьями клетки — и Шер Хан, плененный позавчера. Осиное гнездо над жаровней не смотрелось бы так жутко, как пленный тигр, вжавшийся в угол клетки. Внутри у него мотор неизмеримой силы, и эта идеальная машина смерти дрожит от гнева перед непрочной стенкой. Слышится «эх!», «эх!», «эх!» — словно связанный борец все не может поверить, что все кончено, и ненавидит себя за то, что проиграл. «Эх!», «эх!», «эх!» Бешеный рев, яростные стенания, приступы законного возмущения и отчаяния заряжают его батареи, распаляют, заставляют играть усами, когтями, желтыми волнами, агатовыми и изумрудными молниями. Морда, вспыхнувшая, разгоряченная, раскаленная добела. «Эх! Не может быть, этого быть не может! Ужасно, несправедливо. Кто будет охотиться для моей жены и сыновей? Где они? Если бы я знал! Как же я так?.. Эх! эх! эх!..» Вот что выражают его напряженные мышцы, яростные лапы, бешено клокочущая утроба, хрипящее горло и рычание, рвущееся из души.
Он подчинится. Станет почти послушным, слепым. И у него будут глаза из лунного камня, как у другого тигра, чуть поодаль, который живет в своей клетке уже семь лет.
Под кустом гибискуса с красными кокардами сдвоенных цветков — королевская кобра. Похоже, благороднее экземпляра не найти. Хранительница сокровищ. Ее рассматривают за стеклом, потому что яд, которым она плюется, смертелен, если попадет даже на легкую царапину. У кобры заканчивается линька. Над коровьей лепешкой своего темного тела она раскрыла капюшон и подняла голову — набалдашник трости, инкрустированный слоновой костью и эмалью — розовой, кремовой, черной, светло-желтой. Бросаясь на стекло, она сломала нос. Ей больно, но она сдерживает гнев. Смотрит на меня. Раздумывает. Колеблется. Она кобра. Мы тоже могли бы оказаться в ее шкуре. Моргает маленькими серыми глазами-шариками (один пока наполовину прикрыт кружевом отмершей кожи). Медитация уносит ее дальше звезд. Как и тигра, бунт словно распаляет ее изнутри, и в сумраке читается на просвет неяркая мозаика черепа и шеи.
Маленький малайский Маугли вопит от страха, когда Паспарту пытается взять его на руки. Успокаивается, когда его сажают на решетку возле большого четырнадцатифутового питона.
Он трогает питона. Колотит по решетке.
Дикая golden cat меньше полицейской собаки. Скрестив лапы и прикрыв глаза, наблюдает. Благодаря позе юного жестокого принца и сложному гриму у нее как будто два рта — один над другим: фальшивая уничтожающе-ироничная улыбка. Как молния свидетельствует о смертоносных тайнах неба, так же и тигр, кобра, крокодилы, золотая кошка, а иногда ароматы плюмерии или плотоядные растения, венценосная головка мака с опиумной испариной, туканы в шальном оперении выдают насыщенность соков земли, на которой мы оказались. Лианы вытеснены усадьбами, дорогами, парками, угодьями, церквами и гостиницами, но почва, а также солнце и дожди, которые делают ее плодородной, не меняются. Англичане и японцы это знают. Представьте богатства, которые эта страна может предъявить иссякающей Европе.
Нас везет на своей машине Жюж, директор Банка Индокитая. Он из той породы колонистов, которые умеют находить ключи к сердцам аборигенов и держаться в строю. Он не погряз в полу-ориентализме. «Главное — понять, хочешь ли ты погрязнуть», — говорит он.
Чиновники, решившие изучить китайский... У них все начинает валиться из рук. Их мозг работает выплесками каламбуров. Они утрачивают связь с реальностью, скользят по наклонной снов, опиума души, который овладевает ими и способен погубить европейца, но не сослужить ему службу.
Не все торговцы зверьми богаты так же, как наш. В самых неприметных уголках Сингапура можно купить гориллу, львицу, четырнадцатиметрового питона, кобру или какого-нибудь тапира — беззащитных, оставшихся без когтей и яда, но таких уродливых и грязных, что ни один зверь не польстится на них в качестве пищи. Китайский торговец показывает этот товар в подсобных помещениях магазина. Он скидывает холстину с клетки, залатанной с помощью старых веревок, как крышку со старенькой коробки с печеньем.
1 МАЯ • МОЕ ОТНОШЕНИЕ К КОНСУЛАМ • КАК Я РАБОТАЮ И КАК ПУТЕШЕСТВУЮ • ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В «НЬЮ УОРЛД»
Душная ночь. Подушка-валик, которую на Востоке все обхватывают по ночам ногами и руками, как фантом любви.
Мы чуть было не упустили возможность уехать в воскресенье. Поскольку мы плохо знаем английский, не читаем правила и ни к кому напрямую не обращаемся, короче, живем, как лунатики, то, приехав в Малайзию, мы не зарегистрировались. Промашка случилась еще в Пенанге. Теперь нам было предписано явиться к судье. К счастью, Купо из «Мессажри Маритим», занимавшегося нашими билетами, предупредили в «Японской компании», и все уладилось до закрытия контор. По субботам и воскресеньям Англия «закрывается». Это не только мешало нам уехать и гробило наше предприятие, но нам также предстояло заплатить шесть тысяч франков штрафа.
Консул Франции, которого мы случайно встретили, упрекает меня за такое отношение. Ему мало понятна особенность нашего путешествия, мой взгляд на вещи и то, что нам приходится передвигаться по поверхности земного шара отрезками, как движутся стрекозы, снуя над озером или приостанавливаясь у каждого цветка.
Если являться в консульства, консулы начинают всюду меня приглашать, они обязаны меня пригласить, а я обязан принять приглашение; вместо того чтобы прожить один день в стране, где я оказался, я проживу один европейский день; больше того — официальный день, такой, каких у меня и во Франции не бывает, потерянный.
Да простят меня наши послы и консулы. Особенно месье де Витасс в Каире, старый друг моего дяди, который был посланником в Египте и в Персии. Он поймет, какую непростую задачу я должен был решить, и не будет в обиде.
Принцип нашего путешествия правильный. Через четыре дня наши кули отказываются от платы за работу и в качестве сюрприза устраивают для нас ночные праздники с танцами при свете фонарей, в шляпах с лентами и прочим реквизитом... Успех — это когда за несколько часов удается проникнуть в душу города, народа и заставить его нас оценить. Мне лестна мысль, что во всех местных городах остались простые люди, которые будут нас вспоминать.
Бывает, что, находясь в городе четыре-пять дней, в один из них мы не выходим из номеров. В выбранном нами ритме можно позволить себе терять время.
Если бы Intelligence Service шпионила за нами на каком-нибудь острове, где конфискуют «кодаки» и боятся, как бы Япония не пересекла перешеек, отделяющий Бенгальский залив от Сиамского, — ведь тогда конец сингапурской морской базе, — ей пришлось бы задаться вопросом, что мы делаем в бедняцких кварталах.
Мы искали друзей.
Вполне резонно при моем стиле работы. К любованию я холоден. Мне нужны гром и молнии.
Ненависть и любовь. Ничего другого я не ищу, как говорит Антигона: «Все прочее мне безразлично».
Времени не существует. Как только перестаешь следовать общепринятому представлению, из него уходит вся реальность. С 29 апреля по 4 мая в Сингапуре времени прошло много, но долгим его не назовешь, я бы, скорее, сказал — бесконечным и богатым на воспоминания, поэтому уезжаем мы с чувством, что придется искоренять прочно привившиеся привычки. В последнее воскресенье мы шатались по городу. В тот день была гроза. Гром, который я люблю с детства, перекатывался с края на край в небе цвета серой стали, переходящего в бледно-желтый. Такой желтый я видел только в пасти крокодила, а такой серой была его кожа.
Начинаешь догадываться, какими бывают настоящие грозы над древними джунглями и какие над ними поднимаются испарения.
Последний раз в «Нью Уорлд». Мне посчастливилось присутствовать на пантомиме, это пролог к малайской пьесе. Сцена разворачивается на втором этаже островерхой шестиэтажной башни. Каждый этаж окружен светящейся гирляндой. Башня расписана сценами из легенд.
На молодом военачальнике пурпурное облачение, расшитое серебром, и шлем с длинным черным султаном. Его танец (он изображает бой) сводится к тому, что под аккомпанемент гонгов движением шеи этот конский хвост откидывается то вправо, то влево, то вперед, то назад. Руки извиваются, летают в воздухе. Вот он едет верхом; вот кружится на месте. Выслеживает самого себя. И наконец, бросает в себя бомбу на конце веревки и попадает в цель. С блистательным криком он поднимается на носках и падает замертво. Умерев, он сразу считается невидимым. Поднимается, сохраняя каменный облик, и актерской походкой удаляется за кулисы. Рабочие, выходя на сцену, толкают его. Видно, что реквизит пьесы свален в кучу в глубине, как атрибуты иллюзиониста.
Прибыв ночью на борт «Касима-Мару» («мару» — одно из тех японских слов, о которых спорят и которые обладают силой табу: их загадочный, возвышающий смысл теряется в легендах), я с удивлением смотрю на экипаж в домашних халатах, забыв, что кимоно — национальный костюм, а халат из него сделали мы (вполне в духе Фенуйаров): «Месье, как вы смеете показаться мне в халате?» — сказала бы супруга Аженора, мать Артемизы и Кунегонды.
Красивые китайские, японские, индусские барышни обезображивают себя очками так же, как натирали лицо мукой вместо белой пудры в 1900 году. Эта уродливая мода пошла от голливудских звезд.
5 МАЯ • ВЛИЯНИЕ КОРАБЛЯ НА МОРСКОЙ ВИД • ЧЕМ ОПАСЕН СИНГАПУР • СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ • ДОСПЕХИ АНГЛИЧАН
По всему кораблю улыбки, приветственные жесты и реверансы. Судно очень старое, обслуживание очень хорошее, вина потрясающие.
Странно видеть в китайском море тянущиеся японские пейзажи с облаками и водой. Вода — бегущая армия. За ней неспешно следуют облака — обоз. Пышные колесницы, вздыбленные драконы, флаги. В медном круге иллюминатора движение усложняется. Отражения кружатся в обратном на-правлении, быстрее облаков, медленнее воды, как тарелка на конце шеста эквилибриста.
Паспарту обессилел от пота, снов, грез, усталости. Он расплачивается за свои маленькие праздники в Сингапуре. За трубку Фикса!
Мы похудели вдвое. Костюмы на нас болтаются. Коридорами из кошмарных снов плетемся в ванную, на ланч, на ужин, в бассейн. «Там и сгинуть можно», — говорил мне консул.
Джунгли-травести мстят. Им нужна бронзовая плоть, сообразительность насекомых, сердце тигра, безрассудный дух. Всего одна ранка — и вас наполнят черные флюиды. Жены рыдают в номерах отеля, мужья ненавидят своих начальников.
Начальники мучают подчиненных... От горечи и отвращения подступает смертельная тоска.
Кругосветная гонка окончательно укрепила наше убеждение, что несправедливость всегда очевидна и преходяща. Каждый получает роль по заслугам, согласно системе мер и весов, охват которой шире, чем у наших поступков, она ломает нас, толкает и определяет нам место со слепой точностью. Постепенно мы привыкаем к наградам и наказаниям этой абсолютно безнравственной системы. О весах не говорят, что они справедливые; говорят, что они «правильные». Так давайте признаем принцип правильности, которому подчинена человеческая жизнь и который человек упорно принимает за справедливость. Когда справедливость нарушает его расчеты или сбивает с пути, то есть вертит им, как хочет, он называет ее несправедливостью. Бич гармонии — это каламбур, такие часто встречаются в изящных языках. Бич, карающий за какую-то оплошность, особенно когда человек упорно хочет упорядочить то, что упорядочивается само. Плыть против течения хорошо только в некоторых, весьма ограниченных обстоятельствах, которые еще надо распознать. Зато лечь спиной на воду и лежать — подходящая тактика, чтобы извлечь пользу из тайн течений. Высота зависит от крыльев. Глубина — от веса. Самого себя не обгонишь. Сколько быстрых лошадей сочли фаворитами! Время все расставляет на места и приводит к цели плавную стремительность настоящих победителей. Вот в чем секрет Востока. В чем сила Китая и Японии. И в этом же причина достижений колонизаторской Англии. Карьерист в колониях сломает хребет. Мечтатель завязнет. Тот, кто умеет перевести дух и задержать дыхание, обязательно придет к цели.
Китайцы способны, посмеиваясь, ходить взад-вперед перед девушками, у которых вырывают зубы, или перед приговоренными к сожжению на медленном огне. Ни один не отпрянет при виде такого зрелища, не возмутится, не подумает прийти на помощь. Чужой драме они не посочувствуют — для них это развлечение. Устройство их чувств лишено стихийности. Они абсолютно не сентиментальны.
(Малаец или китаец сообщит начальнику: «Вчера убили моего сына». И скажет это со смехом: из вежливости, чтобы не смущать.)
Чем больше я раздумываю над явлением, заставившим нас поверить, будто в Сингапуре у нас была долгая остановка, тем отчетливее замечаю странную усталость, которая сковывает нас, заставляет колебаться, прежде чем сделать малейшее движение, вижу наши худые желтые лица в зеркалах и ощущаю флюиды, миазмы, чары, очарование, колдовство, творимые древним призраком джунглей. Нельзя безнаказанно одомашнивать места, олицетворенные коброй и тигром. Газоны, теннис, банки не мешают дыханию Сингапура, прерывистому, как в брюхе зверя недалеко от экватора. Это крайняя оконечность Азии. Человеческие формы здесь словно тают, становясь ручьями пота, кожа окрашивается от соприкосновения с карри и шафраном грозовых небес. В Сингапуре между шестью и семью часами, после дождя, я видел драматичный и ясный свет — такой же, как в некоторых воспаленных снах.
Да, джунгли продолжают невидимо расти, расширяют призрачный спектр своих ловушек, вскармливают призраков своих зверей. Их ароматы стелются по земле, яды витают в воздухе; последний уличный факир прячет их в корзинах, которые переносит старый слуга с седой бородой. Этот красивый остров и красивый город обладает еще и тайными свойствами, которые искажают время и создают его, как пейотль искажает ракурсы и раскрашивает все, что мы видим. Ему удается заронить в нас зерна смерти, которые затем прорастают и мстят. Живым чувствам безнаказанно не преодолеть эти старые уничтоженные джунгли, к ним пристает новый облик, в котором их заставляют жить дальше. И только у англичан есть против этих чар броня безразличия — доспехи флегматичного джентльмена.
6 МАЯ
Сила японца в верности композициям из нескольких декоративных тем, всегда одинаковых. Эта верность столь очевидна, что отражение иллюминатора на перегородке в ванной напоминает фабричную марку. Заснеженная вершина, лодки, мосты, цветущая ветка на переднем плане, на фоне лунного неба: Японии не выйти из идеального круга, который Хокусай рисовал вместо подписи.
Франция гибнет от чаевых и скидок. Повинный японец приносит себя в жертву на алтаре предков. Алтарь предков во Франции — это шерстяной чулок с припрятанным золотом, надежный тайник и клич: «Спасайся кто может!»
Этой ночью нам приходится перевести часы на тридцать минут вперед; корабль скользит по практически гладкому морю. Невозможно не понять, что мы огибаем шар, окруженный пустотой. Луна на столпе, представляющем собой тень. Справа и слева от него особая яркая бледность неба выделяет границу моря, и от горизонта к нам пролегла мерцающая широкая полоса, по которой мечутся призраки яликов, рыбаков, гребцов, словно увлекаемых течениями. Сумрачное сердце корабля бьется мощно и ритмично, растрясая наши внутренности, и к моей усталости добавляется недуг, представляющий собой не морскую, но машинную болезнь.
9 МАЯ
Полдень, по коридорам только что пронесли ксилофон: объявляется ланч. Справа от нас, со стороны Китая, плывет засушенный парусник, гигантский мертвый лист, торчащий над морем.
ГОНКОНГ, ВЕЧЕР, ВОСЕМЬ ЧАСОВ • ДРАКОН • ГОРОД ЗНАМЕН • ЧУДЕСА В АНТРАКТЕ
Матросы повесили шкуру змеи сушиться на леере. Восемьдесят сантиметров в ширину, шесть метров в длину: идеальный передний план, чтобы наблюдать, как приближается Китай. Ее бежевые, желтые, черные краски, орнамент из пятен и геометрических переплетений — прообраз всех циновок в курильнях и золотистого налета, возникающего на самых незаметных предметах, которыми пользуются китайцы.
Стало почти холодно. Море теперь совсем не японское. Оно разворачивает вокруг корабля серые морщинистые кожаные волюты, и словно огромные бледные медузы накрывают собой подвижные облака из туши, которые разбиваются о киль и тянутся чернильной фиолетовой кромкой. Ночью чернила будут фосфоресцировать.
Китай дает знать о себе уже несколько часов — именно так, как я описал: в замедленных порывах ветра, несущих сухие листья и бабочек-пядениц, прилипших к обломкам коры — джонкам.
Сумрачные острова с непрерывной белой линией обрывистых берегов и маяками. Мы вдруг заметили, что наступила ночь, потому что Гонконг появился там, где мы этого не ожидали, и узнали его только по расположению огней: они причудливо рассредоточились от подножия холма к вершине, и каждый выглядел тревожно и значимо, как сигнал. Небесная гора с мерцающими яркими созвездиями не может принадлежать больше ни одному побережью мира, как китайская ночь, созданная из теней, полутеней, туманов и ореолов не похожа ни на одну другую ночь.
В восемь часов корабль встает на рейд — гигантский, вытянувший Гонконг вправо и никак не подсвеченный.
Пароходик вроде тех, которые обслуживают Ла-Сэн, Сен-Мандрие, Ле-Саблет и Тамарис (тот же возраст и стиль), доставляет нас к причалу, похожему на пристани Тулона, того самого Тулона, куда, как представлял Жюль Верн, влечет своих восторженных почитателей опиум.
Неухоженная пышность и театральная помпезность возвысили Гонконг над китайскими городами, которые мы видели на полуострове. Рангун и Пенанг рядом с ним вспоминаются как большие деревни, блошиные рынки.
Гонконг — это дракон. Он извивается, встает на дыбы, устремляется вниз, складывается в кольца, ощетинившись всеми своими бульварами, прилегающими улочками, рынками в переулках, глухими тупиками и отвесными лестницами. И эти улицы, бульвары, переулки, тупики, ступени как будто ждут появления религиозной процессии или украсились флагами перед каким-то зловещим праздником — словно на эшафот провожают короля. От одного конца зданий до другого, на беспорядочно цепляющихся за стены клетках балконов, на балюстрадах с неостекленными проемами, в которых бьются живые тени вентиляторов и рвутся наружу деревья и ползучие растения, вывешены флаги, знамена, стяги, орифламмы, вымпелы, пугала из рубашек с распрямленными на копьях рукавами, золотые поросята и утки, фонари со светящимся рекламным посланием в каждом, плакаты, таблички, вывески, рисунки, панно, испещренные незнакомыми знаками и загадочными цифрами.
Мы идем мимо крепостей из фруктов, по маленьким джунглям цветочного рынка, где из срезанных лилий выложены геральдические венки, где охапка гардений стоит одно су, мимо витрин торговцев опиумными лампами, трубками и иглами, по базарам, где самая простая соломенная шляпа украсила бы нашу молодую особу.
Ни одного автомобиля или почти ни одного: бесшумные автобусы, кресла-носилки и кули при них — орут, разгоняя толпу. Из всех окон, напоминающих горы коробок, лотков и ящиков, доносятся бормотание, мяуканье и удары граммофонных цимбал.
Дракон извивается, играя всеми расписными чешуйками, всеми висячими матерчатыми сталактитами, щетинится шестами-сталагмитами, напоминая о том спектакле на театральных подмостках, когда рабочие меняли волшебные декорации. На подмостках, где переплетаются тросы, открываются люки, уходят вниз и поднимаются вверх леса, где скрипят тележки, нахлестываются занавесы, проезжая вдоль сцены, где софиты взмывают вверх, сети цепляются за холщовые задники, и те закручиваются и ломаются в колосниках: это настоящий корабль, наспех собранный в измерениях случая, пространства и времени, настоящий хаос покосившихся горизонтов, раскачивающихся небес, такелажа, мачт, рей, трапов, ютов и лееров; и в этой вакханалии перспектив, криков, свистков и пыли ходят актеры и актрисы в шелковых костюмах, беспощадно загримированные, с мертвенными лицами. Подвижные декорации преподносят сюрпризы, которые не снились ни одному самому гениальному режиссеру.
Этот спектакль, о котором мы с Кристианом Бераром часто говорим с сожалением, потому что он не смог понравиться публике, спектакль антракта, необычный и грандиозный, нельзя не вспомнить в Гонконге, как только нырнешь за кулисы его улиц, где лавки и обрамленные комнаты, открытые на всеобщее обозрение на каждом этаже, похожи на артистические уборные, и удивительные артисты переодеваются и гримируются там, чтобы потом спуститься и исполнять свои роли в красно-зеленом освещении фонарей — роли носильщиков с бронзовыми икрами, облаченных в лоснящиеся отрепья, худых юношей, прикрывающих отставленные назад локти и выпяченный живот под облачением из черного глянцевого полотна, стариков в серых одеждах, с бородками и маленькими бархатными ступнями, матерей с детьми в ленточной сбруе за спиной и недоступных изящных девушек небесной красоты, которые носят узкие платья со стоячим воротником и длинные косы или короткие локоны, жемчужины в ушах, перчатки из белого гипюра до локтей и держат в рука веера из петушиных перьев.
РОЗОВЫЕ КОНФЕТЫ
Этой ночью незнакомец, китаец, провожавший нас из одной часовой мастерской в другую, чтобы починить часы Паспарту (китайцы обожают взваливать на себя вашу поклажу и вас провожать), предлагает отвести нас в гонконгскую курильню.
Путь туда лежит между стен, поросших лилиями и гардениями, по Флауэр-стрит, где цветочники, сидя на земле, делают венки и кресты из гвоздик, гладиолусов, далий, гардений и лилий. Все цветы белые. Улица идет вверх и, словно флагами, увешана грязным бельем через пять этажей; там стоят мамочки, обмахивая ягодицы, и играют дети.
Мы поворачиваем налево, заходим в сарай с щелями между досок. Внутри курильня с очень высоким потолком, устроенная, как стойло в конюшне; курильщики расположились на полках, их лица слегка подсвечены лампадами. Все та же коричневая патина, золотистый налет, знаки и орнаменты, как на змеиной шкуре на корабле. Все та же тишина, прерываемая детским плачем и прерывистым шипением опиума. Полки откидываются и превращаются в столы с опорой в виде буквы X. Курильщики карабкаются наверх и соскальзывают вниз, между ними — доска.
Толстуха, сморкаясь в пальцы, отвешивает дозы опиума на крошечных весах. Держит она их рукой, опершись на локоть. Ее муж проплывает от одного клиента к другому, продувает фильтр, меняет горелку, подливает наркотик.
Китайский народ — жертва новой моды, которую я отношу на счет неведомого врага. Этой моде четыре года. Это розовая конфета, сахарная жемчужина цвета розовой свечи, с дырочкой. Она заменяет опиум в Макао — китайском Монте-Карло, построенном на скалах, в трех часах езды от Гонконга, где богатые и бедные китайцы могут утолить свою страсть к игре. Этот искусственный опиум дешевле настоящего. Он наклеивается на отверстие в горелке, которая в четыре раза больше обычной и напоминает цветочную вазу, используемую не по назначению и продырявленную с одной стороны. Горлышко, обхваченное медной резьбой, закрепляется на конце трубки для выдувания. Лампа с опиумом горит в стеклянном кубе — в нем слабее тяга. На вкус сладковато, обманчиво, гибельно: догадываешься, что в безобидной с виду массе — самый коварный дурман.
Дым разливается карамелью с молоком, которую мы делали в детстве дождливыми днями в деревне. Эту деревню, мою комнату, кузенов, заставлявших меня пробовать то, что получилось, я вижу, когда закрываю глаза, кладя затылок на фарфоровый куб.
Увы, от ароматов нового порока меня мутит, не расслабиться, и мы даем себе слово не прикасаться к трубке.
Пора возвращаться на борт. Завтра в девять утра на пристани мы встречаемся с нашим добровольным проводником — радостной тенью, бегущей впереди нас и, словно дым над лагерем пиратов, скользящей между голыми носильщиками, которые спят вповалку, напоминая семейство гадюк: у тех тоже головы торчат во все стороны, и только по ним можно понять, сколько там всего особей.
ГОНКОНГ, ДЕНЬ
Мне казалось, что многолюдный и увешанный флагами Гонконг существует на подмостках ночи, и в путешествии по его театру теней разыгралось наше воображение, а завтра утром подготовка к празднику смерти и казни покажется нам воспоминанием о сне.
Напористое солнце бьет в гонг горы. Гонконг днем похож на Гонконг ночью. Разве что он еще более загадочный под солнцем, воспламеняющим разноцветные рекламы, красную бронзу, из которой изваян народ, и рамы картин, в которых он живет. Отвесные лучи и гильотинный холодок узких улиц, где висят выпачканные кровью знамена-ножи. Лес флагов, в котором солнце рассыпается струями и мечет на прилавки золотые слитки. Пирамиды плодов и цветов, бегуны, впряженные в коляски с сидящими в них, расправив плечи, молодыми истуканами, и котурны хромого беса, которому ничего не стоит поднять все крыши и посмотреть, что творится в домах.
Мы покупаем отрез чесучи и различные предметы туалета, которые наш проводник относит вместе с фотоаппаратами в дом на Флауэр-стрит. Затем завтрак на третьем этаже ресторана, где снуют повара, перенося блюда и продукты на концах лежащих на плечах шестов. На прилавке рядом с нами томятся в бутыли с солоноватой водой сотни обезглавленных змей и агам с трагическим множеством звездочек-лап: превосходное средство от бессилия и ревматизма.
Большой прямоугольный проем нашей лестничной площадки врезан в здание, напоминающее заштатный отель в Вильфранше, напротив кинотеатра; отель приводил меня в трепет, завораживал своими кадками с растениями и косым освещением. Тулон и Марсель часто вторят звучанию Азии, ведь это пристанище моряков. Моряки, сами о том не подозревая, привозят с собой болезни и погоду. В панцире из миазмов, лихорадки, дыхания улиц ходят они, как носители рекламных щитов, всюду сея ностальгический мусор.
Сколько мусорных баков в наших портах, сколько закоулков, в которых дощатые изгороди, запах, подозрительное освещение, фигура китайца, прижавшегося к стене, нашептывали мне вы-разительную фразу, мотив симфонии.
В Гонконге ее грянут сразу все духовые, струнные и деревянные; музыка выплескивается из оркестровой ямы и ливневыми потоками затопляет артерии наклонного города. Оставляет на площадях зловонные лужи и с новой силой каскадами рвется к порту. Там банки, судоходные агентства, высотные здания штаб-квартир «Кука», «NYK Line», «Истерн телеграф», преграждают ей путь надменными дамбами своих фасадов.
Джонки в гавани кружатся в том же замедленном ритме, что и ветер, встречавший наш корабль. Маленькие двуглавые пароходики, похожие на змей, которые, по заверению Биу, моего слуги-аннамита, с одного конца питаются древесным углем, а с другого — лягушками, обеспечивают сообщение между стоящими на якоре судами и пристанью, где разгуливает расфуфыренный сброд — племя рикш.
Чуть не забыл, что на одной из площадей — на площади клуба «Гонконг», где болотом расплылся оркестр, — на газонах, на большом расстоянии друг от друга, выросли каменные щиты и пьедесталы, и, словно выполняя танцевальное па, бронзовый английский король вытянул ногу вперед и уперся кулаком в бедро, а у бронзовой королевы — юбка с бронзовыми воланами, и бронзовая прическа, и бронзовый кружевной веер в руках.
Лицом к морю под колоннами храма любви сидит на троне старая королева Виктория с диадемой на голове и скипетром в руке. Эти статуи, превосходящие ростом людей и принятые в странный оркестр, обескураживают своим китайским видом. Паспарту цитирует мне слова одного сенегальца, который на ломаном французском спросил его, стоя с раскрытым ртом перед памятником на площади Квинконс в Бордо, «люди ли это сделали». Этот государь и его бронзовые принцессы, усыпанные звездами плевков, размахивающие атрибутами королевской власти и гордо вздернутой победной саблей, подчеркивают глубину поражения Европы и мечту, состоящую в том, чтобы подчинить богов.
На первый взгляд — какая победа! И какое фиаско, если приглядеться. Чтобы расположить этих людей, требуется столетие; и две недели, чтобы все потерять. Довольно того, чтобы желтые соседи, вооруженные, воспитанные, образованные Европой, сорвали зрелый плод с ветви и сохранили эти три статуи, подтверждающие, как изменчива национальная гордость.
ЧАРЛИ ЧАПЛИН, 11 МАЯ • СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА • НОВЫЙ ЯЗЫК • УЛИЧНЫЙ ХУДОЖНИК • ЗАБАРРИКАДИРОВАВШЕЕСЯ ИСКУССТВО • ПАСПАРТУ УЛЫБНУЛАСЬ УДАЧА • ПРОЩАЙ, ШАРЛО • РАБОТА
Два поэта движутся прямой колеей судьбы. Но случается так, что их прямые пересекаются и образуется крест или, если угодно, звезда. Моя встреча с Чарли Чаплином остается чарующим чудом этого путешествия. Многие хотели этой встречи, многие пытались ее устроить. Каждый раз возникало препятствие, и вдруг случай — носящий на языке поэтов другое имя — забрасывает нас вдвоем на старое японское судно, перевозящее товары по китайским морям от Гонконга до Шанхая.
На борту Чарли Чаплин. От этой новости у меня внутри все перевернулось. Потом Чаплин мне скажет: «Настоящая роль творчества в том, чтобы дать возможность друзьям вроде нас обходиться без прелюдий. Мы были знакомы всегда». Но в тот момент я не знал, что желание этой встречи было обоюдным. Кроме того, в этом путешествии я понял, как капризна слава. Конечно, я познал радость от того, что тебя переводят на все языки, но в иные моменты, ожидая дружеского участия, натыкался лишь на пустоту; а иногда, наоборот, ожидал пустоты и бывал щедро одарен дружбой.
Я решил написать Чаплину короткое письмо. Сообщил о том, что я на борту, и о своей любви к его персоне. Он вышел на ужин и сел за столик вместе с Полетт Годдар. По его виду я понял, что он желает сохранить инкогнито.
На самом деле мое письмо ему не передали. Он не думал, что я на «Кароа», и не видел ничего общего между мной и пассажиром за соседним столиком, который сидел к нему вполоборота. После ужина я вернулся в каюту. Раздеваюсь, и вдруг в мою дверь стучат. Открываю. Чарли и Полетт. Мое письмо только что принесли. Чаплин боялся розыгрыша, подвоха. Бросился к администратору посмотреть список и, удостоверившись, побежал вниз, перепрыгивая через ступени, чтобы лично донести свой ответ.
Сама простота, сама молодость. Я был взволнован. Попросил, чтобы они подождали меня в своей каюте, чтобы я мог надеть халат и предупредить Паспарту, который что-то писал в библиотеке.
Можно представить искренность, накал, свежесть этой необычайной встречи, предопределенной только нашими гороскопами. Передо мной была живая легенда. Паспарту пожирал глазами кумира своего детства. Чаплин же встряхивал седыми кудрями, снимал очки, снова их надевал, хватал меня за плечи, хохотал и, повернувшись к своей спутнице, твердил: «Is it marvellous? Is it not marvellous?»
Я не говорю по-английски. Чаплин не говорит по-французски. Но мы разговариваем без малейших усилий. Что происходит? Что это за язык? Живой, самый живой язык на свете, созданный желанием общаться любой ценой, язык пантомимы, язык поэтов, язык сердца. Каждое слово Чаплин делает выпуклым, кладет его на стол, на тумбу, отступает, поворачивает под таким углом, чтобы ярче высветилось. Слова, которые он выбирает для меня, легко перенести из одного языка в другой. Иногда жест предшествует речи и сопровождает ее. Прежде чем сказать слово, Чаплин извещает о нем, а произнеся, поясняет. Шары в руках жонглера не замедляются, и даже не кажется, что они замедлились. За ними можно проследить в воздухе, он ничего не запутывает.
Наивный Лас Каз пишет в «Мемориале» о плохом английском императора: «Из этого стечения обстоятельств родился настоящий новый язык».
Мы действительно говорили на новом языке, в котором совершенствовались и за который к всеобщему большому удивлению стали держаться.
Этот язык понимали только мы вчетвером, и, когда Полетт, которая хорошо знала французский, упрекали в том, что она не пытается нам помочь, она отвечала: «Буду им помогать — они заблудятся в мелочах. Когда они предоставлены самим себе, они говорят главное». Эти слова — свидетельство ее ума.
Должная деликатность не позволяет мне посвятить вас в подробности планов Чаплина. Он раскрыл мне сердце, и я не могу поделиться его богатством с публикой. Скажу только, что он мечтает разыграть сцену с распятием — в каком-нибудь дансинге, где никто этого не заметит. А еще он задумал фантазию на тему пребывания Наполеона на Эльбе (переодетый Наполеон в полиции). Отныне Чаплин отрекается от Шарло. «Я всегда на виду, как никто другой, — скажет он, — я работаю на улице. Моя эстетика — пинок под зад... и я уже его чувствую». Замечательное высказывание, открывающее новую грань его души. Говоря современным языком, у него громадный комплекс неполноценности. Сопоставима с ним только справедливая гордость и набор реакций, призванных защитить его одиночество (от которого он страдает) и не допустить, чтобы кто-нибудь посягнул на его исключительные права.
Даже дружба кажется ему подозрительной — с ней неизбежны обязательства и неразбериха. То, что он бросился мне навстречу, похоже, было исключением из правил, и он вдруг этого испугался. Я чувствовал, что он спохватился и, раскрывшись, снова, как говорится, замкнулся.
В своем следующем фильме он не появится, он придумывает его для Полетт. Три эпизода предстоит снять на Бали. Он сочиняет текст и без конца пишет. Пересказывает мне диалоги. Похоже, этот фильм — передышка перед новым циклом. Впрочем, сможет ли он отказаться от темы «бедного паяца», которого возвысил своим гением? Его очередной ролью будет шут, мечущийся между полюсами жизни и сцены. Оттого что он старательно придерживается рамок простодушной романтики, обнажая при этом прозу каждой детали, за ним, как по лезвию бритвы, следует самая бесцеремонная и тяжелая публика.
Как я не догадался, что в «Новых временах» он расстается с этим типажом: впервые в конце по дороге Чарли уходит не один.
Впрочем, этот образ размывался постепенно — в нем появлялось все больше человеческого. Усы становились меньше, носки ботинок укорачивались...
Если он начнет исполнять роли, то пусть когда-нибудь покажет нам «Идиота» Достоевского. Князь Мышкин — разве не в его духе персонаж?
Я говорю с ним о «Золотой лихорадке»: для художника это подарок судьбы. В таких произведениях от начала до конца чувствуется дыхание удачи, прокладывающей лыжню между небом и землей. Я вижу, что попал в точку: он отводит «Золотой лихорадке» отдельное место в своем творчестве. «Танец булочек! Вот что они все хвалят. Механическая работа. Проходной эпизод. Если именно это бросилось им в глаза, значит, они не увидели остального».
Помню, с каким юмором и изяществом он очаровывал гостей; он умел летать во сне и думал, будто этому можно научить других — тогда полет удастся продолжить после пробуждения.
Он прав: кто видел и помнит только этот номер, неспособен понять этот эпос любви, эту шансон де жест. Фильм между жизнью и смертью, между бодрствованием и сном; в нем пламя свечи не одного грустного Рождества. Чаплин погружает в собственные глубины колокол братьев Уильямсон. Снимает свою глубоководную флору и фауну. Эпизод в хижине объединяет народные легенды Севера, эпизод с цыпленком — греческую комедию и трагедию.
«Чтобы произведение прорастало, как дерево, — такое везение бывает не каждый раз. “Золотая лихорадка”, “Собачья жизнь”, “Малыш” — исключения. Я слишком долго работал над “Новыми временами”. Когда я доводил сцену до совершенства, от дерева отламывалась ветвь. Я растряс дерево и пожертвовал лучшими эпизодами. Они существуют сами по себе. Я мог бы показывать их по отдельности, один за другим, как мои первые ленты».
Он разыгрывал перед нами вырезанные сцены. В тесной каюте расставлял декорации, заставлял двигаться статистов, превращался в самого себя. Незабываемая сцена, в которой он собирает вокруг себя весь город и останавливает движение из-за деревяшки, которую тростью пытается пропихнуть в решетку канализации.
Полетт на пять минут исчезает, Чарли наклоняется и с загадочным видом шепчет: «А ведь жалко до слез...» Что это? Жалость к маленькому тысячеиглому кактусу, к молодой львице с роскошной гривой и когтями, к спортивному «роллсу», блещущему кожей и металлом? В этом весь Чаплин и особенность его сердца.
Жалость к нему самому, бродяге, жалость к нам, жалость к ней. К бедной юной особе, которую он всюду возит с собой, чтобы накормить ее, потому что она голодна, чтобы уложить ее спать, потому что она устала, чтобы вырвать из городской западни, потому что она чиста, и я вдруг вижу перед собой не звезду Голливуда в серебристой атласной форме грума и не богатого режиссера с вьющимися седыми волосами, одетого в твидовый костюм горчичного цвета, а невысокого мужчину, бледного, кучерявого, с резвой тростью, который, прихрамывая на одну ногу, тащит за собой по свету жертву монстра большого города и полицейских ловушек[4].
Чаплин — смирный ребенок, за работой показывающий язык.
Этот ребенок спускался в мою каюту, он приглашает нас в Калифорнию, эти двое детей, закончив «Новые времена», за пять минут решили отправиться в Гонолулу, взявшись за руки, прокатиться по свету.
Мне стоит большого труда увязать концы с концами: человека, который со мной говорит, я вижу в цвете, но есть еще маленький бледный призрак, его многоликий ангел, которого он своей властью может распылить и развеять на все четыре стороны, как ртуть. Понемногу мне удается соединить двух Чаплинов. Усмешка, морщинка на лице, жест, подмигивание — и силуэты сливаются: один — святая простота, маленький херувим в котелке, который входит в рай, срывая манжеты и гордо расправляя плечи, другой — импресарио, дергающий самого себя за нитки.
Как-то вечером он попросил доверить ему Паспарту. Хотел сделать из него звезду в балийском фильме. Он искал типаж и нашел его. Паспарту станет идеальным партнером для Полетт Годдар — и все такое... Можно представить волнение Паспарту. Он не верил, что это происходит наяву. К сожалению, дальше планов дело не пошло по нашей вине, из-за единственного условия: Паспарту должен был выучить английский, в Англии, за три месяца, и он даже готов был совершить этот подвиг, но обстоятельства и моя работа все перечеркнули.
Но, как бы то ни было, Паспарту встретил «свою удачу в морях», как предсказывала ему одна гадалка, и это доказывает, что молодые люди должны путешествовать и плыть навстречу судьбе.
«Случилось чудо, — скажет Паспарту без тени горечи, — Чаплин предложил мне роль. Верх роскоши — когда не можешь согласиться. Моя жизнь озарилась волшебством».
Этот план упрочил наши узы и еще больше нас сблизил. В пути и за столом мы стали неразлучны. На «Кулидже» нам отвели соседние каюты. Мы настолько привыкли жить вместе, что расставание в Сан-Франциско стало для нас болезненным.
У нас была не просто встреча двух интересовавших друг друга художников. Это была дружба двух братьев, которые нашли друг друга и поняли.
Заперся ли Чаплин в каюте или ходит взад-вперед по студии — во время съемок он по уши в работе. Есть повод опасаться, что, отрешившись от всего, он оторвется от жизни, запутается в каких-нибудь немудреных проблемах и не успокоится, пока не переберет все возможные варианты решения. Улыбающийся старик, мать-китаянка, кормящая грудью новорожденного, — сценка в бедном квартале для него источник вдохновения. Ему только того и надо, и он запирается со своей любимой работой.
«Я не люблю работу», — говорит Полетт.
Чаплин работу любит; а поскольку он любит Полетт, то и ее причисляет к своей работе. Все прочее для него смертельно. Как только его отвлекают от творчества, он устает, зевает, сутулится, его глаза гаснут. Он проживает маленькую смерть.
«Чаплин» следует произносить на французский манер — «Шаплен». Он потомок художника.
Двумя линиями в своем роду он гордится. Этой, французской, и бабушкой-цыганкой.
Плотью и духом человечек из фильмов принадлежит еврейскому кварталу. Его котелок, сюртук, ботинки, кудри, желание жалеть, смиренная и гордая душа — как цветок в гетто. Разве не символично и не прекрасно, что любимая картина Чаплина — «Башмаки» Ван Гога?
12 МАЯ
Чарли работает.
Два дня сидит взаперти в каюте, небритый, в костюме, который ему мал, с взъерошенными волосами, маленькие руки терзают очки и раскладывают исписанные листы бумаги.
«Я могу завтра умереть в ванной, — скажет он мне в Шанхае. — Я не в счет. Меня нет. Существует только бумага, она имеет значение».
Встреча в отеле «Катай» в пять часов. За ужином соберутся дельцы Голливуда.
Чарли за столом зевает. В этом китайском дансинге, который любой ценой не хочет выглядеть по-китайски, Китай выдает только восхитительный пол. На этом полу будет исполнен номер, олицетворяющий этот грязный город, хотя Шанхайской Лили-Марлен здесь было бы тесно и она осталась бы обычной европейкой, сидящей в «Венере» под синей гирляндой виноградных листьев вместе с «такси-герлз» (девушками всех цветов кожи, с которыми можно потанцевать за билетик: пять билетиков стоят один доллар).
«Белый цветок китайского квартала» — так говорила Марлен Дитрих, кутаясь в боа из куриных перьев. Такой цветок трудно представить в этой разбитой вазе, здесь только позавчерашние цветы разбросаны по танцплощадке.
Смотрим вызывающий жалость танец, за которым Чарли следит, открыв рот, по галстуку расплющился тройной подбородок, а лоб исполосован циркумфлексами морщин. Рыжеволосая оборванка с клоунской прической, в колпаке трубочиста на голове бросается вперед под первые такты кекуока Дебюсси: одна нога голая, другая — в штанине Пьерро, ляжки в сеточку, перчатки в красных блестках.
Представьте себе затененную балюстраду, вдоль которой стоят китайцы в длинных одеждах, словно семинаристы, собравшиеся танцевать танго, китаянки и метиски с манерами светских дам, и еще одна особа, которая в свете прожектора, под аккомпанемент оркестра среди тяжелых золоченых пюпитров и зеленых фонарей говорит: «Я придумаю современный номер, акробатический танец, в котором наше время, грусть Пьеро, клоунские шутки, ужимки дьявола, проворство юнги и кокетство роковых див смешаются в один винегрет». И давай подпрыгивать, и вставать на повернутые внутрь носки, и высовывать язык, и втягивать шею в плечи, и подмигивать, царапаться в воздухе, грозить пальчиком, дуться, выделывать пируэты, скакать на одной ноге, покачивать бедрами, и, «козырьком» приложив ладонь к глазам, вглядываться в горизонт, да еще тянуть воображаемые снасти — словом, выделывать весь набор дурачеств.
Эта дамочка — олицетворение Шанхая, предстающего перед нами, когда мы пытаемся прервать необузданный бег одноглазых кули, которые мчатся вперед, сами не зная куда, и умирают в расцвете лет.
Посетители ресторана-дансинга встают и кружатся по площадке. Чаплин сидит за столом. Он жует. Заметно, что для него мучительны долгие взгляды тех, кто ищет его персонаж.
Я оставил его одного. Меня пригласили за столик соотечественники. Он дуется. Через проход рассказывает о петушиных боях в Испании: хозяин боев, великан с руками маркизы, маленькими белыми пухлыми ручками, которые он томно, сладострастно потирал, умывая кровью. Двигаются только его тонкие руки, и слегка дрожат ноздри.
Полетт вдруг встает. Ей хочется «увидеть Шанхай». Пусть смотреть не на что. Так надо. Мои французы пытаются мне внушить, будто существует некий тайный Шанхай. Из кожи вон лезут. Чаплин возвращается в гостиницу спать. И уложить авторучку и фотокамеру — ценные приспособления, из которых льются чернила или изображения: на ночь их следует прятать в вату.
Нас уводит Клод Ривьер, особа, которая с 1922 года переезжает с острова на остров в южных морях; еще в нашей свите директор агентства «Гавас» и корреспондент «Пари-Суар». Ночь в разговорах «по секрету», в бесцельном шатании, усталости, в топтании перед дверьми — зайти или нет? — ночь пьяных американских моряков и сдутых шаров, которые продают русские: у них косматые бороды и стоячие воротники, и они помирают от нищеты.
Квартал дансингов такой же, как в небольшом европейском порту. Исключение — «Венера», где «такси-герлз» рассаживаются вокруг синеватой площадки, а в оркестре американские моряки горланят в рупор песни; вход туда через сырой грот — ничего общего с моим представлением о Шанхае. «Кризис», — оправдательное словечко, которое твердят наши товарищи по несчастью.
Заваливаемся в номер отеля, куда полицейский не позволяет ровным счетом ничего заказать.
Где-то, конечно, должен быть Шанхай, похожий на город нашей мечты и даже лучше. Но на этот раз мы начали не с того конца. Наши спутники избегают этого скрытого города, который символизирует храм на окраине, где младенцы, выращенные в банках с маслами, становятся Буддами. Там выкармливают отвратительных грудничков, тельце которых не вырастает и остается бесформенной желатиновой массой. И только головы смотрят на вас, старея. Эти балаганные священные чудовища живут до сорока—пятидесяти лет.
(На самом деле с этими диковинами все еще печальнее. В банку с маслом могут упрятать украденного или купленного ребенка одного-двух лет, нормального сложения, здорового — избранного, чтобы стать богом.)
Я знаю, что, путешествуя нашим способом, есть риск пройти мимо многочисленных незнакомых друзей, ради которых я пишу. Увы, на «Кулидже» я узнал, что нас ждали шанхайские подростки, приготовившие праздничное выступление. Да простит меня Бернардин Зольд-Фриц и ее друзья с шоссе Юэнь-Нин-Юэнь, 55. Пусть она знает, что я кусал локти: как мне хотелось увидеть не только едкую оболочку Шанхая! Но провели мы там всего одну ночь.
15 МАЯ
Море снова становится японским. Волны и пена, как заснеженные Фудзи, вырастают и рушатся. Вдали низкие берега, расчерченные агатовым рисунком полос тумана. Навстречу кораблю попадаются небольшие заостренные острова, где в миниатюрных садах живут пять-шесть рыбаков. Они здороваются, когда мы проплываем. Эти острова так близко и такие плоские, что можно подумать, будто судно проходит между ширмами, где изображены море, его жители и их обиталища.
ЯПОНИЯ, 15 МАЯ • МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА РИСУЕТ МЕЛОМ КРУГ • ЯПОНИЯ ВЫХОДИТ ИЗ МОРЯ • РАДОСТНАЯ ВЕСНА • КИКУ ТОРО, ЖРЕЦ ТЕАТРА • БОРЬБА: «КОКУГИКАН» • ДОМА ТЕРПИМОСТИ • «ПРЕЗИДЕНТ КУЛИДЖ»
Япония еще живет по законам военного времени, и молодые военачальники пытаются установить там фашистскую диктатуру. Поэтому, с одной стороны, туристические проспекты на «Касима-Мару» приглашают посетить Японию и пестрят завлекательными обложками, с другой стороны, вас допрашивают, грозят отобрать фотоаппарат, полиция бесцеремонна, это отбивает желание ехать туда, и вы уже выглядите подозрительно в собственных глазах.
Из Японии я увожу совсем не тот образ, который сложился у меня до того, как я туда приехал. Конечно, месса бывает опереточной, а священники и прихожане участвуют в ней без веры. Но самоубийство, то есть способность индивида на жертву во имя множества или императора, который это множество воплощает, лежит здесь в основе всех улыбок и приветствий. Цветы с эстампов уходят в почву извилистыми корнями ночи. Народ, обреченный каждые шестьдесят лет на крах всего, к чему он привык, из-за землетрясения и ураганов, соглашается отстраивать свою жизнь на пепелище. В конце деятельного пути — смерть. Они терпеливо склоняются перед тяжкой судьбой и заранее приносят в жертву свой дом из дорогого дерева, соломы и рисовой бумаги.
В Кобе меня сразу поразила девочка-простолюдинка, играющая в классы. Эта пятилетняя девчушка рисует мелом на тротуаре идеальный круг, которым Хокусай подписывал свои послания. Замкнув свой шедевр, она скачет вдаль на одной ноге и показывает язык.
Хотел бы я взять с собой этот круг. С первого нашего шага он раскрыл мне секрет японской души. Этому спокойствию, сравнимому с торжественной тишиной парка перед храмом императора Мэйдзи, этому трудолюбивому терпению, уверенности глаза и руки, четкости, чистоте мы обязаны изумительной резьбой по дереву и безделицами, которыми завален рынок Европы. Здесь самый дешевый в мире ручной труд, зато солдат, который некогда довольствовался чашкой риса, съедает четыре. Такая ему уготована плата на земле и на море. Конкуренция исключена. Ослушается военачальник или попытается подражать важным европейским птицам — и вскоре вспорет себе живот. В недавнем деле о генералах- самоубийцах победители и побежденные соперничали в героизме.
Императорский дворец в Токио, город в форме колеса, — это ступица, вокруг которой все вертится. За серой стеной и глубокими рвами, наполненными стоячей водой, даже мельком не увидеть микадо. Если он отправляется в путешествие, то от дворца до вокзала толпа стоит на коленях, опустив глаза. Но нынче полиция запрещает толпе вставать на колени: слишком много места занимают. Замирает движение. Захлопываются ставни: говорят, что тот, кто из любопытства подсмотрит за микадо через окно, ослепнет. Проверять никто не решается. Императорский дворец — Ватикан в этой религии долга.
В отеле «Орьентал» в Кобе мы просто переночуем. Мы решили на следующий день добраться до Йокогамы через Киото, а оттуда съездить в Токио и обратно. Один журналист будет нашим переводчиком.
На первый взгляд японки выглядят, точно какой-то анахронизм. Как будто в карнавальных костюмах. Контраст между высотными зданиями и их кимоно настолько яркий, что выражения их лиц и глупый смех под плоскими зонтиками хочется списать на неловкость за свои наряды. Постепенно начинаешь привыкать и убеждаешься, что ни одна японка не будет одеваться по-европейски. Работающие мужчины носят европейские костюмы. Остальные — кимоно. У рабочих и развозчиков оголенные ноги, огромные икры, белые перчатки, вокруг головы обмотано махровое полотенце, а синяя блуза покрыта вензелями. У всех мужчин и женщин короткие белые носки: они скрывают пальцы ног, выделяя только большой. В щель сабо-копытца продет тонкий ремешок. На этом ремешке и перевернутой бархатной букве V держатся колодки греческого театра, которые добавляют роста тем, кто их носит, позволяют не шлепать по грязи и щелкают, как кастаньеты. Если погода хорошая, колодки превращаются в простые стельки из дерева или соломы. Их оставляют на пороге, так что циновкам знаком только легкий шаг белотканых копытец. Утонченную публику можно отличить по тому, как белые укороченные носки облегают ногу, и по шву, который углублен между пальцами почти незаметно.
Повторю: церемониал превыше всего. Важен ритуал, и тот, кто им пренебрег, убивает себя.
Ритуал и субординация. От императора (он — номер один) до бедняка у каждого свое место на одной из ступеней социальной лестницы, его не уступают никому.
В зависимости от популярности актер будет иметь право на большее или меньшее число музыкантов в оркестре. Лаковые шляпы, шнуром подвязанные под подбородком, черные кисейные прически, косы, кисточки, вензеля, веера, опахала от мух свидетельствуют о привилегиях бонзы, борца или куртизанки.
Япония вышла из моря. Море выбросило ее, как перламутровую раковину. Море сохраняет право разрушить ее или взять обратно.
Ставшие прообразом декоративных пятен японского искусства, бледные рыбы в черных и красных крапинах словно подчиняются национальному стилю. Самураи, ощетинив усики и выставив клешни, сражаются в лаковых панцирях, кусты повторяют ветви кораллов, а водорослями украшены сады перед домами, похожими на легкие лодки.
Японец обожает сырую рыбу. Привкус прилива пропитывает пищу, и нас осеняет мысль, что некоторые типажи схожи с эскимосами. Все весьма запутанно и весьма нелегко упорядочивается. Я ориентируюсь вслепую и пытаюсь заглянуть в душу хозяев.
Фотографы. Фотографы. Фотографы. Это лейтмотив нашего пребывания. В отеле в Киото, после того как мы проделали путь среди лотарингских пейзажей, прислуга, узнав нас, просит подписать открытки. Сбежав от них, мы ужинаем по-японски и отправляемся на представление с танцами гейш. Ужин милый, простой, в небольшом зале, где нас обслуживает девушка, похожая на сестру Игоря Маркевича. Подается тэмпура. После сукияки, говяжьего и куриного мяса с овощами, которые тушатся на угольной плите в углублении по центру стола, тэмпура — основное национальное блюдо. В него входят гигантские креветки, острый перец и жареные огурцы — их опускают в коричневый соус и едят палочками. Саке, рисовую водку, разливают теплой в крошечные фарфоровые чашки, она заменяет наше вино и сопровождает трапезу.
Мы уже ели сукияки в японском ресторане в Сингапуре. Но в тот вечер в Кобе сукияки околдовывает нас тонкими ароматами. В Сингапуре горящее адским пламенем солнце и карри не дали его букету раскрыться. В ресторане «Мива», похожем на карточный замок из дерева, соломы и бумаги, изобилующем доспехами, шлемами, саблями, какемоно и изображениями самураев, скал, мостов, перекинутых через миниатюрные реки, которые словно петляют по комнатам, мы пробовали сукияки и пили первосортное саке. Юные жрицы трапезы подают его на коленях.
В Токио гейши, еще одни жрицы хороших манер, заставят нас есть на коленях, будут хохотать и пить из наших чашек. Гейши происходят из бедных семей. Их обучают с двенадцати лет. Они становятся гейшами, когда достаточно обучены, чтобы очаровывать гостей, играть на струнных инструментах, петь, танцевать и разговаривать с мужчинами. Не нужно путать их с куртизанками. Их задача лишь в том, чтобы создавать приятную атмосферу. Они — букеты, гости вдыхают их аромат. И соблюдают порядок, правила игры, суть которых в том, чтобы не выходить за очерченные границы. В конторе общества гейш знают их адреса и выполняют заявки. Гейши приходят в мучной пудре, под гримом-маской в миндалевидных прорезях, как будто сделанных перочинным ножом, двигаются зрачки, головы венчает монументальная прическа из темных коков, жгутов и валиков, и кто знает, до каких пор они готовы безропотно соглашаться на существование рабынь и долгие вечера декоративного чарования...
Утонченные актрисы и автоматы, у которых белый растворенный грим наложен ровно до плеч и локтей, — их механизм выполняет заранее заложенную последовательность движений, улыбка скрывает золотой блеск во рту, как веер прячет зевок, а на носу иногда появляются ученые очки в роговой оправе.
На визитках... — да что я говорю? — на полосках бумаги они протягивают вам свои имена и адреса. Апрельский Дождь. Династия Света. Радостная Весна.
Династия Света — это японка Утамаро, какой мы представляем ее по книгам. Голова — покачивающееся яйцо. На него водружен черный ирис из волос. Тело — куколка бабочки, личинка в момент преображения: разноцветные крылья вот-вот раскроются за округлой спиной. Апрельский Дождь не такая овальная. Ее лицо — шар из слоновой кости, сахара и китайской туши. Кровавый рот. А такую прическу прогрессивные женщины начали носить в 1870 году. Коки и улиты уступают место косам и шпилькам.
Общение с Радостной Весной обескураживает. Это гейша-бунтарка. Гейша, которая не хочет быть гейшей и грезит о Голливуде. Радостная Весна — жертва кинематографа; теперь вместо «девушки, которую свел с ума лев» в «Кагами-дзиси» — девушка, которую свел с ума лев «Метро Голдвин». Она честолюбива. Носит модную прическу. Громко говорит и виляет бедрами. Она страдает. И от того, что ей так мало позволено, страдания еще мучительнее. Она держится за все то свободное и рыцарственное, что может в нас угадать. Ей приходится очаровывать насекомий народ, аккуратный, без изъянов, холодный, для которого женщина — ваза с цветами, и от этого взгляд у нее, как у шальной курицы, а вместо улыбки — жалкая гримаса. «О мистер Кокто! Мистер Кокто!» Как бы ей хотелось выговориться, объясниться, распахнуть душу, несмотря на укрощающие ее взгляды. «Мистер Кокто! Мистер Кокто!» Она сжимает мою руку, целует ее, прижимает к груди, шлет мне жалобный призыв. На ужасном английском объясняет: «С тех пор как я увидела ваши фотографии в газете, я хотела приблизиться к вам, увидеть вас, поговорить с вами». На этом все и заканчивается. Что она может сделать? И что мог бы сделать я, собравшись вырвать из паутины несчастную трепещущую мошку? Граммофон заменяет струнные инструменты и песни, при исполнении которых голос комком застревает в горле, подражая стонам и слезам. Мистенгетт поет, я танцую с Радостной Весной. То есть несу по бумажной тюрьме утопающую, которая хватается за обломок судна, прижимается щекой к моему плечу, сжимает пальцы. «Ах! Ах! Мистер Кокто!» Эти стенания терзают мне душу. Строгие, суровые взгляды провожают нас, изучают, оценивают. Чем глубже она увязает, тем явственнее теряет голову, и я убеждаюсь, что бессилен прийти ей на помощь.
Две гейши спорят из-за Паспарту. Они играют в пальцы — на «расхлоп», — выясняют, кто будет танцевать этот танец. Парижанки, довольные своей женской сущностью, сейчас далеко. У нас слабый пол сделался сильным. Женщины съедают других, иначе их самих съедят. Здесь женщины подают нам еду и спорят за право танцевать с молодым мужчиной. Мистенгетт поет. Ее волнующий голос напоминает о моем городе, где владычествуют женщины. Бедная Хэппи Спринг! Она все больше обмякает. Когда пластинка заканчивается, она прижимает мою руку к губам и произносит: «Тан-ку». Долгую, наверное, прошла она школу, чтобы научиться не выглядеть побежденной. Буквально у нас на глазах она вешает себе камень на шею и тонет.
Лафонтен произнес бы: «Я не из тех, кто скажет так: — “Утонет женщина пустяк!”» Хозяева заведения думают: «Утонет женщина — пустяк», и Хэппи Спринг, собрав остатки сил, тянется к соломинке, которую мне хочется ей протянуть. Ах, зачем протягивать фальшивую соломинку? Завтра я покидаю Японию, а через девятнадцать дней заканчиваю путешествие вокруг света. Я должен занять место на циновке рядом с хозяевами, есть клубнику, наколотую на палочки, и разглядывать под водой Радостную Весну.
«Ах! Мистер Кокто!» Бесконечно повторяющийся слабый стон преследует мой слух. Утром в отель привезли двустороннее выдвижное зеркало, его подарила мне Хэппи Спринг. В момент отъезда я вытягиваю плечом рыбацкую сеть, в сети Хэппи Спринг, она мертва. Она ничего больше не говорит; бессмысленно смотрит на порог, на туфли, которые я надену и которые унесут меня далеко от ее острова. Паспарту шепчет: «Ничего не поделаешь, жалко бедняжку». Если он задумывал похитить ее, как Ауду, то отказывается от этой мысли, встретившись взглядом со жрецами — хранителями национального долга, которому гейши должны повиноваться.
Мы садимся в машину. Лицо Радостной Весны с более тонким слоем грима, чем у других, прижато к стеклу. Только что она осуждала японских танцовщиц за то, что они никогда не улыбаются, танцуют, словно в маске. Теперь неулыбчивая маска прижата к стеклу, мы трогаемся, она отрывается и замирает среди фонарей и флагов.
Я оглядываюсь. В кадре за задним стеклом ужасная сцена. Вытянув вперед руки, запутавшись в складках кимоно, прихрамывая на котурнах, Радостная Весна, раскрыв в безмолвном крике рот, пытается бежать за нами вслед.
Поддавшись велению сердца, я исказил хронологию событий. До ужина, оставившего такой горький привкус, мы присутствовали на представлениях, о которых стоит рассказать.
Читателей я покинул в Киото. Там мы отправились в театр, где танцуют гейши. Вход в театр в глубине празднично оформленного тупика с фонарями и гирляндами. Машины заезжают туда и пятятся; плотная толпа попадает внутрь по пандусу, мужчины-служащие убирают наши туфли в сине-белые чехлы.
Киотский бомонд дарит мне карточки и веера. Они присоединяются к нашей группе. Сначала зал для ожидания. Затем смотрительницы проводят нас по лабиринту лестниц и коридоров в помещение, где один за другим стоят стулья, как в театре теней. Там нас ждет чайная церемония. Две жрицы чая (гейши), чей белый грим завершается под затылком рисунком трезубца, сменяют друг друга перед священным столом и готовят зеленый чай, выполняя ритуальные движения деревянной ложкой или специальной мешалкой. Исполнив свою роль, они разливают чай по чашкам, и гейши-карлицы (четырнадцатилетние девочки, которым с виду лет восемь), загримированные, причесанные, одетые, как взрослые, ставят их на лакированные столы перед каждым из нас. Они кланяются и степенно удаляются за кулисы.
Левая рука обнимает чашку; правая распрямлена и приложена к ней. Чай — травяной отвар нефритового цвета — выпивается одним глотком. Завсегдатаи поднимаются и возвращаются в зал для ожидания. Маленькая дверь открывается, и по старинному обычаю, сминая друг друга, гости толпой бросаются в амфитеатр, где лучшие места достаются сильнейшим.
Удивление при переходе из маленьких помещений в эту светлую постройку и при виде публики, которая перекатывается волнами, толкается, налезает друг на друга, молча пихается, остается самым ярким впечатлением. Артистки танцуют довольно плохо: восточный театр ничего бы не потерял, если бы им запретили выходить на подмостки.
Мужчины, исполняющие роли женщин, добавляют какой-то невероятный акцент, чтобы казаться возвышеннее и отгородиться от зала, следуя театральному принципу отстраненности. Исполняя роли мужчин, женщины делают их слабыми. Сглаживаются углы, размываются грани. В целом все это зрелище, декорации и костюмы отчасти сродни нашему мюзик-холлу. Много блеска, много света. Нет больше сцены шириной тридцать метров, по которой передвигаются рабочие. Декорации взлетают, опускаются или выезжают с невероятной точностью. Дом куртизанок на Фудзи, которые приглашают к себе двух героев через окна первого этажа, у меня на глазах вмиг превращается в фундамент этого дома, лестницу и дверь. Женщины спускаются на несколько ступеней вниз. Иллюзия полная. Единственное отличие от нашего мюзик-холла — и оно придает представлению соборную значимость — в том, что женщины не улыбаются. Ни актрисы в пьесе «Путешествие из Кобе в Токио», ни оркестрантки — десять слева, десять справа, — сидящие на полу в оформленных красной материей продолговатых нишах, образующих трапецию, для которой сцена могла бы служить основанием. Слева пять исполнительниц бьют в цилиндрические барабаны деревянными палками, а в барабаны в форме песочных
часов — бронзовыми кольцами. Пять флейтисток довершают собой этот жреческий балаган. Справа оркестр делится на пять оркестранток с длинными мандолинами, по которым надо скрести лопатками из слоновой кости, и на пять хористок — партитура лежит перед ними на лакированных пюпитрах.
Исполнительницы слева одеты в черные кимоно с белыми узорами. Исполнительницы справа — в небесно-голубые кимоно с алыми узорами.
Периодически включаются механизмы, музыкантши отъезжают назад, и разверзается яма. Перед оркестрантками опускается зеленый занавес, а из открытой ямы вырастает следующий ряд, как оркестр студии «Парамаунт». Все барабанщицы, флейтистки и хористки вытягивают синюшные шеи, как черепахи, а танцовщицы двигаются под музыку, по одной ноте вырывающуюся из тишины, и напоминают стаю призраков или сомнамбулических Пьеро.
На следующий день в Токио, в театре «Кабуки-дза» мне предстояло присутствовать на удивительной пантомиме «Кагами-дзиси». Меня ждала группа молодых художников и поэтов. И фотографов! Мы приехали в восемь. В течение трех часов здесь шла одна пьеса за другой, и Кикугоро Оноэ VI перевоплощался, усердствовал ради огромной толпы, выбравшей его своим кумиром. С утра Кикугоро должен пройти очищение, подготовиться, принять ванну в окружении костюмеров, парикмахеров и реквизиторов. Зал — битком. Тридцатиметровая сцена — широкая и низкая: идеальные пропорции.
Неправильные пропорции наших сцен, слишком высоких и узких, стали бы прокрустовым ложем для какого-нибудь Кикугоро или Мэя Ланьфана и мешали бы им играть.
Два помоста с поблескивающим настилом протянулись между кресел и в глубине зала соединяются со сценой: слева — неверный путь, справа — путь в цветах.
Взрывается магний, молодая поэтесса дарит мне букет цветов от имени президента Общества литераторов. Зал встречает эту интермедию стоя. Ровно в восемь тридцать начинается знаменитая одноактная пантомима Очи Фукучи под звуки нагауты.
Сцена представляет собой дворцовый зал в первый день Нового года. Оркестр — четырнадцать музыкантов и хористов, одетых в черное и голубое, — занимает открытую нишу на заднем плане. Знать из дворца и старые придворные дамы размещаются рядом с алтарем, на котором разложены львиные маски. Маски освящают помещение в этот праздничный день. Дамы и мужчины выходят. Оркестр остается играть, и солист рассказывает, что они вернутся с юной придворной дамой Йайоэ. Ее попросят исполнить танец с одной из масок: это должно принести удачу. С правой стороны сцены скользят створки, и выходит Кикугоро, которого бурно встречает публика. Он исполняет роль девушки. Хоть он и сопротивляется, мужчины и придворные дамы подталкивают его к центру сцены. Он ужасно робеет. И утаскивает всех за кулисы, но его во второй раз выталкивают и умоляют танцевать. Его или ее? Все-таки ее. Вместо пятидесятилетнего мужчины, немного грузного, одутловатого, остается юное хрупкое существо, которое, покачивая головой на тонкой шее, облекает свои движения в декорации из накрахмаленных тканей — сиреневых, небесно-голубых, завершаемых тяжелыми волнами красного шлейфа.
Ради этого танца, длинного, но без длиннот, стоило отправиться в путешествие. Я бы так и сделал, чтобы на него посмотреть. Две ассистентки в платьях цвета увядших листьев стоят на коленях, повернувшись спиной, и передают актеру веера, которыми он пользуется. В его руках эти веера становятся бритвами, перерезающими горло, саблями, рубящими головы, падающими листьями, подносами с коварным любовным напитком, пропеллерами аэроплана, императорскими скипетрами. Когда они больше не нужны, он резким движением бросает их за спину, и они летят в ассистенток, как стрелы.
Он подходит к алтарю и берет одну из львиных масок. За ней тянется шарф из желтого шелка. Как только маска оказывается в его руках, она начинает жить. Щелкает пастью. Шарф развевается, закручивается. Девушка танцует. А вот и две бабочки. Порхают на тростях, которыми машут ассистентки. Лев прыгает. Девушка все больше волнуется. Маска подчиняет ее, гипнотизирует. Наконец ассистентки пятятся прочь, и маска льва влечет, вынуждает следовать за собой утратившую рассудок, сбитую с толку девушку, которая оказывается на возвышении слева.
Здесь Кикугоро достигает вершин мастерства. Он пытается победить чары. Голова поворачивается в сторону. Рука, которая помогает челюстям щелкать, словно оторвалась. Он всхлипывает, спотыкается, падает, поднимается, в повторяющихся судорогах проходит через зал и исчезает под гром аплодисментов.
Оркестр расступается, выдвигаются подмостки, на них два пионовых куста. Куст с красными пионами и куст с белыми. В японской символике бабочки и пионы всегда сопровождают льва. Оркестр снова соединяется и аккомпанирует танцу бабочек: два танцовщика в алых кимоно с небесно-голубыми поясами, в женских париках, с маленькими золотыми барабанами на шее танцуют, взмахивая тонкими палочками. Они симметрично выполняют фигуры, бьют друг другу в барабаны и прыгают на одной ноге перед сценой.
Слышится повторяющийся рев толпы. Бабочки исчезают. К музыкантам присоединяются рабочие, которые справа и слева от авансцены стучат по полу палками. Вдруг, коротким быстрым броском, раскинув руки в золотистых рукавах, Кикугоро проходит неверный путь и поднимается на сцену. У него на голове белая грива, она дыбится, окутывает его со всех сторон и тянется за ним на пять метров. Красный грим искажает брови и рот. Топот ног. Вытянутые руки. Грива, вспархивая, словно пишет огромной кистью непроизносимый текст.
Опьяневший от ярости и усталости, лев засыпает в пионах. Вновь прилетают бабочки и не дают ему покоя. Будят его, он цепенеет от гнева, занавес закрывается.
Кикугоро не только актер, он жрец. И зрелище литургическое — не в том смысле, что оно схоже с нашими мистериями, но в религиозном. Я говорю не о религиозном театре, а о религии театра. Кикугоро и его оркестр проводят службу.
Нас ведут в его гримуборную. Мы проходим через фойе, дворы, подвалы, где можно различить механизмы вращающейся сцены, идем по коридорам и этажам. Мельком видим белые комнаты, в которых коленопреклоненные музыканты поздравляют друг друга. Мы поднимаемся, спускаемся, снова поднимаемся и, в конце концов, попадаем к Кикугоро. Мы снимаем обувь. И оказываемся лицом к лицу с кумиром — невысоким человеком крепкого сложения в костюме самурайского оруженосца; он показывает мускулы, проявляющиеся у него на руках во время танца с маской, и сетует, что с ними ему неловко исполнять роли женщин.
Фотографы просят меня пожать ему руку, и я понимаю, что Кикугоро волнуется, как бы моя ладонь не испортила грим. Я тут же делаю вид, что жму руку, но держу ее на небольшом расстоянии. Он дарит мне непередаваемый взгляд — такое возможно только между собратьями по цеху, ведь они понимают что к чему, и сцена им не в новинку. На следующий день, не успел я закончить рассказ о нем в радиоэфире, как на холм, где я отходил от микрофона, уже прибыли его посланники, чтобы выразить признательность.
Кикугоро Оноэ, который шестым в своей династии носит на представлении «Кагами-дзиси» львиный парик предков, повезет пьесы фестиваля дан-кику в Опера-де-Пари. Я побаиваюсь ее обстановки. Для игры Кикугоро нужны пространство, безупречный пол и внимательная публика. Но, боюсь, наша Опера не отвечает ни одному из необходимых условий.
На следующее утро вставать было тяжело, но затем Фудзита и Нико, мой переводчик, повезли нас в «Кокугикан» (дворец спорта) смотреть состязания по японской борьбе, которые проходят с самого рассвета.
Чтобы добраться до одного из входов, нужно преодолеть настоящую трясину: в передвижных ларьках там продают апельсины, сладкие булочки, сувениры, открытки с изображениями популярных борцов. Сутолока, как у испанских арен в день корриды. И вдруг я оказываюсь в гигантском цирке, набитом до самых сводов, кое-как пробираюсь мимо деревянных отсеков, в которых на подушках тут и там лежат тела, а вокруг — пустые бутылки, апельсиновая кожура, стоптанная обувь и мягкие шляпы. Какой-то туз приглашает нас в свою ложу. Ложа — один из таких отсеков, мы плюхаемся прямо на пол.
В центре цирка возвышается сцена: круглый настил под тентом в форме пагоды, который установлен на четырех стойках — белой, черной, зеленой и красной. Сиреневый шатер, отороченный балдахинами цвета морской волны, вздувается над ареной. Наверху стеклянные окна-вставки нависают над скоплениями людей — солдатами и школьниками, а вокруг них — гигантские фотографии прошлогодних победителей.
На ринге борцы изучают друг друга под присмотром судей в серебристых кимоно — на головах у них нечто лаково-черное с насекомьими усиками, и вооружены они своеобразным зеркалом без стекла — символом их особого положения. Борьба продлится не больше секунды. Бурные крики накатывают, пока идет подготовка, но обрываются, и наступает тишина. Борцы — молодые розовые геркулесы, словно свалившиеся со сводов Сикстинской капеллы и относящиеся к некой расе, представители которой встречаются крайне редко. Одни, тренировавшиеся по старой системе, выпячивают огромный живот и груди, как у зрелой женщины. Но ни груди, ни живот — вовсе не признаки ожирения. Все дело в эстетике прежних времен, это свидетельство силы и особого способа ее приложения. Другие хвалятся мускулатурой, как на наших стадионах. Темный пояс обхватывает талию, проходит между ног, оставляя свободными ягодицы, и ложится вдоль бедер юбкой с бахромой. Когда они наклоняются, бахрома топорщится сзади, придавая им сходство с петухами или дикобразами.
И у одних, и у других миловидные женские головы, увенчанные шиньоном: промасленную прядь поднимают и прикалывают шпилькой на макушке, а потом расправляют веером.
Чтобы очистить площадку, на нее бросают соль, а затем соперники, расставив ноги и уперев руки в бока, медленно, тяжело перекатываются с одной точки опоры на другую. Этот медвежий танец придает им гибкость. Они наклоняются, глядя друг на друга, и ждут нужного момента — поди знай какого, — когда случится чудо равновесия, когда схватятся между собой две воли.
Они обдумывают захваты, что-то просчитывают, стоят в напряжении и внезапно, словно сговорившись, размякают, оставляют стойку и, даже не глядя друг на друга, поворачиваются и сходят с настила. Судья допускает десять минут таких бесплодных потуг. И вот контакт замыкается, объемные тела сталкиваются, сцепляются, хлещут друг друга, перебирают ногами, норовят оторвать соперника от земли, и в грозовых вспышках фотографов человеческое дерево скатывается с настила, вырванное с корнем магниевой молнией.
В предпоследнем бое встречаются последователь современного стиля, миловидный курносый атлет, и непобедимый будда в повязке, прилегающей к узким бедрам боксера. Нам повезло: вот уж редкое зрелище. Как только соперники решились сойтись лицом к лицу, идеальное равновесие сил приводит их в мертвую точку. Прищуривая глаза, я вижу одно животное: розового быка, возникшего из двух неподвижных тел. Этот мост так долго остается неподвижным, что у всех перехватывает дыхание; возникает вопрос, кончится ли это когда-нибудь, или враждебные силы окаменеют на наших глазах? Равновесие становится невыносимым. Судья размыкает тела взмахом своего скипетра. Овация. После перерыва соперникам предстоит вернуться в точно такую же позу, но, боюсь, теперь от них исходят совсем другие флюиды, и, когда на арене они вновь обхватывают друг друга, зрители почтительно молчат. Снова мертвая точка, снова упираются ноги, и пальцы углубляются в плоть; пояса, ощетинившаяся бахрома, набухшие мышцы, ступни, корнями врастающие в циновку, кровь, прилившая к коже, окрасив ее в ярко-розовый цвет. Непобедимый вдруг находит слабое место и, пользуясь этой брешью, нарушает равновесие. Треск магния сопровождает крушение одной из опор человеческого моста, которая с подскока валится навзничь.
Победитель посыпает арену солью, побежденный поднимается, подходит к краю, встает на колени и опускает голову.
В этом году кумир спортсменов снова получит кубок Регоку и его фотография рядом с Кикугоро будет украшать комнаты куртизанок.
Гостеприимный хозяин показывает нам квартал борцов. Свод галереи, где купаются молодые божества из розового мрамора с женскими глазами и высокими прическами. Одни плещутся в бочках, другие расхаживают в черных кимоно с белыми пионами, третьи улыбаются из-под взъерошенной шевелюры, которую отращивают до тех пор, пока удается поднимать масляную прядь, завязывать ее, подкалывать шпилькой и разворачивать кокардой.
Я добираюсь до победителя: он сидит на корточках на каменном цоколе, а цирюльник расчесывает и собирает в узел его лаковый шиньон. Черный лак и розовый. Это простодушное чудовище такое розовое и гладкое: позируя фотографам, я опираюсь на розовое пасхальное яйцо. Снимок, на котором победителя поздравляют Филеас Фогг и Паспарту, завтра будет встречать нас на дверях у женщин в Таманои, одном из новых кварталов японских проституток.
Этим вечером нас сопровождает Фудзита. Мы пересекаем темный парк и выходим прямо на проспект с кинозалами и флагами, где все яркое и кричащее. В этой деятельной круговерти у меня отнимаются руки и ноги. Я спрашиваю себя, как можно было считать оживленным мой город, не встретившись с этой чудовищной вереницей забитых залов, наседающих друг на друга, вопящих всеми своими афишами, фонарями и знаменами. Не только проспект длится до бесконечности и одни кинозалы продолжаются другими, но еще и притоки наводняют эту реку: с прилегающих улиц выплескивается ненасытная толпа японских и китайских сынов.
Попытки добраться до конца этих улиц и проспекта бесполезны. Токио, разрушенный и заново отстроенный, — это спрут с гибкими щупальцами. Но чтобы сон превратился в кошмар, нужно заглянуть в один из пяти кварталов у пяти древних городских ворот, где скучились все бордели. Рвы окружают каждый квартал, в том числе самый знаменитый — Йосивару. Женщинам нельзя выходить за его стены.
В 1922 году во время бедствия деревянные дома терпимости радостно горели, ураган разносил раскаленные листы железной кровли, отсекая головы одним и обжигая других. Девушки с переломанными костями и застрявшими в балках шеями вопили под развалинами, а во рвах, в кипящей воде, заживо сваривались те, кто пытался спастись, пока рушилась земля. Ставшие неузнаваемыми тела в гриме, в костюмах, с прическами разлагались, распространяя смрад: служб по наведению порядка не было. Японцы решили, что вся Япония в руинах, и уже не пытались ничего сделать.
Действительно, Токио на три четверти был в развалинах, пожары умножили масштаб драмы, а голод все довершил.
В тот вечер сумрачные аллеи и пустыри, обнесенные частоколом, вели нас в лабиринт Есивары. Лабиринт улиц, которые упираются в тупик или разветвляются подобно ветвям генеалогического древа.
Только что были кинозалы и разноцветные афиши фильмов. Теперь один за другим стоят дома терпимости с вывешенными фотографиями куртизанок. До катастрофы они молча выстраивались за стеклом, демонстрируя себя во весь рост, во плоти, в великолепных платьях. Разрушенные публичные дома отстроили по той же модели, и они отличаются только деталями декора. Все это напоминает длинные и низкие обменные лавки, где менялы с бритыми головами и золотыми зубами обживают с двух сторон небольшую кассу на прилавке.
Первый меняла — контролер в этом сомнительном заведении, его называют Коровушкой. Он остается в стойле. Второй — Конь. Если клиент забыл кошелек, Конь оставляет конюшню и провожает его до дома. Там и получает свое. Нет денег — уносит трость, книгу, шляпу.
Справа и слева от них — четыре ступени, где клиенты снимают обувь. Наверху отодвигается драпировка из расшитого шелка, мелькает белое лицо: кто-то следит. Проходя мимо необычных менял, которые улыбаются и окликают нас на ходу, мы видим портреты куртизанок в витринах и ниши с фигурками из черного дерева, бронзовыми богинями или эротичными раковинами. Фонари, карликовые кедры, покрытые черным лаком листки (размером 8 и 16), заполненные белой гуашью воздушные резные знаки коротких девизов, ширмы с золотым напылением, шелковые фиолетовые шнуры, реки, уходящие вдаль, и озаренные луной дома вдоль их берегов, старательно расписанные в лубочном стиле. Публичные дома соперничают в роскоши и загадочности!
Паспарту, которого окликают корыстные бонзы, прельщен щелями малиновых штор и китайскими тенями на бумажных обоях, он заявляет, что пора побороть робость европейца и вживую увидеть ритуалы соги, жриц культа. И был таков — исчезает в одном из публичных домов. Мы гуляем туда-сюда, но поскольку боимся заблудиться, то решаем зайти внутрь следом за ним, чтобы попить чаю и подождать внизу. Старая мамочка усаживает нас на циновки и ищет куртизанок, которые составили бы нам компанию. Девушки семнадцати-восемнадцати лет обходятся без сутенеров, их продает и эксплуатирует родня. Семьи подписывают контракт на три, пять, семь лет и получают пятьдесят иен в год (двести пятьдесят франков). Спутница Паспарту удивится, что чаевые — больше трех иен — оплачены вперед. Она отправит матрону узнать, ей ли они предназначены, и не поверит своим глазам.
Паспарту возвращается к нам, красный от стыда. «Это что-то невозможное, — рассказывает он, — это преступление». Сначала церемония с разливанием чая, перетаскиванием тюфяков, надеванием кимоно, завешиванием ламп, а потом ты подходишь в полутьме к бледному ребенку, который дрыгается в конвертах, пеленках и подгузниках, причем, если бы не их толщина, объем тельца был бы не больше, чем у ангорской кошки, выбравшейся из лужи.
Горемычный Паспарту мрачнее тучи: он горд своим подвигом, но жалеет, что ввязался. Обвиняет меня в трусости — и надо признаться, что я бы ни за что не одолел свою робость. Так, в тяжкой печали, переходим мы через реку Сунида, и автомобиль везет нас в Таманои, квартал народных публичных домов.
В Таманои, где фотографии из «Кокугикана» успели появиться раньше нас, женщины обитают в клетях, теснящихся, как кабины общественных бань. При красном освещении, облагораживающем розы с цветочного рынка, лица юных крестьянок появляются в контурах дверных окошек. Девушки подзывают окликами, смешками, взглядами. Бывает, что какая-нибудь несчастная дремлет. Трогательная отсеченная голова, исполненная усталости, повалилась на край окна.
Каюты любви — два на два с половиной метра, улочки — три метра. Адский лабиринт. Лабиринт, из которого эти девушки не выходят.
Звучит заунывная дудка. Две монотонные ноты. Это слепой массажист. Идет на ощупь — дело нехитрое: фасады почти смыкаются, — предлагает услуги и предупреждает о своем приближении. После слепого массажиста и его дудки Паспарту не выдерживает. Он требует, чтобы мы вернулись в отель, и мы торопимся прочь между двумя рядами мишеней, живых мишеней — красивых восковых шевелящихся голов.
Не буду описывать делегацию юных поэтов, юных художников и художников официальных. Коробка Паспарту забита моими книгами на японском языке, другими коробками, в которых тоже коробки, а в них — еще; там же письменные принадлежности, палочки для туши, кисти и альбомы.
Я открываю выставку традиционных какемоно и выставку работ юных художников.
Создатели какемоно носят костюмы предков. Молодые художники — фуражку и монпарнасский твид. Сколько находчивости, сил, приязни и энергии потребовалось с одной и с другой стороны. В этом основы империи и ее вершина.
«Президент Кулидж» покидает Йокогаму в шесть часов. Без десяти шесть я прохожу по трапу, впереди — фотографы, которые, пятясь, берут нас в объектив. Без пяти шесть я еще подписываю открытки. Судовой оркестр (корнет-а-пистон, саксофон, тромбон и большой барабан) исполняет душераздирающую прощальную музыку. Две серпантинных ленты соединяют корабль с пристанью. Ветер раздувает их, переламывает, спутывает. Наши новые друзья вдали машут платками. Шесть часов. Слева миниатюрный автомобиль раздвигает миниатюрную толпу. Видно, как выходит миниатюрный Чарли Чаплин; миниатюрная Полетт Годдар поднимается на борт. Басом заголосили гудки. Чарли Чаплин вырывается из рук журналистов. Надев фетровую шляпу а-ля Наполеон, сунув одну руку под жилет, а другую заведя за спину, этот одиночка, которому везде дом родной, и потому чувство дома ему незнакомо, взбирается по трапу и соскакивает с него в пируэте. Вот и все. «Кулидж» плавно скользит. Отдаляется набережная. Отдаляется остров. Наши друзья на берегу уменьшаются, исчезают, но по-прежнему подают невидимые знаки. Я опускаю платок. Паспарту повторяет мой жест. Две бабочки из «Кагами-дзиси» порхают и садятся на море.
КУРОЯКИ
Старинная токийская лавка уцелела в катастрофе. Изящное черно-золотое чудо. Ее эмблемой служат гигантские черепахи. В этой травяной лавке продают приворотное снадобье. Хозяйка отпускает его без тени иронии. Обожженные ящерицы в маленькой миске, самец и самка, лежа друг против друга, сохранили свои изящные черты. Перетрите их в порошок. Половину дозы храните у себя в кармане, а остальное незаметно бросьте на девушку, чьей любви хотите добиться. Снадобье умножает богатство этой семьи: уже пятое ее поколение продает яблоки, говяжьи сердца, жаб, черепах, карпов, летучих мышей, иловых червей, обезьяньи головы в банках, глядя на которые сначала видишь только мерцающий уголь. Вот вам терапия Курояки. Вот откуда взялся котел Макбета или Фауста. У всего в легенде есть конкретный источник, и его обнаружит внимательный путешественник. Я увожу очаровательную обезьянью голову, настоящий череп Йорика из легкого костного угля (это средство уберегает от безумия), и три небольшие миски с порошком из ящериц, чтобы сводить с ума девушек.
МИКРОБУС
В Токио одна дама-американка подарила мне сверчка в клетке. Паспарту окрестил его Микробусом. По ночам Микробус выбирается из клетки. Он спит на крышке термоса и восхитительно играет на продолговатой зеленой гитаре, слитой с его телом. Вот сказка, которую я сочинил, чтобы развлечь Чаплина.
«Подарок микадо»
Император Японии должен был прислать мне сверчка по имени Микробус, но у него была только клетка, а в ней — легкий восточный ветер. Этот легкий восточный ветер, пойманный осенью, освежал его летом. Словом, император нуждался в совете, но получить его он не мог, поскольку никому в мире не дозволено к нему обращаться. Никому, кроме герцога О’Кея, коннетабля клеток, который может говорить с императором один раз в семь лет, в воскресенье, с шести до восьми часов утра о том, светит ли солнце и не чихнула ли накануне императрица-мать.
Однако не успел он открыть рот (ведь обстоятельства были надлежащими), как император приказал ему сделать харакири. Но, указав на солнце, на свои часы и изобразив на коленях чихание, герцог добился милости и позволил себе подсказать императору, чтобы тот поместил восточный ветер под фарфоровую чашку, а в клетке преподнес мне Микробуса, только нужно было вычистить ее хорошенько, чтобы тот не захворал.
Император обрадовался. «Какой же я мудрый, — сказал он, — что разрешил своим подданным обращаться ко мне».
«Кулидж» с его прячущимися бронзовыми и мраморными лестницами, с качающимися столовыми в позолоте и хрустале, с неустойчивыми магазинами и бассейнами идет под возгласы басовитых гудков сквозь густой туман: Небоскребы из серой воды обрушиваются на стены кают. Все скрипит, трещит, грохочет. Удерживая равновесие, ходишь по краю морской болезни.
26 МАЯ • МИКРОБУС ПОЕТ
На борту я получаю каблограмму от Радостной Весны. «Счастливого пути».
Ночью я подскакиваю, проснувшись. В чем дело? Сигнал тревоги? В каюте стоит непонятный гам. Паспарту, которого из пушки не разбудишь, просыпается и зажигает свет. Гам — оттого, что Микробус, японская трещотка, или японский сверчок, этот ненастоящий, небольшой листок дерева размером со стручок фасоли, поет. Его пение — это что-то: он, того и гляди, перебудит весь «Кулидж», не дает нам разговаривать, перекрывает удары волн. Как будто лесопилка вовсю работает; или крутятся тысячи трещоток. Когда он выдыхается, слышен медленный глухой рокот и уханье моторной лодки. Но вот он уже ищет свою тональность, стрекочет, бормочет, берет выше, находит ее и снова начинает петь. В невероятном трезвоне, который устроило это насекомое, есть что-то сверхъестественное, тревожное. Паспарту озадачен вопросом, не воспевает ли он свою смерть, ведь говорят, что японский сверчок умирает, обессилев от пения, как лебедь.
Паспарту снимает клетку, которая висела на ручке термоса, и ставит ее на стол между нашими койками. Я иду за Чарли Чаплином. На его плече Микробус чувствует себя как ни в чем не бывало. Он поет. Тянет без устали высокую нескончаемую руладу. Уж не испустит ли он дух? Зовет ли он самку? Это песня любви, войны или смерти? Нас разделяет бесконечность миров. Мы так и не узнаем, как родилась эта песнь. Через час таинственную пружину заклинивает, и Микробус замолкает. Мы переглядываемся. Он не умер. Он прекрасно себя чувствует. Его смерть создала бы пустоту. Мы не забудем этот листок-ревун, этого японского тенора в ночи.
27 МАЯ • ДВА ВТОРНИКА НА НЕДЕЛЕ
Завтра нас ждет явление, которое прекрасно объясняет наука, но оно все равно остается поэтической загадкой, как длина волны или почтовый голубь. Завтра, во вторник 28-го, вечером, пассажиры уснут... и проснутся во вторник утром. 28-е продолжится, став «безымянным» днем. Два вторника на неделе. Неделя, в которой три воскресенья, дает возможность персонажу Эдгара По, капитану корвета, жениться. Отец девушки был против брака. «Вы сможете жениться на ней, — кричал он, — когда на одну неделю придется три воскресенья». Капитан кое-что прикинул, и ему удалось сделать невозможное возможным. Следует отметить, что По и Верна многое объединяет. (Артур Гордон Пим.)
Итак, завтра, двигаясь навстречу солнцу, мы должны будем пережить день-призрак. Именно это явление сбило с толку Филеаса Фогга, и он решил, что проиграл пари. Мы прикасаемся к условному понятию человеческого времени.
«Время людей — складка вечности», — сказал Анубис в «Адской машине».
Наши самые неосознанные поступки похожи на надрезы, которые делают дети по сгибу бумаги. Получается кружево, и наши неправильные шаги обретают симметрию.
Вторник 26-е, вторник 27-е. Эти два вторника — застежка на ремешке, которым мы опоясали мир.
Планета, по которой я путешествую, была огненным шаром. Огонь стал угасать, и образовалась кора; огонь подогревает кору, отсюда гниль — и пейзажи, мимо которых я проезжаю, где кишмя кишат туземцы, где существуем мы, и я в том числе. «Истина может быть печальной». Высказывание Ренана — еще один моральный аспект, а точнее — эстетический. Моралист — дилетант, он эстетизирует абстрактное. Ни печальное и ни радостное — отнюдь! Ни красивое, ни уродливое. Моралист отступает назад и прищуривается, как коллекционер.
Вторник, сегодняшняя ночь. Вторник, завтрашний день. Вторник на бис. 26 мая продолжается и выходит за рамки правил. Наша надежная система начинает давать сбои. Люди терпеть не могут понятия, сбивающие их с толку. Они стремятся забыть то неведомое, соприкоснуться с которым заставляют их сны и некоторые необычные явления. Дама рассматривает журнал, на обложке которого та же дама рассматривает журнал, и на обложке все та же дама, только меньше и меньше, она без конца уменьшается. Меньше? Нет.
Уменьшиться, вырасти — это тоже эстетика. Такова истина. И все тут. Оксид азота вводит нас в копошащийся мир, где индивид не имеет смысла. Удивление не знает границ, когда возвращаешься к индивидуальному — к пестующей нас сильной руке, к широкому лицу дантиста, к лампе, комнате, креслу. Поэт живет в реальном мире. Его недолюбливают, потому что он тычет человека носом в собственное дерьмо. Человеческий идеализм ничто по сравнению с его неподкупностью, несовременностью (истинной современностью), с реализмом, который люди принимают за пессимизм, с порядком, который они называют анархией. Поэту чужд регламент. Долго считалось, что он регламентирует неопределенность. В тот день, когда публика поняла его истинную роль, он стал ее сторониться.
ПОСТСКРИПТУМ
Пожалуй, самое время сказать, что, обежав вокруг света, перестаешь признавать идею порока.
Сила Европы только в пороке, в преступлении. Как ни прискорбно, ее добродетель пошла. Деятельная добродетель — редкость. И только она поистине свята: как свят поэт или житель Востока.
Что, если падение ангелов — это падение углов? (В иврите и то и другое называется одним словом.)
Сила порока в том, что он не терпит посредственности. Слабость нашей добродетели в том, что она ее терпит, обрекает себя на нее и к ней стремится. В супружестве, например...
Прелесть Востока в добродетельном пороке; в благородстве порока; в его естественности. Деятельная добродетель — она для всех. Вот почему поэта уважают. Поэт — Number Оne.
Стоит ли бояться поэтической точности в мире, где любая деталь одежды, туалета и стрижки обусловлена правилами совместимости? В восточном городе поэт наконец может свободно дышать. Все здесь — шествие; упорядоченное и шальное.
ОККУЛЬТНЫЕ СИЛЫ
В фойе, где пассажиры ждут своей очереди, держа паспорта, ко мне обращается Виктор Сассун: «Похоже, вы пишете о нас весьма забавные вещи». Я вынужден ответить правду: это не личный дневник, а те, кто читает меня в «Пари-Суар», требуют статей, выходящих за рамки светской хроники.
Еще мне хотелось ему ответить: «Случись мне писать о Викторе Сассуне, наверняка рассказ был бы не столько забавным, сколько захватывающим, ведь этот заметный персонаж, словно одержимый жаждой мести, развернулся в Китае, как “роллс-ройс”; с помощью трости (он хромает после ранения на войне) отыскивает сокровища, а под стеклянным моноклем хранит свой глаз-калькулятор; так что он достоин куда больше, чем заурядных заметок в светской хронике».
После Чарли Чаплина, которого я не сравню ни с кем, фигура Виктора Сассуна выделяется в панораме нашего путешествия, как горельеф.
Представителей Старого и Нового Света обыгрывает в покер неуловимая шайка, пользуясь тем, что о ней ничего не известно. Если силу назвать (будь это хоть молния в небе), она иссякает. Теперь я убежден, что есть оккультные силы, Властители мира. Но настоящая политика — как настоящая любовь. Она хранит свою тайну. Франкмасонство — ничто по сравнению с тайной организацией, которую я подозреваю. Ее следы я обнаружил повсюду.
ГОНОЛУЛУ, 29 МАЯ
Гонолулу — это Гонолулу. Невозможно полнее выразить наше представление об этом острове с радостным названием. Открывает бал статуя черного короля Камеамеа в золотом плюмаже. Бал дается в саду: в долине среди гор. Костюм — ожерелье и венок из крупных благоуханных цветов. У берега в накатывающихся волнах нежатся цветущие купальщики. «Жиголо морей» скользят по волнам, вставая на дыбы, или укрощают пенных скакунов, садясь на них верхом. Эти молодые тритоны с приплющенными лицами и темными гибкими телами, в розовых венках, которые они поправляют на голове, как сутенер фетровую шляпу (у некоторых шляпа, а сверху венок), утратили свою изначальную невинность. Они учат своим играм американцев, и уроки морской эквилибристики иногда заканчиваются плачевно. У расовых предрассудков особые границы. Гавайскую молодежь в этом смысле уже не проведешь. «Жиголо морей» прекрасно знают что к чему. В искусстве разбоя для них не осталось тайн. Они знают, за какое оружие браться, ведь смертельно опасным может стать даже укулеле.
На Гонолулу красоту живых существ, растений, деревьев, плодов, цветов, птиц отличает мягкость. Мягкая шляпа прикрывает мягкое лицо.
Мягкие плечи, мягкие бедра. Мягкость линий придает апатичность позам беспечных атлетов.
Мягкие газоны, мягкие очертания холмов, изгибы гамаков и мягкий бриз, устало разносящий запахи.
Встретить «Кулидж» пришли оркестр и черные хористы. Снова знакомый мне Гонолулу. Апофеоз «Фоли Бержер». Каждый заход в порт убеждает, что наши помпезные постановки не лгут. Остановка в Гонолулу короткая. Мы гуляем по огромному саду, где девушки и парни плетут гирлянды. Больше ничего особенного там нет. Лукавая у острова только улыбка. Он точно знает, когда ее изобразить. Неотразимы его сочетания луны и солнца.
Гонолулу. Голоса, поющие терциями, все выше, чередуются, ищут друг друга, находят и в самозабвении укутывают душу цветочными боа. Душеспасительный хорал. Я все думаю, где та грань, за которой этот почти отталкивающий остров достигает своего совершенства? Думаю об этом, разглядывая «Кулидж» сквозь бесформенные заросли дикого гибискуса, как на цветных открытках. Кто его полнее олицетворяет — гавайская девушка в соломенной юбке или сорвиголова в венке из дикого гибискуса, съехавшем набекрень? А может, манго с его мягкой плотью?
На перекрестке полицейский самозабвенно исполняет нетипичную для острова брутальную пантомиму. Кажется, будто он усмиряет или колотит призрак.
Я понял! Дух Гонолулу в иглобрюхой рыбе. Гонолулу — единственное имя, достойное этого принца луны и моря, где взлетают жиголо. Рыба проворная, огромная, ужасно нежная и приятная своей мягкостью. Светло-серая, светло-синяя, светло-розовая, светло-сиреневая, вся в светлых белесых пятнах-крапинках, как горло при ангине, — вот приближается ее бледная голова: большие черные блестящие глаза, чудные крахмальные негроидные губы. Как же легка в движении эта тяжелая масса, которую можно принять за кулек из шелковой бумаги, надутый воздухом и воспаривший над каким-нибудь японским домом. Она завораживает. Отходишь от садка; возвращаешься. И ждешь, что скажет искаженный лупами карп, этот призрак глубин, монгольфьер вод.
«Кулидж» отчаливает в десять. Без четверти десять грянул цирковой оркестр. Исполняют вальс к номеру на трапеции. Вдоль пристани — ярусы, вровень с ярусами наших кают, их наводняет толпа в цветочных ожерельях. Наивно и театрально выглядит стена с ложами, где машет платками публика. «Кулидж» уходит в кулисы ночи. Его всепроникающий гудок заглушает оркестр. Но вот пускает свои арпеджио ксилофон: ужин. Вся мизансцена: и подъем якорей, и прощальная суматоха, и гавайский хор, чередующийся с духовым оркестром, — это что-то невероятное! «Шатле» не обманул. Он сулил нам сказку, и обещание сбылось. Я следил за нашим путешествием, сидя в кресле на балконе, когда смотрел пьесу Жюля Верна. Реальность доказала, что мечта, которой спектакль опьянил нас в юные годы, существует, что рампы и светила озаряют один и тот же мир, надо только входить в него, имея глаза и уши ребенка.
31 МАЯ
Я получаю радиограмму от французского торгового представителя в Гонолулу: «Узнал из газеты о вашем вчерашнем появлении. Огорчен, что не встретились. Помните меня на съемках “Орфея”? Хотел показать не только центр французской культуры, где вас так ценят, но и туземную среду, обычно она недоступна для иностранцев. — Пекер».
В который раз принцип инкогнито лишил нас возможности встретиться с друзьями. Ясно, что глава была бы совсем другой. Но остановка оказалась слишком короткой. Расписывать ее незачем. Мы разлучились с Чаплином и Полетт: ими занялся цвет американской колонии. Я заперся, пока они не ушли, а после ланча на борту тайком прогулялся по Гонолулу. Шлю свои извинения и сожаления Пекеру. Впрочем, он может подготовить мой следующий визит. Я вернусь.
Хочу вновь увидеть огненные ветви, алые гибискусовые изгороди, лакированные деревья, такие тяжелые, что их поддерживают опоры для шатров; а еще девушек, плетущих венки, и парней, несущихся по волнам; и лунных рыб. Хочу услышать оркестрантов в белой форме и чернокожих хористов, встречающих корабль, который останавливается в сиропном море.
Горько, должно быть, уезжать после того, как цветочные узы оплели ваше сердце. Муха и та выбиралась бы из варенья с меньшей неохотой. Представляю, как пение затихает вдали, а потом корабль проходит мимо ночного Гонолулу с его светящимися часами, красным плюмажем и алмазами.
Мать Полетт оставила в моей каюте ожерелье из малиновых гвоздик — повесила на клетку Микробуса. Микробус с утра пьян. Спотыкается на своих ходулях. Усики посажены вкривь и вкось. Еще одна жертва Гонолулу.
А ведь я забыл главное: Гонолулу — остров самоубийц. У молодых там слишком сладкая жизнь. Они убивают друг друга ни за что ни про что. Климатический морфий лишает их сил сопротивляться. Статистика фиксирует невероятное количество насильственных смертей. Самоубийств и убийств. Преступление — почти всегда необдуманное действие, бесконтрольная реакция. Ароматы возбуждают спящих, которые пробуждаются от малейшей встряски. Осы истребляют друг друга в горшке с медом, а одни липкие мухи приканчивают других.
Гелиогабал душил своих гостей под грузом цветов. Гонолулу зовет нас на праздник в том же духе.
Последний день на «Кулидже». Сверчок поет так, что сердце разрывается. Встречных особ не узнать в дорожных костюмах. У Чарли Чаплина такое же выражение, что и у меня: жалобное, как у ребенка, который вот-вот заплачет. Конец столь нежного единения душ. Чаплин возвращается в Лос-Анджелес, я — в Париж. Но теперь каждый знает, что другой существует, знает, о чем он думает, и Чарли говорит: «Это хорошо».
Паспарту. Фотографы. Таможня. Отель «Святой Франциск».
Поскольку летать нам не запрещено, лишь бы все было честно и мы не наверстывали упущенное время, а рейс из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк не повлиял на другие даты, мы решаем лететь завтра. Это новый опыт и один лишний день в Нью-Йорке.
САН-ФРАНЦИСКО, НОЧЬ
Сан-Франциско ночью — самый красивый город в мире. Молодой американец везет нас на своем «форде». Меня больше не удивляет, что американские машины умудряются карабкаться по нашим компактным французским берегам. Сан-Франциско — это аттракцион «русские горки». Широкие, могучие, крутые улицы. Минуем вершину, и они резко идут под откос, как желоба, по которым съезжают в воду. Сердце замирает, бьется, ликует. Лифт в отеле разделил нас надвое — мягко, как металлическая нить разрезает голову масла. Головокружительность улиц, которые взметаются вверх и проваливаются вниз, парад китайских и итальянских кварталов, дансинги, склады, где свалены весла из светлой секвойи, пустыри, крепости и соборы, построенные на пирамидальных опорах, фасады, исчерченные зигзагами пожарных лестниц, карточные замки, как в сказке, и после всего этого — Телеграфный холм с площадкой, окруженной перилами, под названием Койт. Coit memorial Tower. Не смейтесь. Ничего смешного. Название — случайное совпадение. Барышни Сан-Франциско постоянно совершают наверх паломничества. В центре площадки на фоне неба горделиво вырисовывается башня. Небо — космическое, медное, огненное, где за быстрыми облаками появляются и исчезают планеты. Огни — розовые, красные, абсентовые, наверху эскадра легких облаков, внизу тяжелые тучи, проваливающиеся между строениями, образуя синеватое море тумана, из которого выплывают освещенные дрейфующие суда и тонущие здания. Панорама вращается, изменяется. Был перегруженный, запутанный, скученный, зубчатый, феодальный пейзаж, а теперь широкий ночной залив, по краю которого с изысканной отважностью паутины рассекает пустоту подвесной мост Золотые ворота.
Между Беркли и доками — Алькатрас, федеральная тюрьма, остров Святой Елены для Аль Капоне.
Почти холодно. Машины возникают из черной бездны, описывают полукруг и останавливаются. Лучи их фар выхватывают из тени возвышающийся маяк без луча. Женщины выходят, облокачиваются о парапет и мечтают. Возможно, они взывают к божественному Пану. «Панический», весенний антураж щемит сердце и душу. Благоговейная атмосфера избавляет «Койт мемориал тауэр» от всякой фривольности. Самая дурная душа, думаю, оказалась бы восприимчива к таинственным силам, поднимающимся на эту священную гору.
По заливу идет паром. Это казино, оно скользит справа налево, оставляя за собой длинную светящуюся черту.
Облачный кортеж то заслоняет, то открывает луну. Над Сан-Франциско возвышается мужеское строение.
На обратном пути взбираемся по верблюжьим горбам, едем вдоль парапетов, по ступеням — наш водитель в восторге от скачек с препятствиями и автомобильных лихачеств. По «русским горкам» улиц нас забрасывает к выстроившимся цепочкой открытым барам, где рыбаки выставляют на стойках крабовые коктейли, продают креветок размером с большой палец в панцирях, перламутр которых вобрал в себя яркие переливы бокалов Кипра. Рыбы, креветки, крабы, устрицы, мидии, петушки, кораллы: я снова в джунглях Сингапура, но на этот раз в подводных, в фейерверке их запахов и красок.
Паспарту хочется заглянуть в мегадансинги: «Довиль», «Табарен», «Лидо», — названия которых выписаны гнутыми трубками, наполненными бледным светом. Я отказываюсь идти вместе с ним. Утром, от семи до восьми, должен появиться наш вице-консул — он покажет нам город, и я хочу вздремнуть, унести с собой в сон эту фабрику красоты, лихорадочный город, где лифты взмывают вверх подобно ртути в термометре, где божественный Пан возвышается над домами и морем.
САН-ФРАНЦИСКО, ДЕНЬ
В семь тридцать объявляется вице-консул. Мы в спешке одеваемся и отправляемся на поиски величественных призраков минувшей ночи. Холмы, где мост Золотые ворота вонзил свою первую опору цвета красного сурика (жаль, что это временное покрытие), нас не разочаровывают. Их бархатный покров в крапинах теней — смешение всех цветов радуги. Как будто кисть, расписавшую металлический мост и море, вытирали об их склоны и пробовали на них краски. С площадки открывается и величественный залив, и ограничивающие его два подвесных моста. Но, увы, при ночной прогулке Сан-Франциско выигрывает. Днем его улицы, представляющие собой стены крепости, с которых поворачивающие машины рискуют опрокинуться и скатиться вниз, сохраняют драматичность, но здания ее лишены. Их не отличить от магазинов с гипсовыми статуэтками в квартале Нотр-Дам. Горгульи якобы из камня, фавны якобы из бронзы, маски Бетховена и бюсты Антония якобы из слоновой кости, бесы, гномы, солдафоны, разбойники якобы из дерева.
Землетрясение 1906 года подарило испанским и парижским архитекторам полный простор для фантазий в стиле модерн и в духе готики Робида с оттенком Лазурного Берега восемнадцатого века. Жуткая мешанина из Эйфелевой башни, Нотр-Дама, Трианона и Монте-Карло.
Небоскребы экономят место, которое ландшафт щедро дарит вокруг. Этот район, военная зона, газоны за парусами поливальных установок, цветы, высаженные вдоль дорог, ведут нас к мысу, где морские львы облепили две скалы, словно жирные желтые слизняки.
Затем — пляжи. Бейкер-Бич. Чайна-Бич. Нептьюн-Бич, бесконечный пляж, где песок, где одна за другой накатываются и растекаются волны. И всюду жемчужная дымка (Сан-Франциско практически все время окутан туманом), придающая синеве и сирени моря, бежевому песку утонченность, сделавшую Дьепп городом импрессионистов.
Но море, повторю, — это местные джунгли. Сходство с Дьеппом только поверхностное. Собирайте раковины на заре, ешьте ледяные мидии, купайтесь. В размере мидий, в зрелой жемчужине, разворачивающей раковины, во всем, что есть чудовищного и пугающего, в кричащих красках и формах узнаются джунгли, наводя на мысль о тиграх и кобрах, то есть об акулах и спрутах, подстерегающих невнимательного купальщика.
В Сан-Франциско у китайской семьи во втором поколении светлеют волосы, а японская вырастает на десять сантиметров.
В Сан-Франциско, как в Сингапуре, нет-нет да и сказывается селекция.
МЫ ЕДЕМ В ГОЛЛИВУД
Чарли и Полетт собираются возвращаться в Лос- Анджелес с остановками, на машине. Мы окажемся там раньше и будем спешить, так что уедем, не повидавшись с ними. Иначе пришлось бы снова устраивать прощания.
Нам советуют встретиться с Кингом Видором, поскольку мне не хочется посещать Голливуд официально.
Каждый наш отъезд — суматоха. Нас ждал самолет. Я поднимаюсь со сверчком в руках. Воздушное крещение ждет Паспарту и, разумеется, Микробуса, который хоть и прыгает, но не летает.
Машина отрывается от земли и поднимается, словно по уступам. Потом зависает над землей, утратившей всякую связь с человеком и предстающей в чисто географическом, неочеловеченном виде рельефных карт. Время от времени она скрывается за облаками — рыхлыми полупрозрачными алебастровыми горами, стадами буйволов, которые наскакивают на корпус судна и растворяются подобно львам и замкам рыцарей Грааля.
Микробусу не сидится на месте. Машина раскачивается, и невидимый левый винт своими лопастями превращает в пыль снежные замки и крепости.
Мы вылетели в полдень. В два часа машина, не дрогнув, садится в Лос-Анджелесе.
Между Лос-Анджелесом и Голливудом Паспарту выпускает Микробуса и забрасывает его в калифорнийскую траву. Он бы не пережил, если бы наш спутник начал умирать у него на глазах на «Иль-де-Франс». Милый Микробус, знаменитый сверчок, попытай же счастья в Лос-Анджелесе. Паспарту швырнул тебя недалеко от декораций Дальнего Запада, которые строят рабочие. Кстати, какой-то сверчок получит роль в следующем фильме Чаплина. Может, и тебя подберет режиссер и тогда я снова увижу тебя и услышу с экрана? Я узнаю твои усики и среди тысячи голосов точно узнаю твой голос.
Принимая нас в Голливуде, Кинг Видор спрашивает о тебе .
Он снимает типично голливудский фильм. Ковбойское ранчо. Я вспоминаю «Аллилуйя!», сколько впечатлений было тем утром в Париже, в кинотеатре в квартале Мадлен! Поль Моран привез нам совсем свежий фильм. Помню выразительность первых ненавязчивых, но драматичных шумов. Два человека преследуют друг друга среди болот...
Кинг Видор заканчивает работу, и мы вместе выходим через номера и вестибюли подозрительного шанхайского отеля. Это другой фильм, с Гэри Купером. Китайская обстановка настолько правдива и пронзительна, что мы словно переносимся на двадцать дней назад, и наши сердца сжимаются.
Почему сжимаются наши сердца?
Потому что мы вот-вот вернемся в мертвые города, к фальшивой роскоши, к мнимому уюту и изяществу Запада, вкусив истинную роскошь, уют и изящество Востока. Бомбей, Рангун, Пенанг, Гонконг, улицы Индии и Китая, где как будто никто никогда не работает, где самые прекрасные и странные существа в мире — сикхи, например, — похожи на полубогов, которым некуда, совершенно некуда спешить, они прогуливаются, едят, спят, сидят, опустившись на свои восхитительные ноги, демонстрируют тяжелые золотые тела под искусно драпированными тканями и шелковыми лохмотьями; в тех краях широкополая шляпа и сандалии Меркурия наделяют крылатой походкой последнего кули, а магазины и дома прямо перед тротуарами распахивают двери в театры с поэтичными декорациями и освещением.
За мелкую монету Китай предложит вам охапку гардений в легкой плетеной корзине. Для того, кто беден душой, гардении уже не роскошь, потому что ничего не стоят. Для того, кто душой богат, цветок гардении не изменился. Охапка гардений — роскошь все равно. Оттуда нам далеко до дорогостоящих дешевок, позорящих Европу. В Китае достаточно быть богатым душой, чтобы стать богачом.
Голливуд с его небольшими загородными домами, выросшими над лужайками, и длинными авеню с пальмами немного нас утешает, мы учимся издалека познавать этот Париж, почти такой же вычурный и древний, как восточные города. Трудно описываемое очарование наполняет нас через Любича, человека, который лучше всех показал Париж и его золотой тлен. Марлен Дитрих, Гэри Купер существуют в атмосфере фривольных открыток и порнографических лент, хотя в сцене нет и тени порнографии или фривольности.
Искрящийся, комичный, благородный, абсурдный фильм лишь отчасти использует жестокие мотивы, особенно свойственные открыткам, из-под полы продающимся на площади Конкорд, а также самым ранним фильмам братьев Люмьер. Любич гениально овладел этой брутальной красотой, воплощенной Чаплином, помимо его старых фильмов, в «Парижанке», в «Золотой лихорадке», в «Собачьей жизни», «Малыше», «Огнях большого города» и «Новых временах».
«Желание» хоть и не похоже на «Парад любви», но точно так же, как «Парад любви», является шедевром.
Нам посчастливилось побывать на просмотре в Голливуде, столице кинематографа, в огромном зале с экраном, который превращает актеров в настоящие ожившие и говорящие статуи.
Ночью мы проезжаем по улицам мимо площадок для гольфа, освещенных прожекторами. Там добиваются совершенства профессионалы. Они выполняют драйвы, и светящиеся мячи сыплются на темные газоны, как нафталин на меха.
После фильма желтые такси, в которых компания транслирует лучшие оркестры с помощью лучших микрофонов, везут вас в «Трокадеро», дансинг для звезд. Вестибюль оформлен укрупненными фотографиями Парижа в духе Любича. Низкие лампы. Полутень. Танцплощадка, где мужчины сгибаются в три погибели, танцуя с субтильными дамами, у которых кудряшки, как на полотнах Карпаччо, в крошечных шляпах, с пышными рукавами, в узких и длинных юбках.
Женщины все явственнее напоминают силуэты Бердслея в «Желтой книге».
7 ИЮНЯ • ДНЕВНОЙ ПОЛЕТ • ГРАН-КАНЬОН • УИЧИТО
Вылет из Лос-Анджелеса в девять. Металлическая дверь захлопывается, машина отрывается от земли. У меня последнее место слева. Вижу алюминиевое крыло, маленькую красную электрическую лампочку, буквы T.W.A., символизирующие «Линдберг лайн», никаких признаков человека, великое одиночество — начинается то, что заставляет нас поверить в необитаемые миры. Земля обесчеловечивается. Сначала исчезают люди. Затем скот. Следом — автомобили. От убогой, нуждающейся в нас земли остаются только дома и крыши. Дома, опустевшие после поди знай какой катастрофы. Ровные линии, прямоугольники, треугольники, ромбы, коврики и плиты — человеческие творения; и вены, артерии, меандры, изгибы, серпантины, петли, завитки, полосы — творения ветра и воды.
Мы пролетаем теперь над песчаной пустыней, разграфленной бесконечными бесцветными дорогами, которые ведут к стоящим вместе трем-четырем постройкам, а рядом с ними раскинулось белое пыльное озеро. Уже на этой высоте для несведущего пассажира все, что он видит, становится картиной катастрофы, ужаса и тайны, как на фотографиях Луны, Сатурна или Марса.
И по-прежнему этот бархат, пятнистая звериная шкура, возникает на месте растительности.
Но кто откажет земле в разнообразии рельефных красок, которым она служит палитрой? Ясно одно: беспорядочное скопление создано в строгом порядке и нет таких неровностей почвы или оттенков, на которые не влияли бы органические процессы — медленные, глубинные. Разум и воля формируют малейшие складки, тончайшие тиснения. Как трогательна почти умильная жизнь, которая, несмотря ни на что, зарождается во всех частях земного шара, и наше начинание осталось бы незавершенным, если бы мы не увидели шкуру и ворс Вселенной. Иными словами, поражает отсутствие всякой путаности, и при замедленной съемке работы земли (как в фильмах о жизни растений) мы увидели бы материю, бесчисленные нити которой струятся, свиваются, скручиваются, раскручиваются, переплетаются, накладываются друг на друга, ткутся, и горы образуются из застывших рек, проникающих друг в друга, проходящих одна в другой, одна поверх или под другой, но никогда не сливающихся.
Теперь самолет летит над пустыней, изборожденной геометрическими фигурами ни с чем не сравнимой сложности; и тут и там, как вехи, поднимаются каменистые массивы — слоистые, одиночные, с очертаниями Сфинкса.
«Люди дерзкие», — заявляет Паспарту. Он прав. Спрашиваешь себя, каким волшебным образом два тонких лезвия разрезают облака, каким чудом равновесия два хрупких крыла несут эту машину с четырнадцатью креслами, пилотами и персоналом.
Но вот из-под левого крыла постепенно открывается поставленная на ребро раковина Большого каньона, шлюз между рекой Колорадо и Боулдер- Лейк — озером, синим, как фаянсовые бассейны.
Местами в его лазурную массу уходят молочного цвета воронки, но, присмотревшись, понимаешь, что на поверхности они совсем незаметны. Машину тряхнуло. Воздушные ямы — как мощеные королевские дороги. Старинная дорога, по которой Генриха III и Ришелье переносили на руках. Авиация не далеко ушла от карет, от тошноты, от ночного горшка Великой Мадемуазель.
И вереск лугов мне казался
Глубокою чащей лесной.
(«Мыс Доброй Надежды»)
Теперь я лечу над лесными чащами; они выглядят, как оголенные луга, кусты дрока и вереска. Справа и слева — адские круги Данте под охраной красных сфинксов наслаиваются друг на друга глинистыми террасами, величественными уступами. В недрах этого ада, где скорчились окаменелые драконы, кольцами вьется Стикс. Данте и Вергилий прошли немалый путь, наклоняясь над всеми безднами.
Зависаем надолго. Чувствую дурноту. Спазмы. Заложило уши... Я уснул. Проснулся.
Теперь внизу ранчо и зеленый начес, до горизонта приглаженный, выровненный и разделенный на треугольники дорогами. Скот по-прежнему не видать. Высоченные, должно быть, внизу деревья, если их можно различить и не принять за траву.
Зеленая плитка расцвечивается яркими вспышками — напоминает кристаллики на зеркалах, обработанных солью и пивом, чтобы не садились мухи. На пашнях вперемешку — каллиграфические пряди, искусные литые узоры, неповторимые росчерки. Солнце садится, удлиняются тени деревьев, и пейзаж с высоты птичьего полета кажется не таким суровым, лучше читаемым, буколическим. Мы снижаемся, приближаясь к Уичито, и видим все под углом, как если бы смотрели с холма. Машина проносится над обильными посевами, над дорогами, ложится на собственную тень и на всей скорости катит по посадочной полосе среди благоухающей травы и красных флагов.
Без десяти шесть. Машина взлетает в сумерках, которые принимают все оттенки розового и желтого, как плохо сделанный компресс.
Начинается ночной полет.
НОЧНОЙ ПОЛЕТ
Полезно постоянно раздвигать границы тайны. У туч и молний тайн предостаточно: воображению путешественника, который вслед за валькириями отправляется из одного города в другой, открываются самые причудливые и грозные валгаллы.
Великолепный полет расширит перед нами мир природы, раздвинет его границы, но не позволит выйти за них. Сон, помешавший мне увидеть нефтяные скважины, заводил меня на территории, в тысячу раз более диковинные, и загадок предлагает больше, чем этот ночной полет. Однако, хоть он и доказывает, что кавалькады Вагнера и шабаши Гете следует искать где-то еще, это зрелище все же окажется в ряду всего лучшего, что мы собрали по миру.
Пожимать плечами перед Акрополем или Сфинксом — это поза эстета, форма снобизма, которую я не приемлю. Мне ближе другая: восхваление древних явлений, возникших благодаря терпеливому труду большого числа мятежных умов, но в этом восхвалении — попытка раскрыть их новый аспект.
Гроза, тучи — древнейшее явление, но и новое, ведь насекомое внутри которого мы оказались, наблюдает за ним вблизи. Справа, за цепью темных туч, все небо снизу доверху рассечено электрическими росчерками.
Слева лениво гуляют стада туч, отделяя нас от земли. Когда земля показывается, она добавляет к небесным звездам свои и умножает небесный мрак; Паспарту говорит про фары невидимых автомобилей: кометы пятятся.
Иногда тучи закрывают собой все. Мы как будто в мыльной воде, в хлопьях пены, которая от вспышек молний начинает просвечивать изнутри. Когда вспышки прекращаются (что бывает редко) и появляется луна, эта необъятная вата твердеет, становится плотной, и наша машина раздвигает северные снега и айсберги.
Оглохшие уши с треском откупориваются. В них устремляется грохот винтов, становящийся далеким гулом, если на высоте их снова закладывает.
Пассажиры спят. Пассажиры читают. Стюардесса скользит между кресел, смотрит за теми, кто спит, читает и равнодушен к великолепию, которое устроило вокруг небесное электричество. Зрелище не прекращается ни на минуту: окна-гербарии, к которым приклеена бледная мерцающая растительность, облака, отвлекавшие князя Андрея от дум о славе, а теперь окружившие нас почетной свитой...
Паспарту рассказывает, что, пока я спал, мы пролетали над стаей орлов и спускались вниз, так что можно было различить скачущих галопом красных муравьев — пони индейцев сиу. «Сиу отцепляют локомотив»... «Обрушение моста»... «Парусные сани»... Жюль Верн не представлял себе индейские территории. Его восемьдесят дней кажутся фарсом, когда смотришь на эту истерзанную пустыню, неподвижные реки, горные цепи с высоты птичьего полета.
Из тех мест, где происходит дуэль с полковником Проктором и ищут Паспарту, я везу мокасины, расшитые бисером, и пояса к рубахам, подкладки для которых шили из скальпов.
Сон. Рассвет. Хочу, чтобы полет продолжался. Пробуждение в пять утра, как во время учебы в колледже, — плохие воспоминания детства. Приоткрываю глаза, и каждый раз передо мной апокалиптические видения. Пока не взошло солнце, я видел отнюдь не расшитые бисером мокасины и не пояса, свидетельствовавшие о впечатляющей стати больших вождей в рубахах, подшитых скальпами.
Машина едет и останавливается. Из кресла надо перебираться в автобус, который развезет школьников... — что я несу?! — пассажиров по нью-йоркским отелям. Автобус покидает летное поле, едет мимо газгольдерных сооружений, огромных мусорных ящиков, гигантских помойных баков, вдоль пейзажей с горами металла, заводами, мостами. Бесконечный фарфоровый тоннель, проходящий под рекой, — и мы выезжаем прямо в город.
НЬЮ-ЙОРК • «РАДИО-СИТИ» • БРОДВЕЙ, ОПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕР • НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ТЛЕН • ГАРЛЕМ
Отель «Амбассадор». За нашим окном, выходящим на Мэдисон-авеню, — Венеция, Большой канал, окаймленный особняками; редкие машины скользят по нему, как гондолы.
При первой же встрече Нью-Йорк перестает быть давящим городом, развеивая мои опасения. У небоскребов воздушная неподвижность тюлевых занавесок. Свежий ветер пронизывает их, окутывает, гуляет между фасадами.
Пришлось сказать журналистам, что Нью- Йорк — тюлевый город, там не приходится вдыхать духовную пыль. Они понимают наполовину. Переводят: «Поэт полагает, что Нью-Йорк одет в женское платье». Я не произносил этих нелепых слов, но, если бы сказал, был бы последовательным и добавил бы: «Ведь ваш город — жертва моды на раздевание, через четыре дня платье спадет, и останется Рубенс, статуя Свободы — обнаженная, молодая, пышнотелая, которая смущала бы наших военных».
В «Радио-Сити» нас забросило на самую верхотуру. Мы завтракаем. Смотрим с террасы на парк, небоскребы и реку.
Нью-Йорк — это каменный сад. Каменные растения выбрасывают побеги — совсем высокие и чуть пониже, — и их вершины зацветают. Газоны, зеленые бордюры, игровые площадки, шезлонги, солнечные купальни, разноцветные зонтики венчают эти серые башни Нотр-Дама с парниками и оросителями, залитые солнцем джунглей, и балансируют на ходулях соборы и греческие храмы.
«Радио-Сити» — это здание и город в городе. Я осматриваю его бегло, поскольку догадываюсь, что Нью-Йорк уготовил мне более яркие сюрпризы. После Акрополя и Башен молчания, после Сфинкса «Радио-Сити» вполне оправдывает ожидания путешественника и дополняет череду общеизвестных мест, которые, встречаясь на нашем пути, составляют кругосветное ожерелье Жюля Верна.
Толкаемые невидимой струей лифты взмывают вверх и сползают, как растительный сок с шестидесятиэтажных стеблей. Двери открываются и закрываются так быстро, что иногда наша группа разделяется надвое, и потом становится сложно собрать всех вместе. Мой сопровождающий спрашивает: «Вы в детстве не мечтали о доме, в котором все двигалось бы, как по волшебству, и который был бы похож на “Радио-Сити”?» — «Нет. Я мечтал о чудесах господина Ветра и госпожи Грозы, о карманном театре, где выступали бы крошечные актеры, о коробке, в которой был бы заперт солнечный луч. Здесь можно следить за светящейся кривой моего голоса, видеть через стекло, из ложи-аквариума, играющий оркестр, но не слышать его, и слушать этот же оркестр в пустой комнате, кричать в трубки, которые усиливают звук, и в трубки, которые его приглушают, смотреть, как имитируют скачущую лошадь и войска на марше, но, признаться, мое детское воображение уносилось дальше, так что гусенице-науке, пересчитывающей свои лапки, нелегко было бы за мной угнаться. Нет такого левого, который был бы левее поэта, нет открытия, способного пленить его грезы, и если в одном срезе пустоты оказывается тишина, насыщенная звуками музыки, то сколько еще срезов предстоит сделать, чтобы извлечь из неведомого наполняющие его и окружающие нас миры?»
Вот вам простая задача: колбаса сохраняет колбасный вкус, когда ее режут поперек, может ли она потерять его, если разрезать палку в длину? А ведь именно это происходит со световым пучком в кино. Рассекайте его поперек на все более широкие плоскости, и изображение будет становиться все шире. Рассеките его вдоль. Изображение осталось, но наш взгляд перестает его считывать.
Если всерьез над этим задуматься, то доморощенные диковины «Радио-Сити», которых раз-два и обчелся, останутся далеко позади.
Незнакомый плод, который я вкусил в Рангуне и нигде больше не находил, запомнился мне ярче, чем эти устройства, совершенствующие старое чудо. Блюдо все то же. Только кухня разнообразится, упрощается, усложняется, делается краше. Я посещаю кухню за кухней, службу за службой, погреб за погребом, столовую за столовой, но голод и жажда остаются при мне.
В осветительной ложе театра, где главный электрик показывает мне тумблерный механизм, я поглядываю в сторону — там идет фильм — и пытаюсь немного насытиться и утолить жажду. Конечно, вращающиеся подмостки, декорации, оркестр, который можно перемещать, как метрдотель перевозит фигурный торт, а еще, разумеется, освещение и толпа девушек впечатляют меня и увлекают. Но зачем мне это? «Федра» производит фурор со старыми актрисами и скудными декорациями, так что мне милее радостная команда рабочих сцены.
Излишняя роскошь убивает творчество и укрывает нас под спудом непонятной меланхолии. Я ухожу из «Радио-Сити», перекормленный пустотой.
Надо называть вещи своими именами. Из всех утилитарных форм, из всех материалов и архитектурных конструкций, которые чему-то служат, уходит настоящая красотата, которая роднит небоскреб Рокфеллера с пирамидами, с Башнями молчания, с Акрополем. Если не считать нескольких вольных деталей оформления, которые нарушают стиль, в целом «Радио-Сити» — шедевр «новых времен», как шутит Чаплин. На улице я вспоминаю этого маленького человека и тот беспорядок, который он противопоставляет этому ледяному, стерильному и надменному порядку.
Мне нравится тлен городов. Горы парижских отбросов способны привлекать Пикассо, Стравинских и всех, кто знает, что цветы искусства не растут из никеля и хрусталя. Я ищу нью-йоркский тлен и вскоре найду этот золотой навоз, без которого не тянулись бы к солнцу скай-скрейперы с травой и зонтиками на вершинах. Чистый город подвешен в воздухе, а клоака, мусорные баки и отвратительные подвалы внизу питают это геометрическое очарование и спасают его от смерти.
Женщина в вечернем платье и драгоценностях, с макияжем на лице, во всем блеске возвращается домой на рассвете — вот что я представляю себе, когда Бродвей в сумерках зажигает огни. Подметальщикам и чистильщикам обуви в белых перчатках мало бы не показалось, если бы им пришлось снять перчатки и что есть сил драить эти авгиевы конюшни. Потребовалось бы повернуть реку вспять, чтобы она добралась до «отхожих мест» на Таймс-сквер, где за сорванными дверьми не могли бы укрыться толстяки, которые, спустив штаны, читают газету, а мальчишки, высунув языки, копируют их потуги.
Чудо из чудес: на Бродвее наступает вечер. В магазинах продают всякое диковинное барахло. В барахавтоматах выложены горы сокровищ страны Кокань. Фонтаны молока, солода, мороженого, пива бьют из мраморных стен, а наверху, куда ни глянь, соперничают в небесной оригинальности рекламы. Пегас расправляет крылья, дымится чашка кофе, в водорослях плавают рыбы и пускают в ночь огненные пузыри.
Улицы выдыхают внизу пар центрального отопления. Он поднимается то там, то здесь и напоминает курильницы, используемые в каком-то подземном культе, в мире, где Father Divine, «Божественный отец», знаменитый методистский священник, возможно, устраивает свои мистические празднества, пиры, на которых раздает бедноте имущество богачей и покупает черным загородные дома и коров, пользуясь неисчерпаемыми средствами, тайну которых Нью-Йорк тщетно пытается разгадать.
Нью-йоркский тлен! Еврейский и негритянский. Согласятся американцы или нет, Гарлем — это топка машины, а топчущая ногами чернокожая юность — уголь, наполняющий ее и приводящий в движение.
В Средневековье пляска святого Витта одурманивала толпы, и ее бешеный ритм, передаваясь от безумца к безумцу, потрясал весь город. Нью-Йорк, обожающий соборы, органы, свечи, горгулий, бурлеск, негритянских певцов, мистику и мистерии, сотрясается в черном ритме. Статистика говорит, что в 1936 году сорок процентов метисов родились от белых женщин и черных мужчин. Когда-то метисы рождались только от белых мужчин и негритянок.
Где же место встречи черных и белых? Что за пожар сжигает расовые преграды и берет верх над прежним инстинктом самосохранения? Это танец. Линди-хоп (танец Линдберга), бередящий Гарлем в электрической лихорадке и повсюду распространяющий свои волны.
ЛИНДИ-ХОП • СВИНГ • ТЕАТРЫ БЕЗРАБОТНЫХ • БУРЛЕСК
Линди-хоп, который дарит здесь уже пять лет, — это негритянский гавот. Танцуют его в «Савое», гарлемском дансинге для черных.
Длинный зал с низким потолком, окруженный балюстрадой. В центре площадка и оркестр. По кругу — проход, ложи и столики, где зрители и танцующие пробуют безобидные напитки. Когда мы пришли, оркестр играл вальс, а точнее, призрак вальса, или, еще точнее, — призрак призрака вальса, вальс-зомби, мотив вальса, напетый сентиментальным пьянчужкой, и под этот мертвый вальс пары, словно марионетки, волочили ноги и широкие юбки, останавливались, наклоняясь до земли так, что партнерша ложилась на партнера, медленно выпрямлялись и продолжали идти бок о бок, рука в руке, глаза в глаза, ни разу не улыбнувшись. Вальсы и танго — единственная отдушина, которую позволяют себе белые, эти очнувшиеся сомнамбулы, пребывавшие во власти бесхитростного эротизма и ритуального опьянения. Оркестр вдруг оживает, и танцующие мертвецы пробуждаются от гипнотического сна, отдаваясь неистовству линди-хопа.
Что на них нашло? Секрет в марихуане, траве, которая курится и дурманит. Тучные негритянки с непокрытыми головами и их юные дочки, у которых выпрыгивает грудь и торчит зад, в шляпках, пришлепнутых, как оплеуха, превращаются в лассо, которое черные раскручивают вытянутой рукой и возвращают обратно, в бумеранг, который они швыряют и который поражает их прямо в сердце, провернувшись в воздухе. Иногда негритянка с суровым исступлением на лице проскакивает под рукой партнера, отрывается от него, отдаляется и начинает танцевать одна, а иногда атакует и набрасывается на него, как волна. Или же пары очерчивают вокруг себя пространство, выделывая фигуры, и своей замысловатостью эта кадриль не уступает шахматной партии. Белые пары перемешиваются с черными. Головокружение и усталость не влияют на скорость ног: «травка», reefers (сигареты с марихуаной) — чтобы непрерывно поддерживать ритм. Ритм толпы, которая под конец становится собственным отражением в подвижной воде.
В Париже тоже есть линди-хоп, но ему не хватает эдакой дьявольской конопли, кайенского перца, превращающего негритянский менуэт в заразительную пляску святого Витта, а Гарлем в фабрику американской энергии.
Можете сбежать, заткнуть уши, попытаться разрушить чары, но в такси, которое вас везет, через динамик продолжает транслироваться дьявольский ритм. Негритянки поют, белые певицы копируют тембр негритянок, такси доставляет вас в бар «Оникс», в подвал, где вы услышите лучший в Нью-Йорке свинг.
Свинг сменил джаз. Это новое понятие: чернокожий бэнд, музыка которого рисует круги и прямым хуком сражает душу.
В глубине тесного узкого подвала на эстраде наяривают пятеро негров — самый настоящий оркестр. Сырое яйцо рано или поздно становится яйцом вкрутую, или глазуньей, или омлетом с травами. Такие ансамбли портятся. Даже Армстронг, про которого думали, что он тверд, как алмаз, позволил себя подточить. «Форды», сделанные с помощью консервных банок и бечевки, мечтают превратиться в «роллс-ройс», а симфонический оркестр, выплывающий из бездны, белые смокинги, никелированные саксофоны в брызгах света знаменуют гибель старых ударных, старых труб и старых шляп.
Ударник — индейский негр. Он пускает громовые раскаты и мечет молнии, глядя в небо. Резец из слоновой кости поблескивает у него во рту. Рядом недоросли, которым с виду только на деревенской свадьбе играть, не могут поделить микрофон, срывают друг у друга с уст обрывки кровоточащей музыки и расходятся до умопомрачения, заводя посетителей, — места за столиками переполнены. Свинг прекращается, овации и радостные возгласы певцов раздаются под стук крутящегося кассового аппарата. Стоп! На людей за столиками безжалостно наваливается стена тишины: оцепенение перед лицом катастрофы, а затем свинг берет за горло «Болеро» Равеля, рвет его, мнет, скальпирует, сдирает с него кожу заживо и накручивает на свой однозвучный стержень алую лозу, словно это тирс, пригодившийся для обряда вуду.
У меня нет сомнений, что фермерская жизнь — отражение Рокфеллер-билдинг. Коров доят на крутящемся круге. Молодые батраки меняются перед необычной каруселью. Один льет из шланга, другой вытирает, третий массирует, последний, который будет доить, стоит и ждет, смущенно пряча «копыто дьявола» — табурет, прикрепленный сзади к штанам.
Теплое, чистейшее молоко пьют на месте. Но нам известно о достоинствах коровьего навоза и о роли, которую он играет в народной медицине. На островах женщины клали в него младенцев, чтобы выжили только самые крепкие. У нас на севере крестьяне делают из него припарки. Китайцы добавляют в питье при простуде, и это еще не все.
Удобрения из коровьих лепешек и навоза возвращаются в Нью-Йорк на машинах, выхлопом которых уже ничего не удобришь. Машины упраздняют ручной труд; рабочий становится безработным; белый — безработный, негр — безработный, и в Нью-Йорке придумали хитрый способ занять безработных. Тридцать восемь государственных театров, тридцать восемь театров безработных — безработных артистов и рабочих сцены — дают возможность для экспериментов, на которые не решился бы Бродвей. Благодаря этой системе пьесу Элиота «Убийство в соборе», которую ставили «на свой страх и риск», ждал долгий триумф. Этим вечером я увижу «Макбет» в исполнении черных. Я люблю пьесу «Макбет» и люблю черных. Но между одним и другим явно не хватает связующего звена. В сценах колдовства жестокость в духе вуду затмевает сюжет драмы. Макбет и леди Макбет становятся американской четой, в которой супруг дрожит как осиновый лист, а супруга им помыкает. Ужас короля, которого преследует Банко, переходит в негритянский страх перед кладбищем, и мне жаль, что врач не слышит признаний сомнамбулической королевы, а на балу, устроенном вместо пира, на троне сидит не призрак. Но какая разница! В театре «Лафайетт» играют великую драму, которую не ставили ни в одном театре, а здесь по-прежнему неоднозначный финал преображается черным огнем в прекрасный танец крушения и смерти.
Не будь тлена, которым мне приятно дышать, в Нью-Йорке остались бы только виртуозы пишущей машинки и телефона. К счастью, французское представление о Нью-Йорке так же неверно, как американское о Париже. Нью-Йорк — медленный город. Машины в нем не движутся. Телеграммы вовремя не приходят. В отеле перегорают пробки, барахлят замки; я был рад, убедившись, что на мою беспорядочность Нью-Йорк не ответил бездушным порядком.
Из тлена улиц, в фимиаме которых растут небоскребы, священные чудовища, алчные божества, рожден театр Мински, «Бурлеск», незабываемый по зрелищности стриптиз.
«Стриптизерши»: «раздевающиеся соблазнительницы». Это почти перевод слова, обозначающего звезд наготы. Звезды зарабатывают до двух с половиной тысяч долларов в неделю, и благодаря им театр Мински наводняет толпа мужчин в поисках интимного идеала, которым довольно опьянения отвлеченным эротизмом. Желание вспыхивает и там же угасает. Вновь зажигается свет, охлаждая восторг, толпа рассеивается, и отхлынувшая волна потечет неизвестно куда. Это, пожалуй, должно устраивать порядочных супруг, ведь невозможно представить в Нью-Йорке закрытые комнаты, где любитель бурлеска предается воспоминаниям и мечтам. Праздности, безделью, мечтаниям в Нью-Йорке нет места. Город утратил эту роскошь. Это затрудняет работу духа во всем, кроме театра, где работа требует движения. Здесь даже не спят по-настоящему. Только дремлют, а на заре начинает трезвонить телефон.
Мисс Лилиан Мюррей — одна из тех стриптизерок, которые знают секрет, позволяющий довести публику до умопомрачения. Все звезды этого последовательного раздевания с полным обнажением в финале (остается только треугольник с бразильскую почтовую марку) показывают одну и ту же программу. Разница только в тайнах, флюидах и хитростях сексапильности.
Одна заставляет зал цепенеть, другая — неистовствовать. Одна берет публику в суровый ледяной плен, другая воспламеняет порох, а третья вонзает стрелы и кинжалы. Это талант. Талант нужен при любом самовыражении, без.него наркоман умрет от наркотиков, уличная девица не привлечет клиентов, голливудская красота не найдет применения.
Сегодня мисс Мюррей в ударе. Поистине зажигательный стиль. За прозрачным занавесом на полукруглом возвышении, спрятав руки в горностаевых муфтах, украшенных пармскими фиалками, неподвижно стоят обнаженные девушки.
Мисс Мюррей ходит взад-вперед по просцениуму. Походка, как у манекенщиц. Платье постепенно будет терять то рукав, то бахрому, упадет шарфик, пояс, лиф, юбка — и ничего не останется. При каждой потере — короткое бегство за кулисы и смена освещения. Под ненавязчивую ритурнель появляется скуластое лицо мексиканского идола, копна волос, закручивающихся над плечами, необъятный бюст, розовый зад и крепкие ноги. Зал топочет. Она возвращается на сцену в седьмой раз, от платья ничего не осталось. Появившись справа, она движется влево поступью краба, стыдливо отворачивает лицо, останавливается в нерешительности, заворачивается в занавес и исчезает.
После нее на сцену выходит очень худое создание. На ней длинное белое платье, она с восхитительной утонченностью исполняет акробатический танец. Афиша не сообщает нам ее имени, и билетерши ее не знают. Наверняка это пробы. Вышла попытать счастья — на удивление удачно для зрелища, которое своей непристойностью схоже с представлением провинциала о «Фоли Бержер». Бедное «Фоли Бержер»! Твои обнаженные девы слишком застенчивы. Но это существо даже на их фоне вызвало бы изумление. Так и хочешь спросить, что эта гардения делает среди помоев. В Нью-Йорке ее появление нас не смущает. Дело в том, что сила, напор, инфернальная дерзость спектакля отметают всякую мысль о тлене. Не в помои попала эта гардения. Она появилась здесь наравне с мясом и овощами, свежими и увесистыми плодами земли.
Двусмысленный типаж физкультурницы, эфеба в женском облике, современной женщины, так сказать, — это уловка особ, которые борются за свое право на существование. В Марселе женщина рассчитывает только на женскую природу. Она царица. Не важно, что уродливая, старая, бесформенная; она даже не стремится нравиться. Она женщина и со своего пьедестала бросает вызов проходимцу-мужчине. В Нью-Йорке у стриптизерши никаких тайных ухищрений. Только молодость — залог неувядаемости ее видных сокровищ. Она никого не обманывает и гордится своими прелестями, а не полом.
Мисс Мюррей запросто выставляет себя напоказ рядом с маленькой акробаткой в белом платье. Молодость уберегает ее от комичности. Боттичелли не мешает Рубенсу. А потому остается в памяти радостная плоть «Бурлеска Мински». Несмотря на невероятную непристойность скетчей, составляющих действие, печаль домов терпимости с их «художественными» мизансценами вас не гнетет. Воздушный, свежий, мечтательный Нью-Йорк выкладывает на свои полки интимные принадлежности из каучука, кинокамеры, снадобья, жевательную резинку, печенье, духи, туалетное мыло и мороженое.
Его богатства сравнимы с шедеврами садоводства, вкусом и ароматом которых жертвуют в пользу форм и оттенков. Конечно, американцы со временем начинают жаловаться на гигантоманию, элефантиаз, которые удивляют нас при первом соприкосновении. Быть может, оставшись, я тоже стал бы жаловаться на воду, питающую флору и фауну, зверье и пернатых Нью-Йорка. Возможно. Но не будем забывать, что это не записки исследователя. Путешествие вокруг света показывает нам лишь витрины, мы скользим «по верхам».
10 ИЮНЯ • КОНИ-АЙЛЕНД • МЫ ЗАМЫКАЕМ КРУГ
Помню старый очаровательный фильм. Двое молодых служащих встречаются в парке развлечений на Кони-Айленд. Они веселятся; влюбляются... и расстаются. Разочарование, тоска... И вдруг они обнаруживают, что живут в соседних комнатах в Нью-Йорке.
Уже поздно, завтра нас увезет «Иль-де-Франс». Я хочу побывать на Кони-Айленд.
Бесконечный метрополитен. Пересадка за пересадкой. Головы, отсеченные сном, катаются по плечам. Две девчушки сплелись в объятиях и спят. Спящие, вздрогнув, просыпаются и выходят. Мы остаемся одни. Я начинаю переживать, жалею, что затеял эту поездку, и вдруг магический пейзаж — словно удар током, с распахнутыми глазами прилипаем к окнам.
Жемчужный морской туман укутывает Кони- Айленд, скрывая картонные постройки: видны только их скелеты, окаймленные белыми лампочками. Сказочный Константинополь, сколько хватает глаз, выстроил в ряд свои башенки, шпили, минареты и купола.
Парк закрывается. Мы вскакиваем в последний вагон «русских горок». И из полудремы летим в головокружение созвездий, пускаемся вскачь со свистом — от этого нутро рвется наружу и срывает голову с плеч. Парк закрывается, но парк — это городской сквер, а в городе не закрывается ни один магазин, где продают впечатления: состязания в ловкости, «портрет на память», горячие сосиски, мороженое, кукурузу, билеты в музеи криминалистики и уродцев.
Узнаю эту ярмарку ужасов, где молодые люди влюбляются и расстаются. Я погружаюсь в нее. И вот — фотографы с моментальными снимками, карусели с персидскими скакунами, которые крутятся в баре среди деревьев, и монстры, которых тиражирует Шанхай, искривляющий конечности бедных детей в бронзовых каркасах и подкидывающий провинциальным импресарио то гермафродита, то человека-доску, то женщину-черепаху.
Удача приказала нам замкнуть круг в этом островном театре «Шатле», в идеальном для нашего путешествия антураже. Выйдя из-за кулис театра Старого Света, театра моей юности, я застегиваю застежку на Кони-Айленд, счастливом острове юного Нового Света.
Молча, с тяжелым сердцем и легкой душой я оглядываюсь, смотрю на Паспарту, и мы пожимаем друг другу руки.
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА НА МЕСТЕ • ФРАНЦИЯ
«Иль-де-Франс». Просторная каюта.
Я звоню, потому что проголодался. Чей-то голос по-французски (я уже было решил, что понимаю иностранные языки) сообщает мне, что каюты с нашим номером не существует, и трубку вешают. Я звоню. Требую холодного мяса. Через час ожидания слышу за дверью шум и гам, словно там играют в шары и ссорятся. Открываю. И что вижу? Четыре лакея, похожие на грузчиков, придуманных Каран д’Ашем, хотят собрать разбившегося терракотового фавна, но, столкнувшись с проблемами фрейдистского толка, для начала решают сделать стол из доски и ножек на винтах в стиле Людовика XV. Я прячусь. Смотрю в иллюминатор. Большая Медведица снова встала на лапы. Узнаю умницу Большую Медведицу из Сэн-э-Уаз. Ложусь спать. Я спокоен. Мы во Франции. Застежка застегнута. Возвращаюсь домой.
17 ИЮНЯ • ПАРИ ВЫИГРАНО • ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЛЕАСА ФОГГА
Гавр. С нами едет Титайна, с которой мы познакомились в Нью-Йорке. За окном поезда самая восхитительная панорама за все время нашего путешествия вокруг света. Франция словно пытается побороть презрение мира, хочет нам доказать, что она существует и достойна внимания. Ливень с грозой цвета синих чернил поливает серебристую зелень, реки, фабрики, склоны селитрой и величавостью.
В конце концов в назначенный час, в условленный день мы проезжаем по городу, полному человеческих эмоций, соразмерному человеку, — городу, где достаточно восстановить прежний ритм и порядки, чтобы зубья изношенного механизма вновь начали цепляться, и тогда он не просто будет плыть в пустоте, а начнет излучать свечение, завораживающее и восхищающее Вселенную.
Примечания
1
Свидетельство тому - музей в Гренобле, хотя в «Мемориале» он весьма небрежно отзывается о руинах египетской пустыни. (здесь и далее прим. автора.)
(обратно)2
Жером Таро рассказывал мне, что видел, как устроены башни изнутри, с самолета.
(обратно)3
Из местного арго.
(обратно)4
Чаплин докладывал ему по телефону обо всех подробностях путешествия.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
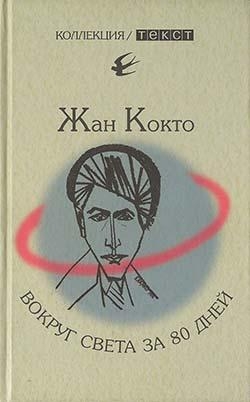


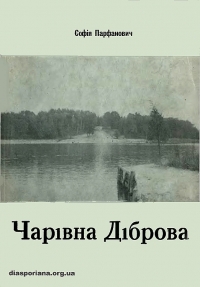
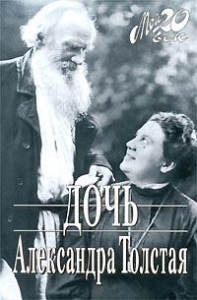
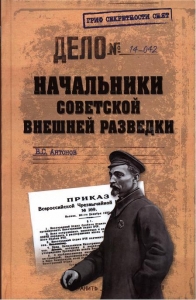
Комментарии к книге «Вокруг света за 80 дней. Мое первое путешествие», Жан Кокто
Всего 0 комментариев