В. П. Гиндин Психопатология в русской литературе
Марку Евгеньевичу Бурно, профессору, с благодарностью.
© В. П. Гиндин, 2005
© ООО «ПЕР СЭ», 2005
Предисловие
Перед вами, читатель, необычная книга. Написанная живым и увлекательным языком, она повествует о потаенных от широкой публики сторонах личности всеми нами любимых русских писателей и поэтов. Зачем, спросит читатель, автору потребовалось копаться в тайниках, иногда неприглядных, душ давно умерших гениев? Что с того, что мы узнаем о страшном «подполье» Достоевского или подлых поступках Лермонтова, или о нетрадиционной ориентации Чаадаева. Но ведь каждый психопатологический штрих в личности гения позволяет рассматривать его творчество не только с литературной точки зрения, но и с позиций психопатологии. Литературоведческие работы советского периода стыдливо умалчивали о каких бы то ни было отклонениях в психике русских литераторов, советские психиатры также молчали. Счастливым исключением явились давние работы профессоров Личко и Мелехова, посвященные клиническому анализу психопатологии Гоголя и Достоевского.
Автор книги Омский психиатр, психотерапевт европейского регистра Валерий Гиндин совершил колоссальный труд, проанализировав огромное число мемуарных, литературоведческих и медико-психиатрических публикаций и дал собственный психопатологический анализ личностей русских литераторов, положив тем самым начало возрождению патографии, основательно забытой с 20-х годов 20 века.
Некоторые выводы автора носят дискуссионный характер, с некоторыми выводами может и нельзя согласиться вовсе, но в целом, книга носит познавательный характер и может явиться не только ценным пособием для психотерапевтов, использующих метод «психотерапии творческим самовыражением» профессора М. Е. Бурно, но и для преподавателей курса психиатрии и медицинской психологии но и для студентов профильных специальностей и для широкого круга читателей.
Вице-президент Всемирного Совета по психотерапии президент Профессиональной психотерапевтической Лиги России, доктор медицинских наук, профессор В. В. МакаровОт автора
Господа! Если к правде святой Мир дороги найти не умеет — Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой! БеранжеЧитатель, ознакомившись с оглавлением этой книги, может придти в изумление и негодование: «Зачем автору понадобилось ворошить души давно умерших гениев, зачем вытаскивать на всеобщее обозрение потаенные стороны их жизни, зачем открыто обсуждать то, что подлежит компетенции врачей-психиатров?» И, даже, если природа «наградила» Лермонтова ядовито-желчным характером, а Достоевского – припадками и перверсиями, Гоголя – психической болезнью и т. д., то от этого они менее любимыми для нас, их далеких потомков, не станут.
Как бриллиант ни поворачивай к свету, часть граней будут молчать, оставаясь немыми, но от этого бриллиант не перестанет быть таковым.
В психиатрической литературе достаточно полно проведен патографический анализ жизни и творчества Достоевского и Гоголя. Ему посвятили свои работы Ломброзо, Кречмер, в дореволюционный период профессор Чиж, позднее профессоры Мелехов, Личко.
Психоаналитическую картину личности Чехова дал профессор М. Е. Бурно.
Что такое патография?
В «Толковом словаре психиатрических терминов» патография – есть «изучение творчества писателей, поэтов, художников, мыслителей с целью оценки личности автора, как психически больного». Профессор М. Е. Бурно основоположник «Психотерапии творческим самовыражением», считает, что «патография есть область клинической психотерапии, исследующая процесс лечения незаурядным творчеством, то есть изучающая лечебное творчество одаренных людей, творчество, сообразное душевным духовным особенностям творца».
В 1925–1930 гг. под редакцией Г. В. Сегалина издавался «Клинический архив гениальности и одаренности», в котором патографическому анализу были подвергнуты Пушкин, Толстой, Тургенев, Горький, Короленко, а также некоторые иностранные авторы.
Г. В. Сегалин обозначил эти патографические изыскания термином эвропатология (от греч. – Euro – «Эврика» нахождение, находка). «Назвав наш архив, как архив «эвропатологии», – пишет Г. В. Сегалин, – «мы этим подчеркиваем специфический характер этой патологии и считаем, что эта отрасль психопатологии имеет право на существование и развитие, точно так же, как, скажем, судебная психиатрия, школьная, дефективная психопатология и проч».
С 30-х годов прошлого века эти работы не переиздавались.
Вообще какие бы то ни было отклонения в психике русских литераторов, умалчивались. Не переиздавались работы профессора-психиатра В. Чижа о Гоголе, Достоевском, Тургеневе, Пушкине, под запретом была работа профессора Д. Е. Мелехова о Гоголе. «Национальная гордость великороссов» не могла быть ущербной. Так гласила коммунистическая идеология. Всякие, даже ничтожные попытки рассказать о великих нелицеприятную правду, пресекались грозным окриком цензора: «Не сметь трогать грязными руками святую память о имярек…»
И вот теперь, когда гласность достигла вселенских масштабов, когда можешь говорить и писать, что хочешь, я взял на себя смелость провести патографические исследования жизни и творчества Радищева, Чаадаева, Тургенева, Лермонтова, Маяковского…
Что касается Достоевского, Гоголя, Гаршина, то здесь диагноз психического заболевания не вызывает сомнений, остается только решить вопрос в рамках какой нозологии их рассматривать.
Психиатры спорят о форме эпилепсии Достоевского и были ли судорожные пароксизмы у него проявлением эпилепсии. Некоторые утверждают, что никакой эпилепсии у Достоевского не было вообще. В отношении болезни Гоголя также существуют различные суждения, одни говорят, что Гоголь был болен шизофренией, другие относят его болезнь к циклофрении, третьи – называют инволюционный психоз.
У Гаршина тоже диагноз варьирует от циркулярного до шизо-аффективного психоза.
При анализе психопатологической картины, имевшей место у названных писателей я, ни в коей мере, не пытался найти истину, я только сопоставил различные мнения, а вывод пусть делает сам читатель.
Очень трудная задача была дать психопатологический анализ личности Лермонтова и Маяковского.
Ни тот, ни другой поэт не страдали психическими заболеваниями, но имели значительные личностные отклонения от нормы.
А что такое психическая норма? Ю. А. Александровский пишет: «Говорить о какой-то четкой психической норме, свойственной некоему среднему человеку, очень сложно, и, вероятно, невозможно…, здоровым принято считать человека, у которого гармонично развиваются потенциальные физические и творческие силы, делающие его зрелым, работоспособным и активным членом общества». Если счесть средней нормой не усредненную, а умственно и творчески развитую личность, то так называемая «нормальность» – не что, иное, как легкая форма слабоумия.
Сколько в окружающем нас мире видим мы чудаковатых, странных людей, манерно-вычурных оригиналов, взбалмошных, «полоумных», «шизанутых». Это не потенциальные пациенты психиатрических больниц, но они проявляют несомненную склонность к аффективной неустойчивости и истероидному поведению. Иметь дело с такими людьми тяжело, но без них мир был бы бесцветно-ординарен. Они не дают нам соскучиться. Безумства и чудачества гениальных людей бесчисленное количество раз описаны в литературе.
Я не буду подробно останавливаться на родственных связях между гениальностью и безумием. Можно обратиться к трудам Ч. Ломброзо и его последователей, но вспомним, что еще Платон называл творчество «бредом, даруемым нам богами».
Что же, из того, что Чехов пытался шляпой ловить солнечный луч и надеть себе его на голову вместе со шляпой, или, что Толстой разговаривал с ящерицами, или Лесков, прислушивался к звуку падающей на фарфор ваты, как описывает это М. Горький, считать их безумными?
Профессор М. Е. Бурно пишет: «Не разлюбим тех кого полюбили, если узнаем подробно их душевный склад, потому, что любой не слабоумный не разрушившийся личностно человек бездонен – неповторим, таинственно сложен своей душевной духовной особенностью под знаком какого-то характера».
Почему мой выбор врача-психиатра пал на исследование психопатологии писателей и поэтов?
Э. Кречмер пишет, что «в исследованиях гениальности предпочтение всегда отдается поэтам и вообще литературно-продуктивным людям, а это объясняется не их духовным превосходством над другими группами творцов, а очевидным специфическим богатством, сохраняющихся во времени оригинальных психологических документов, дающих нам в руки прямые и косвенные самовыражения поэта, у которого манера письма намного более субъективно связана с личностью автора, чем у ученого, и намного легче трактуема, чем выразительные средства художника или музыканта».
Еще раньше Э. Кречмера эту же мысль высказал известный русский психиатр, приват-доцент Казанского университета Б. И. Воротынский в публичной лекции 31 июля 1898 года, читанной в г. Тобольске: «…существует мнение, что выдающиеся мыслители, великие писатели и художники нередко изучают свои собственные страсти и недостатки, чтобы затем рельефнее их изобразить, ярче представить в своих произведениях».
А. П. Чехов по этому же поводу очень образно и ярко заметил: «Настоящий писатель – это то же, что древний пророк – он видит яснее, чем обычные люди».
А как же быть психиатру?
С одной стороны чрезвычайно интимные, иногда неприглядно-темные стороны жизни гения, обнародовав которые можно стать клятвопреступником, нарушившим клятву Гиппократа о врачебной тайне, с другой стороны клинико-психопатологический анализ жизни и творчества гениев не может быть изолирован в торичеллевой пустоте, не может явиться предметом потребления, по выражению провизоров – pro me.
Диагностика психического заболевания при манифестных проявлениях болезни как будто не трудна – «чокнутый», «шизик», «крыша едет» – все эти банально-вульгарные обозначения краевой или ярко выраженной психической патологии заставляют думать, что любой человек может отделить психическую патологию от нормы.
Но это только на первый взгляд.
Истина же состоит в том, что определить диагноз психического заболевания дело, по меньшей мере, многотрудное, а чаще и скорбное, иногда налагающее несмываемую печать на дальнейшую жизнь и судьбу пациента. Здесь все важно – детство, привычки, поведение, сексуальная жизнь, отношение к близким, трудоспособность, армейская служба, вредные привычки и т. д. Так по «камушкам», да по «кирпичикам» собирает психиатр и фундамент, и все надстройки психиатрического диагноза.
При исследовании патологических отклонений личности великих, ныне покойных, литераторов мы лишены живого с ними общения.
Но нам остаются их биографии свидетельства современников и литературные произведения, в которых как через «магический кристалл» высвечиваются новые грани личности творца.
По человечески понятно противостояние панегиристов и апологетов гения, фактам, рисующим личность литератора в неприглядном свете. Они называют это «очернительством» памяти великого поэта или писателя. Известный психиатр, историк и публицист М. Буянов так пишет по этому поводу: «… Словно желая загладить свою вину перед гениями, униженными при жизни и доводимыми или доводящими себя до быстрой смерти, потомки хотят это забыть и обрушиваются на всякого, кто напоминает им о том, как несправедливо, немилосердно, придирчиво злобно они относились к живому гению, боготворя его после смерти».
Владислав Ходасевич, создавая литературный портрет Андрея Белого, писал тоже: «Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому, что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому, что нет ничего выше истины».
Мой труд имеет следующую структуру: предисловие, первая и вторая часть, послесловие, краткий словарь психиатрических, медицинских и других терминов, содержание.
Первая часть – портреты. Это мои собственные патографические изыскания – портреты Радищева, Чаадаева, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гаршина, Маяковского.
Вторая часть – эскизы. В нее включены работы, опубликованные в «Клиническом архиве гениальности и одаренности», – они касаются патографии Пушкина, Толстого, Горького. С любезного разрешения профессора М. Е. Бурно здесь же публикуется его статья о Чехове.
Предисловие и каждая глава первой части снабжены указателем цитированной литературы и персоналией.
Литература
1. Ашукин И. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: М., 1955
2. Бурно М. Е. Сила слабых. М., 1999. с, 52.
3. Он же. Клиническая психотерапия М., 2000 г.
4. Буянов М. Лики великих или знаменитые безумцы М., 1994 г.
5. Воротынский Б. И. Гениальность, психическая неуравновешенность и преступность. Казань, 1898 г. с.22.
6. В мире мудрых мыслей М., 1962, с. 268, 273.
7. Горький A. M. Люди наедине сами с собою. Собрание сочинений в 30 т., т.15. с.280.
8. Грицак Е. тайна безумия. М., 2003 г. с.229.
9. Кречмер Э. Гениальные люди. СПБ, 1999 с.10.
10. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981 г. с. 16, 17.
11. Сегалин Г. В. Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии) Л., 1925 г., т. I, вып. I, 3.
12. Чхартишвили Г. Ш. Писатель и самоубийство М., 2001 г. с. 400–401.
Часть I Портреты
Глава I Русский вольтерьянец и «царская водка»
Торжество разума в том и состоит, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Вольтер
О чем думал Александр Радищев, глядя на бескрайние заснеженные поля Сибири? Путь до Илимского острога был холоден и бесконечен, как и его заледеневшие душа и мысли. Что виделось ему? Пажеский корпус, служба в Сенате или череда прелестниц, завороженных его прекрасными карими глазами? А может быть ужас другого путешествия, за описание которого он сейчас так страшно расплачивается?
И невольно возникали страдальческие рифмы, под завывание степного ветра и метель, бьющую в окно арестантской кибитки.
Ты хочешь знать: кто я? Что я? Куда я еду? — Я то же, что и был, и буду весь мой век: Не скот, не дерево, не раб, но человек! Дорогу проложить, где не бывало следу, Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах. Чувствительным сердцам и истине я в страх В острог Илимский еду.Да, матушка – государыня Императрица Екатерина II постаралась до конца рассчитаться с распространителем «французской заразы» – идеями французских энциклопедистов, хотя и состояла в обстоятельной эпистолярии с Вольтером. Его знаменитый афоризм: «Благими намерениями устлана дорога в ад», как нельзя соответствует ситуации Пугачевского бунта и ада творимого его разбойниками. А все ведь началось с благих попыток Екатерины внедрить идеи французских просветителей в русское общество.
Да не случилось. А случился «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», поставивший на грань краха царствование «сиятельной императрикс». А Радищев – «этот бунтовщик хуже Пугачева» посмел в своем памфлете обвинить матушку во всех смертных грехах и поставить под сомнение смысл ее царствования!
Да и сам эпиграф к возмутительной книге не мог не вызвать гнева императрицы. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» – этот эпиграф был выбран Радищевым не случайно. В песне XVIII поэмы В. К. Тредиаковского «Телемахида» описано посещение героем поэмы Телемаком подземного царства Тартар, где подвергаются в наказания за свои злодеяния адским мучениям цари «употреблявшие во зло свое на престолах могутство…»
Цари эти были гнуснее и страшнее, чем самые страшные чудовища мифологии, страшнее, чем адский пес Цербер – толстый, круглый (облый), озорной (большой), огромный, с тризевной (три пасти) и лаяй (лающее).
Именно это адское чудовище Радищев использовал как аллегорическое олицетворение царизма и даже усилил образ «чудища», снабдив его вместо трех – ста пастями. Схожий образ несколько раз используется Радищевым в самом «Путешествии» (например, в главе «Хотилов»: «стоглавое чудовище» – о крепостном рабстве; в оде «Вольность»: «И се чудовище ужасно, как гидра сто имея глав…» – о церкви), «Спасская Полесть» – злая уничтожающая критика царствования Екатерины II.
Как могла императрица и, прежде всего женщина, спокойно снести сравнение с толстой, злобной лающей собакой?
«Тщеславие доводило Екатерину, от природы умную женщину, до умопомрачения, делавшего ее игрушкой в руках ловких и даже глупых льстецов, умевших пользоваться ее слабостями», – пишет В. О. Ключевский, – «и она не приказывала выталкивать из своего кабинета министра, в глаза говорившего ей, что она премудрее самого господа Бога».
Расплата не замедлила явиться – 30 июня 1790 года за напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.
Сама же императрица писала в своих заметках на книге: «Сочинитель сей книги наполнен и заражен французскими заблуждениями, всячески ищет умалить почтение к власти».
На суде 24/VI – 1790 г. Радищев был психологически сломлен, он отрекся от своей книги, признал себя «преступным», а книгу «пагубной, наполненной гнусными, дерзкими и развратными выражениями», и что написал он ее «по сумасшествию».
Тем не менее, уголовный суд приговорил Радищева к смертной казни посредством отсечения головы. Екатерина, непонятно чем побуждаемая, но, изыскавшая глупейший повод, 4 сентября издала именной Указ Сенату: «Ввиду мира со Швецией, заменить казнь Радищеву десятилетней ссылкой в Илимский острог».
Что же предшествовало отречению Радищева от своего программного труда?
Да, видимо, то, что двигало несгибаемых большевиков-ленинцев Тухачевского, Уборевича, Якира на следствии 1937 года сговорить себя в связях с иностранными разведками – страх, страх за свою жизнь, заканчивающуюся в немыслимых мучениях, за жизнь своих близких.
Двумястами годами раньше Радищев тоже перенес ужас заточения в Петропавловскую крепость, но не самого по себе этого факта, а факта попадания в полную власть обер-секретаря тайной экспедиции С. И. Шешковского. Этот мозглявый старик с женоподобным, похожим на пухлый блин, безбровым лицом, на тонкой шее, бугристым лбом наливающимся в гневе кровью, наводил ужас на подследственных, а особенно его толстая палка, намеренно выставляемая в углу на показ, которой Шешковский одним ударом выбивал у заключенных все зубы.
И хотя к Радищеву в крепости никаких «пристрастных методов допроса» не применялось, но одно сознание того, что они в любой момент могут быть применены, повергало его в ужас и уныние. Ведь за 15 лет до этого «знатный кнутобоец», которому, по-видимому, не давали покоя лавры его далекого предшественника Малюты Скуратова, жег, резал и вздергивал на дыбу «разбойника» Пугачева, и Радищев знал об этом. Он, почти ежедневно в течение 2-х недель приводимый на допросы к Шешковскому, видел эту сучковатую палицу, стоявшую в углу допросной комнаты, с ужасом ожидая, что она в любой момент может быть пущена в ход.
В каком же трагическом состоянии находилась душа Радищева свидетельствует его письмо, написанное в крепости: «Тело и душа изнемогать начинают, надежда, сие усладительное чувствование, надежда видеть мое плачевное семейство начинает, постепенно исчезать в томном сердце и уже исчезла. Я чувствую, я один».
Такой мощный психологический гнет заставил этого душевно-мягкого человека, с задумчивым взглядом темных проницательных глаз под удивленно выгнутыми бровями, человека нрава прямого и пылкого, умевшего сносить горести со стоической твердостью, чуждого лести, непоколебимого в дружбе и не помнящего зла, отречься от своего труда.
Сорок три дня провел он в крепости, ожидая казни, и в минуты отчаяния грыз свою серебряную ложку – на ней остались следы зубов.
При объявлении Радищеву приговора он потерял сознание, и окружающие увидели, как мгновенно его голова стала белой.
Но вернемся на несколько десятилетий назад.
Сын богатого помещика, бывший паж, получивший по воле императрицы высшее образование в Лейпцигском Университете, Радищев пренебрег служебным положением, благополучием и карьерой, явно не оправдав надежд, которые возлагал на него двор.
Прослужив недолго в Сенате, затем – в годы восстания Пугачева – в штабе Финляндской дивизии и, выйдя в 1775 году в отставку в чине секунд-майора, он в 1777 г. поступил асессором на службу в Коммерц-коллегию, а в 1790 г. был назначен управляющим Петербургской таможней. В период 1783–90 гг. длившийся 7 лет, началу которому послужила смерть горячо любимой жены А. В. Рубановской, Радищев пережил глубокое душевное потрясение, это состояние нашло свое отражение в стихотворении «Эпитафия».
«О! если то не ложно, что мы по смерти будем жить; Коль будем жить, то чувствовать нам должно; Коль будем чувствовать, нельзя и не любить. Надеждой сей себя питая И дни, в тоске препровождая, Я смерти жду, как брачна дня; умру и горести забуду. В объятиях твоих я паки счастлив буду, Но если ж то мечте, что сердцу льстит маня И ненавистный рок отъял тебя навеки Тогда отрады нет, да льются слезы реки… Тронись, любезная! Стенаниями друга, Се предстоит тебе в объятьях твоих чад; Не можешь, коль пройти свирепых смерти врат, Явись хотя в мечте, утеши тем супруга».«Смерть жены моей погрузила меня в печаль и уныние и на время отвлекла разум мой от всякого упражнения», – вспоминает он семь лет спустя.
С этого времени мысли о смерти постоянно звучат в творчестве Радищева.
В «Путешествии» он пишет фактически программное заявление:
«… Если добродетели твоей убежища на земле не останется, если доведену до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, тогда вспомни, что ты человек, вспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же объяти у тебя тещется – умри».
Тогда же у Радищева впервые появляются приступы какой-то болезни, преследующие его вплоть до смерти и сопровождающиеся пульсирующей головной болью, бледностью или покраснением лица, усиленным потоотделением, чувством дурноты, тошнотой.
Душевное состояние Радищева не могло быть незамеченным со стороны. Его друг и шеф граф А. Р. Воронцов в письме к своему брату Семену, русскому посланнику в Лондоне, с грустью писал: «… Я только, что потерял, правда, в гражданском смысле, человека (Радищева – курс. мой В. Г.) пользовавшегося уважением двора и обладавшего наилучшими способностями для государственной службы… Кроме того он исключительно замкнут последние семь или восемь лет».
Возможно, что личное горе заставило Радищева замкнуться и в полной отрешенности от всего написать дерзновенную, вольнолюбивую и человечную книгу. Не было ли это проявлением некоей жизненной миссии, воплощаемой даже при условии, если ценой его подвигу будет жизнь?
Странно, что никто кроме Г. Шторма не обратил внимание на строки в конце второй главы «Путешествия»: «Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно. Тебе, источнику всех благ приносится сия жертва», – восклицает Путешественник, сие Радищев. Значит, Александр Николаевич предвидел ужасную расплату за свой труд, но, тем не менее, принес себя в жертву призрачным идеалам.
Но далеко не всем пришлась по душе книга Радищева. Даже через 34 года после смерти писателя в 1836 году наш великий А. Пушкин пишет уничтожающий биографический очерк об авторе «Путешествия». Среди современников Пушкина ходили слухи, что этот очерк был заказным, в целях возродить к жизни имя Радищева, которое находилось под запретом.
Может быть и так, но какой ценой?
Неужели и здесь топчась на могиле писателя, следовало провозгласить, что цель оправдывает средства?
А. С. Пушкин считает книгу Радищева преступлением, это действие сумасшедшего: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!» И далее Пушкин пишет, что Радищев один, что у него нет ни товарищей, ни соумышленников, в случае неуспеха он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону.
По словам А. Пушкина: «Радищев – сочинитель посредственной книги, написанной варварским слогом жеманной, надутой, чрезвычайно смешной, набитой пошлостями: сочинитель, в котором отразилась вся французская философия его века, но так, как предметы в кривом зеркале; представитель полупросвещения, с невежественным презрением ко всему прошедшему, с поверхностными сведениями наобум, приноровленных по всему».
Жестоко, очень жестоко раскритиковал Радищева наш любимый поэт, фактически сбросив с пьедестала великого «вольтерьянца», хотя, как писал Пушкин «мы никогда его великим не считали».
Иное мнение было у современников Радищева – его учеников и последователей. Иван Пнин написал стихи на смерть Радищева, в которых он выразил безмерную скорбь: «Уста, что истину вещали, увы, навеки замолчали, и пламенник ума погас».
Иван Борн в открытом заседании «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» прочел свои стихи и статью, посвященные памяти Радищева, в которых заявлял, что Радищев был «страдальцем правды» и утверждал, что в России «пьют патриоты смерти чашу», намекая на самоубийство писателя.
Может быть нам, воспитанникам советской эпохи, нужно иногда критически оценивать творчество великих, срывая с них, навешенные коммунистической пропагандой ярлыки?
Ну, вот опять случилось так, что В. Ульянов (Ленин) в статье «О национальной гордости великороссов» причислил А. Н. Радищева к числу первых революционеров наряду с декабристами и революционерами-разночинцами 70-х годов XIX века, а Луначарский назвал Радищева «пророком и предтечей революции». Коммунистическая идеология во всю старалась наделить Радищева демонической сверхреволюционностью, жаждой разрушения старого мира лютой ненавистью к поработителям народа. Но это в действительности далеко не так. Александр Николаевич был противоречивым человеком. Можно сказать, что он был первым диссидентом, прямо пошедшим против существующего строя.
Думаю, что А. Пушкин в той же статье высказал несправедливое суждение о том, что влияние Радищева было ничтожно, что все прочли его книгу и забыли ее. «Благоразумные мысли и благонамеренные предложения, изложенные в книге, принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в положениях, и нет истины, где нет любви» – так заканчивается статья.
Вернемся теперь к началу нашего повествования.
3 января 1792 г. А. Радищев прибывает в Илимск. Здесь он провел пять с половиной лет. Ведет активную жизнь – занимается врачебной практикой, делает операции, вводит оспопрививание. Написал философский трактат «Письма о китайском торге», и историко-биографический очерк «Слово о Ермаке». Освобожденный по указу Павла I из Илимской ссылки в 1796 г., Радищев возвращается в Россию к месту положенного ему проживания в родовое имение Немцово Калужской губернии.
По дороге домой в Тобольске 7 апреля 1797 умирает от пневмонии вторая жена (свояченица) Радищева Елизавета Рубановская.
Мать его троих детей и друг умирала тяжело, на глазах мужа, без надлежащего врачебного действия.
Физически и душевно измученный, находясь под тайным надзором полиции, Радищев так описывает свою жизнь того периода (письмо к А. Р. Воронцову 21 сентября 1797 года):
«… Согласитесь, что человек смешное, очень странное существо, он плачет утром, смеется вечером, хотя в положении его ничто не изменилось; иногда он и с места не сдвинулся, а сидит в своем кресле в колпаке и ночных туфлях. Да я был таков, каким только, что изобразил себя, плакал утром и смеялся вечером, как безумец, а меж тем я уже не смеялся – я разумею от веселия сердца – с Тобольска, со времени разлучения с моей доброй подругой, хотя я имею все основания на свете быть более веселым вследствие благости нашего всемилостивейшего императора».
И далее в письме от 8 марта 1799 года Радищев так себя характеризует:
«Я весьма странное существо. Возвращенный домой из глубин Сибири, спокойный во всех отношениях, я толстел, дни мои начинались и кончались один, как другой, но разум мой был мертвенным, а угнетенная душа моя билась в своей стихии, как утопающий бьется в воде…
Вот каков я был, вот каков я ныне: веселее, когда у меня больше огорчений, угрюмее, когда я слишком спокоен…»
15 марта 1801 г. Александр I издает Манифест, по которому освобождалось от наказаний 156 лиц, пострадавших в предыдущие два царствования.
В одном из списков наказанных значился и Радищев. Освободившись из ссылки в Немцове, писатель переезжает в Петербург, где определяется членом комиссии Сената по сочинению законов. Но ни один из законов, составленных Радищевым, не получил ни малейшего движения.
По свидетельству его сослуживца – Ильинского, Радищев неизменно был «мыслей вольных и на все взирал с критикой… при каждом заключении … прилагал свое мнение основываясь единственно на философском свободомыслии».
2 сентября 1802 года за 10 дней до смерти Радищева граф Завадовский, непосредственный его начальник шутливо намекнул писателю на «молодость его седин, и что «одной Сибири» видимо мало». Это заявление Радищев воспринял, как решение вновь отправить его в ссылку.
В страшном смятении чувств Александр Николаевич возвращается домой, отчаяние и ужас переполняют его сердце. Он крайне напуган, мечется по комнатам, говорит, что «до него добираются». Несколько успокоившись, Радищев слег в постель. Старший сын свидетельствует: «Здоровье ему изменило, он стал чувствовать беспрестанно увеличивающуюся слабость… буквально таял на глазах, изнемогал, сделался, задумчив, стал беспрестанно тревожиться». Лечил его штаб-лекарь Придворной конюшенной конторы Иван Гейснер, труды которого остались напрасными. В ночь с 11 на 12 сентября Александр Николаевич неожиданно выпивает стакан «крепкой» водки, приготовленной его сыном для вытравливания старой золотой канители на эполетах и, говоря, что будет умирать долго и мучительно, хочет зарезаться бритвой, которую отнимает у него сын.
Покончил ли самоубийством Радищев или это можно считать несчастным случаем? Намеренно он принял яд (по одним источникам это была «крепкая водка» – селитряная азотная кислота, по другим – «царская водка» – смесь 1 части азотной кислоты с 3 частями соляной кислоты. «Царская» – растворяющая золото – «царь металлов») или ошибочно выпил этот стакан подумав, что в нем вода для запивания лекарств?
Официального медицинского заключения о смерти Радищева не сохранилось.
Но сыновья выдвигают версию о том, что отец был тяжело болен и умер от болезни. В записи о захоронении Радищева, говорится, что он умер естественной смертью, страдая чахоткою. То же самое сказано в официальной выписки о смерти Радищева, опубликованной в журнале «Литературный вестник» № 6 за 1902 год. А как следовало поступить родственникам иначе? Ведь православная церковь, считает самоубийство тяжким грехом, самоубийц не разрешали хоронить на кладбище, а только за оградой. Могли ли сыновья объявить правду о смерти отца, кроме того с риском бросить тень и на свою карьеру? Но тайна, есть тайна, теперь уже истину не восстановишь!
Первым версию о самоубийстве Радищева выдвинул А. Пушкин в том гнусном биографическом очерке, о котором речь шла выше. С его легкой руки большевики, придя к власти в России, захлебывались от восторга, обвиняли царизм в смерти писателя-революционера. Некоторые советские исследователи полагали, что Радищев в начале XIX перенес духовный кризис, связанный, с крахом буржуазной революционной идеологии после падения якобинской диктатуры и духовный крах самого Радищева. Осудив диктатуру Робеспьера и отойдя от идей народной революции, писатель-демократ не пожелал быть участником того либерального обмана, который развертывался на его глазах после воцарения Александра I, и покончил жизнь самоубийством в 1802 году» (Е. Г. Плимак цит. по Д. Бабкину).
Вот вам нате!
Сбылось пророчество Радищева в найденной после его смерти записке: «Потомство отомстит за меня». Сбылось, но с такой разрушительной силой, с таким крушением надежд зарождавшейся в России демократии, что писатель-революционер, был бы он жив, мог написать еще один памфлет, за который потомство могло рассчитаться с ним ГУЛАГОМ, по сравнению с которым Илимский острог – это, по существу, санаторий ЦК КПСС.
А где же страдающий, измученный телесным и душевным недугом человек с его горестями, надеждами, просто человеческой слабостью?
Но, как и все 80 лет царствования большевиков идеология подменяла собой все стороны общественной и человеческой жизни.
Пожалуй, единственный из хора коммунистических историков и литературоведов Д. Бабкин связал трагическую кончину Радищева с его длительным и тяжелым телесным недугом. Хотя и здесь не обошлось без оговорки, о том, что здоровье писателя было подорвано «бесчеловечной политикой царского самодержавия».
Так страдал ли А. Н. Радищев душевной болезнью?
Да, по видимому страдал. Не будем вдаваться в тонкости нозологические, зачем это нужно, да и никому неинтересно. Но синдромология четко и ясно определяет депрессивный характер переживаний писателя.
Первый депрессивный период возник после смерти первой жены Радищева, и длился без малого семь лет (1783–1790 гг.). Об этом ярко и убедительно свидетельствует творчество Радищева, его письма, воспоминания современников.
С этого же времени, появляются пароксизмы, которые на языке современной психиатрии можно было бы назвать диэнцефальными кризами. Эти состояния преследовали писателя до самой смерти.
Второй период, или, если хотите, аффективный кризис, наблюдается у Радищева в период нахождения в Петропавловской крепости (30 июня – 8 сентября 1790 г.). Аффекты отчаяния, безысходности, страха, ужаса перед неминуемой смертью, доходящие до состояния раптуса, обмороки, внезапная седина – яркие и потрясающие воображение картины.
Третий депрессивный период длится в течение 4 лет – период возвращения из Илимской ссылки вплоть до переезда в Петербург и возобновления государственной службы (1797–1801 гг.). В этот период Радищева не оставляют диэнцефальные кризы.
Четвертый депрессивный период, самый короткий длится около года с 1801 по 12 сентября 1802 года. Несмотря на активную законотворческую деятельность, общение с друзьями по «Вольному обществу», продолжение творческой работы, фон настроения Радищева остается сниженным, по всей видимости из-за нарастания соматического неблагополучия. Беседа с графом Завадовским за 10 дней до смерти вызвала аффективную паранойяльную реакцию со сверхценными идеями преследования.
На фоне нарастающего соматического неблагополучия в ночь на 12 сентября возник «raptus melancholicus» – взрыв тоски, повлекший принятие яда («царской водки»), а сознание тяжких предсмертных мук для облегчения страданий и попытку зарезаться.
Иного, учитывая клинические показатели болезни Радищева, ожидать и не следовало, ведь за 19 лет своей болезни Радищев пронес мысль о самоубийстве, и даже в межприступные периоды.
А. Н. Радищев оставил в памяти потомков восхищение своим патриотизмом, ненавистью к рабству и угнетению, он до конца исповедовал свои принципы и даже в минуты человеческой слабости, оставался верен своим высоким идеалам.
Прав был И. С. Тургенев говоря: «В человеческой жизни есть мгновения перелома, мгновения, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое».
Это о А. Н. Радищеве писателе и человеке.
Литература
1. Бабкин Д. А. Н. Радищев в последний год жизни. Ж. Русская литература, 1966 г. № 1, с.125–140.
2. Граглин Н. Последний день о семье Радищева. Ж. Советская женщина, 1989, № 11, с.26–40.
3. Даль В. Словарь живого великорусского языка. Репринт. изд. М., 1994 г. т.1.
4. Зеньковский В. История русской философии. М., 2001 г.
5. Игнатьев А. В. С былым наедине. М., 2001 г.
6. Ключевский В. О. Сочинения в 9 томах. М., 1989 г. т.5, с.284–285.
7. Лотман Ю. М, Собрание сочинений т.1 Тарту, 2000 г.
8. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10 т. 1951 г. т.7, с.350.
9. Радищев А. Н. Избранные сочинения. М., 1952 г.
10. Радищев Н. А., Радищев П. А. Биография Радищева. М., 1959 г.
11. Русские портреты XVIII–XIX вв. М., 1999 г. т.3. с.510.
12. Луначарский А. В. Радищев А. Н. – первый пророк и мученик революции. Петроград, 1918 г.
13. Степанов Г. День у Шешковского М, 1987 г.
14. Светлов Л. Б. А. Н. Радищев. Критико-биографический очерк. М, 1958 г.
15. Макогоненко Г. П. А. Н. Радищев и его время. М, 1956 г.
16. Форш ОД. Радищев. Трилогия М, 1987 г.
17. Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. М, 2001 г., с.204.
18. Шторм Т. П. Потаенный Радищев. М, 1968 г.
19. XVIII век. Сборник АН СССР Ленинград, 1977 г.
Глава II Загадка жизни и смерти «Императорского безумца»
Я странен? А не странен кто ж? А. Грибоедов. «Горе от ума»Петр Яковлевич Чаадаев – «первый русский философ» умирал. Умирал странно и загадочно. Он просто не захотел больше жить, и сам заказал свою кончину. Так, в старину, делали святые старцы, правя себе домовину, ложась в гроб и умирая в назначенный срок.
Петр Яковлевич Чаадаев родился 27 мая 1794 г. Воспитывался в семье князей Щербатовых вместе с братом. Воспитанием занималась их тетка старая дева княжна Щербатова Анна Михайловна.
Салон, который она держала, охотно посещался видными общественными деятелями, дипломатами и писателями.
Здесь велись различные чтения, дискуссии и споры. Братья Чаадаевы получили блестящее домашнее воспитание, владели в совершенстве европейскими и древними языками. В 1808 году братья были определены в Московский университет.
Но вот настал 1812 год. П. Я. Чаадаев оставляет учебу в Университете и, как приписной Семеновского лейб-гвардии полка выезжает в действующую армию.
С самого начала и до конца войны он сражается под Бородином и на Березине, под Кульмом и Лейпцигом.
За проявленную недюжинную храбрость Чаадаев награждается орденами Анны IV степени и Железным Крестом.
Вернувшись после победоносного похода «по Европам», Петр Яковлевич с головой окунается в водоворот светской жизни.
Федор Глинка писал о нем:
«Одетый праздником с осанкой важной смелой, Когда являлся он пред публикою белой С умом блистательным своим Смирялось все невольно перед ним».В Петербургском, особенно, в дамском окружении он производит неизгладимое впечатление изысканной одеждой и манерами. Непревзойденный щеголь в маске презрительного равнодушия и особой значимости, он вызывал бесчисленные пересуды о своей личности и «тайной» жизни. Дочь Н. Н. Раевского Екатерина Николаевна писала в письме: «… Петр Чаадаев был чрезвычайно заметен в Петербургском обществе. Будучи адъютантом командира гвардейского корпуса, он находился в постоянном общении с великими князьями Константином и Михаилом Павловичами, оказывал ему расположение и будущий царь великий князь Николай Павлович».
Он отличался в высшем свете не гусарскими, а какими-то байроническими манерами. «Он человек своего времени, – русский барин – помещик, избалованный, изнеженный, ленивый и праздный, весь в долгу, как в шелку, смолоду красавец и щеголь, до конца дней заботится о своей наружности». «Современная кокетка, по часам просиживал за туалетом, чистил рот, ногти, притирался, мылся, холился, прыскался духами», – вспоминает А. И. Тургенев. L beau Tchaadaef (красавчик) – называли его гвардейские офицеры.
Чаадаев пользовался ошеломляющим успехом у дам высшего света, они между собой называли Петра Яковлевича «розаном».
Он же любил похвастать интрижками, которых вовсе не имел. Ф. Вигель писал, что «никто не замечал в нем нежных чувств к прекрасному полу: сердце его было преисполнено обожания к сотворенному им из себя кумиру. Когда изредка ему случалось быть с дамами, он был только учтив».
«Он имел одно виденье, Непостижимое уму, И глубоко впечатленье В сердце врезалось ему С той поры, сгорев душою, Он на женщин не смотрел»так отзывается о нем его любящий друг А. Пушкин. О каком виденье идет здесь речь? Ну, естественно, о спасении России. Но об этом в нашем повествовании далее.
А пока экзальтированные, писанные, по видимому, в полуобморочном состоянии, письма влюбленных дам: «…провидение вручило вам свет, слишком яркий, слишком ослепленный для наших потемок…как бы Фаворское сияние, заставляющее людей падать лицом на землю», – писала одна из них.
А другая – Авдотья Сергеевна Норова, признавалась Чаадаеву в любви: «Я хочу просить вашего благословения… Мне было бы так отрадно принять его от вас коленопреклоненной…Не удивляйтесь и не отрекайтесь от моего глубокого благоговения – вы не властны уменьшить его».
Чаадаев не разделял чувств молодой прекрасной женщины. Неразделенная любовь свела ее в могилу. Но двадцать лет спустя Чаадаев вспомнил об этой любви и завещал похоронить себя рядом с Норовой.
А пока в круговороте светского вихря, в нескончаемой череде балов, дружеских попоек летело и приближалось к краху время, отпущенное провидением блестящему флигель-адъютанту, и надежды на должность адъютанта императора разбились в прах.
Почему вдруг на высоте карьеры Чаадаев в 1820 году подает прошение об отставке, и разгневанный Александр I немедленно подписывает прошение гвардейского ротмистра даже без пожалования следующего чина? Вот эта жгучая тайна не давала покоя современникам Чаадаева, да и нам, исследователям, живущим в нынешнем времени, тоже небезынтересна эта загадка, явившаяся неким водоразделом в ипостасях личности Петра Яковлевича, неузнаваемо изменившим его внешний и внутренний облик.
Одни историки говорят, что Чаадаев, посланный гонцом к Александру I в Тропау, где проходило совещание глав государств Священного союза, с известием о восстании в Семеновском полку, будто бы опоздал и царь получил это известие от австрийского министра Меттерниха. Другие считают, что виной этому явилось само восстание в Семеновском полку, в котором был замешан брат Чаадаева Михаил, третьи утверждают, что причиной явилась некая беседа Чаадаева с русским императором в которой, якобы, Чаадаев высказал Александру I мысли, впоследствии опубликованные в злосчастном «Философическом письме № 1».
В 1821 году полиция провела обыск в имении братьев Алексеевском. Искали бумаги, могущие пролить свет на волнения в Семеновском полку.
Эти обстоятельства произвели гнетущее впечатление на братьев.
К 1823 году душевный кризис Чаадаева усилился – его терзает скука, разочарованность. Появляются различные «болячки». Несмотря на череду развлечений, Чаадаев часто остается дома из-за желудочных болей, мучительных колик. Его донимают запоры, так что без слабительного обходиться было невозможно. Петр Яковлевич сознает, что причиной хворей является его «нервическое воображение», обманывающее в собственных чувствах». Он лечится у знаменитого френолога Галла от «гипохондрии».
Узнав о глубоком духовном кризисе и тяжелой ипохондрии перед заграничным путешествием, А. Пушкин просил П. Я. Вяземского «оживить его прекрасную душу».
Да, все это так и было! Но было и другое, была одна, мягко говоря, странность, которая может нас, навести на определенные размышления о том, почему Петр Яковлевич был так непроницаемо холоден с женщинами. М. О. Гершензон утверждал, что Петр Яковлевич имел «атрофию полового чувства».
Современники Чаадаева, считают его отношения с камердинером Иваном Яковлевичем «непонятной причудой». Слуга был настоящим двойником своего барина, «одевался еще изысканнее, хотя всегда изящно, как и сам Петр Яковлевич, но все им надеванное стоило дороже».
По свидетельству Д. Н. Свербеева Чаадаев тратил значительные средства на содержание своего слуги. Современник считает, что Чаадаев, непонятно чем, руководствуясь, повсюду демонстрировал своего слугу, и непомерные расходы оправдывал содержанием камердинера.
А как можно отнестись к стихам А. Пушкина, посвященным Чаадаеву (1821 г.)?:
«… Одно желание: останься ты со мной! Небес я не томил молитвою другой. О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки? Когда соединим слова любви и руки?»Как говорят сегодня No comment!
«В августе 1823 г. в Англии на приморском берегу возле Брайтона появился иностранец, соединявший в своей осанке торжественность епископа с безукоризненной корректностью светского человека – это был Чаадаев», – пишет О. Мандельштам, – «бежавший из России на случайном корабле с такой поспешностью, как если бы ему грозила опасность, однако без внешнего принуждения, но с твердым намерением никогда больше не возвращаться».
Больной, мнительный, причудливый пациент иностранных докторов, никогда не знавший другого общения с людьми, кроме чисто интеллектуального, скрывая даже от близких страшное смятение духа, он пришел увидеть свой Запад, царство истории и величия, родину духа, воплощенного в церкви и архитектуре».
Да, это было очень странное путешествие. О нем мало что известно. О чем думал, что переживал, на что надеялся в течение этих почти трех лет Чаадаев?
Может быть, он устал, или был «духовной жаждою томим», а может быть, вынашивал замысел, который, родившись «в темную ночь» выстрелил по России и заставил ее проснуться? Таков смысл впечатления А. И. Герцена от «философического письма № 1».
Вернувшись из Путешествия за границу, осенью 1826 года Чаадаев не смог ужиться с «теткой-старухой» и переезжает в Москву. Здесь живет на разных квартирах, постоянно лечится, вступает с лекарями в медицинские споры. Новые припадки ипохондрии заставили его совмещать воплощение философского замысла с изучением медицинской литературы. Брату своему М. Я. Чаадаеву он пишет: «… Я воображаю себе, с каким восхищением ты увидишь, что непременно должен ходить на двор, на горшок…», «то запор, то понос, то насилу таскаешь ноги, то бегаешь как бешеный, от тоски; сверх того случаются разные пароксизмы, припадки, от которых приходишь в совершенное расслабление…».
Чтобы систематизировать свои воззрения на бумаге, он совершенно уединяется от общества, испытывая одновременно сильнейшие приступы притихшего было раздражения против всего окружающего. Д. Н. Свербеев пишет: «Возвратясь из путешествия, Чаадаев поселился в Москве и вскоре по причинам едва ли кому известным, подверг себя добровольному затворничеству, не виделся ни с кем и, нечаянно встречаясь в ежедневных своих прогулках по городу с людьми самыми ему близкими, явно от них убегая или надвигая себе на лоб шляпу, чтобы его не узнавали».
С. П. Жихарев в письме к А. И. Тургеневу (1829 г.) сообщает: «… ко мне не ходит, ни меня к себе не подпускает; да лучше сказать ни к кому и никого. Сидит один взаперти, читая и толкуя по своему Библию и отцов церкви».
Человек света и общества сделался угрюмым, нелюдимым.
Чаадаев сам признавался впоследствии, что находился тогда во «власти тягостного чувства и был близок к сумасшествию, посягая на собственную жизнь».
В конце 1829 года Чаадаев окончательно редактирует «Философическое письмо № 1» и немедленно его рассылает по друзьям и знакомым в Москве и Петербурге.
Нам, конечно, интересно узнать, кто был адресатом первого письма, что это был за человек, из-за которого сотряслись религиозно-нравственные основы России? Может это, был некий демон-искуситель? Да нет, все было проще простого.
В конце 50-х годов 19 века к родовому поместью В. Д. Улыбышева подъехала простая телега, на которой сидела одноногая, убогая старуха. Перед хозяйкой поместья Варварой Александровной она униженно молила простить ее и просила пристанища. Как оказалось, она была тоже урожденная Улыбышева и являлась родной сестрой хозяина поместья. В замужестве звалась она Пановой Екатериной Дмитриевной.
Это та знаменитая московская экзальтированная барыня, которая в 1829 году написала своему знакомому отставному гусарскому офицеру, письмо, полное страстной тревоги и мятежной тоски. Отставной гусар – П. Я. Чаадаев был знаком с Е. Д. Пановой с 1827 года и не раз бывал в доме молодой и красивой хозяйки, часто и подолгу беседовал с ней на философские и религиозные темы.
В ответ на ее взволнованную, отрывистую записку и было написано «философическое письмо № 1», которое адресат никогда не получил.
Трагическим знаком отмечена ее судьба – раннее сумасшествие, тяжелые физические недуги, удел нищенки и приживалки.
Некоторое время она имела свой угол в усадьбе Улыбышевых. В дневнике А. Д. Улыбышева за 1843 год есть такая запись: «Теперь живет у него (у брата Владимира) с каким-то побродягой старшая сестра моя Катерина Панова, оставившая мужа и совершенно потерянная».
Нужно сказать, что после опубликования злосчастного письма муж Е. Д. Пановой поместил ее в частную психиатрическую больницу В. Ф. Саблера.
Когда, как и где умерла Екатерина Дмитриевна, об этом в семье не сохранилось даже воспоминаний. Для них ведь она была только жалкая калека, полусумасшедшая приживалка, «филозофка», которая быть может, все еще шамкала беззубым ртом какие-нибудь свободолюбивые слова, когда-то сказанные ей Чаадаевым. И есть что-то жуткое, какая-то злая издевка судьбы в жизни этой недолгой вдохновительницы одного из самых глубоких русских мыслителей… (А. Тыркова).
Но вернемся несколько назад.
Весь период с 1826 по 1831 год Чаадаев пребывает в затворничестве. Меняется резко его внешний облик. Каштановые кудри остались в Европе. Он значительно облысел, заострились черты лица, оно стало похоже на маску, кожа напоминала туго натянутый пергамент, виски запали, рот съежился. Резко изменился почерк и стал похож на сжатую клинопись. К февралю 1831 года в здоровье Чаадаева наступил перелом.
Брат Михаил пишет тетке из Москвы: «Могу вас уведомить, что брат теперешним состоянием здоровья своего очень доволен в сравнении с прежним… Аппетит у него очень даже мне кажется – слишком хорош, спокойствие духа, кротость – какие в последние три года редко в нем видел. Цвет лица, нахожу, лучше прежнего, хотя все еще очень худ, но с виду кажется совсем стариком, потому, что все волосы на голове вылезли». (И это в 37 лет – В. Г.).
Летом 1831 года Чаадаев, совсем оправившись от болезни, выезжает в свет, становится членом Английского клуба и ежедневно его посещает.
Вот портрет того периода, написанный современниками.
Чаадаев. Высокий. Худой. Стройный. Лицо бритое: сухое, бледное, перегоревшее. Сталь во взоре серо-голубых глаз… Голый гранитный череп… (Ф. Тютчев). Открытый взор и печальная усмешка (А. Герцен).
Бодрость ума и постоянная грусть аристократ во всем. Незаменимый в светских салонах. Изысканные манеры. Чарует женщин, но держит себя в стороне: не имеет «романа» (А. Хомяков).
Его чопорно-изысканное одеяние, резкие сентенции, полные важного значения привычки удивляют завсегдателей Английского клуба.
П. А. Вяземский пишет А. Пушкину: «Чаадаев выезжает (в клуб), мне все кажется, что он немного тронулся. Мы стараемся приголубить его и ухаживаем за ним».
Между тем «философическое письмо № 1» гуляло в списках по двум столицам. Читал его и сам император…, но ничто не всколыхнуло высший свет, и императорские покои Зимнего дворца.
А популярность Чаадаева росла с катастрофической быстротой, и уже брезжил трагический конец, спровоцированный философским мудрствованием. А, между тем, Чаадаев постоянно в свете, в театрах, устраивает у себя приемы, по прежнему с женщинами иронично-холоден. Изучает историю философии по зарубежным источникам.
Вся эта очаровательная суета длилась до той поры, пока редактор журнала «Телескоп» (отправленный в последующем в ссылку) Н. И. Надеждин в № 15 за 1836 не опубликовал, наконец, гулявшее в списках почти 7 лет пресловутое письмо.
Ах, Бог мой, что же здесь началось! Какие страсти, какие волнения, какой праведный гнев – среди столпов дворянства, даже студенты Московского университета требовали у попечителя Московского учебного округа графа С. Т. Строганова выдать им оружие, чтобы встать на защиту поруганной Чаадаевым России. Народ как всегда безмолвствовал, потому что не только не знал французского языка, на котором было написано первое, да и все последующие письма, но и собственной русской грамоте был необучен, а пребывал в смиренной рабской темноте.
Из высказываний современников ясно видно, чем так разгневал Чаадаев «Патриотов», державших своих крестьян в ярме крепостного права.
«Чаадаев излил на свое отечество такую ужасную ненависть, которая могла быть внушена ему только адскими силами (Д. Татищев). Обожаемую мать обругали, ударили по щеке… (Ф. Вигель). «Тут бой рукопашный за свою кровь, за прах отцов за все свое и за всех своих… Это верх безумия… За что сажают в желтый дом» (П. Вяземский). Поэт Н. Языков написал стихи, полные лютой злобы к Чаадаеву:
«Вполне чужда тебе Россия, твоя родимая страна; Ее предания святые Ты ненавидишь все сполна Ты их отрекся малодушно, Ты лобызаешь туфлю пап… Почтенных предков сын ослушный Всего чужого гордый раб! Ты все свое презрел и выдал, И ты еще не сокрушен…» и т. д.Конечно, Чаадаев, совершил немыслимый грех, восхваляя католичество, отрицая прошлое и будущее России: «… Исторический опыт для нас не существует, поколения, и века протекли без пользы для нас…Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его, мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих. В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И вообще мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений».
Чаадаев проник в ту запретную зону, что оберегалась и оберегается поныне пуще зеницы ока. Он ударил по вере, ударил по православию, по месту России в мировом социуме, и боль от этого удара ощущается почти все последующие 160 лет.
Современный литератор И. Волгин в своих стихах удачно отразил основные «грехи» Чаадаева:
«… Что ждать от сумрачной страны — Альянса блудного с Востоком — В тенетах рабской тишины, Всем небрежении жестоком Что проку гласно, напролом, Явив предерзостную вольность Философическим пером Зло уязвить благопристойность? Оставь и Бога не гневи! У нас не жалуют витийства, У нас в медлительной крови Отравный привкус византийства. Но разве есть еще одна С такими ж скорбными очами Россия, горькая страна, Отчизна веры и печали…?»Ознакомившись еще раз с письмом, император Николай I наложил такую резолюцию: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной – смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного».
Журнал «Телескоп» был закрыт, редактор отправлен в Сибирскую ссылку, цензор отрешен от должности, а Чаадаев объявлен «сумасшедшим», нуждающимся в медико-полицейском надзоре.
«Прочтя предписание (о своем сумасшествии)», – доносил Бенкендорфу начальник московского корпуса жандармов, «он смутился, чрезвычайно побледнел, слезы брызнули из глаз, и не мог выговорить ни слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: «Справедливо, совершенно справедливо!» И тут же назвал свои письма «сумасбродными, скверными».
Верно говорили древние: «Homo sum humani nihil, а me alienum puto!» (Я человек, ничто человеческое мне не чуждо).
«Чаадаев сильно потрясен постигшим его наказанием», – сообщал А. И. Тургенев, – «сидит дома, похудел вдруг страшно и какие-то пятна на лице…Боюсь, чтобы он и в самом деле не помешался».
Через год медико-полицейский надзор с Чаадаева был снят.
В старом, обветшалом, продолжавшем спокойно разрушаться флигеле на Старой Басманной в Москве, он устраивал нечто, напоминающее светский салон, где еще целых двадцать лет Петр Яковлевич продолжает философствовать, думать вслух, наполовину оставаясь изысканным денди, а наполовину ставши Обломовым.
Высшая Московская знать считает делом чести посетить «басманного» философа. На прием к нему приезжают министры, губернаторы, профессоры, графы, князья и, конечно, женщины молодые и старые, знатные и дамы полусвета.
Чаадаев очаровывал дам, как и в годы молодые. Он сам о себе говорил, что стал «философом женщин», а его недоброжелатель тот же Н. Языков назвал Чаадаева «плешивым идолом слабых женщин», а известный поэт партизан, герой войны 1812 г. Д. Давыдов вторит Языкову:
«Старых барынь духовник Маленький аббатик, Что в гостиных бить привык В маленький набатик Все кричат ему привет С аханьем и писком, А он важно им ответ: Dominus Vobiscum![1]»Здесь намек Д. Давыдова на приверженность Чаадаева к католичеству.
На «его понедельники» съезжалась вся Москва. «Он принимал посетителей, сидя на возвышенном месте, под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился портрет Наполеона, слева – Байрона, а напротив – его собственный, в виде скованного гения». (Ф. Вигель).
Между тем, флигелек разрушался от ветхости, пугая своим косым видом хозяина и его посетителей. За тридцать лет Чаадаев ни разу не был за городом. Почти никуда не выходил и сам писал: «Выхожу только для того, чтобы найти минуту забвения в тупой дремоте Английского клуба».
«Конечно, все сознавал с неумолимой ясностью, как человек в летаргическом сне, когда его хоронят заживо. Судил себя страшным судом: «Я себя разглядел и вижу, что никуда не гожусь…Но неужто и жалости не стою?». (Д. Мережковский).
С середины 40-х годов «басманный философ» не перестает говорить об «общем перемещении вещей и людей, о «блуждающих бегах» непрерывно галопирующего мира к непредсказуемой развязке».
Чаадаев чувствовал мучительную разъединенность с рядом находящимся людьми и с живой жизнью, называя свое существование «холодным», «ледяным».
Петр Яковлевич внешне становится еще более странен. Один из современников пишет о «мраморном лице Петра Яковлевича, на которое не сядет ни мотылек, ни муха, ни комар, не вползет во время сна козявка или червячок», о его маленьком сухом и сжатом рте…»
Во второй половине 40-х годов у Чаадаева вновь наступает душевный кризис. Его письма наполняются многообразными жалобами на «бедное сердце, утомленное пустотой». Часто появляются мысли о самоубийстве. В письме к двоюродной сестре он пишет: «… Я готов ко всем возможным перипетиям, не исключая той, которые древние рассматривали как героическое действие и которую современники считают, не знаю почему, грехом».
Телесное здоровье в конец ухудшается. Припадки, чрезвычайно мнительные беспокойства, слабость, кровотечения сменяются кратковременным улучшением, а затем все начинается сначала.
К 1847 в состоянии Чаадаева наметилось значительное улучшение. Он активно сотрудничает с журналами «Москвитянин», «Московский сборник», и пишет «Апологию сумасшедшего», встречается с молодежью.
В 1855 году Петра Яковлевича вновь настигает кризис. Он составляет завещание, постоянно ведет разговоры о скоропостижной смерти. Д. Н. Свербеев вспоминает слова Чаадаева за 2–3 недели до смерти: «Я чувствую, что скоро умру. Смертью моей я удивляю вас всех. Вы о ней узнаете, когда я уже буду на столе».
Умер П. Я. Чаадаев 14 апреля 1856 г. накануне Светлого Христова Воскресенья.
За 3 дня, т. е. в среду, он стал жаловаться на сильную слабость и отсутствие аппетита. С четверга началось стремительное увядание. Тем не менее, как свидетельствует М. Н. Лонгинов: «…В пятницу (12 апреля – В. Г.) мы обедали…Вдруг появляется согбенный, чуть двигающийся старец, лицо изрыто морщинами, глаза мутны, ввалились и окружены черными кругами, голос чуть слышный, похожий на предсмертное хрипенье. Это был Чаадаев…» По словам М. И. Жихарева: «Одно из самых поразительных явлений этой (Чаадаева – В. Г.) жизни. Со всяким днем ему прибавлялось по десяти лет, а накануне, в день смерти, он, в половину тела согнувшись, был похож на девяностолетнего старца».
Так в возрасте 62 лет погиб один из величайших умов России. Светлой тенью прошел он в самой черной тьме нашей ночи, этот безумный мудрец, этот немой пророк, «бедный рыцарь русской революции» и, умирая, наверное, повторял свою непрестанную молитву:
Adventiat Regnum Tuum.[2]
Так был ли душевно болен Петр Яковлевич Чаадаев?
Думаю, что каждый мало-мальски образованный психиатр скажет: «Да, Чаадаев страдал психическим расстройством». Каков же был характер этого расстройства? Первое впечатление от анализа «Curriculum Vitae» (жизнеописание) Чаадаева – это, то, что он страдал шизофренией.
Блестящий гусарский офицер мчится в вихре нескончаемых светских развлечений. Да вот одна странность – влюбляет в себя дам высшего света, а сам холоден, как ледяная глыба. Так это обстоятельство как раз и характеризует шизоидную личность. Но все меняется в 1820 г. Чаадаев переживает душевный кризис после загадочной отставки, внезапно разрушившей головокружительную карьеру. В течение трех лет нарастают ипохондрические переживания, одолевают «болячки». Куда «исчезли юные забавы»? В 1823 внезапный и странный отъезд за границу, похожий на бегство. В течение трех лет пребывания за границей резко меняется внешний облик-облысение, пергаментная кожа, изменение лицевого черепа, нарастание аутизма. Проявляется интерес к мистико-религиозно-философским течениям.
Но вот с 1831 будто бы кризис миновал. В психической деятельности преобладает активность. Так длится до 1836 г., когда публикуется «философическое письмо № 1» и вновь наступает душевный кризис, еще более усиливаются депрессивно-ипохондрические переживания, он постоянно философствует на непонятные темы, говорит о «ледяном существовании», высказывает суицидальные мысли, идеи особой значимости, переоценки собственной личности. В 1847 вновь перелом к лучшему – активен, занимается литературной и журналистской деятельностью. В 1855 вновь кризис – депрессия, ипохондрия, суицидомания и роковой конец.
Казалось бы диагноз шизо-аффективного психоза несомненен.
Только есть одно большое «но».
Почему все таки смолоду Чаадаев не испытывал сексуального интереса к женщинам, а скорее наоборот? Почему очень быстро за три года так изменился внешне – полысел, кожа лица приобрела пергаментный характер, рот сжался, появились различные «болячки»?
Почему в свои 36 лет он выглядел одно время лет на 20 старше? Почему, наконец, катастрофически старея в течение трех дней, превратившись в глубокого старика, он умер?
Если обратимся к эндокринологии, то там с уверенностью найдем ответ. Да, существует эндокринологическое заболевание – прогерия (в переводе с греческого – преждевременно состарившийся). Это заболевание описано у взрослых в 1904 году Вернером и называется – синдромом Вернера.
Проявляется оно в возрасте 20–30 лет. Кожа лица становится бледной, истонченной, несколько уплотненной на ощупь, резко натянутой. Черты лица заостряются, выявляется т. н. птичий нос, резко выступает подбородок, ротовое отверстие суживается. Снижается сало– и потоотделение. Волосы тонкие, преждевременное облысение и поседение. Гипогонадизм. Трофические нарушения кожи – язвы, гиперкератоз. Ранний атеросклероз: (БМЭ, т.4 с. 143, 1976 г.).
Читатель может удивиться тому, как точно внешний облик Чаадаева и его ранняя смерть соответствуют медицинскому описанию синдрома Вернера.
Нужно полагать, что в основе душевного заболевания П. Я. Чаадаева лежит тяжелая эндокринопатия в виде синдрома Вернера с психопатологической картиной шизо-аффективных состояний.
Но разве для нас это важно? Важно другое, что так талантливо, с трагической грустью отражено в стихах А. Городницкого:
«…Он в сторону смотрит из дальней эпохи туманной, Объявлен безумцем, лишенный высоких чинов. Кому он опасен, затворник на Старой Басманной? Но трудно не думать, почувствовав холод внутри, О силе сокрытой в таинственном том человеке, Которого более века боятся цари, Сначала цари, а позднее вожди и генсеки. И в тайном архиве, его раскрывая тетрадь, Вослед за стихами друг другу мы скажем негромко, Что имя его мы должны написать на обломках, Но нету обломков и не на чем имя писать».Литература
1. Василенко А. О Чаадаеве // Молодая гвардия. 1993. № 7. С. 195–208.
2. Волгин И. Стихи//Москва. 1968. № 1. С. 166.
3. Городницкий А. И оживают тихие слова//Дружба народов. 1990. № 1. С.67–68.
4. Давыдов Д. Сочинения. М., 1962.
5. Евграфов К. В. Лично известен. М., 1988.
6. Кайдаш С. Адресат «Философических писем» // Наука и жизнь. 1979. № 7. С. 62–66.
7. Мандельштам О. Чаадаев. М., 1987.
8. Новиков А. Трижизни Петра Чаадаева//Аврора. 1993. № 6. С. 108–116.
9. Радзинский Э. Кровь и призраки русской смуты. На Руси от ума одно горе. М., 2003. С. 257–298.
10. Стахов Д. Диагноз императора// Огонек. 1994. № 21–23.
11. Тарасов Б. Н. Чаадаев. М., 1990.
12. Чаадаев П. Я. Цена веков. М., 1991.
13. Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений. Т. 1, 2. М., 1991.
14. Чаадаев П. Я.: pro et contra. СПб., 1998.
15. Шкуринов П. С. П. Я. Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение. М., 1960.
Персоналии
1. Вигель А. Ф. – чиновник, вице-директор Департамента иностранных вероисповеданий. Автор клички Чаадаева «плешивый лжепророк».
2. Вяземский П. А. – поэт и литературный критик, друг Чаадаева и Пушкина.
3. Гершензон М. О. – историк литературы и общественной мысли. Биограф Чаадаева.
4. Давыдов Д. В. – поэт, написавший стихотворную карикатуру на Чаадаева.
5. Жихарев М. П. – племянник, друг и ученик Чаадаева.
6. Лонгинов М. Н. – историк литературы.
7. Мандельштам О. Э. – поэт, автор биографического очерка о Чаадаеве.
8. Мережковский Д. С. – писатель, автор биографического эссе о Чаадаеве.
9. Надеждин Н. И. – редактор журнала «Телескоп».
10. Саблер В. Ф. – врач психиатр, владелец частной психиатрической клиники в Москве.
11. Свербеев Д. Н. – московский литератор. Знакомство с Чаадаевым продолжалась с 1824 г. до самой смерти.
12. Строганов С. Г. – попечитель Московского учебного округа, председатель Московского цензурного комитета.
13. Татищев Д. П. – член Государственного совета, камергер.
14. Тургенев А. И. – археограф и литератор. Друг Чаадаева до самой смерти.
15. Тютчев Ф. И. – поэт и публицист, друг Чаадаева.
16. Улыбышев А. Д. – брат Е. Д. Пановой.
17. Хомяков А. С. – философ, поэт, идеолог славянофильства, друг Чаадаева.
18. Языков Н. М. – поэт, автор недоброжелательных стихов о Чаадаеве.
Глава III Меланхолия поручика Лермонтова
Он был рожден для мирных вдохновений Для славы, для надежд; помеж людей Он не годился – и враждебный гений Его душе не наложил цепей, И не слыхал творец его молений И он погиб во цвете лучших дней; М. Ю. ЛермонтовС трепетом душевным приступаю я к написанию психопатологического портрета Михаила Юрьевича Лермонтова. Вы спросите почему с трепетом? А потому, что психопатологическая картина нашего великого поэта вырисовывается неприглядно-мрачной. На обывательско-житейском уровне может показаться, что я занимаюсь очернительством памяти Лермонтова. Но в отличие от врачей-интернистов, мы – психиатры работаем с больными, у которых малейшая психическая девиация служит камнем для построения диагноза, для целостной оценки личности, и работаем мы в отличие от них не в белых лайковых перчатках, а голыми руками разгребаем душевные завалы, а чаще всего патологический мусор наших пациентов, и далеко не всегда великая личность предстанет перед нами в приглядном свете.
Так и у Лермонтова. Ведь поэт не был психически болен. Он обладал врожденным патологическим характером, принесшим ему неисчислимые страдания и способствовавшего ранней смерти.
Я сам до самозабвения любил и люблю Лермонтова. Его печально-тоскливая лирика, наполненная отголосками несбывшихся надежд и неразделенной любви, с юношеских лет, со школьной скамьи легла мне на душу. А мои разыскания вызвали еще большее сострадание и еще большую любовь к этому таинственному и до конца не открытому русскому поэту.
В особенности впечатлял нас, учеников старших классов мужской школы, в начале 50-х годов прошлого века, образ Печорина. И неправда, что увлечение «байронизмом», принесенное П. Чаадаевым на русскую землю, было уделом светской молодежи средины 19 века, но и мы, воспитанники сталинской эпохи, не были чужды этакому онегински – печоринскому шику и во взглядах на жизнь и в отношении к прекрасному полу.
На экзамене по русской словесности на аттестат зрелости из трех тем, предложенных для написания сочинения: «Комсомол – нашей доблестной партии сын», «Большевики с в борьбе с кулачеством» по роману М. А. Шолохова «Поднятая целина» и «Трагедия «лишних» людей в царском обществе» – по произведениям А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Грибоедова, И. Тургенева, я выбрал последнюю. Никогда не предполагал, что на склоне лет примусь за написание еще одного сочинения, посвященному Лермонтову, и что фактографический анализ его жизни и творчества откроет передо мной такую мучительную бездну души поэта, что я в растерянности застыну перед ней, и долго буду сомневаться «быть или не быть», писать или не писать?
И все – таки психиатр одолел во мне обывателя.
И я пишу, хотя знаю, что могу подвергнуться уничтожающей критике литературоведов – панегиристов, да и собратья – психиатры тоже пройдутся по мне железным катком, поставив под сомнение диагностический анализ. Но истина, есть истина, какой бы отвратительной она ни была.
И даже самые неприглядные биографические факты из жизни поэта не умалят его и не сведут с пьедестала, построенного на века.
Итак, я приступаю. Господи, спаси и помилуй мя!
Среди многих патологических характеров (истероидов, циклоидов, эпилептоидов, ананкастов и пр. пр.), выделяется замкнуто-углубленный (аутистический) характер или шизоид (М. Е. Бурно).
Наиболее полно и глубоко этот характер под названием шизоидной психопатии был описан Э. Кречмером (1921 г.) и П. Б. Ганнушкиным (1933). Эта группа включает лиц, типологически весьма различных.
Робкие, застенчивые, тонкочувствительные натуры противостоят здесь равнодушным и тупым. Наряду с сухими, мелочными, скупыми, язвительными педантами, угрюмыми чудаками и отрешенными от жизни мечтателями к группе шизоидов относятся личности крутого нрава, суровые, деловые, настойчивые, упорные в достижении высших целей. При всем многообразии личностных особенностей, шизоидов объединяет общая для всех вариантов черта – аутизм.
Лица со сложившейся шизоидной патохарактерологической структурой в большинстве необщительные, погруженные в себя, сдержанные, лишенные синтонности люди. Контакты с окружающими сопряжены для них с чувством неловкости, напряжением. Мир, как бы отделен от них невидимой, но непреодолимой преградой.
Как пишет Э. Кречмер «шизоид не смешивается со средой, «стеклянная преграда» между ним и окружающим всегда сохраняется».
Другой характерной чертой шизоидов является дисгармоничность, парадоксальность их внешнего облика и поведения. Шизоиды – люди крайних чувств и эмоций; они либо восхищаются, либо ненавидят.
Основой шизоидного темперамента по Э. Кречмеру является, так называемая психэстетическая пропорция, сочетание черт чрезмерной чувствительности (гиперестезия) и эмоциональной холодности (анестезия). Выделяют два крайних варианта шизоидной психопатии с широкой шкалой переходных вариантов: сенситивные шизоиды – мимозоподобные, гиперестетичные с преобладанием астенического аффекта; экспансивные шизоиды – холодные личности с преобладанием стенического аффекта. Это решительные, волевые натуры, не склонные к колебаниям, мало считающиеся со взглядами других. Среди них нередки люди со «скверным характером», высокомерные, холодные, крутые, неспособные к сопереживанию, иногда бессердечные и даже жестокие, но в то же время легко уязвимые, с глубоко скрываемой неудовлетворенностью и неуверенностью в себе, капризные и желчные. Весь мир для них неприглядный мрак, глухая ночь. Они склонны к эксплозивным реакциям. При появлении серьезных жизненных затруднений у них нарастает суетливость, раздражительность со вспышками гнева и импульсивными поступками.
«Ранимое колкое самолюбие, переживание своей неполноценности может порождать в замкнуто-углубленном панцирь-защиту в виде стеклянной неприступности, вежливой церемонности, или серой злости, или разнообразных улыбающихся клоунских масок», – так углубленно-образно описывает М. Е. Бурно характер шизоида к которому справедливо относит и М. Ю. Лермонтова. Но это только маленькая цитата.
А вот отрывок подлиннее.
Речь идет о любви, о любви к женщине, что немаловажную роль играет в психопатологическом анализе Лермонтова.
М. Е. Бурно пишет: «Любовь замкнуто-углубленного (шизоида – В. Г.) может быть сложно-одухотворенным переживанием аутистически-идеального образа, возлюбленной в душе, который также как бы посылается, имеет Божественный свет в себе. Образ этот соприкасается, то с одной, то с другой реальной женщиной, каким-то созвучием отвечающим этому образу…»
Не это ли мы увидим, позже характеризуя Лермонтова? И самое главное – раздвоенность, амбивалентость, полярность мыслей, поступков.
Д. С. Мережковский писал о Лермонтове: «В человеческом облике не совсем человек; существо иного порядка, иного измерения; точно метеор, заброшенный к нам из каких-то неведомых пространств… Кажется он сам, если не сознавал ясно, то более или менее смутно чувствовал в себе это «не совсем человеческое», чудесное или чудовищное, что надо скрывать от людей, потому, что это люди никогда не прощают. Отсюда – бесконечная замкнутость, отчужденность от людей, то, что кажется» гордыней», «злобою»…
Самое тяжелое «роковое» в судьбе Лермонтова – не окончательное торжество зла над добром, а бесконечное раздвоение, колебание воли, смешение добра и зла, света и тьмы».
Сожительство в Лермонтове бессмертного и смертного человека составляло всю горечь его существования, обусловило весь драматизм, всю привлекательность, глубину и едкость его поэзии. Одаренный двойным зрением, он всегда своеобразно смотрел на вещи. Людской муравейник представлялся ему жалким поприщем напрасных страданий. Он сам писал:
«… Живу без цели, беззаботно Для счастья глух, для горя нем И людям руки жму охотно Хоть презираю их меж тем».Откуда эти черты характера? Ведь не сформировались же они в зрелом возрасте?; (а до зрелого возраста Лермонтову было ох, как далеко).
По-видимому, корни шизоидной конституции кроются в отягощенной наследственности, раннем детском развитии и воспитании.
Отец поэта – Юрий Петрович, происходивший из древнего шотландского рода, был очень красивым мужчиной, круживший головы женщинам, он славился своим приятным обхождением, «бонвиванством»; с другой стороны был крайне вспыльчив, несдержанность его, доходящая до совершения диких поступков. В ответ на упреки жены (матери поэта) в измене, Юрий Петрович ударил ее кулаком в лицо. Мать поэта – Мария Михайловна происходила из знатного и древнего рода Столыпиных. Она с детства росла нервным, хрупким, впечатлительным ребенком. Постоянно болела. Всю нежность и нерастраченность души своей вкладывала в своего единственного сына – Мишеньку, тоже до чрезвычайности болезненного ребенка. «И любовь и горе выплакала она над его головой. Марья Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно; звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по личику. Мать передала ему необычайную нервность свою». (П. А. Висковатов). После грубой выходки мужа Мария Михайловна стала часто болеть и, когда Мишеньке исполнилось 2,5 года, умерла от скоротечной чахотки.
Бабушка по матери Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожд. Столыпина) «была женщиной деспотичного, непреклонного характера, привыкшая повелевать; она отличалась замечательной красотой, происходила из старинного дворянского рода и представляла из себя типичную личность помещицы старого закала, любившей при том высказывать всякому в лицо правду, хотя бы самую горькую» (М. Е. Меликов).
Бабушка боготворила своего внука. «Она пережила всех своих, и один Мишель остался ей утешением и подпорою на старость; она жила им одним и для исполнения его прихотей не останавливалась ни перед чем. Не нахвалится, бывало, им, не налюбуется на него», – (Е. А. Сушкова-Хвостова).
Елизавета Алексеевна пережила отца, нескольких братьев, мужа, дочь и внука. По словам П. А. Висковатого она «выплакала свои старые очи», когда Лермонтов был убит. Умерла она 85-летней старухой.
Миша, ребенком унаследовав от матери болезненность и, по-видимому, туберкулезную инфекцию, сам часто хворал. По словам П. А. Висковатова он был весьма худосочен, золотушен. На нем часто показывалась сыпь, мокрые струпья, так, что сорочка прилипала к телу.
Бабушка считала кривизну ног внука, следствием золотухи (туберкулеза, и с позиции современной медицины была права).
В возрасте 8 или 9 лет Лермонтов перенес тяжелую корь. Он целый месяц провел в кровати, метался в бреду (Б. М. Эйхенбаум). В 1825 году бабушка вместе с домашним доктором Анселем Леви везет внука на Кавказские минеральные воды для лечения от «золотухи».
Достаточно подробно о перенесенной болезни Лермонтов словами Саши Арбенина пишет в неоконченной повести «Я хочу рассказать вам…»: «…его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог поднять ложки. Целые три года оставался он в самом жалком положении; и если бы он не получил от природы железного телосложения, то верно бы отправился на свет». Что касается «трех лет» и «железного телосложения», то это авторская гипербола, т. к. биографы и современники ни про трехлетнюю болезнь, ни про «железное» здоровье нигде не упоминают. Но все в один голос свидетельствуют о кривоногости и чрезвычайной сутулости Лермонтова и в детском и старшем возрасте. В поэме «Мцыри» Лермонтов так описывает малолетнего послушника, вкладывая автобиографические пометы:
«Он был, казалось, лет шести; Как серна гор пуглив и дик И слаб и гибок как тростник. Но в нем мучительный недуг Развил тогда могучий дух Его отцов. Без жалоб он Томился – даже слабый стон Из детских губ не вылетал, Он знаком пищу отвергал, И тихо гордо умирал».Не правда ли как созвучны эти строфы действительной болезни Лермонтова?
Но как бы там ни было и «золотуха»-скрофулез (туберкулезное поражение кожи) и тяжелая корь наложили неизгладимый отпечаток на физический облик поэта. В дальнейшем будет подробно дана физическая и физиогномическая характеристика Лермонтова, а пока вернемся к детским годам Мишеля.
Лермонтов получил женское воспитание. После смерти матери он жил в доме бабушки, которая фактически порвала отношения с зятем. Боясь, что отец предъявит права на сына и украдет его, она постоянно прятала внука. Мишель же очень любил отца и после редких посещений его поместья, всегда с неохотой возвращался к любимой бабушке. Рос Лермонтов в окружении бесчисленной женской челяди, среди множества молоденьких кузин и по словам П. А. Висковатова: «окруженный заботами и ласками, мальчик рос баловнем среди женского элемента».
Чтобы как-то внести мужское начало в характер мальчика, бабушка поощряла и потакала увлечению внука военными играми – в саду была устроена игрушечная батарея, дворовые мальчики наряжались в военные мундиры, внук ими командовал наподобие командира «потешного полка». Охота с ружьем, верховая езда на маленькой лошадке с черкесским седлом, сделанным вроде кресла, и гимнастика были также любимыми занятиями Лермонтова (А. Н. Корсаков). «В личных воспоминаниях моих Миша Лермонтов», – пишет М. Е. Меликов – «рисуется не иначе как с нагайкой в руке, властным руководителем наших забав, болезненно самолюбивым, экзальтированным ребенком».
Такая черта характера как доброта, чувствительность, обязательность и услужливость в отношениях с товарищами детства, сочетались в Мишеле со своеволием, упрямством, настойчивостью, которые легко переходили в жестокость. B. C. Соловьев пишет: «…Уже с детства, рядом с самыми симпатичными проявлениями души чувствительной и нежной, обнаруживались в нем резкие черты злобы, прямо демонической». Далее B. C. Соловьев упоминает о страсти Лермонтова к разрушению: «Он срывал лучшие цветы и усыпал ими дорожки, с истинным удовольствием давил несчастную муху, радовался, когда камнем подбивал курицу». И сам Лермонтов описывает эти деяния, вкладывая их в уста любимого им Саши Арбенина в упоминавшемся выше отрывке «Я хочу рассказать вам».».
Лермонтов любил устраивать кулачные бои между деревенскими мальчишками, а победителей, с разбитыми в кровь носами, щедро одаривал сладостями. Или уже юношей в праздничные дни в Тарханах ставил бочку с водкой для мужиков – участников кулачных боев, и, по словам, П. К. Шугаева: «Лермонтову вид драки и крови доставлял удовольствие так, что у Михаила Юрьевича «рубашка тряслась» и он сам бы непрочь был поучаствовать в этой драке, но удерживало его дворянское звание и правила приличий. Победители пили водку, побежденные уходили домой, а Лермонтов всегда при этом от души хохотал».
Так прошли отроческие годы будущего поэта. Уже в возрасте 13–14 лет он стал писать стихи, увлекался лепкой и рисованием. Не любил музыку и математику.
В 1827 году бабушка определила Мишеля в Московский Благородный университетский пансион.
Образование, полученное в Университете, ценилось очень высоко. Студенты гордились своим званием и дорожили своими занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. «Они важно расхаживали по Москве», – вспоминает И. А. Гончаров, – «кокетничая своим званием и малиновыми воротниками». Лермонтов учился прилежно, удостаивался похвал преподавателей. Вместе с тем, он полюбил и светские развлечения. Так он еженедельно посещал балы в Московском благородном собрании. Мишель всегда изысканно одет, постоянно окружен хорошенькими молодыми дамами высшего общества. Товарищей же своих по Университету не замечал и проходил мимо, будто был с ними незнаком. В пансионе товарищи не любили Лермонтова за его постоянное подтрунивание и приставание (Н. М. Сатин, А. М. Миклашевский). В то же время он часто уединялся, садился постоянно на одном месте, отдельно от других в углу аудитории. П. Ф. Вистенгоф вспоминает о Лермонтова: «… имел тяжелый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей за что, в свою очередь, и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания». Тот же современник описывает Лермонтова так: «Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; темные его волосы были приглажены на голове, темно-карие глаза пронзительно впивались в человека. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное нерасположение». Другой современник А. З. Зиновьев будто описывает другого человека: «Он прекрасно рисовал, любил фехтование, верховую езду, танцы, и ничего в нем не было неуклюжего: это был коренастый юноша, обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых годах».
В Университетские годы у Лермонтова стала отчетливо проявляться еще одна черта – завистливость, основанная на чувстве собственной неполноценности. Вращаясь в светском обществе, он испытывает уязвление своим «низкородным», как он считает, происхождением. С одной стороны обедневший дворянский род шотландцев, потомков рыцаря Лерманта, будто бы имевшего какое-то отношение к Макбету, с другой стороны старинный, но не столбовой дворянский род Столыпиных.
Прадед Лермонтова Алексей Столыпин был лишь собутыльником знаменитого царедворца Алексея Орлова, разбогатевшего на винных откупах.
Чтобы как-то поднять значимость своего родства Лермонтов подписывает свои письма, особенно женщинам – «Мишель Лерма».
Ненавидя большой свет и изливая в стихах на него черную желчь, поэт все-таки позднее, только за 4 года до смерти добьется признания великосветского общества и будет допущен в аристократические салоны. А пока светская жизнь поставила крест на дальнейшей учебе в Университете, поскольку внимание к университетскому курсу будущего поэта было подорвано постоянными увеселениями. «Мне здесь довольно весело: почти каждый вечер на бале», – пишет он своей тетке М. А. Шан-Гирей в феврале 1831 (1832?) года. Мишеля оставили на второй год на первом курсе, но: «Самолюбие Лермонтова было уязвлено. С негодованием покинул он Московский университет навсегда» (П. Ф. Вистенгоф).
Весной 1832 года, сдав экзамены, Лермонтов, вопреки сетованиям бабушки, поступает в Петербурге в школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров в лейб-гвардии гусарский полк.
В конце 1834 г. проведя в школе «два страшных года» по выражению самого поэта, он был произведен в корнеты и оставлен в том же лейб-гвардии Гусарском полку.
Далее мы остановимся только на узловых моментах биографии поэта, потому, что его характерологические особенности, не претерпели особенных изменений, а трагической чертой пролегли сквозь недолгую жизнь Гения.
Что же это были за «два страшных года»? Биографы нигде не упоминают о том, что в юнкерской школе Лермонтову плохо жилось. Скорее наоборот. Он как всегда развлекался, приставал к товарищам, злословил, легко давал обидные прозвища, в ответ награждался тем же, но ничто его особенно не трогало. В ответ на насмешки и язвительность он только смеялся.
В 1832 г. в манеже школы он получил перелом правой голени – молодая, необъезженная лошадь ударила Лермонтова копытом. Два месяца он пролежал в доме бабушки и вышел оттуда хромым (неправильно сросшийся перелом). Эта хромота стала еще более подчеркивать уродливость его внешнего облика. Вот свидетельство современника Лермонтова, видевшего его всего лишь раз (цит. по Е. Гуслярову): «огромная голова, широкий, но не высокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком, угрястое и желтоватое, нос вздернутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики и волосы на голове, коротко остриженные. Но зато глаза!… Я таких глаз после никогда не видел. То были скорее длинные щели, а не глаза!… и щели, полные злости и ума». Весь этот достаточно уродливый облик, да еще сутулость и хромота позволили сотоварищам-юнкерам дать Лермонтову прозвище «Маёшка», что в переводе с французского означает «горбун». Казалось бы эта обидная кличка должна была бы уязвить Лермонтова, вызвать в нем чувство еще большей неполноценности. Ведь только в женском обществе, он становился самим собой – чувствительным, легко ранимым. Ничуть не бывало. Мишель будто бы похвалялся этим прозвищем, бравировал им и вывел себя в образе горбуна Вадима в одноименной повести: «… он был горбат и кривоног,…лицо его было длинно, смугло,…широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен, как облако, покрывающее солнце в день бури. Он был безобразен, отвратителен…в его глазах было столько огня и ума, столько неземного…, на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная…» и далее «…этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках…»
Так вот горбатый, кривоногий, хромой с тяжелым «магнетическим» взглядом, Лермонтов все эти недостатки возвел в ранг достоинства и с упоением, смеясь, сам, называл себя Маёшкой, и описал в произведении, «Монго», посвященного своему закадычному другу А. А. Столыпину.
П. А. Висковатов дает этимологию этого прозвища. Он считает, что происходит оно из французского la Mayex – так звали горбатую девушку в одном из романов Эжена Сю. Эта девушка, несмотря на свое уродство, обладала высокими нравственными качествами, что в ее образе Лермонтов считал очень симпатичными чертами характера, восхищаясь и постоянно упоминая ее в разговорах с юнкерами.
В юнкерской школе, несмотря на дисциплину, царили довольно свободные нравы. Это были не только «шалости», «школярство», несколько напоминавшие современную «дедовщину» непременным участником коих являлся и наш поэт, но кутежи, попойки, посещение «заветных домов» с девушками не очень строгих правил. И вот этот гений, поэзия которого является лучшими мировыми образами тонкой, нежнейшей любовной лирики пишет откровенные порнографические поэмы и стихотворения, до сих пор почитаемые в офицерских кругах.
Поэмы «Гошпиталь», «Петергофский праздник», «Уланша» начинают ходить в списках, т. к. не могли быть напечатаны по цензурным соображениям и создают поэту славу «Нового Баркова».
П. А. Висковатов пишет: «…Когда затем в печати стали появляться его истинно прекрасные произведения, то знавшие Лермонтова по печальной репутации эротического поэта, негодовали, что этот гусарский корнет «смел выходить на свет со своими творениями».
Бывали случаи, что сестрам и женам запрещали говорить о том, что они читали произведения Лермонтова; это считалось компрометирующим. Даже знаменитое стихотворение «Смерть поэта» не могло изгладить сложившейся в обществе репутации и только в последний приезд в Петербург, за несколько месяцев перед смертью, после выхода собрания стихотворений и романа «Герой нашего времени», пробилась его добрая слава».
Служба в Гусарском полку не налагала особенной тяжести на плечи молодого корнета. Служба службой, а кутежи, оргии, посещения борделей, карточные игры, другие мужские «забавы» продолжались и это не мешало творчеству. В этот период (1834–1837 гг.) были написаны такие произведения как «Боярин Орша», «Тамбовская казначейша», «Песня про царя Ивана Васильевича», «Бородино» и программное стихотворение, изменившее судьбу Лермонтова, «Смерть поэта» (1837 год). Последовала ссылка на Кавказ, длившаяся до февраля 1838 года. Монаршей милостью Лермонтов возвращается в лейб-гвардии Нижегородский гусарский полк и вскоре производится в поручики. Сбывается заветная мечта поэта – он принят в высшем свете и «идет нарасхват». Самые лучшие произведения написаны им в этот период.
18 февраля 1840 года Лермонтов стреляется на дуэли с сыном французского посланника Эрнестом Барантом. 13 апреля 1840 г. по «высочайшей конфирмации» поэт снова едет в ссылку на Кавказ в Тенгинский пехотный полк и 15 июля 1841 погибает на дуэли от пули своего друга Н. С. Мартынова.
Н. П. Раевский вспоминает, что «все плакали как малые дети», когда Лермонтова не стало. Священник В. Эрастов опровергает это мнение: «Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал. Все радовались… От насмешек его избавились. Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, насмешки его переносить? На всех карикатуры выдумывал. Язвительный был…»
Вообще характер Лермонтова последнего периода его жизни описывается с разных точек зрения, будто речь идет о двух разных людях. Одним он кажется холодным, желчным, раздражительным. Других поражает живость и веселость. Мнение общества – высокомерен, едок, заносчив; мнение товарищей: «Когда бывал задумчив, что случалось нередко, лицо его делалось необыкновенно выразительным, серьезно-грустным; но как только являлся в компании своих гвардейских товарищей, он предавался тому же банальному разгулу, как все другие; в то же время делался более разговорчив, остер, насмешлив, и часто доставалось от его острот дюжинным его товарищам» (И. Л. Андроников).
Примечательно и другое свидетельство современника Лермонтова, относящееся к преддуэльному периоду. Бабушка поэта была пациенткой известного в то время профессора-терапевта И. Е. Дядьковского. Когда профессор собрался ехать в Пятигорск бабушка передала с ним «гостинцы и письма» для внука. Так профессор и поэт познакомились друг с другом. Случилось это событие за несколько месяцев до роковой дуэли. Вот, что по этому поводу пишет Н. Молчанов В. В. Пасеку 27/VII – 1841 года: «…В этот же вечер мы видели Лермонтова. Он пришел к нам и все просил прощения, что не брит. Человек молодой, бойкий, умом остер. Беседа его с Иустином Евдокимовичем (Дядьковским) зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о Беконе. Лермонтов с жадностью расспрашивал о московских знакомых. По уходе его Иустин Евдокимович много раз повторял: «Что за умница» и далее в восторге: «Что за человек!» Экой умница, а стихи – музыка, но тоскующая». Через 6 дней после гибели поэта, Дядьковский умер от передозировки снотворного.
Народная мудрость гласит: «Характер человека – его судьба». Так и характер Лермонтова – язвительно-ядовитый, насмешливый, порою злобно-мстительный свел его в могилу.
B. C. Соловьев пишет: «…Но все, я думаю согласятся, что услаждаться деланием зла есть уже черта нечеловеческая. Это демоническое сладострастие не оставляло Лермонтова до горького конца; ведь и последняя трагедия произошла от того, что удовольствие Лермонтова терзать слабые создания встретило вместо барышни бравого майора Мартынова».
И. Тургенев пророчески прочел на смуглом лице юноши Лермонтова «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую подозрительность и страсть». Да и сам Лермонтов перед последней поездкой на Кавказ все время говорил об ожидающей его смерти. Эта мысль упрочилась после предсказания гадалки (нагадавшей и смерть Пушкина), что в Петербург он больше не вернется и что его ожидает отставка «после коей уж ни о чем просить не станешь».
И вообще, столько много рокового и загадочного видится в судьбе Лермонтова, что невольно согласишься с Д. Мережковским об инфернальности происхождения великого и таинственного поэта.
Я уже упоминал о характерной черте Лермонтова – двойственности, амбивалентности. Эта двойственность присутствует во всем: и в отношении к большому свету, к женщинам, к Родине и т. д.
Настойчиво стремясь попасть в великосветское общество, он в то же время ненавидит это общество всей душой, и свет отвечает ему тем же. А как император Николай I и его царедворцы могли относиться к Лермонтову, который в произведении «Смерть поэта» каких только унизительных эпитетов, оскорблений не нанес верховной знати – «надменные потомки», «подлость отцов», «рабская толпа», «палачи», «наперсники разврата» и т. д. Царь настолько ненавидел за это Лермонтова, что четырежды не подписал представление к награждению поручика за храбрость в Кавказской войне.
Конечно, можно отнестись сочувственно к юному поэту, так тяжко до «нервной горячки», перенесшего смерть Пушкина, но можно и царя по человечески понять, когда ему в лицо бросают такие чудовищные оскорбления, за которые должны были последовать более тяжкие последствия. И только заступничество Бенкендорфа и слезы бабушки спасли поэта от каторги. Осип Мандельштам только заикнулся об «усатом горце», как тотчас же сгинул в пересыльных лагерях ГУЛАГА. Но так нас учили в школе – любой царь плох – любой поэт при этом царе хорош. Да и сейчас апологеты и панегиристы Лермонтова говорят о каком-то царском заговоре, и что дуэль – то была проведена не по дуэльному кодексу, а смерть поэта от пули оскорбленного Мартынова была чуть ли не преднамеренным убийством. Оставим это на совести профессионалов-литературоведов.
И через 3 года та же злость и ненависть.
Стихотворение «1 января 1840 г». красноречиво говорит об этом:
«Как часто, пестрою толпою окружен Когда передо мной как будто бы сквозь сон При шуме музыки и пляски, При диком шопоте затверженных речей, Мелькают образы бездушные людей, Приличьем стянутые маски… * * * …О как мне хочется смутить веселость их И дерзко бросить им в глаза железный стих, Облитый горечью и злостью».И уже совсем апокалиптические пророчества, от которых стынет кровь и которые, к сожалению, сбылись, воплотившись в «русском бунте бессмысленном и беспощадном»:
«Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним прежнюю любовь И пища многих будет смерть и кровь…».Посмотрите, как раздваивается отношение Лермонтова к Родине с одной стороны патриотические «Два великана», «Новгород», «Бородино», «Родина» наполненные славянофильским пафосом, с другой «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…».
Ярко выраженная двойственность проявляется у Лермонтова в отношении к женщине и в биографии, и в его произведениях. С одной стороны любовные увлечения, наполнены прозрачным, светлым, чаще неразделенным чувством, с другой стороны ненависть к женщинам, отвергшим его ухаживания и до описания порнографических сцен в юнкерских поэмах.
Комплекс женоненавистничества внушен был Мишелю еще в детстве. Как я уже писал, рос он среди женщин, и характер воспитался женский со слабой волей, склонностью к интриге, неспособный находить самостоятельный выход из сложных житейских обстоятельств.
«Женственность его характера», – пишет Ю. Гусляров, – «замечалась и в том, что в женщине видел он не то, что должен видеть мужчина. Он не признавал за женщиной слабости. Вот и боролся с ними с полной серьезностью, с тем азартом и упорством, с которым может преследовать соперницу только женщина…». С детских лет в половом влечении Мишеньки отсутствовала тайна, где нет тайны, там нет, как говорят сексологи «психической составляющей копулятивного цикла», т. е. любви высшей, не было романтики, не было чарующей влюбленности. Да и зачем это было нужно Мишеньке, когда дом в Тарханах был полон молоденьких и хорошеньких горничных, которых бабушка подбирала специально, чтобы внуку не было скучно.
Позднее В. Г. Белинский, который Лермонтова боготворил и ненавидел одновременно, сказал: (да простят меня читатели за пошлость «неистового Виссариона»): «Мужчин он так же презирает, но любит одних женщин. И в жизни их только и видит…Женщин ругает: одних за то, что дают, других за то, что не дают… Пока для него женщина и давать одно и то же…».
Особой жестокостью отличалось отношение Лермонтова к Екатерине Сушковой. Эта молодая красавица старше Мишеля на 4 года отвергла любовь шестнадцатилетнего «Кривоного мальчика с красными глазами», Лермонтов, влюбленный в нее безумно, написал целый цикл стихов, посвященный Екатерине и названный лермонтоведами «Сушковским циклом». Нет нужды цитировать эти замечательные, полные любовной тоски стихи. Читатель при желании найдет их. Это «Вблизи тебя до этих пор…», «Благодарю», «Зову надежду сновиденьем», «Нищий», «Стансы» и пр. В 1834 году, т. е. через 4 года Лермонтов и Сушкова встречаются вновь и поэт, полный мщения за неразделенную юношескую любовь, своим байронизмом увлекает Екатерину в любовный омут, но вскоре демонстративно оставляет ее, нанеся непоправимый урон репутации дворянской девушки.
Мало того, засыпает ее, писанными собственноручно, анонимными письмами с порочащими его выдуманными фактами. Делает Лермонтов это так, что письма попадают в руки тетки Екатерины. Все эти неблаговидные поступки, которыми Лермонтов похвалялся перед А. В. Верещагиной и Е. П. Ростопчиной, детально описаны в романе «Княгиня Лиговская», где Екатерина Сушкова выведена под именем Елизаветы Николаевны. Сушкова правда, до конца своих дней так и не узнала автора анонимных писем, но с этой скандальной историей два могущих состояться ее брака распались.
Еще один неблаговидный поступок поэта, будто бы приведший к трагической дуэли, случился в отношении Софьи Мартыновой, родной сестры Николая Мартынова. Между Лермонтовым и Софьей завязался легкий роман, и когда поэт возвращался из отпуска на Кавказ, семья Мартыновых передала для Николая запечатанный пакет, в котором (Лермонтов знал это) Софья вложила свои дневники и письма. В дороге Лермонтову захотелось, видимо, узнать, что о нем думает воздыхательница, и он вскрыл этот пакет. Приехав в Пятигорск, Лермонтов сочинил романтическую историю о «пропаже» пакета и рассказал об этом Мартынову. Но вскоре по Пятигорску поползли вдруг сплетни о Софье Мартыновой, в таких деталях, которые никому не могли быть известны, но которые были изложены в «пропавших» дневниках и письмах. Мартынов потребовал от своего друга объяснений, но Лермонтов чуть не в один присест написал «Тамань», где подробнейшим образом описал эту «романтическую» историю. Мартынов, конечно, не поверил выдумкам друга, и многолетняя дружба прервалась.
Так Мартынов, может быть, защищал честь сестры и свое достоинство, которому ядовитыми эпиграммами и злыми карикатурами Лермонтов постоянно наносил урон?
Любовные увлечения Лермонтова воплощались всегда в поэзии.
Влюбленный в Наталью Иванову (1830–32 гг.) он посвящает ей цикл стихотворений («НФП», «НФ», «И – вой», «Разрыв» и пр.), получивший название «Ивановского цикла». Здесь та же нежность, любовные муки, чистые, светлые, как бы одухотворенные свыше.
Последнее увлечение (1839–40 гг.) Лермонтова – княгиня Мария Щербатова. Ей посвящены стихи «На светские цепи…» и «Молитва». Светская молва приписывала причину дуэли Лермонтова с Барантом ревностью поэта к Марии.
Была еще одна несчастливая любовь, которая может явиться образцом во всеобщей истории любви – любовь к Вареньке Лопухиной – ей посвящены стихи «У ног других не забывал…», «Мы случайно сведены судьбою», «Оставь напрасные заботы», «Она не гордой красотой» и пр. др.
Для Лермонтова Варенька – это образ святой безгрешной Мадонны, отклики этого образа и в поэтических портретах других женщин, которых поэт любил, жаждал встреч, молился на них. И постыдные, роняющие честь дворянскую и офицерскую, поступки в отношении Сушковой и Мартыновой. Что же тогда говорить о Тирзах и Парашах, Уланшах и Ларисах. Вот посмотрите, как рисует женский портрет Лермонтов в поэме «Гошпиталь»:
«Худая мерзостная… В сыпи, заплатках и чирьях, Вареного краснее рака, Как круглый месяц в облаках Пред ним сияла…»И годом раньше стихи, посвященные В. Лопухиной:
«Она не гордой красотою прельщает юношей живых Она не водит за собою Толпу вздыхателей немых. * * * Однако все ее движенья, Улыбки, речи и черты Так полны жизни, вдохновенья, Так полны чудной простоты Но голос душу проникает, Как вспоминанье лучших дней И сердце любит и страдает Почти стыдясь любви своей».А вот образ, несчастной девушки Тани, подвергшейся групповому насилию отделения улан в деревне Ижорке, при переходе из Петербурга в Петергофский лагерь.
Обратите внимание, что никакой жалости к изнасилованной девушке нет, а есть только садистическое сладострастие.
Утром, когда уланы покидали ночлег:
«Идут и видят: из амбара выходит женщина: бледна Гадка, скверна, как божья кара Истощена и …….. Глаза померкнувшие впали; В багровых пятнах лик и грудь Отвисла ж…… страх взглянуть Ужель Танюша? – Таня, ты ли?»И годом раньше:
«… О небо, я клянусь, она была Прекрасна! Я горел, я трепетал Когда кудрей, сбегающих с чела, Шелк золотой рукой своей встречал. Я был готов упасть к ногам ее, Отдать ей волю, жизнь, и рай, и все Чтоб получить один, один лишь взгляд Из тех, которых все блаженство – яд!»Вот такое совмещение идеала содомского с идеалом Мадонны.
«И будто видится сквозь пелену времени, как отчаянный юнкер в серой шинели, едва проспавшийся после угарной ночи, с душой, мутной от пьяного похмелья, стоит, прижавшись плечом к нежно-воздушной барышне, где-нибудь на Зимней канавке, прислушивается к вечерним выстрелам, – и уже по искаженной душе его, как по небу полуночи пролетает белокрылый ангел» (Б. Садовской).
«Итак, прощай! Впервые этот звук Тревожит так жестоко грудь мою Прощай! Шесть букв приносят столько мук Уносят все, что я теперь люблю Я встречу взор ее прекрасных глаз И может быть… как знать… в последний раз».И еще одна характерная черта образа Лермонтова – это беспредельная печаль и тоска, идущие из самых потаенных глубин души поэта, этого «ночного светила русской поэзии», так сказал о поэте Д. Мережковский, проведя антитезу между Лермонтовым и Пушкиным, (Пушкин – «дневное светило»).
В. Белинский заметил, что произведения Лермонтова поражают читателя безотрадным безверием в жизнь и чувства человеческие, при жажде жизни и избытке чувства…Страшен этот глухой, могильный голос нездешней муки:
«И скушно и грустно – и некому руку пожать В минуту душевной невзгоды… Желанья…что пользы напрасно и вечно желать? А годы проходят – все лучшие годы».или:
«На жизнь надеяться страшась, Живу как камень меж камней Излить страдания скупясь».или:
Прими, прими мой грустный труд И если можешь, плачь над ним; — Я много плакал – не придут Вновь эти слезы…».или:
«Закат горит огнистой полосою, Любуюсь им безмолвно под окном, Быть может завтра он заблещет надо мною, Безжизненным холодным мертвецом…».или:
«Всегда кипит и зреет что-нибудь В моем уме. Желанье и тоска Тревожат беспрестанно эту грудь Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка».или:
«Оборвана цепь жизни молодой Окончен путь, бил час, пора домой Пора туда, где будущего нет, Ни прошлого, ни вечного, ни лет…».или уже совсем жуткое:
«…И я сошел в темницу, длинный гроб Где гнил мой труп, и там остался я Здесь кость была уже видна, здесь мясо Кусками синее висело…».или:
«Не льстит мне вспоминанье дней минувших, Я одинок над пропастью стою…или уже пророческое:
«Я говорил тебе: ни счастия, ни славы Мне в мире не найти; – настанет час кровавый, И я паду, и хитрая вражда С улыбкой очернит мой недоцветший гений.И запредельная тоска в «Думе»:
«И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, Потомок оскорбит презрительным стихом, Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом».Литературоведы подсчитали, что в лирике Лермонтова на 1000 слов текста самыми употребительными являются – слеза – 365 раз, судьба – 278, смерть – 273, умереть – 253, плакать – 215, конец – 175, мука – 155, тоска – 143, в то время как улыбаться – 57, удовольствие – 55, жалеть – 53.
«И чем дальше мы отделяемся от Лермонтова, чем больше проходит перед нами поколений, тем более вырастает в наших глазах скорбная и любящая фигура поэта “взирающая на нас глубокими очами полубога из своей загадочной вечности…”»(С. А. Андреевский).
Этот тяжкий для меня психопатологический очерк о М. Ю. Лермонтова я закончу стихотворением другого поэта В. Брюсова:
Казался ты и сумрачным и властным, Безумной вспышкой непреклонных сил. Но ты мечтал об ангельски-прекрасном, Ты демонски – мятежное любил». Ты никогда не мог быть безучастным От гимнов ты к проклятиям спешил И в жизни верил всем мечтам напрасным Ответа ждал от женщин и могил И не было ответа. И угрюмо Ты затаил, о чем томилась дума, И вышел к нам с усмешкой на устах. И мы тебя, поэт, не разгадали Не поняли младенческой печали В твоих, как будто кованных стихах! 6–7 мая 1900 г. Feci quod potui – faciant meliora potentes![3]Литература
1. Алексеев Д. А. По следам исторических загадок. М., 2001.
2. Андронников И. Л. Избранные произведения. М., 1975. Т. II. С. 222–236.
3. Андреевский С. А. Лермонтов: Характеристика. Тула, 2000. С. 339–355.
4. Беличенко Ю. Н. Лета Лермонтова. М., 2001.
5. Бурно М. Е. Сила слабых. М., 1999. С. 30–39.
6. Висковатов П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1989.
7. Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1964.
8. Домбровский О. Н. Доктор Дядьковский и поэт Лермонтов // Клиническая медицина. 1993. Т. 71. № 3. С. 71–73.
9. Литературное наследство. М., 1948. Т. 2.
10. Ломинадзе СВ. Тайный холод// М. Ю. Лермонтов – pro et contra. СПб., 2002. С. 742–765.
11. Литературное наследство. М., 1941. Т. 1.
12. Лермонтовская энциклопедия. М., 1999.
13. Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 2000.
14. Мережковский Д. С. Лермонтов – поэт сверхчеловечества// Книжное обозрение. 1989. № 40. С. 8–9.
15. Нахапетов Б. А. Медики и медицина в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова// Фельдшер и акушерка. 1985. № 10. С. 39–41.
16. Руководство по психиатрии. М., 1983. Т. II. С. 396–399.
17. Соллогуб В. А. Повести и рассказы. М., 1988. С. 333–336.
18. Садовской Б. А. Трагедия Лермонтова // М. Ю. Лермонтов – pro et contra. СПб., 2002. С. 410–433.
19. Торжественный венок. Слово о поэте. М., 1999.
20. Щеголев П. Е. Лермонтов. М., 1999.
21. Эйхенбаум Б. М. Мой временник. СПб., 2001.
Персоналия
1. Барант Эрнест – сын французского посланника. Соперник Лермонтова. Участник дуэли.
2. Барков И. С. – поэт Пушкинской поры, переводчик, знаменит порнографическими стихами.
3. Брюсов В. – русский поэт-символист.
4. Висковатов П. А. – историк литературы, биограф Лермонтова.
5. Вистенгоф П. Ф. – соученик Лермонтова по Московскому университету, литератор.
6. Верещагина А. В. – родственница Лермонтова, с 1828 г. – близкий друг.
7. Дядьковский И. Е. – профессор, ученик проф. Мудрова, терапевт.
8. Ганнушкин П. Б. – профессор-психиатр, главный врач психиатрической Преображенской больницы в г. Москве.
9. Зиновьев А. З. – педагог, первый наставник Лермонтова.
10. Иванова Н. Ф. (Обрескова) – знакомая Лермонтова, предмет юношеского увлечения.
11. Корсаков А. Н. – литератор, военный.
12. Кречмер Э. – немецкий психиатр, профессор, автор труда о характерах людей.
13. Лопухина В. А. (Бахметева) – Самая глубокая сердечная привязанность Лермонтова.
14. Мартынов Н. С. – друг, сослуживец и убийца Лермонтова.
15. Меликов М. Е. – художник, портретист Лермонтова.
16. Мережковский Д. С. – русский писатель-эмигрант.
17. Молчанов Н. Свидетель встреч Лермонтова с И. Е. Дядьковским.
18. Миклашевский A. M. – соученик Лермонтова по пансиону и школе юнкеров.
19. Пасек В. В. – этнограф, славянофил, друг Герцена.
20. Ростопчина Е. П. – графиня, писательница, юное увлечение Лермонтова.
21. Раевский Н. П. – знакомый Лермонтова, сослуживец по Кавказской кампании.
22. Сатин Н. М. – соученик Лермонтова по пансиону, переводчик, друг Герцена и Огарева, стихотворение «Лермонтову».
23. Соловьев B. C. – религиозный философ, поэт.
24. Столыпин А. А. (Монго) – двоюродный дядя, друг и сослуживец Лермонтова.
25. Сушкова-Хвостова Е. А. – знакомая, юношеское увлечении Лермонтова. Мемуаристка.
26. Шан-Гирей М. А. – двоюродная тетка Лермонтова, племянница бабушки Арсеньевой.
27. Шугаев П. К. – пензенский помещик, краевед.
28. Щербатова М. А. – княгиня, вдова, позднее увлечении Лермонтова (1839–1840 гг.)
29. Эрастов В. Д. – протоиерей.
Глава IV Лестница Иакова или Вознесение Николая Гоголя
«Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что они делают со мной! Они льют мне на голову холодную воду!.. За что они мучают меня… я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною».
Н. В. Гоголь. «Записки сумасшедшего»Осенью 1820 года в Нежинскую гимназию высших наук, устроенную на манер Царскосельского лицея, сорочинский помещик Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский привез нечто, завернутое в тридцать три одежки. Когда стали разоблачать этот кокон, то открылся тщедушный, крайне некрасивый и обезображенный золотухой мальчик. Глаза его были обрамлены красным золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными пятнами, из ушей текло. Это был будущий великий писатель земли русский Николай Гоголь.
Вся учеба в Нежинской гимназии являлась пыткой для подростка Гоголя. Он писал в последующем матери: «Я утерял целые шесть лет даром… Я больше испытал горя и нужд, нежели вы думаете;… но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и прочее… Правда, я почитаюсь загадкой для всех, никто не разгадал меня совершенно… В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом – угрюмый, задумчивый, неотесанный и прочее, в третьем – болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных умен, у других глуп».
Вот это чередование масок, которые Гоголь, в зависимости от обстоятельств, надевал на себя, ставило в тупик его одноклассников и знакомых. Потому так разнятся характеристики современников Гоголя.
Учеба в гимназии наложила на характер Гоголя неизгладимый след. И. И. Гарин пишет: «Все делало мальчика предметом насмешек и оскорбительных кличек: хилость, болезненность, некрасивость, замкнутость, тугоумие, неспособность к языкам, гордый норов, рассеянность, упрямство…Он не умел и не желал под кого-то подлаживаться, говорил, что думал, высоко ценил собственное достоинство».
Вот откуда обидные клички: «Таинственный карла», «Пигалица», «Мертвая мысль».
Унижения и издевательства сотоварищей продолжались весь период обучения в гимназии. Это была пытка. Обстановка российской домостроевской «бурсы» породили те черты характера Гоголя, которые называли «странными».
Мы говорим «дедовщина», элегантно называемую нынешними военными «неуставными отношениям», но истоки этого явления уходят далеко корнями в глубь истории.
А между тем Гоголю брезговали подавать руку, брезговали пользоваться библиотечными книгами, до которых дотрагивался будущий писатель, боясь заразиться какой-нибудь «нечистью».
Откуда же было взяться здоровью у «золотушного мальчика», когда мать родила его в возрасте 15 лет 25 марта 1809 года, отец же страдал чахоткою, видимо передав сыну по наследству «золотуху». Новорожденный Николай был слаб и худ, так что родители долго опасались за его жизнь.
До трех лет Гоголь не говорил. Затем развитие вошло в свою колею – читать и писать Гоголь выучился самостоятельно, а в пять лет уже пробовал писать стихи.
Немаловажное значение для анализа истории болезни Гоголя имеют и его генетические корни.
Многие свои странности Гоголь унаследовал от отца человека крайне мнительного, болезненно-раздражительного. В то же время это был бесподобный рассказчик, прирожденный актер, он был не лишен и поэтического дара. Приподнятый, искрящийся смехом, мог впасть в уныние и тоску. Часто и подолгу болел, в особенности последние 4 года перед смертью. Умер от горлового кровотечения в возрасте 47 лет.
Мать Гоголя происходила из знатного дворянского рода Танских, славившегося своими изуверствами над крепостными крестьянами.
Сама Мария Ивановна по свидетельству современников, была женщиной экзальтированной, импульсивной, страстной. В. Набоков характеризует её – «нелепая, истерическая, суеверная, сверхподозрительная».
И эта «дивная красавица» долго сохранившая молодость и свежесть, безгранично и беззаветно любила своего гениального сына и утверждала, что многие изобретения принадлежат Никоше. «Сын не унаследовал от матери ни её любвеобильности, ни её кротости, ни её непосредственного сердечного интереса к жизни, ни её покорности судьбе, ни её непрактичности, ни её душевной простоты и прекрасной наивности» (В. Чиж). Мария Ивановна жила долго и умерла, когда ей было семьдесят семь лет от апоплексического удара.
Вот эта «патологическая нервная организация» вскормленная отцовскими и материнскими генами и послужили созданию того странного внутреннего и внешнего облика, который Гоголь пронес сквозь свою недолгую жизнь.
Странный склад ума проявился у Гоголя уже в его отрочестве: полное равнодушие к знанию при хороших способностях, отсутствии интереса ко всем предметам, при пытливом и деятельном уме. Его живо интересовало только то, что имело непосредственный интерес к его личности.
В юношеском возрасте отношение сотоварищей Гоголя к нему изменилось. Он становится «на равных», увлекается рисованием, литературой. Но особенно его способности проявились в организации гимназического театра. И. П. Золотусский пишет: «В ту весну (1825 г.) гимназия открыла Яновского. На место застенчивого и задумчивого подростка явился пересмешник и комик, острого глаза которого теперь побаивались». П. А. Кулиш вспоминает: «… С этого времени театр сделался страстью Гоголя…». Куда теперь делась застенчивость, нелюдимость? Артистический талант, дремавший в Гоголе, расцвел ярким цветом. Он приводил публику в восторг своим актерским действом.
Театр преобразил Гоголя – это была его стихия, здесь он был свой. Он не только замечательно играл, но и писал собственные пьесы, составлял репертуар, расписывал декорации.
Откуда это все? Куда делся «таинственный карла», «мертвая мысль», угрюмость и нелюдимость? Уехал на вакацию одним, а вернулся в гимназию совершенно другим. Что же произошло? У нас есть собственное объяснение этой трансформации. Оно будет приведено при анализе психопатологии Гоголя.
А пока приведем слова И. Гарина: «Гоголь принадлежал к тому типу гениев, чей талант до поры и времени находился как бы в свертке, скрытой потенции, выливаясь изредка в неожиданных выходках, нередко отрицательного свойства, или в гротескных, эпатирующих формах, художественная фантазия трансформировалась в талант виртуозного передразнивания, артистичность – в шутовство, ум – в иронию».
В нашу задачу не входит жизнеописание Гоголя в его Петербургский период. Особо ничего примечательного, имеющего отношение к нашему повествованию не было. Не случилась служба в департаменте Уделов, не получился из него учитель словесности, не удалась профессорская должность в Петербургском университете, но началась кипучая литературная деятельность, когда самые известные и самые любимые нами произведения вышли из под его пера. Об этом написано так много, что ничего нового добавить уже невозможно.
При анамнестическом исследовании пациентов, психиатров всегда интересует вопрос о сексуальных проявлениях больного и каких либо девиациях в половой жизни, поскольку они могут пролить свет и на особенности психопатологических отклонений.
Так вот в истории болезни Гоголя есть одно большое пятно – это его сексуальность или вернее отсутствие её.
Отсутствие сексуального интереса к женскому полу в годы юношества, да и во все последующие годы породило легенду того времени о том, что Гоголь был импотентен, а в последствии безумен по причинам необузданной мастурбации.
В. Чиж пишет: «Ещё на школьной скамье, я помню, почтенные наставники, убеждая нас во вреде онанизма, ссылались на пример Гоголя: такой гениальный человек и заболел от онанизма».
В те годы среди медиков существовало мнение, что онанизм настолько вреден, что может вызвать спинную сухотку, что вместе с семенной жидкостью будто бы истекает и мозговое вещество. Но tabes dorsalis это проявление нейросифилиса, а не следствие мастурбации.
Эти механистические инвективы просуществовали так долго, что даже в советское время учителя внушали школярам, что от «рукоблудия» тупеет ум, и гаснут способности.
Современные исследования показывают, что онанизм – это проявление юношеской гиперсексуальности, это один из суррогатов полового акта, что частая и неумеренная мастурбация есть признак тяжелого невроза или более грубой психической патологии.
До 60 % школьников Москвы 7–10 классов занимаются мастурбацией (данные 1979–80 гг.). Но по миновании этого периода у подавляющего большинства юношей и девушек начинается нормальная половая жизнь и никаких отклонений в психическом здоровье не происходит.
Гадать и судить о том мастурбировал Гоголь или нет – задача малопривлекательная. Остается только предположить, что или Гоголь действительно мастурбировал, т. к. в силу своей застенчивости не мог сблизиться с женщиной и тем самым удовлетворить свою физиологическую потребность, или таковой потребности вообще не было изначально, т. е. отсутствовало либидо.
Но нельзя сказать, что «женский вопрос» вообще не интересовал Гоголя. Интересовал, но как-то странно, каким то ледяным ветром веет от этих женских образов в произведениях Гоголя.
Амбивалентность, вот та характерная черта, которую Гоголь вносит в описание женщин. С одной стороны импотентная выхолощенность, а с другой явное неравнодушие к определенным частям женского тела, несущих мощный потенциал эротизма: «разметавшаяся на одинокой постели горожанка с дрожащими молодыми грудями», «нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал». «Молодые груди» у героинь Гоголя обязательно упруги, куполообразны, они дрожат, колеблются, трепещут, встревоженные вздохами».
А вот что видится сумасшедшему Поприщину: «Хотелось бы заглянуть в спальню… там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы на ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый как снег, чулочек… Ай! Ай! Ай!». И везде так, везде присутствует белый цвет, все женщины светятся неземным светом.
А. Белый: «Когда он описывает женщину – то или виденье она, или холодная статуя с персями матовыми, как фарфор, непокрытый глазурью», или похотливая баба, семенящая ночью к бурсаку. Неужели женщины нет, а есть только баба или русалка с фарфоровыми грудями, сваянными из облаков?».
Не странно ли, что прекрасные женские облики неизбежно принадлежат у Гоголя колдуньям, русалкам, мертвецам или женщинам недобрым, вносящим собой зло и разрушение, а В. Чиж даже сказал, что лучший женский образ Гоголя – старуха Коробочка.
Целомудренное, коленопреклоненное восхищение женщиной в произведениях Гоголя и в то же время пристрастие к скабрезным сальным анекдотам, рассказываемым им не только с мастерством, но и с большим удовольствием. Этот болезненный цинизм проявлялся только в узком кругу близких и ни в одном произведении писателя мы не найдем описания откровенных интимных сцен, может быть за исключением эпизода, когда нагая Панночка скакала верхом на Хоме.
Любит ли Гоголь женщин плотской любовью? На этот вопрос современники в один голос утверждают – нет. Только к двум женщинам Гоголь имел долгую платоническую привязанность.
Первая – это Анна Осиповна Россет-Смирнова – бывшая фрейлина императрицы и светская львица. С ней Гоголь состоял в продолжительных дружеских отношениях и долгой переписке.
Вторая – Анна Михайловна Виельгорская, графиня, моложе Гоголя на 14 лет. В неё будто бы писатель был влюблен и даже в 1850 г., за два года до смерти, будучи не по возрасту дряхлым стариком, сделал ей предложение. Но мезальянс явился камнем преткновения в брачных устремлениях писателя, и надежды его на супружеский союз разбились в прах. Да и любил ли он? Нет ответа, и не было.
Но 21 год назад в письме к матери от 24.07.1829 года, в период, когда Гоголь стремительно бежит в Германию, этот целомудренный девственник описывает такую страсть, какую не испытывал, пожалуй, ни Казанова, ни Дон Жуан: «… я бы назвал её ангелом, но это выражение – не кстати для неё – это божество, но облаченное слегка в человеческие страсти. – Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу; но их сияния, жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков… Нет, это не любовь была…Я по крайней мере не слыхал подобной любви… Взглянуть на неё еще раз – вот было одно единственное желание… Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, не была женщиной…Это было божество, им созданное, часть Его же самого. Но, ради Бога, не спрашивайте её имени, она слишком высока, высока!»
Современники писателя бились в догадках о предмете гоголевской страсти и пришли к выводу, что это была очередная выдумка писателя, пытавшегося как-то объяснить свой побег за границу с приличной суммой денег. Мы еще вернемся к анализу этого этапа в развитии болезни Гоголя, а пока обратимся к описанию еще одной странности писателя – амбитендентности в одежде. Это была странная смесь щегольства и неряшества. Из-под парика, который писатель одно время носил, выглядывала вата, из-за галстука торчали белые тесемки.
Одни описывают: солидный сюртук, бархатный глухой жилет, другие – одет вовсе не по моде и даже без вкуса, третьи – галстук просто подвязан, платье поношенное, четвертые – зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр. Все эти несообразности в одежде, пренебрежение к принятым в обществе сочетанием цветов вызывали насмешки. Да вот появившаяся в конце жизни прожорливость, да хромота, такая, что Гоголь ходил с палкой – все это складывалось в определенный облик метко подмеченный Д. Мережковским: «При первом взгляде наружность его удивляет: в ней что-то странное, на других людей непохожее, слишком напряженное, слишком острое и вместе с тем надломленное, больное… самое поверхностное впечатление от наружности Гоголя – тревожное, почти жуткое и в то же время смешное, комическое: зловещая карикатура. …Чем пристальнее всматриваешься в него, тем это смешное становится более жутким, почти страшным, фантастическим».
Можно было бы привести примеры еще нескольких странностей, это и рано появившаяся переоценка собственной личности, и сверхценные идеи отравления, и мысли о своем высшем предназначении, это, в конце концов, идеи религиозного характера.
Но не будем утомлять читателя подробным описанием этих немаловажных для полной характеристики психопатологических симптомов.
Перейдем к описанию психической болезни Гоголя.
Все исследователи психопатологии Гоголя сходятся во мнении, что первый приступ болезни возник у писателя в августе 1829 года. Д. Е. Мелехов считает, что первый приступ болезни наблюдался в 1840 году.
Но нам нигде не встретилась клиническая оценка двух психотических эпизодов, имевших место у Гоголя в детстве и отрочестве.
В возрасте 5 лет маленький Никоша перенес приступ ужаса. Он был один, спускались сумерки. В ушах что-то шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то, а стук маятника часов казался малышу стуком времени, уходящего в вечность. И здесь Никоша увидел кошку, которая кралась к нему – мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые ее глаза искрились недобрым светом. Мальчику стало жутко, он схватил кошку побежал в сад и утопил животное в пруду.
Сам Гоголь рассказывал А. О. Смирновой, что ему было страшно, он дрожал и в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, но потом почувствовал угрызение совести, страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец высек его.
Второй эпизод (да можно ли это происшествие назвать эпизодом?) случился с Гоголем в Нежинской гимназии (1825 г.). Суть дела заключалась в том, что Гоголь, пытаясь избежать наказания розгами за какие-то шалости, притворился «бешеным»: «… Лицо у Гоголя страшно исказилось, глаза сверкали диким блеском, волосы натопорщились, стрегочет зубами, пена изо рта, падает, бросается и бьет мебель, – взбесился! … Оставалось одно средство: позвать четырех служащих при лицее инвалидов, приказали им взять Гоголя и отнести в особое отделение больницы, в которой пробыл он два месяца, отлично разыгрывая там роль бешеного». Так вспоминает друг Гоголя по Нежинской гимназии Тимофей Пащенко. Нестор Кукольник, другой однокашник, описывает «сумасшествие» Гоголя почти так же, добавляя только, что Никоша так искусно притворялся, что все были убеждены в его помешательстве. Правда он говорит, что в больнице Гоголь провел не 2 месяца, а две недели.
Неужели и вправду Гоголь симулировал психическое расстройство? Странно то, что профессор-психиатр В. Чиж тоже склоняется к мысли о симулятивном поведении Гоголя. Но позвольте, ведь каждый мало-мальски, грамотный психиатр, а тем более судебный психиатр скажет, что симулировать «бешенство», или иное психомоторное возбуждение еще никому не удавалось длительно. Обычно симулируются симптомы «тихого» помешательства – депрессивные состояния, синдромы вербального гальлюциноза, паранойяльные, параноидные расстройства, синдромы, относящиеся к категории «тюремных» психозов и т. д.
Симулировать возбуждение – бредовое, маниакальное, различные состояния ажитации, синдромы помраченного сознания длительно не удавалось никому.
Так что же было с Гоголем?
По описанию похоже и на аффект-эпилепсию, и на истерический припадок и на состояние суженного сознания, что тоже не укладывается в такие длительные сроки как 2 недели или тем более 2 месяца. А может быть, и, скорее всего, это был второй шизо-аффективный приступ, положивший начало нескончаемой череде приступов болезни, сведшей Гоголя в могилу.
Ведь в том же 1825 Гоголь вернулся в гимназию после каникул неузнаваемым, с характером, полярным имевшему место ранее. Так не был ли это шизофренический шуб в классическом его определении – приступ шизофрении, после которого личность больного приобретает новые, несвойственные ему ранее черты.
Исследование психической болезни Гоголя проводилось знаменитыми учеными – психиатрами Н. Н. Баженовым и В. Ф. Чижом до революции и А. Е. Личко и Д. Е. Мелеховым в советское время.
Нужно сказать, что первые два психотических эпизода, описанные нами выше, не нашли отражения в анализе истории болезни Гоголя, проведенного уважаемыми коллегами.
Нужно согласиться с В. Ф. Чижом, что наиболее очерченный аффективный приступ наблюдался у Гоголя в 1892 году, когда он внезапно сбежал из Петербурга в Германию, где проскитался немногим более месяца и вернулся в Петербург «просветленным».
Попытки современников объяснить это «сумасбродство» отчаянием после краха и сожжения первой большой повести «Ганс Кюхельгартен», или попыткой убежать от безответной (выдуманной?) любви, или даже усматривали корыстный мотив – сбежал-то Гоголь с крупной суммой денег – оказались, как сейчас стало понятным, несостоятельными, потому что Гоголь был психически нездоров.
Вот несколько отрывков из этого письма (ранее уже приводились другие): «… Адская тоска, с возможными муками, кипели в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен… С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Все совершенно в мире было для меня иногда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, а душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя… В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначенный путь мне».
Впоследствии Гоголь объяснял свой странный поступок тем, что всю весну и лето 1829 он был болен, что по всему телу высыпала сыпь, что по заключению врачей у него кровь «крепко испорчена» и что необходимо «для очистки» пить воды в Травемюнде, недалеко от Любека.
Много лет спустя в «Авторской исповеди» он признается, что проект и цель этого путешествия были очень неясны. В. Чиж считает, что побег Гоголя за границу в 1825 г. был импульсивным актом и никак не оценивает состояние Гоголя, предшествование этой стремительной поездке. А это, на наш взгляд, был, четко очерченный аффективный приступ с явлениями ажитированной депрессии, состояниями экстаза и религиозным бредом («ужасное наказание», «невидимая десница», «существо, которое Он послал», «божество Им созданное, часть Его же самого»).
Уже на корабле страх, тоска, душевные терзания оставили Гоголя, и в Петербург он вернулся здоровым.
Период с 1830 по 1836 можно назвать светлым. За эти годы сложились взгляды великого писателя, в этот период им были созданы почти все его великие произведения. Состояние приподнятого настроения сквозит в его письмах к родным в 1830 году: «… в будущем я ничего не предвижу для себя кроме хорошего…Все мне идет хорошо… Я теперь, более, нежели когда-либо тружусь, и более, нежели когда-либо, весел. Спокойствие в моей груди величайшее».
Нельзя сказать, что этот период в жизни Гоголя был безоблачным – его одолевали всякие «хвори», он говорил, что болезнь его кроется в кишках, и, что она неизлечима.
Но уже с июля 1833 года Гоголь пишет в письме М. А. Максимовичу: «Я так теперь остыл, очерствел, сделался такой прозой, что не узнаю себя. Вот скоро будет год, как я ни строчки», а в ноябре уже: «Если бы вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня! Боже, сколько я пережил, перестрадал!». Этот меланхолический приступ, длившийся около полугода, сменяет состояние гипоманиакальное. Об этом свидетельствует содержание «Возвращение к гению», написанное Гоголем накануне 1834 года. Нет необходимости приводить его полностью, но конечные фразы, свидетельствуют, что Гоголь в это время находился в состоянии экстаза и экзальтации «…Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное на земле божество! Я совершу!.. О, поцелуй и благослови меня!». 11 января в письме к Погодину: «Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! Да каких крупных! полных! свежих!».
Летом 1835 года Гоголя вновь настигает тоска, он не знает, куда от неё деться. В мае 1836 года Гоголь сообщает Погодину, что едет за границу «размыкать тоску», «рассеяться, развлечься».
Гоголь уезжает за границу и с 1836 г. начинается его скитальческая жизнь. Ухудшения в состоянии здоровья чередуются улучшениями, причем ухудшения нарастают в своей интенсивности и продолжительности. К 1837 году состояние писателя еще более ухудшается. Вместе с нарастанием депрессии, ипохондрии у Гоголя появляются новые симптомы.
Золотарев свидетельствует, что на писателя находил какой-то «столбняк» – вдруг среди оживленного разговора он замолкал, и от него нельзя было добиться ни слова, стал прожорливым, без конца ел и не мог наесться, был крайне религиозен, часто посещал церкви.
В конце 1837 г. – появилась слабая жизнерадостность, некий подъем энергии. Гоголь из Рима пишет большие, не лишенные юмора и веселости письма. Но к лету 1838 возвращается депрессия. В мае Гоголь пишет Данилевскому: «… Тупеет мое вдохновение, голова часто покрыта тяжелыми облаками». В письме Погодину в августе 1838: «Здоровье мое плохо! И гордые мои замыслы… О, друг! Если бы мне на четыре-пять лет здоровья!.. Но работа моя вяла, нет той живости…!».
В июле 1840 года Гоголя настигает тяжелейший приступ депрессии, не жалея темных красок он говорит о том, что «нервическое» расстройство и раздражение возросло ужасно, тяжело в груди и давление, некогда дотоле им не испытанное, усилились…
К тому же присоединилась еще болезненная тоска. Писатель не знал, куда себя деть, и не мог оставаться спокойным ни на минуту. Появились мысли о смерти, явившиеся причиной написания «тощего» духовного завещания.
В октябре, находясь в Вене, Гоголь испытывает некоторое просветление в душевных муках. Он пишет тогда Погодину: «Я не чувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического, умственного бездействия, в котором находился в последние годы…». В том же письме Гоголь сравнивает прошедший период с «пребыванием в темнице».
Последующие годы психопатологическая картина болезни Гоголя меняется, усложняется, обрастает новой симптоматикой. Так ипохондрические и депрессивные состояния отходят на второй план, а доминирующее место занимают идеи величия.
Еще в 1839 году Гоголь считал себя наделенным даром пророчества, и эти бредовые идеи окончательно сформировались после приступа 1840 года. Писатель считает себя всевластным, всемогущим, наделенным свыше даром прорицания. Переживает состояние экстаза, считая это благодатью Господней. Он без колебаний наставляет всех и обо всем проповедует.
В 1841 году заканчивается деятельность Гоголя как гениального писателя. В. Чиж пишет: «… конечно, проблески прежнего гения остались; потухающие засыпанные пеплом уголья вспыхивают слабым пламенем, но уже прежнего огня быть не может». Весь период жизни Гоголя с 1842 по 1848 можно характеризовать как последний период его писательской деятельности – он трудился над вторым томом «Мертвых душ», написал «Выбранные места из переписки с друзьями», несколько мелких статей и огромное количество писем. В письмах он становиться откровеннее, постоянно вся и всех поучает. Призывая других быть светлей, он сам становится жестче, холоднее, бескомпромисснее.
Писатель погружается в пучину религиозного мистицизма, подогреваемого небезызвестным о. Матвеем. Все более и более овладевают Гоголем идеи самообвинения, самоунижения, греховности. Бредовые идеи величия исчезают. А. Личко считает, что этому способствовало раннее постарение Гоголя. Моложавый сорокалетний писатель быстро превращается в старика. 1845 год – один из тяжелейших в жизни Гоголя, год острого переживания гаснущих сил, тяжелого кризиса. 29.03.1845 года он пишет гр. Толстому: «Тело мое дошло до страшных охладеваний, ни днем, ни ночью я не мог согреться. Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели и были ничем не согреваемы лед, так, что прикосновение их ко мне пугало меня самого». Уже в июле истощение было так ужасно, что Гоголь в письме 14 июля 1845 года писал: «… по моему телу можно теперь проходить полный курс анатомии, до такой степени оно высохло и сделалось кожа да кости».
Что же явилось причиной такого телесного неблагополучия? Врачи, лечившие Гоголя, в то время и на том уровне медицины определяли у писателя «поражение нервов желудочной области».
Но нельзя же этим объяснить ту брутальную симптоматику, которая имела место у больного Гоголя. А. Личко, на наш взгляд, справедливо считает, что Гоголь, по видимому, еще в 1839 году перенес особую форму малярии с последующим развитием энцефалита. Этим, по мнения А. Личко, объясняются частые обмороки, нарушение терморегуляции, упорные бессонницы, булимия. Все это – проявления диэнцефального синдрома как следствие органического повреждения головного мозга. Правда В. Баженов считает, что Гоголь перенес приступ малярии в 1845 году, но, видимо, это был повторный приступ. Органическое поражение головного мозга накладывает отпечаток и на внешности больного.
Современники описывают Гоголя в последний период его жизни как человека с «тупым» лицом, странно вприпрыжку хромающим.
По выздоровлении Гоголь уезжает за границу, но и там его измученная душа не находит отдохновения – он пишет в апреле 1845 из Франкфурта: «тягостнее всего беспокойство духа, с которым труднее всего воевать»; в июне – из Гамбурга: «Душа изнывает вся от страшной хандры… Изнурение сил совершенное»; в феврале 1846 года из Тима: «Тяжки, тяжки мне были последние времена, и весь минувший год весь был тяжел, что я дивлюсь теперь, как вынес его».
Все чаще и чаще в краткие периоды улучшения звучит мотив божьей милости: «Да будет же благословен Бог, посылающий нам все! И душе, и телу моему следовало выстрадаться» (март 1846 из Рима). «Мне говорит это мое сердце необыкновенная милость божья, давшая мне силы потрудиться тогда, когда я и не смел уже и думать о том, не смел и сказать потребной для того свежести душевной (октябрь 1846 из Франкфурта) и т. д.
Не помогло и паломничество по Святым местам, предпринятое писателем в 1848 году. В. Набоков пишет: «Священные места, которые он посетил, не слились с их мистическим идеальным образом в его душе, и в результате Святая Земля принесла его душе (и его книге) также мало пользы, как немецкие санатории – его телу».
Между тем болезнь медленной шаркающей походкой, но шла вперед неуклонно, неумолимо приближая смертный час. Она обкрадывала душу писателя, воровала положительные эмоции. Гоголь становился все более и более холодным, и равнодушным и к людям и к происходящим событиям. Охлаждение к матери и сестрам, к ближайшим и дорогим друзьям. Сам писатель понимал измененность своей души: «Я равнодушен теперь ко всему», «Я нахожусь в каком-то нравственном бессилии». Нарастала замкнутость, отчуждение от знакомых, друзей. И что характерно и особенно тяжко для почитателей таланта Гоголя – это оскудение словарного запаса, бедность ассоциаций, пустое резонерство, стереотипное повторение слов и фраз.
Анализируя патологию мыслительного процесса писателя, А. Личко приходит к выводу, что: «Наплывы бесчувственного и бесплодного резонерства сочеталось со странным ощущением пустоты в голове, каких-то провалов в мышлении, как будто утратилась способность произвольно управлять течением мысли. А те мысли, что приходили на ум, казались «чужими», «пришлыми», «не своими», «кем – то внушенными»».
С 1848 года начинается последний период жизни Гоголя – нарастает распад душевной жизни. По словам Берга, от прежнего Гоголя остались одни развалины, его взор потерял «прежний огонь и быстроту». В. Чиж пишет: «Старческий распад душевных сил, ранняя физическая дряхлость проявлялись ничем необоснованным страхом, он боялся загробной жизни, боялся смерти». Страх этот крайне мучительный не оставляет его ни на минуту.
Нарастает религиозный мистицизм, подогреваемый «ржевским Савонароллой» о. Матвеем. Этот «духовник» требовал от писателя отречения от литературного труда, от «великого грешника» Пушкина, запугивал Гоголя описанием сцен «страшного суда», на который Гоголь предстанет после смерти. Бедный писатель умолял его: «Довольно оставьте меня! Не могу больше слушать! Слишком страшно!». Следуя предписанием о. Матвея Гоголь начинает еще на масляной неделе поститься. В ночь с 11 на 12 февраля 1842 года сжигает второй том «Мертвых душ».
После того мысли о смерти не оставляют писателя, он уединяется, старается не с кем не говорить, лежит лицом к стене, почти ничего не ест за исключения зерен саго, чернослива и чашки бульона.
Лечили писателя лучшие доктора. Лечили, как умели, они следовали предписанием медицины того времени и обвинять их, как это делают и Баженов, и Личко, и Чиж в неумелом врачевании и грубых медицинских ошибках было бы непростительным заблуждением. Делали что могли – ut aliquid fiat (чтобы что-нибудь сделать).
Но Гоголь умер. Случилось это 21 февраля 1842 г. в 8 часов утра. Последними словами писателя были: «Лестницу! Поскорее, давай лестницу!».
Видимо в помраченном сознании Гоголя всплыл рассказ его бабушки, слышанный в детстве, о лестнице Иакова одним концом упирающейся в небо, а другим опускающейся в ад. «И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии восходят и сходят по ней» (Быт. 28, 12).
В последней главе «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь тоже писал о лестнице «Бог весть, может быть за одно это желание (любви воскрешающей) уже готова сброситься с небес к нам лестница и протянутая рука, помогающая взлететь по ней». Услышал Всевышний мольбу страдальца: «Сердце мое трепещет во мне, смертные ужасы напали на меня; страх и трепет напал на меня, и ужас объял меня; – и сказал: кто дал бы мне крылья как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы (ПС. 54, 5,6,7)».
Да, Николай Васильевич, Господь дал Вам голубиные крылья, вы взошли по лестнице ведущей вверх и с облачных высей со своей снисходительно-насмешливой улыбкой смотрите на нас смертных, и своим подвижничеством и терпеливым многостраданием уже сто пятьдесят лет вызываете коленопреклоненное восхищение.
Так какой же психической болезнью страдал Гоголь? Вам обязательно нужен диагноз?
А может быть не следует навешивать ярлыков, а лучше обратиться к дефиниции сложнейших психопатологических синдромов, имевших место в структуре болезни писателя. Ведь нельзя же категорически, как это сделал Баженов, утверждать, что Гоголь страдал циркулярным (маниакально-депрессивным) психозом или Д. Мелехов, поставивший диагноз циркулярной шизофрении. Более бережно к оценке психопатологии Гоголя отнесся В. Чиж. Этот знаменитый психиатр, боготворя Гоголя, сказал: «Конечно, в болезни Гоголя можно найти и признаки неврастении, и признаки периодического психоза, и признаки паранойи, но все же такие диагнозы будут односторонними, потому, что заболевание Гоголя, как человека необыкновенного не вмещаются в рамки созданные для заболеваний обыкновенных смертных».
А. Личко деликатно уходит от вопроса диагностики психического заболевания Гоголя, хотя описывает течение болезни писателя, как больного с приступообразно-прогредиенным течением шизофрении.
Но он так же квалифицирует некоторые симптомы, появившиеся во второй половине жизни писателя, как симптомы органического поражения мозга.
Каково же наше резюме?
Болезнь Гоголя развивалась медленно, на фоне отягощенной наследственности (психические болезни, туберкулез) слабого здоровья, шизотимических черт характера (угрюмость, нелюдимость, странные выходки), слабого развития или полного отсутствия полового чувства, неряшливости, а в последующем и вычурности в одежде. В 20 летнем возрасте наблюдается первый приступ, сопровождавшийся ажитированной депрессией с тоской, экстатическими переживаниями. В последующем, но только первые годы болезни, периоды депрессии сменяют периоды гипомании, чаще с экзальтацией и экстатическими состояниями. От приступа к приступу психическое состояние ухудшается. Ипохондрические переживания, имевшие место смолоду, утяжеляются.
На фоне депрессии появляются суицидальные мысли. Гипоманиокальные состояния становятся все реже и реже. За несколько лет до смерти присоединяются диэнцефальные симптомы (булимия, нарушение терморегуляции, маскообразное «тупое» лицо, нарушения походки, раннее постарение и, вместе с тем, яркие проявления шизофренического дефекта (резонерство персеверации, вербигерации, амбивалентность, эмоциональная холодность и т. д.). Кроме того, появляются симптомы, характерные для сенильного психоза (бредовые идеи, самообвинения, самоунижения, греховности, облекшиеся в религиозно-мистические формы). В последний период болезни появляются симптомы конечных состояний – (упорный отказ от еды, мутизм, субкататонические расстройства). Сама причина смерти Гоголя неизвестна – вообще то никакой соматической ургентной патологии врачи того времени не нашли. Умер писатель от истощения – вот вам и диагноз. Может быть, при морфологическом исследовании была бы найдена какая-то патология, но употребление сослагательного наклонения – процесс неблагодарный, поэтому «тайна сия – велика есть».
Литература
1. Андронников И. Л. Избранные произведения. М., 1973. Т. II. С. 224.
2. Александровский Ю. А. Глазами психиатра. М., 1999. С. 221.
3. Баженов Н. Н. Болезнь и смерть Гоголя // Психиатрические беседы на литературные темы. Цит. по А. Г. Личко.
4. Вересаев В. В. Гоголь в жизни. Л., 1995. Т. I, II.
5. Гарин И. И. Загадочный Гоголь М., 2002.
6. Грицак Е. Н. Тайна безумия. М., 2003. С. 333.
7. Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1952.
8. Личко А. Е. Как умер Гоголь // Наука и религия. 1966. № 12. С. 80–87; 1967. № 1. С. 89–96.
9. Мелехов Д. Е. Болезнь Гоголя. Руководство «Психиатрия и вопросы душевной жизни». М., 1991.
10. Чиж В. Ф. Болезнь Гоголя. М., 2002. Впервые опубликована в журнале «Вопросы философии и психологии». 1903. № 66–70; 1904. № 71.
11. Толстикович А. Две смерти Николая Гоголя. Приложение к ж. «Здоровый образ жизни». «Предупреждение». М., 2003. № 2/26. С. 91–98.
12. Набоков В. В. Приглашение на казнь. Кишинев. 1989.
Персоналии
1. Баженов Н. Н. – профессор-психиатр, директор Преображенской психиатрической больницы.
2. Белый А. – русский поэт-символист, эмигрант.
3. Виельгорская A. M. – единственная женщина, которую любил Гоголь.
4. Данилевский А. С. – гимназический друг Гоголя.
5. Золотусский И. П. – советский писатель, литературный критик.
6. Золотарев И. Ф. – русский чиновник, друг Гоголя.
7. Константиновский М. Л. – Ржевский протоиерей (о. Матвей), духовник и «злой гений» Гоголя.
8. Кулиш П. А. – украинский писатель, первый биограф Гоголя.
9. Кукольник Н. В. – популярный писатель, гимназический друг Гоголя.
10. Личко А. Е. – советский профессор – психиатр.
11. Максимович М. А. – выдающийся этнограф, историк, поздний друг Гоголя.
12. Мережковский Д. С. – русский писатель-эмигрант.
13. Мелехов Д. Е. – профессор-психиатр в 1951–1956 гг. директор Московского института психиатрии.
14. Набоков В. В. – русский писатель, эмигрант.
15. Пащенко Т. Г. – гимназический друг Гоголя.
16. Погодин М. П. – издатель журналов «Московский вестник», «Москвитянин».
17. Poccem-Смирнова А. О. – друг Гоголя, состоявшая с ним в долгой переписке.
18. Толстой А. П. – граф, близкий друг Гоголя в последние годы.
19. Чиж В. Ф. – профессор-психиатр, завкафедрой психиатрии Тартусского (Дерптского) университета.
Глава V Призрачные сны Ивана Тургенева
Каждый писатель до известной степени изображает в своих сочинениях самого себя, часто даже вопреки своей воле
И. В. ГетеСтудент-словесник Московского Университета Иван Тургенев тосковал. Тоска была всеобъемлющей, и что, страшнее всего, непонятно откуда берущейся, беспричинной, темной и безотрадной как осенняя ночь с мелким нудным холодным дождем.
Было бы понятно, что тоска овладела Иваном в год смерти отца. Семнадцатилетний юноша тяжко душевно перенес эту утрату, но и спустя 4 года, после смерти незабвенного батюшки, тоска не разжимала своих удушливых объятий. И так всю жизнь. Тоска сквозит и в дневниках, и в письмах, и в литературных произведениях Тургенева. Скука одолевает писателя. Даже первая тетрадь «Дневника» озаглавлена «Моя скука». М. О. Гершензон пишет: «он не видит в мире ничего светлого, ничего утешительного; жизнь кажется ему юдолью страданий, царством бессмысленной и жестокой случайности. Человек терпит неисчислимые бедствия, его радость минутна, надежды обманчивы, и труды, и подвиги, и славу – все поглощает смерть».
Откуда эти мысли и чувствования у молодого, успешного и богатого барина? Может оттого, что в детстве он был нещадно сечен и с удовольствием без объяснения причин своей странной маменькой, жестокой крепостницей с превеликими барскими причудами. Так она одевала своих дворовых слуг в костюмы царских министров, дворецкого звала Бенкендорфом, заставляла крепостного флейтиста играть веселую мелодию при получении письма с красной печатью и печальную – при получении письма с черной печатью. Варвара Петровна (мать) держала в Спасском (родовом поместье) свою полицию из отставных солдат и даже женскую «тайную полицию» во главе с отвратительной старухой для пригляда за крепостными девками. Боясь холеры, велела смастерить стеклянный ящик, в котором на носилках обозревала свои владения. За малейшие провинности секла крепостных парней и девок. Сам Тургенев говорит: «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, щипки, колотушки, пощечины и прочее».
Да только ли матушка была странной, ведь и родной брат отца А. Н. Тургенев был странен донельзя, и кроме всего, страдал эпилепсией, а двоюродный брат – спился.
Но может быть, виной нескончаемой меланхолии послужили какие-то, невнятно описываемые, болезни в детстве Ивана?
Писатель был уверен, что темя его с детства не совсем заросло и, что мозг его – на том месте, где небольшая впадина, – сверху прикрыт одною кожею. «Когда я еще был в пансионе, школьником», – говорил он, – «всякий раз, когда кто-нибудь из товарищей пальцем тыкал в темя, со мною делалась дурнота или головокружение, и так как детский возраст не знает жалости, то иные нарочно придавливали мне темя и заставляли меня чуть не падать в обморок» (Я. Полонский). А вот еще одно любопытное свидетельство уже самого писателя. «Ростом я был в 15 лет не выше семилетнего. Затем совершилась изумительная перемена после 15 лет. Я заболел. Со мной сделалась страшная слабость во всем теле; лишился сна, ничего не ел, и когда выздоровел, то сразу вырос, чуть ли не на целый аршин. Одновременно с этим совершилось и духовное перерождение. Прежде я знать не знал, что такое поэзия; а тут математику с меня точно сдуло, я начал мечтать и пописывать стихи» (Д. Садовников).
Уже юношей Тургенев обращал внимание современников на некоторые странности в поведении.
Н. В. Станкевич предостерегал своих приятелей в Москве не судить о Тургеневе по первому впечатлению. Он соглашался, что Тургенев неловок, мешковат физически и психически, часто досаден, но он подметил в нем признаки ума и даровности, которые способны обновлять людей» (П. Анненков).
Несколько лет спустя И. Панаев описывает Тургенева совсем не так: «Я встречал… довольно часто на Невском проспекте очень красивого и видного молодого человека с лорнетом в глазу, с джентльменскими манерами, слегка, отзывавшимися фатовством. Я думал, что это какой-нибудь богатый и светский юноша – и был очень удивлен, когда узнал, что это Тургенев».
Ну, если мы коснулись портретной характеристики Ивана Сергеевича, что для психиатра-физиогномиста чрезвычайно небезынтересно, посмотрим на трансформацию внешнего облика писателя.
В период 1844–49 гг. – это высокий, широкоплечий юноша с полным красноватым лицом, завитыми черными волосами.
В обществе его не любили, считали фатом и воображалой. И. Гончаров при первом знакомстве с будущим писателем увидел позирующего, рисующегося франта, подражающего Онегину и Печорину, копирующего их стать и обычай. В то же время И. Гончарову облик Тургенева показался некрасивым – аляповатый нос, большой рот с несколько расплывшимися губами, и особенно подбородок. Все это придавало Тургеневу какое-то довольно скаредное выражение. Поражал более всего голос неровный, иногда писклявый, раздражительно-женский, иногда старческий и больной с шепелявым выговором. Зато глаза были очень выразительны, голова большая, но красивая, пропорциональная корпусу, и вообще все вместе представляло круглую рослую и эффективную фигуру. Волосы до плеч.
К. Леонтьев отмечает барски прекрасный профиль, холеные красивые руки, обворожительную улыбку. На B. C. Аксакову неприятное и противное впечатление произвели выражение глаз писателя Тургенева.
Она пишет, что писатель «может испытывать часто физические ощущения, а духовной стороны предмета он не в состоянии ни понять, ни почувствовать». Эти воспоминания относятся к 30–35 летнему писателю.
Много позднее Ги де Мопассан писал о Тургеневе, как о «настоящем колоссе с жестами ребенка, робкими и осторожными. Голос его звучал очень мягко и немного вяло, словно язык был слишком тяжел и с трудом двигался во рту…» Далее Мопассан вспоминает: «Это был человек простой, добрый и прямой до крайности. Он был обаятелен, как никто, предан, как теперь уже не умеют быть, и верен своим друзьям – умершим и живым».
П. Ковалевский дает такую портретную характеристику пятидесятилетнему писателю: «Наружность Тургенева была изящно-груба, барски-аляповата, в смысле старого настоящего барства, еще по-русски здорового, на приволье наследственных тысяч десятин и тысяч душ, мускульно развитого и только покрытого французским лаком».
«В предпоследний год жизни Тургенев предстает сгорбленным постаревшим, передвигавшимся с большим трудом, но с прежней чудной «русской головой» с тихой, как будто застывающей, застенчивой улыбкой, с усталыми, необыкновенно добрыми глазами, серыми, небольшими, но в которых мерцал какой-то странный, тихий свет» (А. Олсуфьева).
В год смерти (1883) – «худой, слабый, изнуренный, словно восьмидесятилетний старик. На руки его было страшно смотреть, нос был длинным, глаза впали. Круглое лицо тоже удлинилось, волосы поредели, пожелтели и сбились, голос еле можно было расслышать» (А. Островский).
Но вернемся к странностям писателя.
В период 1844–49 гг., когда Тургеневу было около тридцати лет, В. Белинский описывает какие-то припадки, которыми писатель страдает два раза в год: «У него делаются судороги в груди, он раздирает себе руки, плечи, грудь щетками до крови, трет, эти места одеколоном и облепляет горчичниками». Что это были за пароксизмы, каков был их характер в дальнейшем? Современники не упоминают об этом более.
В возрасте 25–30 лет Тургенев любил «школьничать», изображал на своем лице «зарницу или молнию».
«Фарс этот начинался легким миганием глаз, подергиванием и перекашиванием рта то в одну, то в другую сторону и это с такой неуловимой быстротой, что передать трудно, а когда начиналось изображение молнии, то уже вся его физиономия до того изменялась, что он был неузнаваем; все его личные (лицевые) мышцы приходили в такое быстрое и беспорядочное движение, что становилось страшно» (В. Колонтаева).
Он мог в гостях вскочить на подоконник и кричать петухом, то просил позволенья представить сумасшедшего, то драпировался в мантилью хозяйки дома, бегал по комнате, прыгал на окна, изображал страх чего-то, или страшный гнев (Н. Огарева-Тучкова).
Впоследствии свидетельница этого представления Н. Герцен писала: «Странный человек Тургенев! Часто глядя на него, мне кажется, что я вхожу в нежилую комнату – сырость на стенах, и проникает эта сырость в тебя насквозь: ни сесть, ни дотронуться, ни до чего не хочется, хочется выйти поскорей на свет, на тепло. А человек он хороший».
Но самая главная странность молодых и зрелых лет – это тоскливая меланхолия с изрядным присутствием ипохондризма.
Современники в своих воспоминаниях постоянно описывают различные хвори писателя, особенно те, где речь идет о каком-то урогенитальном заболевании, требующем каутеризации и бужирования мочеиспускательного канала. Видимо бурная и не очень разборчивая сексуальная жизнь писателя дала свои плоды. Многие годы Тургенев страдал каким-то заболеванием мочевого пузыря, которые врачи того времени называли «невралгией». Особенное обострение возникло в 1856–58 гг. Сам Тургенев говорит о том, что боль в пузыре порядком мешает. Л. Толстой в письме к В. Боткину пишет: «Они оба (Тургенев и Некрасов) блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь…Тургенева мнительность становится ужасной болезнью…» и в том же письме: «У Тургенева кажется, действительно сперматорея… он жалок ужасно». Вот эта мнительность, ипохондризм преследовал писателя до самой смерти. Мало того, в последние годы жизни присоединились и сенестопатии: «Тургенев часто объявлял, что он «очень болен» и всегда воображал в себе какие-то необыкновенные болезни: то у него внутри головы, в затылке что-то «сдирается», то точно «какие-то вилки выталкивают ему глаза» (НА. Островская).
За двадцать два года до смерти появился грозный симптом, свидетельствующий о крайнем неблагополучии в легочной системе – кровохарканье. Сам Тургенев пишет об этом в письме к А. Фету: «Что там не говори о моей мнительности, а я очень хорошо чувствую, что у меня в горле и груди неладно, кашель не проходит, кровь показывается раза два в неделю, я без намордника (сиречь респиратора) носа не могу показывать во двор». Вот когда появились эти страшные симптомы рака легких, сведшего Тургенева в могилу.
Но тоскливая меланхолия была главенствующей в психопатологическом портрете писателя. Страх смерти овладевал Тургеневым с юношеских лет.
Первый публичный приступ страха смерти, ставший затем предметом обсуждения и кривотолков в свете, случился в 1838 году во время пожара на пароходе, следовавшем из Петербурга в Любек. Тогда Тургенев бегал по палубе и, будто бы, кричал: «Не хочу умирать, спасите!». Мать в письме к сыну по этому поводу стыдит его за трусость, и что слухи об этом стыдном поведении распространились в обществе. По рассказам очевидцев Тургенев метался и вопил: «умереть таким молодым!».
Сам писатель говорит, что действительно испугаться пожара для девятнадцатилетнего юноши не было актом постыдным, а сплетни пусть остаются на совести их распространяющих.
В последующем таких острых фобических переживаний в биографии Тургенева мы не находили, но меланхолия остается.
В 1848 году в Париже Тургенев описывает жестокий приступ тоски, когда он не знал, куда себя деть и чтобы прекратить это мучительное состояние соорудил из шторы колпак, натянул его на голову и, простояв некоторое время «носом в угол», почувствовал облегчение и даже веселость.
П. Анненков вспоминает, что уже с 1857 Тургенев стал думать о смерти и развивал эту думу в течение 26 лет до 1883 года, когда смерть действительно пришла. В то же время писатель сам оставался все время, с малыми перерывами, совершенно бодрым и здоровым. Однако депрессивные ноты постоянно звучат в письмах Тургенева. Так в 1861 г. он пишет Е. Е. Ламберт: «На днях мое сердце умерло… Прошедшее отделилось от меня окончательно, но, расставшись с ним, я увидел, что у меня ничего не осталось, что вся моя жизнь отделилась вместе с ним. Тяжело мне было, но я скоро окаменел». В письме П. Анненкову в 1862 г.: «Как я состарился, отяжелел и опустился! Последние 15 лет промелькнули как сон: я никак не могу понять, каким образом мне вдруг стало 43 года, и как это я очутился каким-то чужим почти мне самому стариком…» В 1878 году Тургенев описывает свое состояние, квалифицируемое старыми психиатрами, как «anaesthaesia psychica dolorosa»: «Я… застываю и затягиваюсь пленкой, как горшок с топленым салом, выставленный на холод; всякой тревоге был бы рад – да что! Не тревожится душа уже нечем».
Б. М. Эйхенбаум высказывает мнение, что грусть и тоска, пронизывающие письма Тургенева не более чем актерство: «Он говорит очень грустные слова и трагические слова, но так, как говорит актер, произносящий монолог в публику, или так, как ведут интимную беседу в светском салоне – рисуясь своей грустью; кокетничая ею, как своим салонным амплуа». В переписке с графиней Е. Е. Ламберт в 1850–60 гг. Эйхенбаум находит образчики салонно-аристократического стиля, который был бы неуместен в письмах к Анненкову и Некрасову. «Ах, графиня, какая глупая вещь – потребность счастья, когда уже веры в счастье нет (1856), «Или это только так кажется, а уже ничего нового, неожиданного жизнь мне представить не может, кроме смерти (1859). «И притом мы все осуждены на смерть… Какого еще хотеть трагического». Можно, конечно, согласиться с Эйхенбаумом о кокетливости и нарочитости трагизма Тургенева, в письмах к светской красавице, в которую писатель был влюблен. А как же тогда отнестись к дневниковой записи Тургенева 1877 года, адресованной самому себе, как не о действительных чувствованиях писателя: «Полночь. Сижу за своим столом, а на душе у меня темнее темной ночи. Могила словно торопится проглотить меня; как миг какой-то пролетает день пустой, бесцельный, безответный. Смотришь, опять валюсь в постель. Ни права жить, ни охоты нет: делать больше нечего. Нечего ожидать и нечего даже желать». Вот вам и кокетство, вот вам и актерство! Депрессивный крик души – вот что это такое!
В 1874–75 гг. у Тургенева возникают периоды галлюцинаторных переживаний. То он видит, как муж Виардо Луи моет в туалете руки, а войдя в столовую, находит его на своем обычном месте, то приятель-брюнет на миг перевоплощается в седого старика, то при солнечном свете появляется женщина в коричневом капоре.
Тургенева посещал этот фантом несколько раз, причем «привидение» заговаривало с ним по-французски. В Лондоне в доме у пастора он «видел» через кожу и мясо домочадцев кости и череп. «Скелеты» преследовали Тургенева несколько месяцев. За полгода до мучительной кончины писатель испытывает зрительные галлюцинации, говорит, что его отравили, просит у врача яду, а у Мопассана револьвер, чтобы уйти от невыносимых мучений.
Мы проанализируем в конце главы описанную феноменологию с психиатрической точки зрения.
Но ведь в творческой жизни Тургенева есть еще одна большая загадка, не дававшая современникам писателя покоя, да и у ныне живущих исследователей, вызывающая жгучий интерес.
Речь идет о, так называемых, «таинственных повестях».
Вышли в свет эти произведения в период с 1864 по 1883 гг. Они посвящены описанию таинственных происшествий, сновидений, иррациональных состояний героев, необъяснимых поступков, ощущений, настроения. В них рисуются мир и душевные движения неподвластные рассудку и труднообъяснимые рациональным путем.
Вот эти произведения: «Призраки» (1864 г.), «Довольно» (1865 г.), «Собака» (1866 г.), «История лейтенанта Ергунова» (1870 г.), «Стук…Стук… Стук!» (1871 г.), «Часы» (1876 г.), «Сон», «Рассказ отца Алексея» (1877 г.), «Песнь торжествующей любви» (1881 г.), «Клара Милич» (1883 г.).
Как оценивать эти произведения? Как художественную фантазию мастера слова или как описание собственных переживаний автора? В 1862 г. в письме к П. В. Анненкову Тургенев пишет: «Чувствую, что теперь в течение года могу писать только сказки… Сказками я называю личные, как бы лирические «штуки» вроде «Первой любви». Повесть «Призраки» Тургенев называл фантазией.
В. Боткин считал, что «Призраки» – это аллегория чего-то внутреннего, личного, тяжелого, глубокого и неразрешимого».
О рассказе «Довольно» Тургенев писал, что «в нем выражены такие личные воспоминания и впечатления, делиться которыми с публикой не было никакой нужды». И все же писатель поделился с читателями своими личными переживаниями. Ведь сюжеты своих произведений писатель брал из реальной жизни и «никогда не покушался» создавать художественные образы, не имея «отправной точки» в окружающей действительности. Известный русский психиатр В. Чиж в работе, посвященной психопатологическому анализу «таинственных» произведений Тургенева, считает, что писатель «мог черпать материалы для своих произведений и в собственной фантазии, и в собственных наблюдениях». Профессор скромно недоговаривает, о каких собственных наблюдениях Тургенева идет речь? Писатель разве служил в психиатрической лечебнице, или имел длительное общение с душевно-больными? Откуда же, по мнению В. Чижа, эта «неподражаемая точность и полная правдивость в изображении ненормальных психических явлений?»
Некоторые исследователи (Л. Н. Осьмакова) полагают, что интерес Тургенева к таинственным явлениям человеческой психики, следствием чего и появились «странные» произведения, случился в период шестидесятых-семидесятых годов XIX века, на который пришелся расцвет интереса к естествознанию, медицине, экспериментальной физиологии и психологии. Писатель посещал лекции известного нейрофизиолога Сеченова, лечился у французского психиатра-невролога Шарко с которым вел продолжительные беседы на психиатрические темы. Но что-то подтолкнуло писателя проявить свой интерес к тайнам разума и безумия? Не свой ли собственный опыт психопатологических переживаний?
Возьмем для анализа только некоторые произведения. Не будем подробно останавливаться на «Странной истории», где речь идет о дворянской девушке, сбежавшей из семьи с «божьим человеком» (шизофреником), на произведении «Рассказ отца Алексея» с классическим описанием развития прогредиентной шизофрении, на рассказе «Отчаянный», где прообразом спившегося помещика, ставшего бродягой с жаждой самоистребления, тоски и неудовлетворенности, послужил двоюродный брат писателя – Алексей Тургенев, а остановимся на трех программных произведениях: «Призраки», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич». В этих произведениях наиболее полно отражены психопатологические переживания писателя.
В самом первом произведении «Призраки», законченном в 1864 году, когда писателю было 46 лет, Тургенев описывает полеты над землей с таинственной девушкой Эллис, будто бы когда-то ранее им виденной. Полеты происходили в течение 3 дней, днем же автор мог спокойно работать. Эллис явилась в первую ночь, возникнув из пятна лунного света на полу. «Она показалась вся, как бы соткана из полупрозрачного молочного тумана – сквозь ее лицо мне виделась ветка, тихо колеблемая ветром, только волосы да глаза чуть-чуть чернели, да на одном из пальцев рук блистало бледным золотом узкое кольцо». С Эллис автор летал над Италией, видел Рим, вызывал Юлия Цезаря, слышал крики легионов, ощущал запах померанцев, видел красавицу и слышал ее пение.
Над островом Уайт бушевало грозное, разъяренное море, оно вздымало, яростные волны и производило шум, плеск, визг, скрежет. Он чувствовал при полете вытье, свист ветра в волосах.
В дальнейшем полет происходил над Волгой – он слышал пение, видел миганье огоньков, барки, берега реки. Видел, как после крика «Сарынь на Кичку», на него шел Степан Тимофеевич Разин. Полеты происходили и над Парижем, Германией, Петербургом. Он ощущал поцелуй Эллис как «мягкое тупое жало».
Затем возникло ощущение непреодолимого ужаса – надвигалось нечто.
«Это Нечто было тем страшнее, что не имело определенного образа. Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы – не туча, не дым, медленно, змеиным движением, двигалось над землей… Теплым, тлетворным холодком несло от нее – от этого холодка тошнило на сердце и в глазах темнело, и волосы становились дыбом… Эллис в ужасе вопила, полет превращался в кувыркание. За ними тянулись отделившиеся от ужаса «длинные волнистые отпрыски», словно протянутые руки, словно когти… Громадный образ закутанной фигуры на бледном коне (Апокалипсис? – В. Г.) мгновенно встал и взвился под самое небо».
Автор лишился чувств, а когда очнулся, увидел возле себя живую Эллис, которая подарила ему предсмертный поцелуй с «кровяным запахом». «Прощай, прощай на век», – сказала она – и все исчезло. После пережитого болезнь стала подтачивать автора этой исповеди, болела грудь, кашель, бессонница, все тело высохло, лицо стало желтым, как у мертвеца, но еще долго при разговоре о смерти появлялись пронзительно чистые и острые звуки. «Они становятся все громче, все пронзитель ней…и зачем я так мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожестве», – заканчивает автор свое фантастическое переживание.
В «Песне торжествующей любви», написанной за год до смерти, Тургенев живописует некий «любовный треугольник», возникший между двумя друзьями Фабием, Муцием и красавицей Валерией. Девушка предпочла Фабия, а Муций уехал скитаться по восточным странам. Вернувшись через несколько лет, он приемами колдовства, гипноза и игре на «волшебной флейте» «Песни торжествующей любви» доводил Валерию до состояния сомнамбулического транса, и сам впадал в него. Фабий, не вынеся мук ревности, заколол Муция кинжалом, но магические заклинания слуги-малайца воскресили Муция, после чего он не простившись, уехал. Фабий и Валерия зажили счастливо, но вдруг однажды Валерия, играя на органе, поняла, что из под ее пальцев льются звуки «Песни торжествующей любви» и почувствовала трепет новой зарождающейся жизни.
Вот таков сюжет. Как будто не очень странный, если не считать мистических откровений автора, но поражает здесь мастерское описание сомнамбулической стадии гипноза.
Жуткое впечатление произвела на читателей середины 70 годов XIX века повесть «Клара Милич», последнее произведение писателя, законченное за несколько месяцев до его смерти. Это сейчас, когда литература и телевидение заполнены чудовищными монстрами, вампирами всех мастей во главе с его сиятельством графом Дракулой и милым юношей Франкенштейном, когда привидения уничтожаются из огнеметов, то предсмертное произведение Тургенева можно сравнить с доброй сказкой про домового.
О чем же речь?
Молодому человеку Аратову на одном балу приглянулась девушка Клара Милич, талантливая актриса (чем-то по облику похожая на возлюбленную Тургенева Полину Виардо), с которой Аратов обменялся пламенным взглядом. Через некоторое время он получил от Клары записку, где ему назначалось свидание. Клара объяснилась Аратову в любви, а он поступил с ней также как Онегин с Татьяной. Вскоре Клара, обманувшись в лучших чувствах, прямо в театре во время представления приняла смертельный яд. В дневнике актрисы Аратов нашел записи о себе, о том, что он должен был спасти Клару. С тех пор чувство вины перед Кларой не оставляло Аратова. Актриса ежедневно стала появляться перед ним, но не во сне. Аратов слышал ее голос, чувствовал прикосновение. В предпоследнюю перед смертью Аратова ночь Клара его поцеловала. На смертном одре Аратов бормотал о заключенном с Кларой браке, о том, что теперь знает, что такое наслаждение.
Тетке, ухаживавшей за ним, он сказал перед смертью: «да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти? Смерть, смерть, где жало твое? Не плакать, а радоваться должно, так же как и я радуюсь!»
Мое простое и несколько примитивное изложение «странных», «таинственных» произведений Тургенева заняло довольно много места, но это было необходимо для более полного психопатологического анализа.
И. С. Тургенев предстает перед психиатрическим взором как личность с мозаичным складом характера.
Стержневым синдромом является депрессия с ипохондрическими и фобическими переживаниями, проходящая красной нитью через всю жизнь писателя; кроме того, мы наблюдаем также истероидные черты – актерство, демонстрации, фатовство, кокетливость, предпочтительно проявляющиеся в дамском обществе. Все это, несомненно. Но что же это за зрительные и слуховые галлюцинации, особенно преследовавшие писателя за несколько лет до смерти и детально описанные в его «странных» произведениях.
Ведь зрительный галлюциноз – это проявление никак не эндогенного заболевания, а заболевания экзогенно-органического. Вспомним о том, что у Тургенева с малых лет и до конца его дней, теменная область мозга (большой родничок) была закрыта только апоневрозом и кожей. Даже в 1881 г. он говорит Я. Полонскому: «Да и какой ждать от меня силы воли, когда до сих пор даже череп мой срастись, не мог. Не мешало бы мне завещать его в музей академии. Чего тут ждать, когда на самом темени провал. Приложи ладонь – и ты увидишь». А в детские годы, даже случайное прикосновение к темени вызывало обморок и конвульсии. А что это был за приступ в 12 летнем возрасте, из которого писатель вышел обновленным, что это были за состояния, когда у писателя во время «актерства» искажалось лицо, подергивались лицевые мышцы, рот вело набок и чуть ли не судороги взора появлялись? А В. Белинский описывает пароксизмы – «припадки», сопровождавшиеся судорогами в груди, расчесавшем тело до крови, происходящие на фоне ясного сознания. Кроме того, описываются приступы «мигрени», заставлявшие писателя использовать нюхательную соль. Сам он отмечает – что бывают состояния, когда в «затылке что-то сдирается», будто бы «вилками выталкиваются глаза», обонятельные галлюцинации тоже имели место, так он говорил Э. Гонкуру: «Знаете, в комнате иногда бывает едва заметный запах мускуса, которого никак нельзя выветрить, истребить…ну вот вокруг меня есть какой-то запах смерти, уничтожения, разложения».
В 1863–1864 годах Тургенев перенес четко очерченный онейроидный синдром, ярко описанный в «Призраках».
Онейроидный синдром (БМЭ, 1961, т. 21) – разновидность нерезкого сновидного помрачения сознания, характеризующийся яркими видениями и обильными фантастическими переживаниями. Впервые описан Майер-Гроссом в 1924 году.
Переживания, в которых действующим лицом является сам больной, сопровождаются отрывочными бредовыми толкованиями. Они нередко усложняются иллюзиями, императивными галлюцинациями и психосенсорными нарушениями.
Больные созерцают себя в этих видениях будто бы со стороны. Они являются свидетелями каких-то чудовищных катаклизмов на Земле и в иных мирах, путешествуют во времени, летают над Землей и в Космосе, перед ними разворачиваются панорамические картины прошлого, исторические битвы, вторжение марсиан и других иногалактических пришельцев. Больной производит впечатление человека, погруженного в состояние экстаза, экзальтации. Психомоторное возбуждение проявляется редко, чаще всего это слабая попытка бежать, наблюдается вздрагивание. На лице у него в это время легкая гримаса испуга, вскоре сменяющаяся зачарованно-блаженной маской и легкой эйфорией. Сознание сужается, но в контакт больной вступает, иногда после легкого тормошения и вновь погружается в свои сновидные грезы. Иногда онейроид носит осциллирующий характер и тогда обозначается как ониризм. При таком течении синдрома больной может ночью испытывать описанные психопатологические переживания, а днем сохраняет трудоспособность и контактирует с окружающими.
Так может продолжаться от нескольких дней, до нескольких недель.
Не это ли испытывал спутник Эллис (seu автор)?
Зрительные галлюцинации описываются Тургеневым и в «Песне торжествующей любви», и в «Кларе Миллич».
В конце своей жизни писатель «видел» скелеты, незнакомых женщин, двойников своих знакомых, причем на фоне ясного сознания.
Если мы обратимся к Большой медицинской энциклопедии, то там, в статье «Галлюцинации» (1961, т. 6) мы увидим описание т. н. педункулярного галлюциноза, проявляющегося зрительными галлюцинациями. Чаще зрительные образы возникают с наступлением сумерек, но могут появляться и днем – это многочисленные ярко окрашенные подвижные фигуры людей и животных иногда сочетающиеся с элементарными слуховыми и обонятельными галлюцинациями. Могут также наблюдаться и состояния ониризма. Синдром педункулярного галлюциноза описан впервые Лермиттом в 1951 году.
Если онейроидный синдром может входить в структуру кататонической шизофрении, так же, как и является проявлением экзогенно-органических психозов (органические, травматические, сосудистые, инфекционные и интоксикационные заболевания головного мозга), то педункулярный галлюциноз – это патогномоничный синдром для органического поражения ножек мозга. Зрительные галлюцинации могут возникать и при поражении затылочной области мозга.
Исходя из клинического описания продуктивных психопатологических симптомов, имевших место в течение жизни И. С. Тургенева, можно полагать наличие у него органического процесса в головном мозге (Гидроцефалия? Объемный процесс?), протекавшего благоприятно и обострившегося в последние годы жизни писателя.
Когда после смерти И. С. Тургенева, Поль Бер и Поль Реклю (хирург) взвесили его мозг, то они нашли, что он до такой степени превосходит весом наиболее тяжелый из известных мозгов, именно Кювье, что не поверили своим весам и достали новые, чтобы проверить себя.
А мозг И. Тургенева имел вес 2012 г., что почти на 600 г. веса среднего человека.
Вот – на этом мы и закончили психопатологический анализ гениального русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
Литература
1. Богданов Н., Каликинская Е. Загадка мозга Тургенева // Наука и жизнь. 2000. № 11. С. 35–38.
2. Гершензон М. О. Избранное. Т. 3. Образы прошлого. М., 2000.
3. Григорович Д. В. Литературные воспоминания, М., 1961.
4. Зайцев Б. К. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5 Жизнь Тургенева. М., 1999–2000.
5. Мопассан Ги де. Иван Тургенев. М., 1957.
6. Новикова В. Г. Лирические повести И. С. Тургенева // Проблемы метода и жанра. Томск, 1986. С. 186–206.
7. Осьмакова Л. Н. «Таинственные повести» и рассказы И. С. Тургенева // Филологические науки. 1984. № 1. С. 9–24.
8. Островский А. Г. Тургенев в записках современников. М.: Аграф, 1999.
9. Панаева А. Я. Воспоминания, М., 1986.
10. Плессо Г. И. Депрессия Тургенева с свете психоанализа // Клинич. архив гениальности и одаренности. Л., 1928. Т.4. Вып. 3. С. 55–66.
11. Руднев В. И. Психологический анализ «Призраков» Тургенева // Клинический архив гениальности и одаренности. Л., 1928. Т. 4. Вып. 3. С. 23–33.
12. Тургенев И. С. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1958. Т. 7, 8, 12.
13. Топоров В. Н. Странный Тургенев. М., 1998.
14. Чиж В. Ф. И. С. Тургенев как психопатолог// Болезнь Гоголя. М, 2002. С. 204–286.
Персоналии
1. Анненков П. В. – литературный критик, друг Тургенева.
2. Аксаков И. С. – русский поэт, публицист и общественный деятель.
3. Белинский В. Г. – литературный критик.
4. Боткин В. П. – русский литературный и музыкальный критик, переводчик.
5. Виардо Луи – французский критик, литератор, переводчик, муж П. Виардо.
6. Гонкур Эдмонд де – французский писатель и эстетик.
7. Гончаров И. А. – русский писатель.
8. Герцен Наталья А. – жена А. И. Герцена.
9. Ковалевский П. И. – поэт, беллетрист.
10. Ламберт Е. Е. – графиня, возлюбленная Тургенева.
11. Леонтьев К. Н. – публицист и философ.
12. Мопассан Ги де – французский писатель.
13. Островский А. Н. – русский драматург.
14. Полонский Я. П. – один из близких друзей Тургенева, поэт.
15. Панаев ИИ – издатель журнала «Современник».
16. Станкевич Н. В. – русский философ, поэт, общественный деятель.
17. Сеченов И. М. – русский нейрофизиолог, невролог.
18. Фет А. А. – русский поэт, друг Тургенева.
19. Чиж В. Ф. – профессор-психиатр Тартуского университета.
20. Шарко Ж. М. – французский невролог, психиатр, физиолог.
21. Эйхенбаум Г. М. – русский литературный критик, исследователь творчества Тургенева.
Глава VI Morbus sacer[4] и «подполье» сумрачного гения
«…Человек от настоящего страдания, т. е. от разрушения и хаоса, никогда не откажется»
«Ну-с, вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается, наконец наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия»
Ф. Достоевский. Записки из подполья.1. Morbus sacer
Если спросить любого старшеклассника, какой болезнью был болен русский писатель Ф. Достоевский, вам с уверенностью ответят – эпилепсией. Многие десятилетия советское литературоведение и идеология стыдливо замалчивали факт психической болезни великого писателя. В 50-е годы 20 века Достоевского в школьных программах не существовало, а когда был снят запрет на творчество писателя, то публиковались только хвалебные рецензии и панегирики.
А между тем Федор Михайлович был тяжело психически болен.
Исследованием психического здоровья и психопатологии его творчества занимались такие корифеи психиатрии как Ломброзо, Кречмер, а Фрейд сказал, что без «Братьев Карамазовых» не родился бы психоанализ.
Все без исключения исследователи и зарубежные, и советские приходят к единственному утверждению, что у писателя имел место пароксизмальный синдром, проявлявшийся не только в судорожных приступах, но и в психических эквивалентах (сумеречные расстройства сознания) и в патологии личности.
Сибирские психиатры М. Г. Усов и В. Г. Аксенов, проанализировав материалы, находящиеся в Омском областном архиве, пришли к заключению, что Достоевский страдал именно эпилепсией в классической форме. Их диагноз гласит: фокальная идиопатическая эпилепсия с височно-долевой локализацией эпилептического очага, частыми полиморфными пароксизмами, острыми психозами (дисфории, сумеречные расстройства сознания), выраженными изменениями личности комбинированного типа (эпилептоидные, психастенические, истерические черты), снижением памяти и изменениями мышления при высоком интеллекте. Вот такой диагноз. Но вычленим из этого диагноза основное – идиопатическая (с невыясненной этиологией) эпилепсия.
Другие исследователи, признавая у Достоевского облигатные проявления судорожного синдрома, ставят под сомнение идиопатический характер эпилепсии, тем самым, опровергая суждение сибирских коллег. Так, профессор И. Д. Ермаков, умерший в 1942 году в тюрьме НКВД, ученик профессора В. П. Сербского в работе своей, опубликованной в 20-х годах 20 века, пишет, что Достоевский страдал болезнью, похожую на эпилепсию, которая, однако, не была эпилепсией. Слишком много имеется симптомов болезни Достоевского, указывающих на истерию. А вот еще одно заключение О. Н. Кузнецова и В. И. Лебедева, которое можно отнести к области заоблачной фантастики. Они предполагают, что Достоевский болел симптоматической эпилепсией при последствиях легко протекающего органического заболевания головного мозга, сопровождающейся пограничными психическими расстройствами невротического уровня. Какое органическое поражение головного мозга? Какие такие невротические расстройства? Об этом авторы ничего не говорят. Остается только гадать. Н. Моисеева считает, что диагноз эпилепсии это врачебная ошибка, совершенная умышленно, а психопатологические переживания писателя не что иное, как его выдумка. Приведем дословно, сформулированное этим исследователем заключение о болезни Достоевского: «Сосудистые кризы, связанные с переменой погоды и волнением, и, выражающиеся в интенсивной головной боли, и потери сознания. Припадки являются следствием общего заболевания типа генерализованного васкулита с поражением сосудов головного мозга, сердца, желудочно-кишечного тракта, мышечной системы и кожи, а также легочных сосудов, поражение которых явилось непосредственной причиной смерти».
Не слабо? Как и в психиатрическом заключении, вместившем в себя, почти всю психопатологию, так и в непсихиатрическом заключении свалена в кучу соматическая патология. Поди, теперь, разберись, была ли эпилепсия у писателя, или он страдал истерией, а быть может это, были сосудистые кризы? Но попытаемся разобраться. Начнем, как водится, с наследственности.
Отец Достоевского страдал запоями, был патологически скуп, терроризировал домочадцев и крепостных крестьян, необоснованно ревновал жену. Братья Михаил и Николай унаследовали болезнь отца, сестра Варвара была настолько скупа, что покупала два раза в неделю молоко и хлеб и этим жила. Её сын был «так глуп, что его глупость граничила с идиотизмом». Мать Достоевского – женщина удивительной чистоты и благородства – умерла от чахотки, видимо, передав писателю по наследству слабость легочной системы. М. В. Волоцкий в 1933 году исследовал генеалогическое древо рода Достоевских и установил, что 329 предков в этой семье страдали психическими заболеваниями, из них 41 были больны эпилепсией. Сын Ф. Достоевского Алексей умер в 3-летнем возрасте во время судорожного припадка.
Писатель родился 30 октября 1821 года в Москве в семье ординатора Мариинской больницы для неимущих, бездомных, умалишенных и для брошенных детей. Детские и отроческие годы прошли у писателя на Божедомке рядом с кладбищем под впечатлением изуродованных жизнью и болезнью людей, детей никогда не знавших своих родителей, убожества и нищеты их быта. Вот, наверное, откуда были взяты литературные типажи, так достоверно обрисованные писателем. Точное время начала болезни Достоевского до сих пор остается неизвестным. Первый очень неясный психотический приступ наблюдался у писателя, когда ему было 10 лет. Он вдруг услышал «Голос», который говорил «Волки, волки!» при этом Федя испытал неимоверный ужас. В возрасте 16 лет после какого-то волнения Достоевский потерял дар речи (истерический мутизм?), с развившейся косноязыкостью, так что отцу пришлось изолировать мальчика от сверстников и через какое-то время эти явления исчезли.
Судорожные пароксизмы по разным источникам имеют временной интервал, чуть ли не в 10 лет.
Дочь писателя Любовь Федоровна свидетельствует, что первый судорожный припадок возник у писателя в 1839 году при известии о трагической смерти отца (он был удушен своими крепостными крестьянами в отместку за жестокое к ним отношение).
С. Д. Яновский – домашний врач семьи тоже относит возникновение пароксизмов к этому периоду. Тогда припадки были редкими и слабовыраженными. Чаще всего писатель жаловался на головные боли, галлюцинации, кошмарные сновидения с пожарами, убийствами, реками крови.
В 1847 г. друг Достоевского писатель Д. В. Григорович описывает припадок у Достоевского на улице, при встрече похоронной процессии. Особенно частые припадки начались у Достоевского с 1849 г. после осуждения его на каторгу по делу «петрашевцев». Такие припадки возникали по дороге в Тобольск, в камере Омского острога и чаще происходили в период душевного волнения (страх телесных наказаний, встреча после 4-летней разлуки с другом и др.). Припадки бывали обычно раз в 2–3 недели, но иногда часто и днем, и ночью, рано утром.
Временами Достоевский предчувствовал приближение припадка (аура) почему и называл свою болезнь «падучая с ветерком» принимая меры против падения и возможности ушибов. Иногда припадок возникал внезапно, так, что Достоевский падал, получая ушибы и даже ранения. В тюремной карте при поступлении в Омский острог есть отметка о рубце на лбу после такого падения. В 1866 году во время припадка писатель получил ранение правого глаза.
Н. Моисеева подсчитала, что за время болезни Достоевский перенес 400 припадков, и почти все они носили классический характер – grand mal с аурой экстатического характера и постприпадочными состояниями с оглушением, двигательной заторможенностью и дисфориями.
Почему же у писателя (к счастью) не возникли явления эпилептического слабоумия, а только некоторые расстройства памяти и внимания? Думается потому, что частые судорожные пароксизмы возникли у Достоевского поздно в возрасте 28 лет на фоне уже переданного ему по наследству отцом эпилептоидного склада характера.
Уже в молодом возрасте у Достоевского наблюдались характерные черты. В инженерном училище он оставался одиноким, чем заслужил репутацию нелюдимого чудака. Служа в инженерном департаменте, писатель продолжал вести жизнь отшельника. По свидетельству В. Г. Белинского уже в студенческие годы Достоевский был труден в общении с людьми до невозможности, с ним нельзя было быть в нормальных отношениях, он считал, что весь мир завидует ему и преследует его. С началом литературной деятельности у Достоевского появилось излишнее самомнение, он сравнивал себя с Пушкиным и Гоголем. Уже в ранних его романах проявляется обстоятельность, скрупулезность и детализация в описаниях своих героев. С 1849 года наступает период учащения припадков, и личность писателя обрастает все новыми и новыми чертами, характерными для эпилептоидной психопатии.
Впервые классическую эпилептоидную психопатию описали Ф. Минковская (1923 г.) и П. Б. Ганнушкин (1933 г.). Профессор М. Е. Бурно так рисует эпилептоидных психопатов – они прямолинейны, мышление вязковато, обстоятельно, трудно переключаемо. Они не понимают тонких шуток. Эпилептоид редко сомневается в своей правоте. Он склонен к сверхценным образованиям, здесь проявляется его повышенная подозрительность и паранойяльность. Эпилептоид накапливает в себе обиды, усиливается его напряженность, и вслед за этим наступают аффекты гнева, ярости.
В обыденной жизни эпилептоиды занудливы, склонны к порядку ради порядка, изводя этим до крайности своих близких.
Эпилептоидные психопаты часто большие чувственники в еде и сексе – любители изысканно поесть, сластолюбцы и сладострастники, стремятся к сексуальному разнообразию, перверсиям и даже к педофилии.
Не правда ли, что многие описываемые характерные для эпилептоидов черты были присущи и Достоевскому?
С другой стороны – это добрый, мягкий, отзывчивый человек, жалостливый к «униженным и оскорбленным».
А дома – жестокий деспот. «Отличительная черта патологических характеров, – пишет Д. Е. Мелехов – «выраженная полярность, противоречивость проявлений отражается в его (Достоевского) жизни и творчестве необычайно ярко. Амплитуда колебаний необычайная…Периоды безудержного влечения к азартной игре в рулетку, приступы дикого гнева, когда он, по его словам «способен убить человека» и периоды горького раскаяния и самоунижения. Периоды творческого подъема и периоды упадка, наступающие после припадков, которые его «добивают окончательно», состояния высокого подъема, счастья, озарения, проникновения «в иные миры» в утренние часы и в дни после припадков».
Эти 400 припадков, конечно, наложили страшную печать на личность гения. Ю. Айхенвальд пишет: «Он воплощает собой ночь русской литературы, полную тягостных призраков и сумбурных видений. – Ночь объяла Достоевского, и страшно грезил и безумно бредил этот одержимый дух».
Возвращаясь к диагностике психической болезни писателя мы разделяем мнение профессора Д. Е. Мелехова о том, что у Достоевского была смешанная форма эпилепсии (истеро-эпилепсия – курс. В. Г.). Старые психиатры называли эту разновидность пароксизмального синдрома «аффективной эпилепсией Крепелина». Знаменитый ученик академика И. П. Павлова – А. Г. Иванов-Смоленский так объяснял своему учителю суть этого понятия: «…Это та эпилепсия, при которой судорожный припадок вызывается ссорой, неприятностью, волнением и т. д.». Г. Гессе, не будучи психиатром писал, что Достоевский «…был истериком, почти эпилептиком».
Умер Федор Михайлович неожиданно. Еще 25 января он работал в типографии, заканчивая печатание очередного номера «Дневника писателя». 26 января начавшееся кровохарканье, а затем и легочное кровотечение были врачами остановлены. 28 января вечером кровотечение возобновилось с новой силой, и писатель умер в 7 часов 38 минут 28 января 1881 г.
Как считают интернисты, смерть Достоевского наступила вследствие разрыва аневризмы легочной артерии или вследствие аспирации обильным количеством крови.
Провидческий сон Достоевского в июне 1870 г., когда он увидел отца, который сказал, показывая на грудь сына, под правым соском: «у тебя все хорошо, но здесь очень худо. Нервы не расстроены» – сбылся. И это еще одна загадка в череде множества других на жизненном пути «судорожного писателя».
2. Портрет
Опытные психиатры часто ставят диагноз своим пациентам по выражению лица, мимике, артикуляции, особенностям идеомоторики. Болезнь любая, а тем более психическая, накладывает неизгладимый отпечаток на внешний облик больного. Как же выглядел и как же вел себя великий писатель?
Предоставим слово исследователю творчества Ф. М. Достоевского Игорю Гарину.
«Самый необычный из всех типов русской интеллигенции – человек из подполья, – с губами, искривленными вечной судорогой злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру, с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой Федор Михайлович Достоевский…» (Д. С. Мережковский)
«Его называли сумасшедшим, маньяком, отступником, изменником, приглашали даже публику посмотреть портрет Достоевского работы Перова как прямое доказательство, что это сумасшедший человек, место которого в доме умалишенных» (В. С. Соловьев).
«Его глубоко посаженные глаза и сведенное судорогой лицо с первого взгляда свидетельствовали о том, что перед нами мятущийся гений, перенесший долгие испытания» (Луи Леже).
«Взгляните в лицо Достоевского, наполовину лицо русского крестьянина, наполовину – физиономия преступника, плоский нос, маленькие бурящие глаза под веками, дрожащими от нервозности, этот большой пластически вылепленный рот, который говорит о бесчисленных муках, о глубокой, как пропасть скорби, о нездоровых страстях, о бесконечном сожалении и страстной зависти» (Георг Брандес).
Когда какая-нибудь мысль приводила его в гнев, то вы готовы были поклясться, что встречали эту физиономию на скамье подсудимых или среди бродяг, просящих милостыню у ворот тюрьмы (Э. М. де Вогюэ).
Эти высказывания невольно вызывают в памяти теорию небезызвестного Чезаре Ломброзо.
Но Достоевский рисуется и другим:
«Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня – вчера умер кто-либо из близких сердцу; человека; которого поразила какая-нибудь страшная беда» (А. Г. Достоевская).
«Это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной духовной жизни. Замечалось в нем и много болезненного – кожа была тонкая, бледная, будто восковая» (В. С. Соловьев).
«Это был очень бледный – землистой, болезненной бледностью – немолодой, очень усталый или больной человек с мрачным, изнуренным лицом…» (В. В. Тимофеева).
«Его проницательные небольшие серые глаза пронизывали слушателя. В этих глазах всегда отражалось добродушие, но иногда они начинали сверкать каким-то затаенным, злобным светом» (Н. Н. Фон-Фохт).
«Как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое лицо, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно-замкнутым очертанием тонких губ, – оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым сознанием своей власти…Это было не доброе, и не злое лицо» (В. В. Тимофеева).
«Роста он был ниже среднего, кости имел широкие, голову пропорциональную с очень развитым лбом, глаза небольшие светло-серые, и чрезвычайно живые; губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были совсем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие» (С. Д. Яновский).
Так, где же настоящий Достоевский? С одной стороны чуть ли не врожденный преступник, с другой – страдалец, вызывающий жалость у окружающих, с третьей – глубинный мыслитель, «…пловец страшных человеческих глубин, провидец тьмы, рудокоп души» (Ю. Айхенвальд).
Вот в этом-то и заключается полифония характера писателя, своеобразного мозаичного панно.
Да и каждый свидетель, рисуя портрет Достоевского, вносил свои, особенной краскою светящиеся, недобрые или восторженные мазки.
Святой и грешный – таков образ Достоевского и больше к этому прибавить нечего.
Теперь следовало хотя бы коснуться психопатологической симптоматики персонажей произведений Достоевского.
Профессор В. Ф. Чиж пишет: «…обращает внимание, что Достоевский описал большее количество душевно-больных, чем какой-либо другой художник в мире».
Из более ста персонажей, по мнению В. Чижа, сколько-нибудь очерченных у Достоевского, более четверти – душевно-больные; такого соотношения нельзя найти ни у кого.
Разнообразные проявления эпилепсии описаны у Нелли («Униженные и оскорбленные»), Мышкина («Идиот»), Кириллова («Бесы»), Смердякова («Братья Карамазовы»).
Создавая свои произведения, Достоевский в то время еще не имел понятия ни о психопатиях, ни об акцентуациях характера. Но мастерский рисунок патологических характеров своих персонажей легко уложился в рамки теории К. Леонгарда об акцентуированных личностях впервые описанных им только в 1964 году.
В большой по объему классификации К. Леонгарда мы найдем эмотивных (Соня Мармеладова), гипертимических (Катерина Осиповна из «Братьев Карамазовых»), аффективно-лабильных (Разумихин – друг Раскольникова), экзальтированных (Катерина Ивановна из «Братьев Карамазовых»), демонстративных (Федор Павлович Карамазов), параноических (Раскольников, жена Мармеладова), возбудимых (Дмитрий Карамазов) и пр. пр.
Откуда это, предвосхитившее современную психиатрию, знание глубин человеческих характеров, писателя не знакомого даже поверхностно с теоретической психиатрией? И это еще одна загадка «сумрачного» писателя.
Справедливо пишет психиатр 30-х годов прошлого века В. И. Финкельштейн (цит. по О. Н. Кузнецову):
«Произведения Достоевского еще и поныне остаются настольной книгой русских психиатров, ибо даже самое тщательное изучение многотомных трудов корифеев мировой психиатрии, давших добросовестное, но сухое описание психопатологических форм и состояний, ни в коей мере не сможет заменить изучение трагических образов Достоевского, этой непревзойденной ценности в познании человеческой души».
3. «Подполье»
Когда умер Достоевский, Зигмунду Фрейду было 26 лет и ничто не предвещало, что молодой доктор медицины через 20 лет совершит открытие, потрясшее лучшие умы Старого и Нового света – открытие психоанализа. Одним из краеугольных камней этого учения является трехкомпонентная модель личности человека. Выглядит она так – Сверх Я, Я, Оно (супер Эго, Эго, Ид). «Сверх Я» – это надстройка общественно-социальная, «Я» – это сама личность, ее ядро, и «Оно» – глубинное, темное, подсознательное, задавленное «Сверх Я» и «Я» и только иногда прорывающееся в сознание при определенных состояниях человеческой психики.
Вот это самое «Оно» Достоевский назвал «подпольем», предвосхитив тем самым идеи творца психоанализа. Нарисовано это подполье особенно ярко в «Записках из подполья», да и в других произведениях («Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» и др.).
Достоевский описывал «подполье» как вместилище всех человеческих пороков, все самое гнусное, мерзкое отвратительное, что есть в человеке – зависть, жадность, ревность, прелюбодеяние, страсть к мучительству, извращенная похотливость – «все семь смертных грехов», покоящиеся до поры – до времени на темном дне погреба и вырывающиеся иногда наружу, сея смерть, разрушения, унижая и оскорбляя слабых, растлевая детей, бросая людей в волны смрадного разврата.
Да и не понаслышке знал об этом «сумрачный гений», он сам прочувствовал и пережил заточение в этом подполье. А откуда бы иначе он мог знать тонкости грязных страстей, искушенного перверсного секса. Откуда? Да из собственного жизненного опыта и необузданных сексуальных фантазмов. Ведь все творчество писателя пропитано насквозь извращенной сексуальностью. Д. Мережковский пишет, что «рассматривая личность Достоевского, как человека, должно принять в расчет неодолимую потребность его, как художника, исследовать самые опасные и преступные бездны человеческого сердца преимущественно бездну сладострастия во всех его проявлениях, начиная от самого высшего одухотворенного, граничащего с религиозным восторгом – сладострастия «ангела» Алеши Карамазова, кончая сладострастием злого насекомого, «паучихи, пожирающей самца своего», – тут вся гамма, вся радуга переливов и оттенков этой самой таинственной из человеческих страстей, в её наиболее острых и болезненных извращениях».
Но, прежде всего, – это повышенная сексуальность писателя в молодые годы. В 1845 году Достоевский пишет брату о «Минушках, Кларушках, Маринах и т. п.», которые «похорошели донельзя, но стоят страшных денег. «На днях – пишет Достоевский – «Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь… Я болен нервами, и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно жить я не могу, до того я беспутен…»
Писатель говорил о себе самоунижительно: «А хуже всего то, что натура моя подлая и слишком страстная». А вот что выходит из уст «подпольного человека»: «Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившем в такие минуты до проклятия. Я уж и тогда носил в душе моей подполье».
Да и секс у Достоевского носит уничижительный, какой-то жалкий характер, оставляя за собой ощущения тягостного омерзения. «Мечты особенно слаще и сильнее приходили ко мне после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами», – так устами писателя говорит «подпольный человек».
А рассуждения о «соусе для развратика», состоящего из противоречия, страдания и мучительного внутреннего анализа, что придавало особую пикантность и даже смысл этому «развратику». Совсем другая картина нарисована Достоевским при свидании «подпольного человека» в доме терпимости с молоденькой проституткой Лизой. «Вспомнилось мне тоже, что в продолжении двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным; даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается».
Странен до жути, уродливо-вывернутый сексуальный мир Достоевского: «Из темных углов и «смрадных переулков» приходят женщины – грозные и несчастные, с издерганными душами, обольстительные, как горячие сновидения юноши. Страстно, как и сновидения, тянутся к ним издерганные мужчины. И начинаются болезненные, кошмарные конвульсии, которые называются здесь любовью» (В. Вересаев). Мы еще вернемся к описанию «подполья» Достоевского, еще более мрачных его картин.
А теперь перейдем к анализу собственной сексуальной жизни писателя. Мы уже кое-что знаем об этой стороне жизни Достоевского в докаторжный период.
Отбывая солдатскую службу в Семипалатинске, Достоевский знакомится с женой спившегося чиновника Марией Дмитриевной Исаевой. В ту пору молодой, образованной и привлекательной женщине было 29 лет. Писатель влюбился в нее безудержно, роман разгорелся нешуточный. Но вот беда, был у Марии еще один любовник – учитель Вергунов. Началась, как бы сейчас назвали, «любовь втроем». Мария не сдерживала своих чувств к учителю, рассказывала об этом Достоевскому, приводя бедного писателя в неописуемое бешенство, доводя его до рыданий.
В письме к АЕ. Врангелю в ноябре 1856 года Достоевский пишет о своей любви: «Люблю ее до безумия. Тоска моя с ней свела бы меня в гроб и буквально довела бы меня до самоубийства. Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь». После смерти мужа Марии влюбленные повенчались 6 февраля 1857 в Семипалатинске. Прожили Достоевские 7 лет. Мария болела чахоткой, и мужу приходилось уделять ей большое внимание, относясь к жене с нежностью состраданием и добросердием. Мария Дмитриевна умерла 14 апреля 1864 года.
Вот эти лихорадочные, бледные, порывистые и прекрасные женщины – Настасья Филипповна («Идиот»), Катерина Ивановна («Братья Карамазовы») и др. несут в себе зримые черты первой большой любви писателя.
Но вот еще при жизни жены в 1860 году Достоевский, после чтения одной из своих лекций, знакомится с Апполинарией Прокопьевной Сусловой в будущем писательницей и мемуаристкой. Стройная девушка 20 лет с серо-голубыми глазами, с красивыми чертами волевого умного лица, с гордо вскинутой головой, обрамленной прекрасными рыжими косами обратила на себя внимание писателя. Апполинария, проникнутая идеями «нигилизма», влюбилась в Достоевского, будто очертя голову бросившись в темный омут безудержной страсти. Пик этой страсти в отношениях между Сусловой и Достоевским пришелся на 1863 г. Это была мучительная, болезненная страсть, в которой преобладало физическое начало. Переполненный сладострастием Федор Михайлович научил любовницу темным проявлениям секса, пытался ее приручить, сделать рабыней, но твердый свободолюбивый характер Апполинарии не дал ей себя закабалить. Летом того же года его любовница уезжает заграницу. Там в Париже Апполинария влюбилась в португальца Сальвадора. Писатель, приехав в Париж, узнает об измене от самой Апполинарии. Он устроил дикий скандал, плакал в отчаянии, но потом между любовниками наступило примирение, они договорились стать друзьями. Путешествие продолжалось, но Апполинария отказывала Достоевскому в близости и только дразнила.
Вскоре близкие отношения восстановились. Но той страсти, того огня, который вселил в нее любовник поначалу, уже со стороны Апполинарии не было. Мало того ее переполняли ненависть и отвращение. Вот, что она записывает в своем дневнике в ноябре и декабре 1864 года: «…Я его просто ненавижу. Он так много заставил меня страдать, когда можно было бы обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастье в наслаждении любви потому, что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания… Когда я вспоминаю что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Д., он первый убил во мне веру».
15 февраля 1867 года Достоевский венчается с Анной Григорьевной Сниткиной, с которой не расстается до смерти. Свою вторую жену Достоевский любил нежно, страстно и очень сладострастно. Анна Григорьевна, в ту пору молоденькая неопытная девушка, во всем подчинялась своему властному мужу. Он делал с ней, что хотел и воспитывал ее как подругу для своих эротических фантазий, и потому с ней писателю не было стыдно. С Анной было все позволено, и он играл с Аней, как с женой, как с любовницей, как с ребенком, а она в своей большой любви готова была все вытерпеть и все снести.
Страдавший комплексом своей неполноценности, утвердившегося в сознании писателя после измен Марии и Апполинарии, Достоевский устраивал Анне дикие сцены ревности.
Сама Анна заявляла, что Достоевский «всю жизнь оставался чуждым развращенности», что противоречит содержанию любовных писем писателя к жене. В этих письмах поражает та пылкая страсть, которую проявляет Достоевский по отношению к своей жене, причем эта страсть с годами не только не охлаждалась, но, напротив, разгоралась все более и более.
Письма:
15 июля 1877 года: «Целые 10 лет я был в тебя влюблен и все crescendo,[5] и хотя и ссорился с тобой иногда, а все любил до смерти».
4–16 июля 1879 года: «…целую тебя поминутно в мечтах моих всю, поминутно взасос. Особенно люблю то, про что сказано: и предметом сим прелестным восхищен и упоен он. Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь».
Читателю должно быть, понятно о каком «предмете» здесь идет речь.
В письме от 16–28 августа 1879 года Достоевский пишет о своем «постоянном, мало того: все более с каждым годом возрастающем супружеском восторге».
Некоторые письма носят очень интимный характер, так что выражения страсти были зачеркнуты Анной Григорьевной. Это подтверждается письмом друга Достоевского А. Майкова к своей жене: «Что же это такое, наконец, что тебе говорит Анна Григорьевна, что ты писать не хочешь? Что муж ее мучителен, в этом нет сомнения, невозможностью своего характера, это не новое, грубым проявлениям любви, ревности, всяческих требований, смотря по минутной фантазии. Что же так могло поразить тебя и потрясти?»
Читатель, наверное, догадался, что могло так потрясти образованную дворянку. Садомазохизм и другие перверситетные проявления секса. А что еще, чего нельзя даже мужу было написать в письме?
Да только ли в письмах Достоевский описывал картины грязного разврата, заставлявшие заливаться краской благородных воспитанниц Смольного института? Во всех своих произведениях Достоевский изображал неудачи любви, связанной с жертвой и страданием.
Нигде вы у него не найдете описания любви торжествующей, радостной и по мужски уверенной. Писатель не знал такой любви и не мог о ней писать. «…Он рылся в самой глубине волчьей души, разыскивая там вещи тонкие сложные – не просто удовлетворение аппетита, а именно сладострастие злобы и жестокости» (Н. К. Михайловский).
Здесь терзают, колют, режут, рубят, кусают друг друга. Клянутся, но тотчас преступают клятву. И при всем том – исступленно любят.
Некоторые герои Достоевского действительно любят, но любят странно амбивалентно. Вот Лев Мышкин пылает платонической любовью к Аглае, и плотской – к Настасье Филипповне и никак эти чувства не соединяются, а только раздирают его больную душу. А вот и Митя Карамазов мучает и унижает Катерину Ивановну, а сам валяется в ногах, рабски унижаясь перед Грушенькой. Героини тоже недалеко ушли в своем садомазохизме.
Неточка Незванова возбуждается от щипков, Лида Хохлакова, влюбляясь в Алешу, хочет, чтобы «кто-нибудь ее истерзал, женился на ней, а потом истерзал, обманул, ушел и уехал».
Любовь у Достоевского во многих его произведениях представляется омерзительным пауком, который в безудержном сладострастии терзает свою любовную жертву.
Можно согласиться с мнением литературоведов о том, что в эротизме Достоевского немало сексуальных фантазий, может быть и не переживаемых писателем в действительности, но описанных с потрясающим реализмом. И эта фантазия уже представляется реальностью всякому, кто вступил в мир извращений и сладострастия, созданный воображением Достоевского – этого гениального мучителя и мученика, этого «Poete del Dolore».[6]
Ну, хорошо, садомазохизм, эксгибиоционизм, а возможно и другие перверсии, описываемые в романах Достоевского, и не представляют особого интереса, хотя И. С. Тургенев и назвал писателя «русским маркизом де Садом». Достоевскому, конечно, далеко до маркиза и до Захер-Мазоха с его «Венерой в мехах», но печальным и чудовищным грузом ложатся на плечи читателей описание сцен половых отношений с детьми. Ни до, ни после Достоевского, никто из маститых писателей России и зарубежья не отваживался даже касаться вопроса о растлении малолетних.
Не будем трогать «Лолиту» В. Набокова, хотя в этом, достаточно целомудренном романе, речь идет не о ребенке, а о девушке, вступившей в пору половой зрелости. Но даже фильм по этому сюжету до последнего времени был запрещен к демонстрации во многих странах Европы и Америки.
Склонность Достоевского описывать половые переживания детей и подростков, а также сцены растления маленьких девочек были писателю близки и понятны. Сам Достоевский неоднократно говорил о каком-то «тяжком прегрешении, лежащем на его совести, подчас чувствовал себя преступником и с какой-то поражающей настойчивостью обращался к безобразной теме о влечении пресыщенных сладострастников к детскому телу» (В. Гроссман). Достоевский не растлевал физически девочку, о которой говорится в исповеди Ставрогина, но в помышлении, в ночных кошмарах он и это знал. Можно ли согласиться с мнением И. Гарина о том, что «девочка у Достоевского – это совесть человека, это образ самого страшного греха, это самая сильная его боль»?
Обратимся к фактам.
Однажды, когда Достоевский находился в гостях у семейства Ковалевских (ему было тогда 43 года) и он был влюблен в 20-летнюю Анну Ковалевскую, объяснение писателя в любви к ней случайно услышала младшая сестра Софья (в будущем великий математик): «Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным порывчатым шепотом, который я так знала и любила. «Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел… и не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом». Часто Достоевский забывал, что находится в обществе молоденьких барышень, и говорил нечто, приводившее их мать в ужас. Однажды писатель стал рассказывать отрывок из своей неизданной (к счастью) повести, где богатый помещик вспоминает, как после разгульной ночи он изнасиловал десятилетнюю девочку. «Мать моя, – пишет С. Ковалевская, – только руками всплеснула, когда Достоевский, это проговорил. – «Федор Михайлович! Помилосердствуйте! Ведь дети тут»! – взмолилась она отчаянным голосом». Но, в особенности, характеризует «подпольную жизнь» гения письмо Н. Н. Страхова – друга и биографа Достоевского Л. Н. Толстому. Вот что он пишет графу 28 ноября 1883 года (письмо это было разрешено к печати только в 1913 году).
«…Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком…он был зол, завистлив, развратен и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен… Я много раз молчал на выходки, которые он делал совершенно по бабьи, неожиданно и неприятно; но и мне случалось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям и он хвалился ими».
Далее Н. Н. Страхов передает слова П. А. Висковатова которому Достоевский похвалялся, тем, что в бане он забавлялся с маленькой девочкой, которую привела к нему гувернантка. Все последующие исследователи творчества Достоевского чуть не в голос утверждают, что этот чудовищный факт является грязным пасквилем или самооговором гения в «надрыве самоуничижения», или даже прямой клеветой на себя.
Но все это как-то расходится с описанием многочисленных сцен разврата и растления маленьких девочек в произведениях Достоевского.
Как правило, растлители – мужчины – это или пресытившиеся жизнью бонвиваны, или старики с увядающей потенцией.
В романе «Бесы» Ставрогин упивается поркой девочки Матреши и видя вспухающие рубцы на ее тельце испытывает неимоверное наслаждение.
Потом он насилует Матрешу. Затем, ненавидя девочку до бешенства, он готов убить ее из-за страха перед содеянным и доводит ребенка до самоубийства.
В «Преступлении и наказании» Свидригайлов рассказывает Раскольникову о девице, находящейся на содержании у 50-летнего старика, а ей всего 16 лет. Описывает с вожделением, как эта девица садилась к старику на колени, краснела, обнимала. Темный разврат описан в «Униженных и оскорбленных» – в публичном доме у мадам Бубновой, в нем участвует 13-летняя проститутка Нелли; в «Братьях Карамазовых» описываются отношения 16-летней девочки с отцом братьев – Федором Павловичем.
Вот это еще одна черта в патологии души гения.
Гения же умалить нельзя. Он такой же, как мы: те же страсти, те же пороки, те же безумства.
Как писал Ю. Айхенвальд:
«С тяжкой поступью, с бледным лицом и горящим взглядом, прошел этот великий каторжник, бряцая цепями, по нашей литературе (да только ли по ней? – В. Г.), и до сих пор она не может опомниться и прийти в себя от его исступленного шествия».
Литература
1. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1998. Т. 1. С. 240.
2. Александровский Ю. А. Глазами психиатра. М., 1999.
3. Белов СВ. Энциклопедический словарь Ф. М. Достоевского. СПб., 2001. Т.1, 2.
4. Буянов М. И. Преждевременный человек. М., 1989. С. 180.
5. Бурно М. Е. Сила слабых. М., 1999.
6. Бурсов Б. У свежей могилы Достоевского. Л., 1969.
7. Волгин И. Л. Родиться в России. М., 1991.
8. Вересаев В. В. Живая жизнь. М., 1999.
9. Гарин И. И. Многоликий Достоевский. М., 1997.
10. Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961.
11. Грицак Е. Н. Тайна безумия. М.,2003. С. 107–114.
12. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 т. Л., 1989.
13. Евдокимов П. П. К истории болезни Ф. М. Достоевского // Клиническая медицина. 1987. Т. 65. № 5. С. 145–147.
14. Ермаков И. Д. Психоанализ литературы. М., 1999.
15. Енко Т. Интимная жизнь гения. М., 1997.
16. Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. Достоевский о тайнах психического здоровья. М., 1994.
17. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981.
18. Мелехов Д. Е. Болезнь Достоевского // Руководство «Психиатрия и вопросы душевной жизни». М., 1991.
19. Моисеева Н. Был ли Достоевский эпилептиком? // Знамя. 1993. № 10. С. 199–204.
20. Усов М. Г., Аксенов В. Г. Болезнь Ф. М. Достоевского // Эпилепсия, Омск, 2000. С. 48.
21. Чиж В. Ф. Ф. М. Достоевский как психопатолог // Болезнь Н. В. Гоголя. М., 2002. С. 287–383.
22. Юрман Н. А. Болезнь Достоевского // Клинический архив гениальности и одаренности. Л. 1928. Т. IV. Вып. 1. С. 61–85.
Персоналии
1. Айхенвальд Ю. Н. – русский писатель – эмигрант.
2. Бурно М. Е. – профессор, психотерапевт.
3. Вогюэ Э. М. – виконт, секретарь французского посольства С. Петербурга, популяризатор русской литературы.
4. Врангель А. Е. – барон, юрист, дипломат, друг Достоевского.
5. Вересаев В. В. – русский писатель, эссеист, врач.
6. Висковатов П. А. – историк литературы, биограф М. Лермонтова.
7. Гроссман – врач в Баден-Эмсе, у которого Достоевский был на приеме 13/VII 1874 г.
8. Григорович Д. В. – писатель, друг Достоевского
9. Ганнушкин Л. Б. – профессор, психиатр, создатель учения о пограничных состояниях.
10. Гессе Герман – немецкий писатель, исследователь тонких психологических переживаний души.
11. Крепелин Эмиль – немецкий психиатр, создатель современной классификации психических болезней.
12. Кречмер Эрнст – немецкий психиатр-психолог, создатель учения о характерах людей.
13. Ковалевская С. В. – младшая сестра Анны Корвин-Круковской – любви Достоевского, великий математик.
14. Ломброзо Чезаре – итальянский судебный психиатр, криминолог, автор теории врожденного преступника.
15. Леже Луи – профессор русской литературы в Парижском университете.
16. Леонгард Карл – немецкий психиатр, исследователь характеров людей.
17. Мережковский Д. С. – русский писатель – эмигрант, исследователь «религии духа» и «религии плоти».
18. Набоков В. В. – русский писатель-эмигрант.
19. Сербский В. П. – профессор-психиатр Московского университета, основоположник российской судебной психиатрии.
20. Соловьев B. C. – русский религиозный философ, поэт, публицист, исследователь «мировой души».
21. Страхов Н. Н. – литературный критик, публицист, биограф и друг Достоевского. Знаменитый «пасквилянт».
22. Тимофеева В. В. (Майкова) – писательница, мемуаристка, переводчица, обожательница Достоевского.
23. Фрейд Зигмунд – австрийский врач невропатолог, психиатр. Основоположник учения о психоанализе.
24. Фон Фохт Н. Н. – мемуарист, близкий знакомый Достоевского.
25. Яновский С. Д. – друг Достоевского и домашний врач семьи.
Глава VII В багровом мороке хищного цветка
«… Но все-таки… за что? В чем наше было преступленье… Что дед мой болен был, что болен был отец, Что этим призраком меня пугали с детства, — Так что ж из этого? Я мог же, наконец, Не получить проклятого наследства!.». А. Н. Апухтин. СумасшедшийВы долго стояли в оцепенении в Третьяковской галерее перед картиной И. Репина «Иван Грозный убивает своего сына» (так в обиходе называют полотно великого мастера)?
Истинное же название этого шедевра «Иван Грозный и сын его Иван (16 ноября 1581 года)». Вы видели прекрасное лицо царевича, будто это лик апостола или самого Христа с печатью мученической смерти? Это что, художественное воображение великого мастера или образ, писанный с натуры какого-то человека? Да, но не какого-то человека, а русского писателя Всеволода Гаршина, предвосхитившего А. Чехова в мастерстве короткого рассказа.
Илья Репин и Всеволод Горшин сблизились летом 1883 г. «С первого же знакомства», – вспоминает И. Репин, – «я затеялся особенной нежностью к нему. Мне хотелось его и усадить поудобнее, чтобы он не зашибся, и чтобы его как-нибудь не задели.
Гаршин был симпатичен и красив, как милая добрая девица-красавица… В лице Гаршина меня поразила обреченность. У него было лицо, обреченного погибнуть».
Тонкий портретист Репин еще за 5 лет до трагической гибели Гаршина, заметил эту печать смертной муки, которая отразилась на челе царевича Иоанна.
Воспоминания современников о Гаршине писались в ту пору, когда еще были свежи воспоминания о его страдальческой жизни, о его несомненном писательском таланте, о необыкновенной читательской к нему любви. Общий хор восторженных голосов сводится к описанию необыкновенной внешности и удивительном взгляде. «Это были – если можно так выразиться – мировые глаза. Они редко встречаются в жизни; по крайней мере, я больше ни у кого таких глаз не встречал. Они являются спутником великой, глубокой души. В этом взоре столько любви, столько снисходительности, скромности! Мне они показались как бы подчеркнутыми слезой», – пишет актер Д. Гарин.
Писатель Эртель вспоминает: «При первом же знакомстве вас необыкновенно влекло к нему. Печальный и задумчивый взгляд его больших, «лучистых» глаз, детская улыбка на губах, то застенчивая, то ясная и добродушная, «искренний» звук голоса… все в нем прельщало». Эти впечатления подчерпнуты от общения со зрелым Гаршиным, когда уже было известно о психическом нездоровье писателя.
Но вот впечатления о 22-летнем Гаршине, периоде Балканской войны подпоручика В. П. Сахарова: «С первого же взгляда меня поразили его глаза: темные, глубокие, они смотрели печально, но ласково и как будто манили к себе. Весь показался он мне хрупким, слабым физически, но таким благородным и добрым, что я невольно подумал: вот человек, который не может и не способен сделать зла».
Поэт Николай Минский прочел над могилой Гаршина на Волковом кладбище 26 марта 1888 года свои стихи:
«Я ничего не знал прекрасней и печальней Лучистых глаз твоих и бледного чела, Как будто для тебя земная жизнь была Тоской по родине, недостижимо-дальней».Но вот в хор восторженно-благоговейных лирических воспоминаний, где иконописный лик Гаршина всегда страдальчески-печален, вторгаются диссонирующие ноты.
Может быть это связано с циклическим характером течения душевной болезни писателя, когда большинство современников наблюдало его в депрессивном расположении духа, и только, пожалуй, один автор «Мухи-цокотухи» и «Тараканища» К. Чуковский описывает Гаршина в мании. Вот, что он пишет в 1914 году: «Сильная и богатая натура, – свидетельствуют о нем его близкие», – он был здоров, крепок и ловок физически. «Он был всегда оживлен и весел… Он не только не был пессимистом, но вовсе не был скорбным, разочарованным, расстроенным человеком… он в свои хорошие минуты бывал большим юмористом… несмотря на свою затаенную грусть, – говорят его друзья, – он был человек в высшей степени жизнерадостный».
В этом – то и трагедия Гаршина, что он был здоровый и крепкий. Для такого человека безумие не крылья, а тяжкий груз.
Здоровому, веселому, крепкому жизнерадостному человеку – что ему делать с безумием, с галлюцинациями, с калейдоскопическим бредом, с вихрем кошмаров и иллюзий? Он затесался в толпу безумцев случайно, он здесь гость, а не свой, и тем он вдвойне несчастен – веселый и ловкий, здоровый и сильный человек!
Безумие для него не призвание, не стихия его души, оно для его творчества совершенно бесплодно, оно не дает его душе никаких питаний, и все его произведения свидетельствуют, что как безумен, он был неудачник, как бывают неудавшиеся педагоги, неудавшиеся доктора».
То ли будущий советский писатель пытался эпатировать общественное мнение о Гаршине через 26 лет после его смерти, то ли не имел ни малейшего представления о психиатрии и законах развития психических болезней, то ли в этом насмешливо – тенденциозном пассаже автор «Мойдодыра» заложил «второе дно», которого нам не дано увидеть?
Но, прочитав этот образчик разнузданной журналистики, у неискушенных читателей может создаться впечатление о том, что Гаршин и не болел циркулярным психозом, что вся его, пронизанная страданием и болью, беллетристика это не крик души, а веселые придумки, и прыжок в лестничный пролет с третьего этажа не более чем экстравагантная выходка.
Всеволод Михайлович Гаршин родился 2 февраля 1855 года в дворянской семье. Отец его был офицером кирасирского полка, участником Крымской войны 1853–56 гг., мать – из семьи морского офицера. Дед Гаршин был человеком жестоким, крутым и властным, порол мужиков, пользовался правом «первой ночи», заливал кипятком фруктовые деревья непокорных однодворцев. Дед по материнской линии был образованным и добрым до необыкновенности.
Отец – Михаил Егорович постоянно что-то изобретал, добивался признания собственных «изобретений», разрабатывал фантастические теории. В быту же был нетерпим своими «ненормальными» выходками.
«Нет кажется порока, – писала о муже мать Гаршина – «которым бы не наделила его природа: ограниченным умом, проникнутый всеми предрассудками необразованного русского помещика, подверженный притом часто припадками сумасшествия, он сделал жизнь для меня невыносимой».
Психиатр А. И. Галачьян в 1924 году опубликовал исследование генеалогического древа семейства Гаршиных.
Оказалось, что в семи поколениях у многих членов этой семьи проявляются патологические особенности психики. Психиатры ретроспективно дают краткую характеристику отцу Гаршина: «Добрый и кроткий, слабовольный картежник. Страдал циркулярным психозом: первый раз заболел на 3 курсе Университета. Назывался «Мишель странный». Под конец жизни страдал каким-то видом умственного расстройства, по словам сестер, писал проекты, которые адресовал на имя государя; неудачный изобретатель “канатной железной дороги”».
Мать Екатерина Степановна – смуглая статная красавица с бездонными черными глазами была образованной, начитанной женщиной.
Характером обладала властным, нетерпимым, неуравновешенным и капризным. Современник вспоминает: «…У ней каждый день гости и неумолкаемые литературно-житейские разговоры и вместе с тем какой-то нервный гнет, так что никому из гостей не приходит охоты весело, от души рассмеяться».
Освещая вопрос о генетических корнях психического заболевания Гаршина, следует сказать, что оба его брата покончили самоубийством: младший на 21 году жизни, старший на пятом десятке.
Детство Гаршина проходило, как сейчас говорят, в неблагополучной семье. С малых лет Всеволод являлся свидетелем злых раздоров между матерью и отцом.
У Екатерины Степановны, по-видимому, пресытившейся «сумасшедшими припадками» мужа, завязывается в 1858–59 гг. адюльтер с учителем старших сыновей П. В. Завадским – личностью столь же знаменитой, сколь и неприятной.
А знаменит этот «разночинец» был тем, что являлся участником студенческих волнений в Харьковском университете и, выгнанный оттуда, нашел работу учителем у Гаршиных. Любовная связь вскоре открылась, и в доме Гаршиных начались скандалы.
В обсуждении поведения жены несчастный отец вовлекает детей, они оказываются не только свидетелями, но и активными участниками семейной драмы.
В особенности это касалось Всеволода, т. к. братья уже были определены в Морской корпус и жили в Петербурге. Мать вместе с любовником – «разночинцем» бежит из дома и в течение этого года Всеволод переходит из рук в руки. Здесь как в дешевом детективе устраиваются погони, мальчика насильно вырывают из рук, прячут и т. д.
Сам Гаршин пишет: «Пятый год моей жизни был очень бурный. Меня возили из Старобельска в Харьков, из Харькова в Одессу, оттуда в Харьков и назад в Старобельск…некоторые сцены оставили во мне неизгладимое воспоминание и, быть может, следы на характере. Преобладающее на моей физиономии печальное выражение, вероятно, получило свое начало в эту эпоху».
Слезные письма Михаила Егоровича к жене, наполненные любовными словоизъявлениями остались «гласом вопиющего в пустыне», несмотря на обещания простить ее. Вот образец: «Сколько обманутых надежд и только одна истинная радость, истинное было счастье для меня, когда ты досталась мне! Господи!… Прости меня, Катя… голова кружится… любовь и теперь также сильна во мне…»
Тогда «Мишель странный» обращается вначале в Харьковскую полицию, а через 3 недели в III отделение корпуса жандармов с просьбой вернуть «украденного» четырехлетнего сына.
Но вот оказия случилась какая! На квартире у «разночинца» Завадского полиция обнаружила бумаги, доказывавшие существование в Харьковском университете тайного политического общества, цель которого – свержение самодержавия. «Разночинца» и с ним еще 22 человека арестовали. Несладко сидел он в Алексеевском равелине Петропавловской крепости – самом жутком каземате для «политических», а через 5 месяцев был сослан под надзор полиции в Олонецкую губернию.
Екатерина Степановна, как жена декабриста, едет за «гражданским мужем» в Петрозаводск, чтобы разделить с Завадским его печальную участь, но через 2 года они расстаются и она переключает все свое внимание на Всеволода.
С 9 до 12 лет Гаршин живет с матерью в Петербурге, учится в гимназии, а в возрасте 13 лет остается, предоставленным самому себе, потому, что мать после смерти Михаила Егоровича возвращается с младшим сыном в Старобельск.
Подросток Всеволод живет в Петербурге на разных квартирах, то со старшими братьями, то у дальних родственников.
Вот здесь впервые в жизни Гаршина начинают проявляться депрессивные мотивы.
В одном из писем к матери звучит отчаянный вопль: «Иногда рад бы бежать куда-нибудь, да некуда… Ах, мамаша, как мне плохо. Выплакаться даже негде: нет собственного уголка».
В 1872 г. у Всеволода развивается острый приступ болезни. Увлечения естествознанием, химией, коллекционированием приобретают болезненную форму, он считает их, чуть ли не имеющими «мировое значение» и потому все должны принимать в них участие. Дело кончилось для 17-летнего Гаршина помещением в больницу для душевно-больных, где ему разрешалось продолжать свою лабораторную деятельность и заниматься коллекционированием.
В 1874 г. после окончания реального училища, Гаршин поступает в Горный институт.
Здесь начинается увлекательная студенческая жизнь. В воспоминаниях современников того периода Гаршин предстает привлекательным, общительным, красивым, всеми любимым молодым человеком, окруженным друзьями, страстным театралом, глубоко чувствующим музыку.
Но вот началась Балканская война и Гаршин в июле 1877 года вступает в нее вольноопределяющимся 138 Волховского полка. Во время боевых действий он получает ранение в ногу, лечится в болгарском госпитале, а в сентябре возвращается к матери и братьям в Харьков.
Впечатления о военных событиях легли в основу нескольких рассказов.
С этого момента начинается необыкновенная, все возрастающая популярность Гаршина как писателя.
Причиной такого небывалого успеха по замечаниям современников явились идейный пафос и литературное мастерство автора.
В нашем очерке не исследуются литературоведческие основы этих рассказов. Оставим этот разбор профессионалам.
Опубликование рассказа Гаршина «Происшествие» (парафраз на тему Настасьи Филипповны Ф. Достоевского) в мартовском номере «Отечественных записок» за 1878 г. совпал с начавшимся у писателя приступом тоски. «Не делаю решительно ничего. Хандра, печальные соображения о своем ничтожестве», – пишет он другу 2 апреля 1878, а спустя более чем, месяц «… хандрю, потому, что не могу ничего делать, ничего не делаю, потому, что хандрю». В том же письме Гаршин говорит другу о мучительной тоске, «совершенно затуманившей голову».
Возвращаясь немного назад, следует отметить, что тема смерти, бессмысленности жизни, тоски начала проявляться у Гаршина очень рано. В своем гимназическом сочинении он размышляет о смерти, тщательно описывает сам процесс умирания, его мельчайшие физиологические подробности, рассуждает о глубоком метафизическом смысле конечных вопросов бытия.
Да и в последующем депрессивный характер писателя иллюстрирует его любовь к такой тоскливой Лермонтовской «Еврейской мелодии», когда, слушая романс М. Н. Офросимова, положенный на эти стихи Гаршин плакал:
Пусть будет песнь твоя дика как мой венец Мне тягостны веселья звуки Я говорю тебе, я слез хочу, певец. Иль разорвется грудь от муки.И в обществе, близком к Гаршину, мужчины, видимо завидуя успеху Всеволода у женщин, называли его «плаксой» (А. Г. Дубовиков).
Весной – летом 1879 Гаршин становится деятельным, продуктивным творчески, пишет ряд рассказов, преисполнен литературных замыслов.
Его переполняет счастливое настроение духа. В молодежных компаниях он всегда предводитель, организатор пикников, прогулок, экскурсий.
Но вот наступает осень 1879 года и у Гаршина вновь появляется острая мучительная тоска, апатия, упадок сил, он физически изменился, осунулся, голос стал слабым и болезненным. И надо такому случиться, что 20 февраля 1880 года некто Ипполит Млодецкий – «народоволец» – террорист стреляет в генерал-губернатора С. Петербурга графа Лорис-Меликова. Его поймали, и после скорого суда 22 февраля того же года террорист был казнен. Гаршин принял живейшее участие в судьбе «народовольца» – ездил на прием к Лорис-Меликову, который обещал отменить казнь, но не сдержал своего слова. Вот отрывок из письма, писанного Гаршиным на имя Лорис-Меликова: «Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! Умоляю Вас, умиротворите страсти, умоляю Вас (для) ради преступника, ради меня, ради Вас, ради Государя, ради Родины и всего мира, ради Бога».
В день суда Златовратский так описывает состояние Гаршина: «Когда я пристально вгляделся в его лицо, у меня вдруг перехватило горло: очевидно, он не слышал и не понимал ни слова из того, что я ему говорил; глаза его, широко открытые, смотрели странным блуждающим взглядом, щеки горели». Эртель рассказывает, что «Гаршин изменился до неузнаваемости, часто плакал». Я. А. Абрамов пишет, что Гаршин в последующем вел себя чрезвычайно странно, действовал как человек крайне возбужденный, действовавший полубессознательно.
Уехал в Москву, совершал нелепости, угощал обитательниц публичного дома на крупную сумму, отказывался платить, задерживался полицией. Строил неосуществимые планы путешествий по России и Болгарии. Заложил часы, кольцо, накупив кучу совершенно ненужных вещей. Уехал в Тулу, там исчез из гостиницы, бросив все свои вещи. Странствовал по Тульской и Орловской губерниям, что-то проповедовал крестьянам, попал в Ясную Поляну, имел беседу с Л. Толстым. Иногда выдавал себя за тайного правительственного агента. Младший брат привез Гаршина домой в Харьков. Фаусек описывает состояние писателя того периода: «Глаза его горели, как уголья; выражение тайной грусти, обыкновенно светившееся в них, исчезло. Они сияли теперь радостно, возбужденно и гордо». Очень скоро, однако, эта фаза его болезни сменилась новой.
В мае 1880 г. Гаршин помещается в психиатрическую лечебницу – Сабурову дачу. Худой, изнуренный, крайне возбужденный – таким предстал Гаршин перед своим другом Фаусеком.
После двух с лишним месяцев пребывания на Сабуровой даче в сентябре 1880 года Гаршина переводят в Петербург в частную лечебницу А. Я. Фрея.
В этот период Гаршин производит впечатление человека совершенно подавленного, разбитого, утратившего всякие желания: казалось, что он не имел вообще никаких желаний и никакой воли ни к какому действию.
В конце 1880 г. дядя Гаршина В. С. Акимов увозит его в свое имение Ефимовка в Херсонской губернии.
Состояние писателя остается тяжелым. Ночами обитателей Ефимовки, нередко будят громкие рыдания Гаршина. Он обвинял себя в совершении нелепых поступков, совестливо мучился. Это состояние отражено в письмах Гаршина: «О будущем думать боюсь (февраль 1881 г.). Писать не могу, не умею, мыслей у меня в голове нет (март 1882 г.)».
Весной 1882 вновь наступает перелом в болезни, появляется активность, возобновляется литературная деятельность, восстанавливаются отношения с невестой писателя Н. М. Золотиловой. В начале 1883 Надежда Михайловна и Всеволод Михайлович обвенчались.
В том же 1883 году в № 10 «Отечественных записок» появляется шедевр Гаршина, самый его знаменитый рассказ «Красный цветок», своеобразный краеугольный камень всего творчества писателя. Нет нужды пересказывать содержание этой страшной новеллы. Напоминаем, что там речь идет о психопатологических переживаниях больного, возомнившего искоренить мировое зло, олицетворенное в красном цветке.
Профессор-психиатр И. А. Сикорский так охарактеризовал это произведение: ««Красный цветок» – это классическое изображение болезненного состояния… Рассказ представляет собой не просто сырой материал, годный для истории болезни. Это скорее картина болезненного самочувствия, освещенная тонким, проницательным анализом художественного таланта».
В своем рассказе Гаршин отобразил свои собственные психопатологические переживания.
Отвечая на вопрос Ф. Ф. Фидлера, кто послужил прототипом героя «Красного цветка» писатель ответил: «Я сам был объектом моих психиатрических наблюдений».
Между тем болезнь Гаршина прогрессировала. Теперь уже ежегодно наблюдаются приступы депрессии, во время которых появляются мысли о смерти. Он жаловался друзьям, как мало хочется ему жить, как жалеет он порой, что не погиб во время кампании 1877 года, иногда говорил о самоубийстве.
В 1887 году, в период очередного депрессивного приступа Гаршин пишет (видимо подражая Надсону) такие стихи:
Ноет душа моя болью знакомою, Дума глубоко запала; Думу тяжелую, думу печальную Сердце больное узнало. Жизнь без отрады, без наслаждения, Скорби одной обреченная, Что ты? Зачем ты дана мне убогая Волей судьбы непреклонною? Мне ничего не подаришь ты, жалкая, Кроме страданья и муки А для людей… ведь им вовсе не надобны Хилые, слабые руки. Прочь же с дороги! Давай ее лучшему, Сильному духом и телом, Ты же в награду за муку получишь Смерть…В марте 1888 года состояние Гаршина вновь резко ухудшилось. Один из современников так описывает писателя в этот период: «… Несмотря на теплую погоду, он дрожал. Красивое лицо его было желто и слегка опухшее, глаза расширенно, без выражения смотрели куда-то в пространство…», в ответ на вопрос о здоровье Гаршин ответил: «Э, что там здоровье, физически-то я здоров, желать ничего не нужно, но если бы все знали, что у меня на душе…»
В. М. Гаршин, пытаясь покончить собой 19 марта 1888 года, выбросился с третьего этажа в пролет лестницы, но умер только 24 марта, промучившись в больнице со сломанной при падении ногой.
Подводя итог нашему повествованию ни у психиатра, ни у обывателя не вызовет сомнений, что В. М. Гаршин страдал маниакально-депрессивным (циркулярным психозом), протекавшим с преобладанием депрессивных фаз, что маниакальные состояния зачастую носили характер острого аффективного приступа, сопровождавшимся на своей высоте состояниями спутанности и нелепым поведением. Интеллектуальный же потенциал писателя, его творческие способности оставались до конца дней высокими.
Смерть в 33 года со времен Христа настигает самых талантливых и ярких людей.
Психиатру можно полностью согласиться со словами Юрия Айхенвальда: «…И недаром у него над головою безумца, пошедшего в Крестовый поход против зла, сияют ласковые тихие звезды. А самое помешательство его, этого Гамлета сердца, – не что иное, как благородное безумие великой совести, т. е. настоящая человеческая мудрость».
Литература
1. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1998. Т. 2.
2. Быков Д. Безумный Гаршин // Будь здоров. 1998. № 12. С. 76–80.
3. Гаршин В. М. Проза. М., 2001.
4. Дубовиков А. Н. Гаршин в Окуневых Горах // Литературное наследство. М., 1977. Т. 87. С. 242–247.
5. Злотников М. «И раздумий добро» // Новый мир. 1986. № 2. С. 115–117.
6. Ионов Ю. В. Медицинские темы в произведениях В. М. Гаршина // Клиническая медицина. 1981. Т. 59. № 1. С. 110–112.
7. Кпочкова Л. Неизвестные стихотворения В. М. Гаршина // Русская литература. 1958. №. С. 142–146.
8. Королева Н. Г. Последний год жизни Гаршина. Встречи с прошлым. М., 1975. С.55–64.
9. Латынина А. Н. Всеволод Гаршин. Творчество, судьба. М. 1986.
10. Порудоминский В. И. Грустный солдат или жизнь Всеволода Гаршина. М., 1987.
11. Репин И. Е. Далекое близкое. М., 1961. С. 357.
12. Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 417–444.
13. Чхартишвши Г. Писатель и самоубийство. М., 2001. С. 470.
Персоналии
1. Абрамов Я. А. – первый биограф Гаршина.
2. Златовратский Н. Н. – редактор журнала «Отечественные записки».
3. Ковалевский П. И. – профессор. В 1984 г. заведовал кафедрой психиатрии Харьковского университета.
4. Минский Н. М. – поэт надсоновской школы.
5. Репин И. Е. – известный художник.
6. Сикорский И. Л. – профессор, заведовал кафедрой душевных и нервных болезней в Киевской университете.
7. Фаусек В. А. – друг В. М. Гаршина.
8. Фидлер Ф. Ф. – литературный переводчик.
9. Фрей А. Я. – психиатр, директор частной лечебницы для душевно-больных в Санкт-Петербурге.
10. Эртель А. И. – писатель.
Глава VIII Лик и личина поэта Революции
Грядущие люди! Кто вы? Вот – я, весь боль и ушиб Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души. В. Маяковский. Ко всемуНа столе передо мной лежат две книги – Ю. Карабичевский «Воскресение Маяковского» и А. Михайлов «Жизнь Маяковского». Казалось бы, речь идет об одном человеке – Владимире Владимировиче Маяковском. Но, вчитываясь в содержание обеих книг, создается впечатление о том, что авторы живописуют две совершенно разные, полярные личности. А. Михайлов обвиняет Ю. Карабичевского в тенденциозном подборе цитат из произведений поэта и фактов его биографии, усматривая в этом желание, очернить поэта, развенчать его личность, сбросить с бронзового пьедестала. Да, книга Карабичевского действительно наполнена язвительной иронией по отношению к поэту, чего никогда не бывало, и до сих пор нет в советском и российском литературоведении.
Хрестоматийная глыба Маяковского до сих пор давит сознание миллионов бывших советских школьников. Разбудите среди ночи любого выпускника довоенного и послевоенного периода, и он вам без запинки прочтет «Стихи о советском паспорте». Книга А. Михайлова написана в лучших традициях советского литературоведения, это очередной панегирик памяти покойного поэта. В заключительной главе апологет Маяковского не оставляет камня на камне от критического анализа, проведенного Карабичевским биографии и творчества Маяковского. Но полемика не получилась, ответить А. Михайлову некому, Ю. Карабичевского давно уже нет на Земле.
С точки зрения психиатра Ю. Карабичевский тонко подметил патологические черты характера Маяковского – его склонность к демонстрации, эпатажу, истерическим реакциям, депрессиям, переоценке собственной личности, суицидальным тенденциям, амбивалентным сексуальным отношениям. Все это вызывает гневный отпор А. Михайлова.
Странно читать строки маститого литературоведа, опровергающие мнение Карабичевского о том, что Маяковский и его литературный герой суть одно и то же явление, и, что нельзя проводить между ними идентификацию. Я в предисловии касался уже этого вопроса, ссылаясь на Кречмера, Воротынского, Чехова.
А как быть с теми лирическими произведениями В. В. (Маяковского), написанными от первого лица (Я, мне, мною, о себе)? Что это? Поэтическая фигура или движение души поэта?
То, что не психолог и не психиатр Ю. Карабичевский, ярко обрисовал психопатологические отклонения в характере В. В., достойные клинического описания в руководствах по психиатрии, вызывает уважение к эрудиции писателя. То, что А. Михайлов напрочь отвергает патологический характер многих произведений и фактов биографии поэта достойно сожаления. Даже такие свидетельства современников о педантизме, навязчивостях, суицидальных мыслях и попытках В. В. считаются А. Михайловым преувеличением или даже оговором (Особенно достается Л. Брик – «агенту НКВД»). В последующем я попытаюсь «без гнева и пристрастия» очистить «зерна от плевел». Ведь не только Ю. Карабичевский охарактеризовал Маяковского, как патологическую личность, но и многие другие современники, на которых я буду ссылаться.
Факты – упрямая вещь, от них никуда не деться. А ведь было и сомнение в психическом здоровье поэта у литературной общественности Петрограда. В 1915 году состоялся консилиум психиатров, куда обманом завлекли Маяковского.
Правда, из этой «гнусной затеи», по выражению Михайлова, ничего не вышло. Психиатры признали Маяковского психически здоровым. Но это не помешало В. В. с яркой ненавистью заклеймить моих коллег:
«И по камням острым, как глаза ораторов// красавцы – отцы здоровых томов// потащим мордами умных психиатров// и бросим за решетки сумасшедших домов».
1915 год был годом разгара футуризма главным лозунгом, которого было «Долой старое!».
Манифест – «Пощечина общественному вкусу», подписанный и Маяковским, одежда, манера выступлений, скандалы с драками после концертов футуристов, все это настолько эпатировало широкую публику, что о футуристах писали не иначе как о «психопатах», «ненормальных», «безумцах». Была даже издана книга, посвященная футуризму – «Рыцари безумия».
Не безумны ли такие строки Маяковского: «окровавленные туши», «душу окровавленную», «окровавленный сердца лоскут», «у раненого солнца вытекал глаз», «сочными клочьями человеческого мяса», «жевал невкусных людей». Можно подумать, что эти строки писал не мальчик из интеллигентной семьи, а садист – вурдалак. Это потом мы увидим за всеми этими кровавыми строками робкую и стеснительную душу поэта, а пока признаем несомненную психопатологию в приведенных примерах.
Был ли Маяковский талантлив? Несомненно. Даже Ю. Карабичевский в своем критическом эссе оценивает творчество В. В. как талантливое и мастерское. Что же говорить о панегириках Маяковскому, воспетых в советское время? Одна только фраза И. Сталина о том, что Маяковский «был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», сделало из него идола более чем на 70 лет.
Б. Пастернак иронично заметил, что Маяковского стали вводить принудительно, как «картофель при Екатерине». Да и сейчас его памятник в Москве работы А. Кибальникова олицетворят не столько поэтический дар, талант, сколько характер эпохи 20 века.
А если мы наугад возьмем несколько цитат неангажированных писателей русского зарубежья, то картина получается несколько иной. Хотя «бывшие советские» могут мне сказать, что эмигранты это враги народа и, что они умышленно оскорбляют память В. В.
Но пусть будет выслушана и другая сторона. В. Ф. Ходасевич в некрологе 1930 г.: «Он также не был поэтом революции, как не был революционером в поэзии. Его истинный пафос – пафос погрома, то есть надругательства над всем, что слабо и беззащитно… он пристал к Октябрю потому, что расслышал в нем рев погрома». Другой эмигрант литератор и журналист М. А. Осоргин пишет: «… Блеска настоящей гениальности не раз сверкнувшей в культурнейшем Андрее Белом и в некультурнейшем Сергее Есенине, – в Маяковском нет, но исключительная даровитость его, вне всякого сомнения. Он высокий мастер, кованого, дерзкого, нового стиха, бившего по хилым головам и раздражающего тех, кому удары адресованы. Лирике Маяковский чужд; он поэт не только «борьбы» но и кровавой драки, поэт вызова, наглого удара не попадающего мимо». А вот мнение еще одного эмигранта М. Л. Слонима: «Маяковский никогда не отличался большим внутренним богатством, идеи в его творчестве играли роль незначительную. А заряд для своих эмоций он мог получить и от небольших идеек и формул большевистской мудрости. Вот почему, так бедна его поэзия: голос поэта силен и громок, но то, что он поет, – скудно и примитивно».
Я не могу, однако, согласиться полностью с этими эмигрантскими инвективами. Поэзия Маяковского талантлива своей необычайностью, новизной, сильнейшей внутренней драматургией, выплеском эмоций страдания и боли.
Но, говоря о таланте В. В., нельзя не вспомнить отношения к нему В. Ленина. К руководителю государства Маяковский относился с большим пиететом «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в Революцию дальше».
Хрестоматийная оценка Лениным стихотворения «Прозаседавшиеся» известна не одно десятилетие, и там скромно упомянуто о том, что Ленин «не знает, как насчет поэзии». Ильич и здесь лукавит. Не нравились ему поэзия Маяковского и все тут. В 1958 г. из спецхрана были извлечены записки Ленина 1921 года наркому просвещения Луначарскому в отношении поэмы «150.000.000» «Это хулиганский коммунизм, <…> Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность». По словам М. Горького: «Ленин относился к Маяковскому недоверчиво и раздраженно: «Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по моему, – не то и мало понятно».
Для чего мне, психиатру не литературоведу пришлось писать о таланте Маяковского? Да потому, что мнения современников поэта, пусть и полярные, являются теми штрихами, из которых создается его характерологический портрет.
Какова же психопатологическая картина, отображающая жизнь и творчество Маяковского?
В психиатрической литературе я не нашел достаточно подробного клинического анализа патохарактерологических девиаций у Маяковского.
Не психиатр Ю. Карабичевский оценивает поведение В. В. как истерические проявления, профессор М. И. Буянов считает Маяковского психопатической личностью с выраженной гиперкомпенсацией. М. Буянов не дает клиническую дифференцировку о том, какого круга была это психопатия, но описывает личность Маяковского как психопата – ананкаста: «Ранимый, сентиментальный, склонный к панике, постоянно самоутверждающийся в собственных и чужих глазах, он старался выглядеть нахалом, лидером, неотразимым любовником, особой, приближенной к руководству страной».
Его хамство во время диспутов, его откровенно лживые строки, его высокомерие, снисходительное отношение к собратьям по перу, его поучения, убивающие любую поэзию – все было рассчитано на дураков и юнцов. Профессор М. Е. Бурно оценивает личность поэта как психопата – ананкаста.
Кто же это такие психопаты – ананкасты? Если исходить из непреложного, что психопатия не есть психическое заболевание, а суть патология характера, то читателю небезынтересно будет узнать какие симптомы наблюдаются у психопатов – ананкастов. Многие психиатры ананкастов относят к группе психастений. Но от психастеников ананкасты отличаются некоторыми особенностями. Впервые они описаны К. Шнайдером в 1923 году. В основе ананкаста лежит педантичный характер на фоне которого развиваются ананказмы (навязчивости).[7]
М. Е. Бурно пишет: «… педант (ананкаст) есть человек, природой своей предрасположенный к разнообразным ананказмам, которые вместе с обострениями материнской своей основы – изначальной тревоги – тоскливости – то разрастаются, то увядают… Частые здесь психондрические переживания, тревожная мнительность, боязнь загрязниться, боязнь воров, негодяев, насекомых, сверхаккуратность, страх смерти, муки совести – все это у ананкаста также чаще всего насквозь навязчиво, то есть чуждо своим содержанием души, не по жизненному существу». Далее профессор М. Е. Бурно пишет о гиперкомпенсациях у ананкастов, искажающих внутреннюю беспомощность, инертность, конфузливость грубоватой демонстративностью, высокомерием, авторитарной бесцеремонностью.
М. Е. Бурно описывает ананкастов в отличие от психастеников, как людей, у которых застенчивость, стеснительность, робость в житейских делах не являются доминирующими, скорее они решительны и бесцеремонны.
П. Б. Ганнушкин дает следующую характеристику ананкасту: «Он обыкновенно большой педант, формалист и требует от других того же самого; всякий пустяк, всякое отступление от формы, от раз навсегда принятого порядка тревожит его, и он не только беспокоиться, но и сердится, особенно если дело идет о подчиненных ему лицах».
Можно было бы еще много написать о страхах, депрессивных реакциях, сопровождающихся суицидальными мыслями, о мелочном педантизме, скрупулезности, о чередовании масок, надеваемых ананкастом с целью скрыть свое естество, но настоящая работа не является в полном смысле клинической, поэтому я не привожу подробной дифференциальной диагностики между ананкастами и психастениками, истероидами, шизоидами и эпилептоидами. Куда интереснее оценить психопатологию Маяковского через призму его биографии и творчества.
Ранимость, застенчивость, сковывание, проявившиеся еще в школьные годы, преследовали Володю Маяковского всю жизнь. Современники порой дивились, как за этой маской площадного хулигана скрывался робкий и конфузливый человек. М. А. Осоргин в некрологе Маяковскому пишет: «В. Маяковский обладал таким громким голосом и такой смелостью жестов, что за его «эстрадностью» мало, кто в нем ощущал, не играющего на сцене человека… Во внешней его грубости было немало напускного. Те, кто знали Маяковского близко, знали и его мягкость, и нерешительность в обращении с людьми, вне боевых политических и литературных выступлений. Аника – воин – в то же время нескладный, сентиментальный и порой робкий человек, очень добрый и искренний».
В. Шершеневич будто бы вторит Осоргину: «С первых дней своей поэтической деятельности он усвоил себе тон благерства и напускного грубого нахальства. И, сделав этот тон своей маской, он сумел прожить жизнь так, что только хорошо знавшие его видели под этой маской неутомимого труженика с очень часто смущающейся душой…»
Очень яркая черта В. В., характеризующая его как ананкаста, это навязчивые страхи заразиться какой-то болезнью. В. Полонская так описывает эту особенность характера поэта: «… Был очень брезглив, (боялся заразиться). Никогда не брался за перила, ручку двери открывал платком. Стаканы обычно рассматривал долго и протирал. Пиво из кружек придумал пить, взявшись за ручку кружки левой рукой. Уверял, что так никто не пьет и поэтому ничьи губы не прикасались к этому месту, которое подносит ко рту он. Был очень мнителен, боялся всякой простуды: при ничтожном повышении температуры ложился в постель».
В 1927 году В. В., путешествовал по Северному Кавказу и тяжело переболев гриппом, спрашивал у доктора, не туберкулез ли горла у него, не рак ли пищевода? В. В. носил в кармане плоский стаканчик, в который наливал воду из графина, носил маленькую мыльницу с мылом, чтобы мыть руки, в ресторане заставлял официанта еще раз помыть кипяченой водой фужер, овощи и фрукты, подававшиеся на стол. (А. Михайлов)
О педантизме Маяковского пишет В. Полонская: «Был он очень аккуратен. Вещи находились всегда в порядке, у каждого определено свое место. И убирал он все с какой-то педантичностью, злился, если что-нибудь, было не в порядке. А. Михайлов тоже отмечает скрупулезность и педантизм Маяковского в отношениях с налоговыми органами: «… и далее Маяковский тщательнейшим образом перечисляет, сколько издержек в его производстве и сколько тратится на материал. Перечисляет скрупулезно, с бухгалтерской дотошностью все свои расходы, вплоть до расходов на бумагу для письма и «прозодежду» при рисовальной и типографической работе».
А как с годами менялся внешний облик Маяковского? В молодые годы он предстает перед нами этакой смесью парижского апаша, латиноаргентинского мачо и русского блатаря – хулигана. Да, это еще одна очередная маска. Вглядитесь в фотографии поэта – взгляд исподлобья, руки засунуты в карманы, бритый или стриженный коротко череп и неизменная в углу рта папироса. Этот облик поэт пронес через все свою творческую жизнь. Да и на площади своего имени в Москве он так и стоит, набычившись и глядя исподлобья.
В 1913 году, когда у В. В. начался роман с Эльзой Каган (сестрой Лили Брик) – он тогда уже пытался франтить – брал напрокат визитку, цилиндр, трость из дешевого магазина (В. Катанян).
А когда у В. В. возник роман с Л. Ю. (Л. Брик), то она, прежде всего, заставила его сменить порченые гнилые зубы на вставные жемчужно – белые, и это придало В. В. совсем иной облик. Она его «остригла», приодела. Он начал носить тяжелую палку. В его гардеробе появился даже галстук, чего никогда не было прежде (А. Ваксберг).
В последующем, когда появилась возможность носить безупречно сшитые костюмы и ежедневно менять сорочки и галстуки, элегантность давалась Маяковскому сама собой.
Квинтэссенцией всего того, что написано о внешнем облике Маяковского является свидетельство В. Гофмейстера, который встречался с В. В. в Праге в 1927 году: «Он был сильный и большой и, стоя всегда выглядел как памятник. У него была буквально нескромная фигура. Всегда хорошо одет, немного даже щеголевато… Выбирал хорошие ткани и лучшего портного в городе… Любил добротность, прочность, красоту опрятность и чистоту. Любил красивые предметы из кожи и металла. Волосы были у него коротко острижены (глядя на его голову, хотелось сказать «череп»). В мягком овале рта вечная папироса».
При всем хамстве, развязности, оскорблениях, несущихся из его уст с эстрады, Маяковский в круге тесного общения выглядел совершенно иначе. Вот что писал в 1926 году литератор И. А. Аксенов (цит. по А. Михайлову): «мне невозможно и сейчас отказаться от того обаяния, которое свойственно личности В. В. Маяковского, от впечатления той грузно и спокойно залегшей нежности и укрощенной грусти, которая пленят всякого, хотя бы поверхностно ощутившего ее собеседника или мельком отметившего это явление наблюдателя». Д. Шостакович отмечает для себя и его внимательность и умение слушать собеседника.
Откуда же тогда у великого поэта появилась эта жуткая личина – личина садиста – параноика, захлебывавшегося в реках крови, наслаждающегося воплями и стонами терзаемых людей.
Откуда немыслимая ненависть, жажда неистового мщения? За что и кому? И здесь же мотивы одиночества, тоски и постоянное присутствие мыслей о самоубийстве причудливым образом, переплетающиеся с садистскими эротическими фантазиями? Интересно, переживал ли эти чудовищные фантазии сам поэт? Скорее всего, нет. Ведь сам то он никого не терзал, не мучил, не убивал, не насиловал, и не испытывал тех апокалиптических кошмаров, которые выкрикиваются его лирическим героем.
В. В. воспитывался в бедной семье, рано остался без отца. Испытывал и голод и нужду. Учился прилежно, обнаруживая недюжинные способности к словесности и рисованию. Что же вызвало стремление конструировать свою новую личность? Может быть, раннее вступление на путь революционной борьбы, ранние тюрьмы в юношеском возрасте по политическому разряду, работа в подполье? Оттуда и ненависть к сытым, сочащимся, обрюзгшим жиром буржуям и лавочникам. Как эти чувства можно было выразить, если не в стихах?
И здесь, слишком удачно для молодого поэта, он сближается с футуристами.
Маяковский с восторгом ощутил в этой среде близкий ему дух протеста, дух перемен, дух новаторства.
«К семнадцатому году молодой Маяковский оказался единственным из известных поэтов, у которого не просто темой и поводом, но самим материалом стиха, его фактурой были кровь и насилие. Тот, кто на протяжении нескольких лет сладострастно копался голыми руками в вывернутых кишках и отрубленных членах, был вполне готов перейти к штыку и нагану. На словах, только на словах» (Ю. Карабичевский).
В лирике Маяковского есть достойные образчики ненависти ко всем и всему:
«А если сегодня мне, грубому гунну,// кривляться перед вами не захочется – и вот// Я захочу и радостно плюну,// плюну в лицо вам// Я – бесценных слов транжир и мот».
(«Нате!» 1913 г.).«Вам ли любящим баб да блюда,// жизнь отдавать в угоду?!// Я лучше в баре блядям буду// подавать ананасную воду»
(«Вам!» 1915 г.).И когда //, наконец// на веков верхи став, // последний выйдет день им, – // в черных душах убийц и анархистов// зажгусь кровавым видением»
(«Ко всему», 1916 г.).От ненависти к своему одиночеству, ненужности, неполноценности с мыслями о самоубийстве и в этом тоже ранний Маяковский.
Еще в 1916 году, измученный наигранным равнодушием Л. Ю. и, терзаемый ревностью В. В. сделал странную попытку застрелиться, оставив только один патрон, пистолет дал осечку.
После приезда Лили Маяковский заставил ее играть с ним в гусарский преферанс. Повторно так сыграв с судьбой в 1930 году пистолет уже не дал осечки.
Наиболее ярко тема одиночества, отчаяния и ненужности заключена в стихотворении «Несколько слов о мне самом» (1913 г.). Дождь, тоска и не к кому кинуться. Поэт умоляет, если не людей, то хоть солнце сжалиться и не мучить его. Хоть время – не позволит забыть его, оставить его жизнь в веках. И кончается стихотворение двумя строчками, полными безысходного отчаяния:
«Я одинок, как последний глаз // У идущего к слепым человека!В драме «Трагедия» та же тема:
«Лягу // светлый// в одеждах из лени// на мягкое ложе из настоящего навоза // и тихим//, целующим шпал колени обнимет// мне шею колесо паровоза».Но как прозорлив был поэт, когда в 1918 году в поэме «Человек» он, словами любимой девушки предсказал свой последний выстрел:
«… Смотрит//, как смотрит дитя на скелет// глаза вот такие// старается мимо. «Она – Маяковского тысячи лет:// Он здесь застрелился у двери любимой».Ранняя лирика Маяковского пропитана странным эротизмом. Как будто сексуальные отношения человека вывернуты наружу садистической подкладкой:
«А сами сквозь город, иссохший как Онания,//. С толпой фонарей желтолицых, как скопцы,// Голодным самкам накормим желания,// Поросшие шерстью красавцы самцы (Гимн здоровью, 1915 г.)»или:
«Довольно!// теперь – // клянусь моей языческою силою! – // дайте// любимую// красивую// юную, – // души не растрачу,// изнасилую// и в сердце насмешку плюну ей!» (Ко всему, 1915).или:
«Пройду,// любовницу мою волочу// В какой ночи,// бредовой// недужной// Какими Голиафами я зачат – // такой большой// и такой ненужный». (Себе самому… 1916). «Лысый фонарь// сладострастно снимает// с улицы// черный чулок» (Из улицы в улицу, 1913).И здесь же нежнейшие строки, наполненные страстным отчаянием, неразделенной любви:
«Любовь!// Только в моем воспаленном// мозгу бык ты! Глупой комедии остановите ход!// Смотрите – // срываю игрушки – латы// я,// величайший Дон-Кихот!»
(Ко всему, 1916),или:
«Кроме любви твоей,// мне// нету моря,// а у любви твоей и плачем не выманишь отдых» и далее идут такие строки: «ни один не радостен звон,// кроме звона твоего любимого имени», «дай хоть,//последней нежностью выстелить// твой уходящий шаг».
(Лиличка! 1916).Несмотря на садистически вывернутый эротизм раннего Маяковского, его отношение к женщинам всегда было нежным и внимательным, независимо от того было ли это мимолетное увлечение или продолжительный роман. И не прав был Н. Асеев когда писал: «Он их обнимал без жестов оперных, без густых лирических халтур, он их обнимал – пустых и чопорных, тоненьких и длинноногих дур».
Все женщины В. В. были статны, молоды, красивы и умны. Нет нужды составлять новый «донжуанский список» теперь уже Маяковского, но он может дать фору такому же списку А. Пушкина. Причем иногда любовные отношения Маяковского строились сразу с двумя – тремя женщинами и ко всем он относился с нежностью и любовью. «Вечная» его любовница Л. Ю. (Л. Брик) знала обо всех похождениях своего гражданского мужа (В. В.) и часто санкционировала его любовные связи. Эльза Каган (сестра Л. Ю.), Мария Денисова, Софья Шамардина, художница Антонина Гумилева, художница Евгения Ланг – и все они были в любовной молодой жизни В. В. почти одновременно.
В зрелом возрасте бурный роман с Татьяной Яковлевой не помешал Маяковскому влюбиться в американку русского происхождения Елизавету Зиберт в замужестве Элли Джонс, которая в 1926 г. родила ему дочь Хелен-Патрицию. Этот тайный роман был открыт только через 60 лет после смерти поэта. И страстный, жестокий и последний роман с красавицей Вероникой Полонской, будто бы косвенно явившейся причиной самоубийства В. В. – все эти романы даже в первом приближении не могли сравниться с тем глубинным чувством, которое поэт испытывал в течение 17 лет. Чувство к Лиле Брик. Здесь и страсть, и нежность, и обида, и робкое унижение в мольбе о прощении (разрыв в 1922 году). «Никто из Достоевских персонажей не впадал в подобное рабство», – сказал по этому поводу поэт В. Корнилов (цит. по А. Ваксберг).
Только представить себе, как этот огромный, мощный человек, «горлан – главарь», приводящий в душевный трепет зрителей его выступлений, ползает в ногах у любимой женщины и, рыдая, молит о прощении. И еще раз мы увидим нежную и ранимую душу поэта, скрывающуюся за бронзовой многопудовой маской истукана.
Последние два года жизни В. В. являли собой стечение трагических обстоятельств. Маяковский чрезвычайно тяжело переживал неуспех своей юбилейной выставки «20 лет работы».
Газеты безобразно замолчали это юбилей. Нато Вачнадзе пишет: «… Ни одного хотя бы простого приветствия… получилось сплошное одиночество. Мне его безумно жалко. Он мне показался трагической фигурой». Чувствительный удар нанес провал «Бани», подвергшейся уничтожающей критике в печати. Даже портрет Маяковского и приветствие ему были полностью изъяты из журнала «Печать и революция».
Провалилась затея с преобразованием Лефа в Реф. Все это влекло за собой еще более страшное для великого поэта открытие.
«Увидеть, куда зашла «романтика революции» со всеми лозунгами, которые он воспевал, был способен уже и не очень зрячий. Осознав, какому дьяволу служит его перо, на что он безжалостно разменял свой огромный талант, Маяковский лишился даже призрачной творческой независимости, хотя бы в тех рамках, которые еще давались советской властью, ибо он-то в душе отлично понимал, до какой степени особенно не свободен в неразмыкаемом кругу всесильных и заклятых друзей» (А. Ваксберг).
В конце 1929 г., наступает крах в любовных отношениях с Татьяной Яковлевой (поэту не дали визу для поездки в Париж, где жила его любовь).
Параллельно складываются предельно напряженные отношения с Норой Полонской (она не хотела бросить театр, не хотела разводиться со своим мужем Яншиным).
Маяковский лихорадочно мечется в поисках выхода из этой ловушки. Он то клянется Норе в вечной любви, то угрожает, то оскорбляет, оплевывает.
Везде ему чудятся насмешки, враждебность, унижение. Полонская в ужасе и отчаянии, она просит В. В. обратиться к врачу, отдохнуть, расстаться на какое-то время, но все это лишь усугубляет психическое состояние Маяковского, и он представляется Норе как человек «дошедший до крайней черты». Это происходит на фоне изнуряющего многонедельного гриппа.
И вот сбывается еще одно пророчество поэта: «… А сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою».
Богиня судьбы Ананке в 10 часов 15 минут 1930 года унесла с собой в загробный мир еще одну жертву. Владимира Владимировича Маяковского не стало.
Говоря психиатрическим языком, суицидальный исход был следствием затяжной психогенной депрессивной реакции.
На этом можно было бы, и закончить психопатологический анализ личности поэта. Но я считаю своим долгом человека и психиатра очистить имя Маяковского от грязной сплетни.
Сразу после смерти поэта по Москве поползли слухи о том, что причиной самоубийства Маяковского был сифилис. Этому способствовало официальное сообщение о смерти, где были такие строки: «самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт еще не совсем поправился». «Заклятый друг» поэта М. Горький откликнулся на смерть поэта статьей, где недвусмысленно назвал причиной гибели «Давнюю и неизлечимую болезнь». Для развенчания этих позорных слухов было проведено повторное вскрытие тела поэта (в присутствии работников НКВД) в ночь с 16 на 17 апреля. Как первое, так и второе вскрытие не дало оснований утверждать, что Маяковский ни раньше, ни теперь болел бы сифилисом. Так бесславно закончилась гнусная сплетня, пущенная 12 лет назад известными литераторами из окружения Маяковского. Возможно, она основывалась на мнительности поэта, боязни заражения какой-нибудь болезнью (сифилисом?), что находит свое отражение в лирике Маяковского, где довольно часто встречается слово сифилис. «Улица проваливалась как нос сифилитика», «все эти, провалившиеся носами, знают, я ваш поэт», «по скверам, где харкает туберкулез, где б… с хулиганом, да сифилис». Даже одно из стихотворений так и называется «Сифилис» (1924). Суть этого стихотворения заключается в том, что свиной король Свифт – сифилитик за деньги купил голодную жену негра Тома, и что потом из этого вышло:
«… Но день прошел// и у кож в темноте//
узор непонятный впеплен//
И дети у матери в животе//
онемевали и слепли// и далее…
«И слазило черного мяса гнилье//
с гнилых негритянских костей».
Но, скорее всего дело было так. В 1913 году К. Чуковский познакомил В. В. с Софьей Сергеевной Шамардиной – своей любовницей. (В последующие годы Софья Шамардина была видной функционеркой советских профсоюзов отсидевшая, 17 лет за верность партии в лагерях ГУЛАГА, умершая в 1980 году в доме для ветеранов – большевиков). А тогда в 1913 году «Сонка» была привлекательной, живой и умненькой девушкой, в которую наш поэт страстно влюбился.
Приревновав Сонку к Маяковскому «детский сказочник» наговорил ей всяких порочащих поэта выдумок и просил Сонку остерегаться В. В. Почему то, только в 1918 году К. Чуковский рассказал о судьбе «несчастной» Сонки, «обманутой Маяковским» М. Горькому, присовокупив, что В. В. был болен сифилисом и заразил Сонку.
М. Горький в лучших традициях пролетарского писателя рассказал об этом Луначарскому. Сплетня пошла гулять по Петербургу и дошла до Л. Ю.
Прихватив с собой, как свидетеля В. Шкловского, Л. Ю. поехала для выяснения отношений к М. Горькому. «Буревестник революции» не отрицал своих слов, но и адреса врача, якобы лечившего Маяковского, не дал, сославшись на то, что этот венеролог уехал на Украину.
Но факт, что сплетня существовала не только 12 лет при жизни поэта, но и дошла до советско-российских обывателей последнего времени, не оставляет сомнений.
«De mortuis nil nise bene» – о мертвых ничего кроме хорошего, так гласит латинская поговорка. А закончить хочется проникновенными словами А. Михайлова: «Маяковский ждет нас, дерзкий и беззащитный, воинствующий и ранимый, превознесенный и обруганный, трагический и прекрасный».
Литература
1. Александровский Ю. А. Глазами психиатра. М., 1999.
2. Буянов М. И. Страсти и судьбы. М., 1995. С. 152.
3. Брик Л. Ю. Из материалов о В. В. Маяковском // Литературное обозрение. 1993. № 6. С. 59–70.
4. Бурно М. Е. Сила слабых М., 1999. С. 27–30.
5. Ваксберг А. И. Загадка и магия Лили Брик М., 2003.
6. Гофмейстер В. Портреты // Иностр. литература. 1962. № 8. С. 234–242.
7. Катанян В. В. Лиля Брик. М., 2002 г.
8. Карабичевский Ю. А. Воскресение Маяковского. М., 1990.
9. Маяковский В. В. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1978.
10. Мариенгоф А. Б. Мой век, мои друзья и подруги. М., 1990.
11. Михайлов АЛ. Жизнь Маяковского. М., 2001.
12. Осоргин М. А. Первая эмиграция о Маяковском//Литер. обозрение. 1992. № 3/4. С. 36.
13. Полонская В. В. Воспоминания о В. В. Маяковском // Перспектива-89. М., 1989. С. 352.
14. Руководство по психиатрии М., 1983. Т. П. С. 399–400.
15. Субботин А. Новаяжизнь Маяковского//Урал. 1968. № 7. С. 120–127.
16. Слоним М. Л. Два Маяковских// Литерат. обозрение. 1992. № 3/4
17. Ходасевич В. Ф. Некролог «О Маяковском» //Литерат. обозрение. 1992. № 3/4. С. 33–45.
18. Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. М.: Новое литер. обозрение, 2001.
19. Шершеневич В. В кн. Мой век, мои друзья и подруги. М., 1990. С. 507.
Персоналии
1. Асеев Н. Н. – поэт, переводчик, друг Маяковского, умер в 1963 г.
2. Вачнадзе Нато – народная артистка Грузии, лауреат государственных премий, погибла в 1953 г. в авиакатастрофе.
3. Ганнушкин П. Б. – русский психиатр, профессор, автор учения о пограничных состояниях. В 30-е годы 20 века – директор Преображенской больницы для душевно-больных в г. Москве.
4. Гофмейстер Адольф – выдающийся чешский художник, писатель, общественный деятель.
5. Карабичевский Ю. А. – русский эссеист, прозаик, поэт. Диссидент, печатался в альманахе «Метрополь» и «Тамиздате». Покончил самоубийством в 1992 г.
6. Михайлов А. А. – литературовед, критик, профессор, главный редактор академического собрания сочинений В. Маяковского.
7. Мариенгоф А. Б. – поэт, прозаик, драматург, теоретик имажинизма.
8. Осоргин М. А. – журналист, литературный критик, эмигрант «первой волны». Сотрудник эмигрантских изданий «Последние новости» и журнала «Современные записки». Умер во Франции в 1942 г.
9. Полонская В. В. – кино– и театральная актриса. Последняя возлюбленная Маяковского.
10. Слоним М. Л. – писатель, литературный критик, эмигрант «первой волны». С 1919 года, издатель эмигрантских газет и журналов. С 1941 г. – в США, профессор курса русской литературы.
11. Ходасевич В. Ф. – поэт, прозаик, критик, историк литературы. Умер в 1939 г. в эмиграции.
12. Шершеневич В. Г. – поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Умер 1942 г.
13. Шенгели Г. А. – поэт, переводчик, теоретик литературы. Умер в 1956 г.
14. Шостакович Д. Д. – композитор, народный артист СССР. Умер в 1975 г.
Часть II Эскизы
Материалы к патографии Пушкина[8] д-ра Я. В. Минца
«Это состояние души можно назвать юродством поэта. Оно замечается в Пушкине до самой женитьбы, а может быть еще позднее».
П. И. Бартенев. «Пушкин в Южной России»В то время как на Западе патографическая литература все более разрастается и большинство величайших мастеров слова (по крайней мере, Германии) освещены так или иначе патографически, у нас в России, в этом отношении, сделано очень и очень мало. А один из величайших мастеров слова – А. С. Пушкин, до сих пор патографически совершенно не освещен. Давно уже пора к этому приступить.
Автору этой работы, хотя и не представляется сейчас возможным разработать полной патографии Пушкина (считая это делом будущего), но положить вехи к такой работе в виде указаний на некоторые патографические материалы для выяснения психической конституции Пушкина – представляется возможным, хотя бы на основании тех скудных данных, которые имеются у нас не претендуя на большее.
Словом, мы здесь хотим только наметить ту канву, на которой может быть построена патография Пушкина.
Прежде всего, отметим те наследственные данные, из которых сложилась личность поэта.
Как известно, родоначальником Пушкиных был прусский выходец Радши, выехавший в Россию при Александре Невском. Самое имя Пушкиных пошло от потомка Радши, в шесте поколении, Григория Пушки.
Изучая родословную Пушкина мы можем отметить с одной стороны, целый ряд душевно-больных и резко патологических типов, с другой – лиц творческих одаренных – поэтов и писателей.
Прадед поэта по отцу, Александр Петрович Пушкин умер весьма молодым, в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах; сын его, Лев Александрович, представлял собой ярко патологическую личность: пылкий и жестокий, он из ревности замучил свою жену, заключив ее в домашнюю тюрьму, где она умерла на соломе.
От отца своего поэт унаследовал, с одной стороны, одаренность, поэтический талант, с другой – много психопатических черт. Сергей Львович был известен во всей аристократической Москве своими каламбурами, остротами и стихами; стихотворство было его страстью. Отец поэта был раздражителен и очень тяжел в домашней жизни; нрава был непостоянного, мелочного, попеременно – то мотал деньгами, то бывал неимоверно скуп. Барон Корф считает Сергея Львовича человеком пустым, бестолковым и безмолвным рабом своей жены. Увлекшись религией в пожилом возрасте, он вступил в масонскую ложу. Кроме отца мы встречаем в семье Пушкина еще несколько лиц поэтически одаренных: Василий Львович (дядя поэта) пользовался славой хорошего стихотворца; также был известен своими стихами младший брат поэта – Лев Сергеевич Пушкин. Лев Сергеевич отличался своими «странностями» и чудачествами.
Мать поэта происходила из рода Ганнибалов, родоначальником которого был известный Абрам Петрович Ганнибал, африканский негр, подаренный Петру Великому турецким султаном. Как у родоначальника, так и у всех потомков Ганнибала мы можем отметить резко выраженные психопатические черты характера: Абрам Петрович был очень сварлив и неуживчив и постоянно ссорился со своими сослуживцами; будучи необузданно ревнив, он отличался в семейной жизни своеволием и скупостью. Сын его Петр был алкоголик, другой сын Осип, умерший от «невоздержанной жизни», отличался «пылкой страстью» и «легкомыслием», вследствие чего его брак с дочерью Алексея Федоровича Пушкина был «несчастным» и окончился разводом.
Как мы видим, мать Пушкина, Надежда Осиповна Ганнибал и отец поэта были в родстве.
Надежда Осиповна была женщиной вспыльчивой, эксцентричной, взбалмошной и рассеянной до крайности. Все эти черты характера поэт унаследовал от матери, как мы увидим ниже.
Таким образом, из этих, правда, скудных данных мы видим, что Пушкин был отягчен как по материнской, так и по отцовской линии. Литературную же одаренность он получил по отцовской линии.
Переходя к анализу личности поэта с психопатологической стороны, мы должны заранее сказать, что не собираемся сейчас дать исчерпывающий патографический анализ личности поэта. Мы отметим лишь некоторые выпуклые и ярко бросающиеся в глаза моменты в пато-психической структуре личности Пушкина.
Самым характерным и ярким, что в его личности бросается в глаза, даже и не специалистам, так это – резкая неустойчивость его психики, имеющая ярко выраженную цикличность смены настроения, далеко выходящая за пределы нормальной ритмичности настроений обыкновенных здоровых людей. Если мы обратимся к материалам, иллюстрирующим доподлинную, (а не искусственно панегирическую) биографию Пушкина, то все течение его психической жизни, в ее сменах настроений, пришлось бы графически изобразить в виде волнистой кривой с крутыми колебаниями и подъемами то вниз, то вверх. Эти колебания будут соответствовать колебаниям его бурной психики, то в форме резкого возбуждения, то в форме депрессии. Эта волнообразность, правда, будет протекать с известной периодичностью, но не будет иметь той строгой ритмичности подъемов и спусков, свойственных тем чистым формам маниакально-депрессивных состояний, где регулярно и ритмично депрессия сменяет возбуждение. У Пушкина скорей та часть кривой, которая бы характеризовала подъемы возбуждения, будет преобладать, и доминировать над той частью кривой, которая должна характеризовать депрессии. Это – первая особенность, которую бы можно было отметить. Вторая особенность, которую мы бы могли констатировать – это то, что в последний период его жизни депрессивные приступы стали учащаться и даже, пожалуй, удлиняться. Эта психическая неустойчивость и цикличность психики резко бросалась в глаза даже всем тем из его современников, которые далеки были до каких-либо психиатрических оценок его настроений. «Случалось удивляться переходам в нем» – пишет И. И. Пущин, товарищ Пушкина, в своих заметках о Пушкине.
Правда, современники его и даже его близкие люди, не понимая конституцию психики поэта, часто ложно истолковывали эти резкие смены настроения, приписывая их той или иной мнимой причине, якобы зависящей от его воли и желаний. Так брат его, Лев Сергеевич, говорит: «Должен заметить, что редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его, но он становился блестяще красноречивым, когда дело шло о чем-нибудь близком его душе. Тогда он являлся поэтом и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях».[9]
Точно также А. М. Керн о Пушкине говорит так: «Трудно было с ним сблизиться. Он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен», и нельзя было угадать в каком он будет расположении духа через минуту. Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописано хорош, когда что-либо приятно вдохновляло его. Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи».[10]
Конечно, дело тут не в том, что Пушкин «вяло и несносно» держал себя и был «томительно скучен», потому что «предмет разговора не занимал его», так же и не потому он «становился блестяще красноречивым», что дело шло о чем-нибудь близком его душе и не потому, что он «решался быть любезным», а дело тут в том – в какой фазе маниакально-депрессивного состояния находился Пушкин в данный момент – в депрессивной или в маниакальной. – И верно подметила А. М. Керн в Пушкине: что «он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно», так как он не мог их скрывать в силу конституциональных особенностей маниакально-депрессивного состояния, а не потому, что хотел или «решался быть любезным», или «томительно скучным».
Теперь перейдем к иллюстрации тех моментов из биографии Пушкина, которые характеризуют вышеупомянутую кривую в ее подъемах и спусках. Причем оговариваемся, что ниже приводимые иллюстрации для этой цели являются далеко неисчерпывающим материалом для демонстрирования такой кривой. Эти материалы могут служить лишь канвой, для попытки построения такой кривой, и этим могла бы быть охарактеризована маниакально-депрессивная психическая конституция Пушкина, а еще вернее было бы сказать – маниакально-депрессивный компонент психической конституции Пушкина, так как, по нашему мнению в сложную психику Пушкина должны входить еще и другие компоненты, помимо маниакально-депрессивного.[11] Уже с самого раннего детства и юношества замечается эта циклическая смена кривой, которая то вверх (возбуждение), то вниз (депрессия) сменяет одна другую. Так, в раннем детстве – до 7 лет – поэт был толстым, неповоротливым, угрюмым и сосредоточенным ребенком, предпочитавшим – уединение всем играм и шалостям. Вдруг, в возрасте 7 лет, в Пушкине произошла резкая перемена: он стал резвым и шаловливым; родители пришли в ужас от внезапно проявившейся необузданности. Испытав все меры к его «укрощению», они успокоились на мысли, что ненормальность природы их сына ничем исправить нельзя.
На 8-ом году Пушкин стал сочинять комедии и эпиграммы: 12 лет поэт поступил в лицей. Здесь он поразил всех товарищей ранним развитием, раздражительностью и необузданностью; опять таки здесь отмечается, что характер его был неровный: то расшалится без удержу, то вдруг задумается и долго сидит неподвижно. «Видишь его поглощенным не по летам в думы и чтение», и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства из-за каких-то пустяков: из-за того, что другой перебежал его или одним ударом уронил все кегли.
«Пушкин с самого начала пребывания в Лицее был раздражительнее всех и потому не возбуждал общей симпатии», – рассказывал Пущин в своих воспоминаниях.
Учился Пушкин очень небрежно и только благодаря хорошей памяти смог сдать хорошо большинство экзаменов; он не любил математики и немецкого языка.
Поэт окончил лицей 18 лет. По описанию его друзей он был среднего роста, широкоплечий, худощавый, имел темные курчавые волосы, светло-голубые глаза, высокий лоб, смуглое небольшое лицо и толстые губы. Во всех его движениях видна была робость; он был очень неровен в обращении: то шумливо весел, то грустен, то робок, то дерзок. С этого периода, т. е. с 1817 года по 1820 год он живет в Петербурге, где поступает на службу.
Этот период характеризуется резкими приступами возбуждения, повышенного тонуса всех жизненных отправлений, далеко выходящего за пределы нормального повышения психического тонуса, свойственного юноше такого возраста. Здесь характерны данные воспоминаний современников о Пушкине этого периода. Приведем воспоминания барона Корфа, относящиеся к тому времени: «Пушкин был вспыльчив до бешенства,[12] вечно рассеянный, погруженный в мечтания, с необузданными страстями. Характерная черта души поэта полная неуравновешенность, готовность отдаться впечатлениям, способность глубоко, но мимолетно их переживать». И действительно в Петербурге он предается вихрю развлечений и разврата; дни и ночи он проводит в оргиях и вакханалиях, предаваясь разгулу и разврату, низводивших его не раз на край могилы; о его бесконечных дуэлях, странностях и выходках говорил весь Петербург. Отдыхает он и предается серьезному литературному творчеству только тогда, когда бывает, болен венерическими болезнями.
Для характеристики приведем отрывки писем современников:
Тургенев пишет Вяземскому: 18/ХП 1818 года: «Сверчок (название Пушкина, как члена Арзамасца) прыгает по бульвару и по Б…, – Но при всем беспутном образе жизни его он кончает четвертую песнь поэмы. Если еще два или три…, так дело в шляпе. Первая… болезнь была и первой кормилицей его поэмы» (Остафьевск, архив, ч. 1, стр. 174).
«Старое пристало к новому и пришлось ему опять за поэму приниматься – радуется Вяземский – Венера пригвоздила его к постели» (Там же стр. 191).
«Пушкин простудился, дожидаясь у дверей Б…, которая не пускала его в дождь к себе для того, чтобы не заразить его своей болезнью. Какая борьба великодушия, любви и разврата». (Тургенев в письме от 1819 г. Там – же стр. 253).
В одной из черновых тетрадей Пушкин кается в своих грехах и их последствиях таким образом:
«Я стражду 8 дней С лекарствами в желудке С меркурием в крови С раскаяньем в рассудке».Петербургский период (после окончания Лицея) психическое состояние Пушкина, как нельзя ярче, характеризуется как состояние резкого возбуждения. Возбуждение этого периода превосходит, по интенсивности и, пожалуй, по деятельности, все до сих пор бывшие приступы возбуждения юношеского периода. Этот период прерывается вскоре резкой депрессией.
В 1819 году наступил приступ резкой меланхолии: в письмах к друзьям он говорит о полной апатии, об омертвелости духа, о недоступности каким бы то ни было впечатлениям; он пишет об утрате поэтического вдохновения.
«И ты моя задумчивая лира найдешь ли вновь утраченные звуки».Был ли это приступ депрессии, за этот Петербургский период, единственным или были еще такие приступы – мы не знаем, но вскоре наступает фаза возбуждения. Возбуждение настолько резко, что Пушкин сталкивается всюду с окружающим из его среды. В связи с его скандальным и вызывающим поведением (связанным, несомненно, с его патологически возбужденной психикой), Пушкин высылается административно из Петербурга (возбудивши против себя тогдяшнюю бюрократию) в распоряжение генерала Инзова, в Екатеринослав.
К этому времени, приблизительно, у Пушкина наступает новый более длительный период депрессии. За это время Пушкин не подавал о себе никаких вестей близким и друзьям до половины сентября месяца. Пушкин, обычно любивший делиться своими впечатлениями, вдруг, чуть ли не полгода, не пишет. Что с ним случилось? Об этом мы можем судить по письму к брату Л. С. Пушкину, написанному в сентябре 1820 года:
«Милый брат, я виноват перед твоей дружбой, постараюсь изгладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами. Начинаю с яиц Леды. Приехав в Екатеринослав я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку по обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги для меня вечно не забытые) предложил мне путешествие к Кавкасским[13] водам; лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить. Инзов благословил меня в счастливый путь. Я лег в коляску больной, через неделю вылечился. Два месяца жил на Кавказе; воды были мне очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие…»
В другом письме к барону Дельвигу от 1824 г. описывая это свое путешествие на юг, он, между прочим, пишет: «В Бахчисарай приехал я больной». Описывая далее развалины дворца и фонтана и проч., он тут же замечает:
«…… но не тем В то время сердце полно было – лихорадка меня мучила…»Итак, эту «горячку» или «лихорадку», о которой говорит Пушкин, он «схватил по обыкновению», как он выражается в письме к брату. Мы знаем, что до этого в Петербурге он никакой такой лихорадкой, как мы бы могли думать о периодических приступах малярии или какой-либо другой инфекционной болезни и которая бы его трепала «по обыкновению» (значит периодически) – он не страдал. Мы знаем, наоборот, что до высылки из Питера он был в сильно возбужденном нервном состоянии – вел разгульный образ жизни, натворил величайшие безумства, и поведение его вообще указывает, что он находился в ненормальном и сильно возбужденном состоянии, соответствующему маниакальному или гипоманиакальному.
Поведение его настолько ненормально, что заставляет тогдашнюю администрацию выслать его из Петербурга.
По-видимому, это возбуждение сменяется, ко времени высылки, депрессивным приступом, сменявшимся за тем возбуждениями, называемыми Пушкиным «горячкой» или «лихорадкой». Депрессивный приступ этот, сопровождаемый глубоким упадком телесных и духовных сил, и затем возбуждением по-видимому, он переживает не впервые, ибо он сам отмечает, что он наступил у него «по обыкновению».
В эту же пору депрессии творчество Пушкина замирает и становится вдруг ему недоступно. Замечается резкий упадок творческих сил как никогда (такие приступы отсутствия творчества у Пушкина было неоднократно). Им овладевает то нравственное омертвение, когда психический тонус понижается на столько, что на южное великолепие картин природы он глядит со странным равнодушием, которому сам впоследствии удивляется. За четыре месяца этого периода, май – август 1820 г., написаны им только две коротенькие Элегии, носящие имя «Дориды» и не законченный отрывок «Мне бой знаком, люблю я звук мечей», да еще эпиграммы на Аракчеева.
Также во время пребывания на Кавказе, в этот период, написан лишь эпилог к «Руслану и Людмиле» и здесь об упадке его творческих сил он делает сам горькое признание:
«На скате каменных стремнин Питаюсь чувствами немыми И чудной прелестью картин Природы дикой и угрюмой; Душа как прежде, каждый час Полна томительною думой, Но огонь поэзии угас. Ищу напрасно впечатлений. Она прошла пора стихов, Пора любви, веселых слов Пора сердечных вдохновений. Восторгов каждый день протек И скрылась, от меня на век Богиня тихих песнопений…».Позже когда он стал выздоравливать:
«И ты моя задумчивая лира, Найдешь ли вновь утраченные звуки» («Желание» 1821).И, наконец, в первой песне «Евгения Онегина» возобновляется:
«Адриатические волны. О Брента. Нет, унижу вас И вдохновенья снова полный Услышу Ваш волшебный глас».Напрасно хотят авторы приписать этому упадку творчества, как причину, затаенную какую-то любовь.
Те же черты необузданности, приступов возбуждений мы встречаем в период изгнания, в Кишиневе и Одессе. Бартенев так описывает период жизни в Кишиневе «у Пушкина отмечаются частые вспышки неудержимого гнева, которые находили на него по поводу ничтожнейших случаев жизни. Резко обозначалось противоречие между его повседневной жизнью и художественным служением; в нем были два Пушкина: Пушкин – человек, Пушкин – поэт». Начальник его в Кишиневе получал бесконечное число жалоб на «шалости и проказы» Пушкина; драки, дуэли и т. п. похождения служили темой постоянных толков.
Этот период, наиболее выраженный в патологическом отношении. Пребывание в Кишиневе отличается скандальной хроникой его жизни, и недаром биографы этот период обозначают, как период сатанизма.
Анненков (Вестник Европы 1873–74 «О Пушкине по новым документам») по поводу Кишиневского периода касаясь найденной тетради с изображением чертей и «всяких гадостей», говорит: «Надо быть в патологическом состоянии, чтобы подолгу останавливаться на производстве этого цикла» и относит эти произведения прямо к душевной болезни Пушкина. В свое время это мнение Анненкова вызвало резкое недовольство и протест среди поклонников Пушкина. Некоторые же из Петербургских журналистов в то время также были того мнения, что многие эскизы Пушкина изобличают такую «дикую изобретательность, такое горячечное свирепое состояние фантазии», что приобретают уже значение симптома душевной болезни. Другие же готовы были считать даже некоторые проявления его психики, как симптомы душевной болезни. Вообще, Кишиневский период характеризуется сильными приступами возбуждения, которые сопровождаются цинизмом, граничащим с порнографией, авантюризмом, скандалами, драками, дуэлями из-за любовных приключений.
Вот несколько любовных скандалов: Пушкин был в связи с женой помещика Инглези. Муж, узнав, запер ее чулан, а Пушкина вызвал на дуэль. За этот скандал Пушкин был посажен, его начальником Инзовым, на 10 дней на гауптвахту. Жены Кишиневских нотабелей Мариола Ралли и Аника Саидулаки, по-видимому, были тоже в числе возлюбленных Пушкина. Можно думать, что у него была связь с Мариолой Баят, молодой супругой члена Верховного Совета Годараки Баята, но связь эта скоро прервалась. Красивая Мариола затаила злобу на Пушкина и преследовала его разными обидными намеками, так что он в конце концов вызвал на дуэль, а потом ударил по лицу ее мужа – почтенного и уже пожилого боярина. Это дело повлекло для Пушкина новое заточение под арестом (Цит. по Губеру. Дон-Жуанский список, стр. 69).
Приступы возбуждения Кишиневского периода можно считать как один из наиболее сильных приступов возбуждения.
Кроме того, в этот период возбуждения (а может быть и несколько раньше) примешивается и новый психотический компонент в развитии его психики, отчего маниакально-депрессивные состояния с этого времени получают несколько иную окраску, другой колорит, а потому Кишиневский период надо еще считать и переломным в развитии его психики. Этот новый психотический компонент есть шизоидный компонент.
Тот «сатанизм», о котором говорят различные литературные критики и литературные историки, точно также, как и «байронизм», начавшиеся именно в эту эпоху жизни Пушкина (или несколько раньше) – есть именно результат развернувшегося в психике Пушкина шизоидного начала. Это шизоидное начало, развиваясь на фоне маниакально-депрессивных состояний, в дальнейшем изменит ту более правильную смену возбуждения и депрессии которая была характерна для первого периода жизни Пушкина – периода ссылок и репрессий. В дальнейшем характер маниакально-депрессивных состояний, благодаря шизоидному компоненту, меняется.
Приступы возбуждения развиваются не так ярко и резко, зато приступы депрессии делаются, как будто, длительнее, чаще. Тут, конечно, необходимы более детальные исследования, чтобы эти моменты более определенно осветить, что. в дальнейшем и должно быть сделано. Здесь мы пока только это намечаем.
Краткий Одесский период также характеризуется аналогичными состояниями его психики, что и в предыдущих: возбужденное состояние, ажитации, повышенный сексуализм и связанное с этим агрессивное поведение, с авантюризмом и скандальными выходками. Этим вызывается и его новая высылка из Одессы.
Из Одессы поэт был выслан в село Михайловское, где он прожил несколько лет. В 1825 году отмечается снова резкое угнетенное настроение, тоска, резиньяция и разорванность со своими. «Я не могу больше работать» – пишет сам Пушкин, – «здесь на берегу реки я хотел бы построить себе хижину и сделаться отшельником». Вообще, как уже выше было сказано, в эту эпоху жизни и в последующие годы бросаются в глаза менее приступы возбуждения, более приступы депрессии.
В 1827 году он стал избегать людей. В обществе бывал редко, а если и бывал, то или скучающим, или придирчивым, озлобленным и неприятным.
По свидетельству А. П. Керн, Пушкин в эту зиму часто бывает мрачным рассеянным и апатичным. В нем проявляется недовольство самим собой и другими.
Под влиянием какой то безотчетной тоски Пушкин то едет в Москву, то в Петербург. К концу года это состояние временно проходит, но вскоре он опять начинает «хандрить». В это время он пишет:
«Дар напрасный, дар случайный, Жизнь зачем ты нам дана? Цели нет передо мною Сердце пусто, празднен ум, И томит меня тоскою Однозвучный жизни шум».И эта тоска все более его пожирала, несмотря на растущую славу поэта.
Наблюдатель, видевший Пушкина в Москве в начале 1827 г., очень тонко подметил и моменты тяжелых приступов депрессии.
«Судя повсему, что я здесь слышал и видел Пушкин здесь на розах. Его знает весь город, все им интересуются, отличнейшая молодежь собирается к нему, как древле к великому ларуэту собирались все, имевшие хоть немного здравого смысла в голове. Со всем тем Пушкин скучает. Так, он мне сам сказал… Пушкин очень переменился наружностью страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение, впрочем, он, весь тот же – так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселого смеха к задумчивости и размышлению».[14]
Из последующей эпохи его жизни к его вечно возбужденному состоянию примешивается возрастающее чувство ревности, пожиравшее его и ухудшавшее его самочувствие все сильнее и сильнее, несмотря на то, что приступы возбуждения как будто и ослабли. Таково было его состояние во время женитьбы и в последующей брачной жизни. Здесь ревность уже превращается в нечто бредовое, шизоидные элементы сказываются все более и более. Тоска, скука, замкнутость настолько начинает доминировать, что в 1835 году стали замечать сильное изменение характера Пушкина: он стал желчным, обозленным, подозрительным, все окружающие кажутся ему врагами, в каждом слове ему чудится намек или оскорбление. В 1837 году все стали замечать, что Пушкин сделался, прямо каким-то ненормальным. По-видимому, в одном из депрессивных состояний он добивался той роковой дуэли, во время которой смертельная рана подсекла его жизнь.
В связи с приступами маниакально-депрессивного состояния у Пушкина, мы должны связать другую яркую особенность его психики. А именно: его резко патологическую сексуальность, выражавшуюся в чрезмерной похотливости, сексуальном цинизме и извращений половых влечений. О своей патологической сексуальности сам Пушкин в одном послании к Ф. Ф. Юрьеву так описывает себя:
«А я повеса вечно праздный, Потомок негров безобразный Взрощенный в дикой простоте, Любви не ведая страданий, Я нравлюсь юной красоте Бесстыдным бешенством желаний». (Цит. по Губеру: «Дон-Жуанский список Пушкина». Петроград, 23).«Бешенство желания» носило прямо резко патологический характер похотливости, о чем ярко свидетельствуют его современники. Лицейский товарищ поэта – Комовский (статьи и материалы Грота изд. 2-е «Пушкин его лицейские товарищи и наставники») характеризует его таким образом: «Пушкин любил приносить жертвы Бахусу и, вернее, волочился за хорошенькими актрисами гр. Толстого, при чем проявлялись в нем вся пылкость и сладострастие африканской природы. Пушкин был до того женолюбив, что, будучи еще 15 или 16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей, во время лицейских балов, взор его пылал, и он пылал, и он пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна».
Другой его лицейский товарищ, знавший его хорошо, барон М. А. Корф так говорит о нем (цит. там же): «В лицее он превосходил всех чувственностью, а после в свете, предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Должно дивиться как здоровье и талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались и частые гнусные болезни, низводившие его часто на край могилы. Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви, или истинной дружбы. У него господствовали только две стихии: удовлетворение чувственным страстям и поэзия; и в обоих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств, и он полагал даже какое то хвастовство в отъявленном цинизме по этой части. Злые насмешки часто в самых отвратительных картинах над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над родственными привязанностями, над всеми отношениями общественными и семейными – это было ему нипочем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил более и хуже нежели, в самом деле думал и чувствовал. Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанными историями, частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами Петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата».
И действительно цинизм, утонченный разврат, стратегия сластолюбца – соблазнителя – заполняла другую часть содержания жизни Пушкина и, что замечательно, когда он заболевал венерической болезнью, друзья его радовались: наконец-то он прикованный напишет в уединении, большое произведение.
При встречах с женщинами Пушкин мгновенно загорался, стремительно и бурно налетала на него любовь и также скоро угасала в нем. «Натали (говорит он про свою жену) – моя сто тринадцатая любовь» – признавался он княгине Вяземской.
Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых знал «(говорит он в другом месте). Все они изрядно надо мной посмеялись, все, за одним единственным исключением, кокетничали со мной».
Из этого надо делать вывод, что и к серьезной и глубокой любви Пушкин не был способен, и что здесь, как и вся его натура, была поверхностна в отношении любви. Ему нужно было легкое отношение к женщинам. Если же женщина была ему недоступна, в смысле физического обладания, то он буквально готов был сойти с ума и нарастающее чувство обычно протекало как тяжелая болезнь, сопровождаемая бурными пароксизмами.
Еще более замечательно, что даже известная содержательница публичного дома в Петербурге Софья Астафьевна жаловалась полиции на «безнравственность» Пушкина, который «развращает ее овечек».
Отсюда понятно будет, почему в тогдашних светских и бюрократических кругах общества, где бывал Пушкин, его боялись, как развратника настолько, что в результате правительству приходилось ссылать его куда-нибудь в ссылку. Его высылали в Одессу, Кишинев. Здесь его поведение принимало тот же характер и его высылали в другое место и т. д.
О том, как боялись цинизма и развратного поведения Пушкина характеризует и следующий отрывок из дневника соседа по имению А. Н. Вульфа: «Я видел Пушкина, который хочет ехать с матерью в Малинники. Мне это весьма неприятно, ибо от того пострадает доброе имя сестры и матери, а сестре и других ради причин, это вредно («Пушкин и его современники», выпуск XXI, стр. 19).
Как все патологические эротоманы Пушкин был фетишист: образ женской ноги всего ярче зажигал его эротическую фантазию. Это общеизвестно, об этом свидетельствуют многочисленные стихи и, рисунки, набросанные в черновых его рукописях.
Один ученый и Пушкинианец – проф. Сумцов – написал специальную работу о женской ножке в поэзии Пушкина.
Если о фетишизме Пушкина ученый мог написать работу, то тем более можно написать целую книгу о патологической ревности Пушкина, которая могла принимать у него фантастические размеры, и которая всегда была злокачественным осложнением патологической сексуальности Пушкина, Ревность Пушкина поедом ела его в продолжение всей его жизни, по всякому ничтожному поводу, и приняла грандиозные размеры во время женитьбы Пушкина.
Сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева в одном письме так характеризовала страдания брата в начале 30-х годов: «Брат говорил мне, что иногда чувствует себя самым несчастным существом – существом близким к сумашествию, когда видит свою жену разговаривающей и танцующей на балах с красивыми молодыми людьми: уже одно прикосновение чужих мужских рук к ее руке причиняет ему приливы крови к голове и тогда на него находит мысль, не дающая ему покоя, что жена его, оставаясь ему верной может изменять мысленно… Александр мне сказал о возможности не физического предпочтения его, которое по благочестию и благородству Наташи предполагать в ней просто грешно, но о возможности предпочтения мысленно других перед ним». (Из семейной хроники «Воспоминания о Пушкине» – А. Павлищева, стр. 298).
Вообще вся семейная драма Пушкина, приведшая его к роковому концу, разыгралась на почве этой патологической ревности.
Пушкин, видя в женщине предмет чувственного обожания, в то же самое время если не вполне ненавидел женщину то, по крайней мере, ее очень и очень низко ставил: он считает ее существом низшего порядка, лживым, злым, коварным и душевно грубым.
В эстетическую чуткость женщины он совершенно не верил, он говорил: «Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью, самою раздражительною, едва – ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, недосягая души; они бесчувственны к ее гармонии», (цит. Дон-Жуанский список, стр. 29).
Тут напрашивается невольно один вопрос: как Пушкин, певший столько дифирамб женской ножке, любви, автор страстных элегий, комплиментов, признаний, пестрящих в букете его творчества и в то же самое время дает такой отзыв о женщине и высказывает такое отношение к ней.
Здесь больше всего сказывается патологическая сексуальность Пушкина, которая служила ему лишь объектом возбуждения в самом грубом смысле для его творчества, как водка для алкоголика, который, презирая в душе эту водку, не может от нее отстать.
Это отношение к женщине, в одну из трезвых своих минут, Пушкин высказал в следующем стихотворении:
«Стон лиры верной не коснется Их легкой ветреной души; Нечисто их воображенье Не понимают нас они, И признак Бога вдохновенье Для них и чуждо и смешно Когда на память мне невольно Придет внушенный ими стих Я содрогаюсь, сразу больно Мне стыдно идолов моих. К чему несчастный я стремился? Пред кем унизил гордый ум? Кого восторгов чистых дум Боготворить не устыдился?»Так раскаивается и стыдится Пушкин за свою патологическую эротоманию, как алкоголик в минуту трезвости, ибо у трезвого Пушкина женский вопрос решается просто в следующем его четверостишии:
«Умна восточная система И прав обычай стариков Оне родились для гарема Иль для неволи теремов».Тем более надо бы добавить к этому четверостишию, что для мученика патологической ревности эта восточная система является единственной гарантией, при которой он мог быть покоен.
Итак, мы отметили в жизни Пушкина его главные и наиболее выпуклые из циклических смен периодов возбуждения с периодами депрессии. Первую резкую перемену в характере Пушкина мы отметили в возрасте 7 лет: угрюмый, сосредоточенный в себе до этого возраста, он вдруг сделался резвым и шаловливым, чем привел в ужас своих родителей. В то же время, т. е. на 8-м году он стал сочинять комедии и эпиграммы. Затем в возрасте 12 лет, когда он был уже лицеистом, отмечается также периодическая смена настроения и неустойчивость психическая: то необузданно-раздражителен до приступов бешенства из за пустяков или шумно и неестественно весел, то чересчур грустен, тосклив и депрессивен.
Далее, по окончании Лицея, в Петербургский период, т, е. в промежуток 1810–20 г. этот размах возбуждения, все более и более возрастает. Здесь в связи с крайней степенью возбуждения связывается самый разнузданный разгул, разврат, цинический и извращенный сексуализм, агрессивное поведение и столкновения со своей средой. Этому сильному размаху возбуждения, следует сильный приступ депрессии в 1820 году, который длится полгода. Вместе с этим творческая бесплодность. Затем новый приступ возбуждения дает Кишиневский период, где кривая возбуждения достигает предела. Разгул, разврат, драки, скандалы, агрессивность, дуэли, повышенный и извращенный сексуализм и проч. характеризуют также этот период.
С этого момента начинают развертываться новые элементы шизоидного характера, бывшие до сих пор не так развитыми. Все ярче и ярче проявляется «Сатанизм» и «Байронизм», как результат развертывающегося шизоидного начала; В 1825 году снова появляется резко угнетенное настроение. тоска и разорванность со светом. С каждым годом приступы меланхолии делаются чаще и чаще, но и в то же время теряют тот характер чисто эмоциональных депрессий, а скорей принимают характер шизоидной скуки и замкнутости.
В 1827 году он стал избегать людей, в обществе бывает редко. В состоянии резкой тоски и меланхолии он переезжает из одного города в другой. Возбуждения не имеют того характера, свойственного периоду ссылок. Женитьба не улучшила состояние поэта; в 1835 году характер его резче, меняется, он стал подозрителен и желчен. Вскоре все стали замечать, что Пушкин сделался каким то ненормальным.
Все эти приступы периодических возбуждений с периодическими депрессиями, как мы уже отметили выше, нельзя характеризовать как чистые формы маниакально-депрессивных состояний, ибо здесь примешивается целый ряд моментов и психике Пушкина, заслоняющих, или вернее изменяющих картину чистой формы маниакально-депрессивного состояния настолько, что невольно можно думать о другой диагностике. Помимо шизоидного компонента (уже выше отмеченного), разыгрывающегося на фоне маниакально-депрессивных состояний, необходимо отметить еще возможный и другой элемент. Это – аффект – эпилептический компонент, имеющийся в психике Пушкина, дающий чрезвычайную аффективную вспыльчивость и агрессивность, ревность и чрезвычайно резкие смены настроения в очень короткий промежуток времени. Это тем более необходимо подчеркнуть, когда мы вспоминаем необузданную также аффект-эпилептическую психику его африканских предков по линии матери.
Что касается шизоидного компонента в психике Пушкина, благодаря развитию которого Кишиневский период, а может быть еще раньше – Кавказский период – получает значение поворотного пункта в развитии его психики то он должен быть изучен в дальнейшем – особенно, тщательно, ибо, как уже было отмечено, этот шизоидный компонент влияет на дальнейшее течение и характер маниакально-депрессивного компонента, эмоционально-волевая острота маниакально депрессивных состояний теряет постепенно резкость, как бы притупляется. Возбуждение теряет свой чистый характер, спадает, делается реже. Депрессия хотя и делается все чаще и чаще, даже удлиняется, зато теряет свою чисто меланхолическо-эмоциональную окраску чистых депрессий. Шизоидный элемент эту эмоциональную меланхолию превращает все более и более в шизоидную скуку, вялость, тоску апатическую «деревянность» и безразличие. Извращается жизненный тонус; развивается желчность возрастает ревность принимающая характер бредового состояния точно также растет подозрительность и принимает также характер бредовой идеи. По-видимому, если бы не случайная смерть поэта, этот шизоидный компонент всецело завладел бы психикой Пушкина, ибо такова была тенденция этого шизоидного компонента в последние годы его жизни.
Конечно, все эти вопросы должны быть еще более детально освещены. Здесь, как мы уже сказали, мы намечали только канву для такой будущей работы, где также должен еще быть освещен вопрос о влиянии на творчество всех этих патологических моментов.
К патографии Льва Толстого[15] (К вопросу об эпилептических припадках у Льва Толстого) Проф. Сегалин Г. В
О том, что Лев Толстой страдал какими-то припадками, – было известно давно. Еще Ломброзо говорил об этих припадках, определяя эти припадки, как эпилептические, и утверждал, что они сопровождались галлюцинациями, а также считал эти припадки наследственными.
Однако до последнего времени подтверждения в том, что действительно, он страдал такими припадками, – мы не имели.
По крайней мере, не было документальных данных, доказывающих во первых, что припадки действительно имели место у Льва Толстого, и во-вторых, что припадки эти (если доказано, что они были) действительно были эпилептическими, а не какими-либо другими (истерическими, аффект-эпилептическими, или какими-нибудь другими).
Лишь только теперь, когда появился целый ряд документов в печати, можно вопрос этот поставить снова на обсуждение и осветить его в достаточной мере.
Пользуясь такими документами, мы попытаемся осветить этот вопрос с современной точки зрения, не претендуя на освещение этого вопроса полностью.
Прежде всего, проверим этот вопрос: были ли у Льва Толстого какие-либо припадки вообще?
Из новейших литературных документов, касающихся Льва Толстого, мы находим целый ряд подтверждений, что припадками Лев Толстой действительно страдал.
Так, например, подтверждение этому мы имеем в недавно вышедшем дневнике одного из близких друзей Льва Толстого – Гольденвейзера («Вблизи Толстого» – том I и II 1923 г.). Так на странице 312 этого дневника (II тома) мы читаем:
«Из письма О. К. Толстой – 4-го октября 1910 года.
…Узнала, что вчера Л. Н. был болен, обморок, – и что вызывали доктора…»
Письмо Л. К. Чертковой к нам.[16]
«1 1/2 часа ночи 4 октября 1910 г.
Ясеньки Тульской губ.
«Дорогие друзья,
Пишу ночью. Вечером прислали из Ясной (от Саши) «Л. Н. очень плохо… Обмороки…»
Владимир Григорьевич поехал туда и просидел от 7 час. до 1 часу ночи в комнате Душана.
Сейчас Владимир Григорьевич вернулся домой.
Л. Н-чу лучше, пульс восстановлен, и заснул.
Но видеться не пришлось: он очень слаб, все в забытьи…
Оказывается, что утром было тяжелое объяснение у Л. Н-ча с Софьей Андреевной в связи с уходом из дома дочери и ее письма к Варваре Михайловне.
Дай Бог, чтоб эта болезнь Л. Н-ча пробудила бы совесть у Софьи Андреевны и послужила бы ей уроком на будущее»…
«Письмо А. К. Чертковой к нам: «8 октября 1910 г. Ясеньки Тульской губ».
…Л. Н. еще слаб, но уже выезжал верхом……
… Нам рассказывали, что его обмороки (о которых я сообщала) сопровождались ужасными конвульсиями, особенно в ногах… Говорят, вид припадка был ужасный и повторился пять раз в продолжение от 6 до 12 час ночи»……
Затем в дневнике В. Ф. Булгакова (секретаря Л. Толстого) на стр. 336 3-го октября (изд. «Задруга» 1898 года). Читаем:
… Писал сегодня Л. Н. статью о социализме начатую по совету Душана для журнал чешских анархистов. Меня он просил не переписывать ее, а оставить до приезда Ал. Л-ны, зная, что ей эта лишняя работа будет приятна.
Ездил верхом с Душаном. Вернувшись с прогулки, проходил через «ремингтонную».
– Хорошо съездили, без приключений, – улыбнулся он и забрал с собой со стола полученную на его имя с сегодняшней почтой книгу.
И ни он, ни я никак не предполагали того, что должно было случиться сегодня. Случилось это вечером.[17]
Л. Н. заспался, и, прождав его до 7 часов сели обедать без него. Разлив суп, С. А-на встала и еще раз пошла послушать, не встает ли Л. Н. Вернувшись, она сообщила, что в тот момент, как она подошла к двери спальни, она услышала чирканье о коробку зажигаемой спички. Входила ко Л. Н-чу. Он сидел на кровати. Спросил, который час и обедают ли. Но Софье Андреевне почудилось что-то недоброе: глаза Л. Н-ча показались ей странными.
– Глаза бессмысленные… Это – перед припадком. Он, впадает в забытье… Я уж знаю. У него всегда перед припадком такие глаза бывают. Она немного поела супу. Потом, шурша платьем, отодвинула стул, поднялась и снова пошла в кабинет.
Дети – Сергей Львович и Татьяна Львовна – недовольно переглянулись; зачем она беспокоит отца? Но на вернувшейся С. А лица не было.
– Душан Петрович, подите скорее к нему!.. Он впал в беспамятство, опять лежит и что-то такое бормочет… Бог знает что такое!
Все вскочили точно под действием электрической искры. Душан, за ним остальные побежали через гостиную и кабинет в спальню.
Там – темнота. Л. Н. лежал в постели. Он шевелил челюстями и издавал странные, негромкие, похожие на мычание, звуки.
Отчаяние и за ним ужас прокрались в эту комнату.
На столике у изголовья зажгли свечу. Сняли со Л. Н-ча сапоги и накрыли его одеялом.
Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Л. Н. слабо стал водить рукой по одеялу. Глаза его были закрыты, брови насуплены, губы, шевелились. точно он что то пережевывал во рту.
Душан всех выслал из комнаты, Только П. И. Бирюков остался там, присев в кресло в противоположном от постели углу. Софья Андреевна, Сергей Львович, я, Татьяна Львовна и Душан, подавленные, вернулись в столовую и принялись за прерванный обед…
Только что разнесли сладкое, прибежал Павел Иванович.
– Душан Петрович у Л. Н-ча судороги!
Снова бросились все в спальню. Обед велено было совсем убрать. Когда мы пришли Л. Н. уже успокоился. Бирюков рассказывал, что ноги больного вдруг начали двигаться. Он подумал, Л. Н-чу хочется почесать ногу, но подошедши к кровати, увидел, что и лицо его перекошено судорогой.
– Бегите вниз. Несите бутылки с горячей водой к ногам. Горчичники нужно на икры. Кофею, кофею горячаго!
Кто-то отдавал приказания, кажется Душан и С. А-на вместе. Остальные повиновались и вместе с приказывавшими делали все, что нужно. Сухонький Душан бесшумно, как тень, скользил по всем направлениям комнаты. Лицо С. А-ны было бледно, брови насуплены, глаза полузакрыты, точно веки опухли… Нельзя было без боли в сердце видеть лицо этой несчастной женщины. Бог знает, что в это время было у нее на душе, но практически она не потерялась: уложила бутылки вокруг ног, сошла вниз и сама приготовила раствор для клистира… На голову больного, после спора с Душаном, наложила, компресс.
Л. Н. был, однако, еще не раздет. Потом я, Сергей Львович (или Бирюков) и Душан раздели его: мы с С. Л-чем (или Бирюковым – даже не заметил) поддерживали Л. Н-ча. а Душан заботливо, осторожно, с нежными уговариваниями больного, хотя тот все время находился в бессознательном состоянии, снимал с него платье…
Наконец, его покойно уложили.
– Общество… общество насчет трех… общество на счет трех…
Л. Н. бредил.
– Записать, – попросил он.
Бирюков подал ему карандаши и блокнот, Л. Н. накрыл блокнот носовым платком и по платку водил карандашом. Лицо его по-прежнему было мрачно.
– Надо прочитать, – сказал он и несколько раз повторил: разумность… разумность…
Было тяжело, непривычно видеть в этом положении обладателя светлого, высокого разума Льва Николаевича.
– Левочка, перестань, милый, ну, что ты напишешь? Ведь это платок, отдай мне его, – просила больного С. А-на, пытаясь взять у него из рук блокнот. Но Л. Н., молча, отрицательно мотал головой и продолжал упорно двигать рукой с карандашом по платку…
Потом… Потом начались один за другим страшные припадки судорог.
Льву Николаевичу было в момент припадка 82 года, – естественно, что склероз сосудов, несомненно, уже был, об этом свидетельствует также д-р Щеглов, приехавший из Тулы врач в описываемый момент болезни Л. Толстого его секретарем (см. выше) 3 октября 1910 года.
Тем не менее, артериосклеротическое заболевание, как органическое заболевание коры мозга и, следовательно, как причину корковой (Resp. Джексоновской) эпилепсии, мы должны также отвергнуть, не опровергая этим, однако, известного, влияния на течение болезни артериосклероза вообще.
Дело в том, что вся картина болезни Толстого со всем его течением, симптоматологией – совершенно не подходит в рамки корковой эпилепсии.
Во-первых, самая картина припадков не говорит за то, что мы имеем здесь дело с корковой эпилепсией.
При корковой эпилепсии обычно в припадке судорог участвует не весь мышечный аппарат, а участвует или один орган, или парные органы, или половина тела и т. д., потому и называется эта форма еще парциальной (частичной).
Между тем, как здесь, в нашем случае, мы видим описание полного припадка, правда, начинающегося с частичного и правда, в другом припадке, описываемом дочерью – А. Толстой, – мы видели, что весь припадок имел гемиплегический характер, но тем не менее, мы не можем принять эти припадки за кортикальный тип, оба припадка кортикальной эпилепсии именно тем и характерны, что они всегда повторяют один и тот же тип в одних и тех же мускульных группах; раз судороги появились в этой группе, так в этой группе они всегда и настойчиво повторяются; здесь же мы видим, что эти припадки по своему характеру варьируются: то полные, то неполные и т. д. и в небольшой сравнительно промежуток времени.
Кроме того, для корковой эпилепсии очень характерным является наличие частичных судорог при сохранности сознания. Здесь же, в нашем случае у Л. Толстого какую бы форму судорог мы ни констатировали (полную форму, неполную форму) всегда мы видим, налицо – потеря сознания. А потеря сознания при типичных эпилептических припадках является главным признаком (Vildermuth),[18] между тем форма судорог не обязательна, да, судорог может и не быть вовсе, между тем для кортикальной – обязательным признаком должна быть определенно повторяющаяся форма судорог в определенных мускульных группах, а сознание сохраняется. Сохраняются также восприятия органов чувств, во время приступа, между тем при приступах полных эпилептических припадков, или при их замене неполными, восприятия органов чувств выводятся из круга психической деятельности, что мы и наблюдаем также у Л. Толстого в очень характерном виде
Помимо всего этого, вся клиническая картина с ее течением и целым рядом других симптомов, о которых речь будет ниже, противоречит такому предположению.[19] Но еще этим мы отнюдь не хотим считал эти припадки наследственными. Если он считал, то он, значит, имел какие-то основания. К сожалению, у меня лично не имеется под рукой никаких данных для становления правильности мнения Ломброзо, а также данных подтверждающих, что он страдал припадками в молодости. Дальнейшие исследования покажут это. отрицать известного значении артериосклероза на эту его болезнь, – мы только отвергаем артериосклероз, как возможную причину органической или корковой эпилепсии у Толстого.
Единственное, что мы могли бы еще предположить у Толстого при наличии у него артериосклероза, – так это так называемую старческую эпилепсию.
Но, как известно, Crocq,[20] описывая старческую эпилепсию, показал, что старческая эпилепсия является, прежде всего, на ненаследственной почве, а самостоятельной, на почве сенильных изменений и развивается около 70-ти летнего возраста. Проявляется она, по его мнению, очень быстро и выражается моментальным наступлением оцепенения всего тела. Через несколько минут отуманенный больной приходит в себя. Такие приступы могут повторяться довольно часто. Причину этих болезненных явлений Crocq видит в хроническом эндартерите. Trancus bas ilaris, обусловливающимся тем или иным хроническим заболеванием сосудов.
Simpson,[21] также описавший старческую эпилепсию, считает, что эта форма эпилепсии появляется после 60-летнего возраста; появляется она, как в форме Grandmal, так и в форме Petit mal, затем, после эпилептический ступор, по Simpson'y у стариков значительно сильнее, чем у молодых людей, за то поражение умственных способностей у стариков после эпилепсии реже, чем у молодых. Romberg также обращает внимание на то, что старики-эпилептики способны долгое время исполнять свои обязанности вполне правильно без погрешностей.
Все эти описанные этими авторами, а также и другими, формы старческой эпилепсии, связанные с изменениями сосудистой системы, все-таки, не могут быть диагностицируемы у Льва Толстого. Во-первых, появление старческой эпилепсии по Crocq’y на не наследственной почве – не соответствует картине эпилепсии у Льва Толстого, где вся картина болезни именно связывается с наследственностью, что мы увидим после. Также характер припадков по Crocq'y в виде моментальных приступов оцепенений всего тела также не соответствует картине болезни, в нашем случае. Более близко подходила бы форма старческой эпилепсии, описанной Simpsonom, по характеристике болезни которого мы имеем много общих черт с характером заболевания Толстого, (например, самый характер судорожных припадков, отсутствие поражения, умственных способностей и т. д.). Но тем не менее, диагностицировать старческую эпилепсию, как таковую, как связанную исключительно с возрастом старческим, и как связанную этиологически с артериосклерозом у Толстого, мы все-таки, не имеем основания, по соображениям, которые мы приведем ниже, где мы покажем, что припадки Толстого больше связаны со всей его нервно-психической конституцией и с наличием психопатического предрасположения наследственного фактора (что справедливо в свое время отметил и Ломброзо).
Опять – таки, отмечая это, подчеркиваем здесь, что отнюдь мы не хотим отрицать значения артериосклероза вообще, на самое, течение болезни Толстого, отрицаем только – старость и артериосклероз, как единственную основу для этиологии его припадков.
Теперь спрашивается: если мы исключаем генуинную эпилепсию, корковую (Джексоновскую), или органическую, исключаем также, старчество как причину припадков, а также исключаем истерию, как причину припадков, то какую же форму припадков мы имеем здесь у Льва Толстого? Мы имеем все данные диагностицировать эти припадки, как припадки аффективной эпилепсии (в смысле Bratz'a и Крепелина).
По исследованию Bratz'a,[22] аффективную форму эпилепсии необходимо совершенно выделить, как особую форму, совершенно отличающуюся от генуинной эпилепсии, несмотря на то, что эта форма также выражается в судорожных припадках, как и генуинная эпилепсия. Но характерным отличием этой аффективной эпилепсии является то, что эти припадки являются преимущественно после душевных волнений (аффектов), отсюда и название – аффективная, эпилепсия.
Далее, при этой форме эпилепсии бывают припадки Petit mal, головокружения, обмороки, психические эквиваленты, патологические изменения настроения, состояние спутанности и пр. Характерным также при этой форме эпилепсии является то обстоятельство, что припадки эти улучшаются, как только удастся таких больных поставить в условия спокойной обстановки, где нет причин для аффекта.
Но самое характерное для таких больных (и это является резким отличием этих больных от других форм), что у аффект-эпилептиков при наличии у них психопатической предрасположенности никогда не наступает того эпилептического изменения личности, характеризующего эпилептическое слабоумие, которое обычно бывает при генуинной эпилепсии.
Точно также Крепелин[23] выделяет эту форму аффективной эпилепсии, как самостоятельную форму, отмечая все вышеприведенные характерные черты, т. е. также отсутствие эпилептического изменения личности в смысле слабоумия, несмотря на судорожные припадки; также зависимость этих припадков от аффекта и волнения, и вообще все течение этой болезни зависит от влияния внешних обстоятельств (в особенности, волнений), чего при генуинной эпилепсии не бывает.
Кроме того, Крепелин отмечает еще и следующие психические симптомы, свойственные аффективной эпилепсии: чрезвычайно сильная раздражительность, патологические изменения настроения, приступы патологического страха, состояние затемнения сознания с самообвинениями, а иногда с галлюцинациями, бывают также состояния сильного возбуждения, иногда сопровождающиеся затемнением сознания. Бросается также в глаза то, что в этом симптомо-комплексе аффективной эпилепсии содержатся перемешанные между собой симптомы эпилептического и истерического заболевания и что этой аффективной эпилепсии подвержен более мужской пол, нежели женский.
На основании этого, а также на основании всего клинического течения, Крепелин считает это заболевание все-таки ближе к эпилептическому, нежели к истерическому.
Как было сказано, Крепелин считает необходимым для возможности появления аффективной эпилепсии – наличие психопатической предрасположенности.
Имеется ли эта психопатическая предрасположенность у Л. Толстого?
О психопатической предрасположенности у Льва Толстого имеется столько данных, что если бы мы стали приводить здесь все эти данные, – это составило бы отдельную работу.
Достаточно, если мы приведем для характеристики отягченной наследственности Толстого слова одного из представителей рода Толстых – М. Г. Назимовой из ее «Семейной хроники» Толстых.
М. Г. Назимова говорит, что в каждой семье каждого поколения Толстых имеется душевно больной, что действительно можно отметить в генеалогии Толстых. Помимо душевно-больных, еще больше мы имеем в каждой семье членов с психопатическим характером, или имеются препсихотики с шизоидными чертами психики:
Замкнутые, эксцентричные, вспыльчивые, взбалмошные, странные чудаки, авантюристы, юродствующие и склонные к крайнему религиозному мистицизму, иногда сочетаемому с ханжеством, крайние эгоисты, сенситивные и проч.
К таким типам, между прочим, принадлежит один из двоюродных дядей Толстого, известный под именем «Американца».
Что касается прямой отягченности, то мы можем отметить про некоторых из близких членов семьи Толстого следующие данные.
Дед писателя по отцу – Илья Андреевич, представляет из себя патологический тип. Сам Толстой упоминает о нем, как об ограниченном человеке в умственном отношении. Он был очень веселый человек, но его веселость носила патологический характер.
В имении его, Полянах (не Ясная Поляна) в Белевском уезде, в его доме был вечный праздник. Беспрерывные пиршества, балы, беспрерывно торжественные обеды, театры, катания, кутежи – делались совершенно не по его средствам. Кроме того, его страсть играть в карты, совершенно не умеючи играть в эти карты, на большие суммы, его страсть к различным спекуляциям, к аферам денежным, довели его до полного разорения. Если к этому бестолковому и бессмысленному мотовству прибавить еще то, что он совершенно бессмысленно отдавал деньги всякому, кто просил, то неудивительно, что этот, ненормальный человек дошел до того, что его богатое имение жены было запутано так в долгах и разорено, что его семье нечем было жить, и он принужден был искать себе место на службе государственной, что при его связях ему было легко сделать, – и он сделался Казанским губернатором.
Предполагают, что он окончил самоубийством.
Таков был дед.
Бабушка его также была особа ненормальная и, по-видимому, более ненормальная, чем дед.
Дочь слепого князя Горчакова, ее сам Толстой характеризует так же, как очень недалекую особу в умственном отношении. Известно также, что она была очень неуравновешенная и взбалмошная женщина со всякими причудами и самодурствами, мучила своих приближенных слуг, а также родных. Была также взяточница.
Страдала галлюцинациями. Однажды она велела отворить дверь в соседнюю комнату, так как она там видит своего сына (тогда уже покойного) и заговаривает с этим (покойным) сыном.
Из детей этой четы:
Один сын – Илья Ильич (т. е. младший брат отца) был горбатый и умер и детстве.
Дочь Александра Ильинишна (сестра отца Толстого) отличалась мистическим характером, жила в монастыре, держала себя, как юродивая, и была очень неряшлива (по словам самого Льва Николаевича).
Понятно, что здесь речь идет о патологической неряшливости.
Другая дочь – Пелагея Ильинишна также, по-видимому, умственно отсталая, юродивая, мистически настроенная, с тяжелым неуживчивым характером (например, плохо жила с мужем и часто расходилась). Ее религиозность переходила в ханжество.
В конце концов, удалилась в монастырь, впала, в старческое слабоумие (не смотря на религиозность, не хотела при смерти причащаться).
Отец Толстого – Николай Ильич был также человек недалекий. 16-ти лет заболел, по-видимому, какой-то нервной, или душевной болезнью, так что для его здоровья был соединен в незаконный брак с дворовой девушкой.
Из всех сыновей его (значит, братьев Льва Николаевича) – один был определенно нервно психически-больной.
Дмитрий Николаевич. В детстве приступы капризности его были до того сильны, что мать и няня «мучились» с ним. Позже, взрослый, был очень замкнутый, даже с братьями; задумчивый, склонный к мистическому и религиозному юродству, не обращая внимания на окружающих людей; имел странные выходки, странные вкусы, следствием чего был объектом насмешек. Был неряшлив и грязен, являлся без нательной рубашки, одетый только на голое тело в пальто и, таким образом, являлся с визитом к высокопоставленным лицам. Из юродствующего и религиозного вдруг становился развратным временами. Часто делался импульсивным, вспыльчивым, агрессивным, жестоким и драчливым, дурно обращался с слугой своим, бил его. Страдал смолоду тиком, (подергивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука. Умер как, и большинство таких душевно-больных, от чахотки.
Другой брат Толстого – Сергей Николаевич отличался также эксцентричностью и явно патологическими странностями психики. Так, по словам старшего сына Толстого (Льва Львовича) он был «эгоистичный» и «несчастный человек», мало разговаривающий и чрезвычайно замкнутый человек, часто месяцами проводил один, взаперти. «Часто на весь дом раздавалось «его оханье и аханье». Держал себя всегда странным образом и оригиналом.
Выезжал не иначе, как на четверке.
Был чрезвычайно горд и к крестьянам относился с презрением.
Сын Льва Толстого – Лев Львович также отмечает в своих воспоминаниях, что он страдал в течение 5 лет какой-то «нервной болезнью», так что был освобожден от воинской повинности и оправился, будто бы, от этой болезни, когда женился. Таким образом, в психопатической предрасположенности Л. Толстого также нет никаких сомнений.
Если Л. Толстой был подвержен аффективной эпилепсии, то посмотрим, имеются ли характерные симптомы этого заболевания у него, и как они проявляются. Посмотрим сначала, имеется ли один из главных симптомов аффективной эпилепсии зависимость припадков от аффективных переживаний у Л. Толстого?
В самом деле, если, проследить время, когда появляются эти припадки, то всегда бросается и глаза, что они появляются всегда после какого-либо аффективного переживания Льва Николаевича. Будь это семейная сцена, или неприятность другого характера, потрясающая его легко ранимую эмотивную сферу (как мы эти увидим после), он всегда, в конце концов реагировал на это аффективное переживание припадком. Так, описываемые выше припадки с конвульсиями из дневника Гольденвейзера (стран. 312) и из дневника секретаря Л. Толстого – Булгакова относятся к тому тяжелому периоду переживаний, когда у него конфликт с Софьей Андреевной дошел до высшей точки, так что он решился на бегство. Непосредственно эти припадки были вызваны тяжелыми объяснениями по поводу ссоры его дочери с матерью. Эти припадки были чрезвычайно тяжелого характера.
О том, что припадкам всегда предшествовали аффективные переживания неприятного характера также видно из следующего письма Черткова к Досеву от 19 октября 1910 г. (стр. 326 Гольденвейзер «Вблизи Толстого» т. II изд. 1923 г.), где Чертков, говоря относительно только что пережитых припадков 5-го октября 1910 г. вспоминая прежние аналогичные припадочные состояния, пишет таким образом:
«В июле 1908 года Л. Н. переживал один из тех вызнанных Софьей Андреевной мучительных душевных кризисов, которые у него всегда оканчиваются серьезной болезнью. Так было и в этот раз: он тотчас после этого заболел и некоторое время находится почти при смерти».
Тут уже определенно свидетельствуется Чертковым, что почти все душевные кризисы, или вернее, все тяжелые переживания аффективного характера оканчиваются «серьезной болезнью», т. е. припадком. – «Так было и в этот раз» (т. е. в этот раз, когда были припадки), они зависели от душевных волнений. Это ценное наблюдение Черткова действительно» подтверждается: всюду, где только в жизни Толстого отмечается припадок, ему всегда предшествует аффективное волнение. В периоды же, когда Л. Н. не имел этих волнений, у него припадков не бывает.
Таким образом, в аффективном характере этих припадков нет никаких сомнений, и диагностицировать у него аффективную эпилепсию мы имеем полное право, тем более, что весь его психический склад, и целый ряд симптомов, течение этой болезни, как эго мы увидим, все говорит в пользу такой диагностики.
Так, отмеченные выше Bratz» OM симптомы: обмороки, головокружения, приступы Petit mal состояния спутанности патологические изменения настроения, как симптомы, характерные для этой именно формы эпилепсии, – мы также находим у Льва Толстого.
Мы находим, например, у Льва Толстого симптомы такого головокружения, во время приступа которого он мог терять равновесие и падать на землю, что ясно следует из следующих отрывков другого литературного документа. Так, в «Записках Маковицкого» (Голос Минувшего – 1923 г. № 3) мы читаем следующую запись:
«17 октября 1905 г.
Сегодня утром Л. Н. после того, как вынес ведро и возвращался к себе, упал в первой кухонной двери, ведро выскочило у него из рук. Его увидал лакей Ваня, когда он уже поднимался. Сам встал, взял ведро, пришел к себе и прилег на диван. Был очень бледен. Пульс слабый, губы бледные, уши прозрачные. Когда поднял голову и хотел сесть, почувствовал головокружение. Потом голове стало легче. Полежал спокойно около часа и начал – было заниматься, но потом опять прилег и подремал от 10 до 12 и от часу до 6-ти Вечером говорил, что это с ним уже бывало.
– Помню, с Гротом шел по Пречистенке, шатался. Пошатнулся, прислонился к стене и постоял. Теперь уже 4 дня шатало меня, только не сильно.
Под вечер пульс был слабый – 76, перебоев не было. Утром не выходил».
Из этого обрывка видно, что припадки такого головокружения, во время которых он падал, теряя равновесие, бывали и раньше, и что описываемое падение с ведром – не случайно.
Тело человека, беспомощно лежавшего в постели, билось и трепетало. Выкидывало с силой ноги. О трудом можно было удержать их. Душан, обнимал Л. Н-ча за плечи, я и Бирюков растирали ноги. Всех припадков, было пять. Особенной силой отличался четвертый, когда тело Л. Н-ча перекинулось почти совсем, поперек кровати, голова скатилась с подушки, ноги свесились по другую сторону…
С. А-на кинулась, на колени, обняла эти ноги, припала к ним головой и долго была в таком положении, пока мы не уложили вновь Льва Николаевича как следует на кровати.
Вообще, С. А-на производила страшно жалкое впечатление. Она подняла кверху глаза, торопливо крестилась мелкими крестами и шептала: «Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!….» И она делала это не перед другими: случайно войдя в ремингтонную, я застал ее за этой молитвой.
Александре Львовне, вызванной мною запиской, она говорила:
– Я больше тебя страдаю: ты теряешь отца, а я теряю мужа, в смерти которого я виновата!..
Александра Львовна внешне казалась спокойной и только говорила, что у неё страшно бьется сердце. Бледные тонкие губы её были решительно сжаты.
После пятого припадка Л Н. успокоился, но все таки бредил.
– 4, 60, 37, 38, 39, 70, – считал он.
Поздно вечером пришел он в сознание.
– Как вы сюда попали! – обратился он к Душану и удивился, что он болен.
– Ставили клистир? Ничего не помню. Теперь я постараюсь заснуть.
Через некоторое время С. А-на вошла в спальню, стала что-то искать на столике около кровати и нечаянно уронила стакан.
– Кто это? – спросил Л. Н.
– Это я Левочка.
– Ты откуда здесь?
– Пришла тебя навестить.
– А!..
Он успокоился. Видимо, он продолжал находиться в сознании.
Болезнь Л. Н-ча произвела на меня сильное впечатление. Куда бы я в этот вечер ни пошел, везде передо мной, в моем воображении, вставало это страшное, мертвенно-бледное, насупившееся и с каким то упрямым, решительным выражением лицо. Стоя у постели Л. Н-ча, я боялся смотреть на это лицо; слишком выразительны были его черты, смысл же этого выражения был ясен, и мысль о нем резало сердце. Когда я не смотрел на лицо и видел только тело, жалкое, умирающее, мне не было страшно, даже когда оно билось в конвульсиях, передо мной было только животное. Если же я глядел на лицо, мне становилось, невыносимо страшно: на нем отпечатлевалась тайна, тайна великого действия, великой борьбы, когда, по народному выражению, «душа с телом расстается».
Видно мала еще моя вера, если я боялся этого!
Поздно ночью приехал из Тулы доктор (Щеглов). Но он уже не видал Л. Н-ча. Душан объяснил ему болезнь, как отравление мозга желудочным соком. На вопрос наш о причине судорог приезжий доктор отвечал, что они могли быть обусловлены нервным состоянием, в котором находился Л. Н. за последнее время, в связи с наличностью у него артериосклероза.
Легли спать во втором часу ночи. Я и Душан – поблизости со спальней. Бирюков просидел в спальне до третьего часа ночи.
Во все время болезненного припадка, внизу, в комнате Душана, сидел вызванный тайно из Телятенок Александрой Львовной ближайший друг больного В. Г. Чертков, вход которому наверх воспрещен. Беленький доставлял ему сведения о состоянии Льва Николаевича.
4 октября.
Все миновало. Ночью Л. Н. спал. Утром проснулся в сознании. Когда Бирюков рассказал ему ее держание его бреда, слова: душа, разумность, государственность, – он был доволен по словам Бирюкова и Ал. Л-ны…
Итак, из всех этих данных видно, что Лев Толстой был подвержен судорожным припадкам, трактуемым близкими иногда, как «обмороки», «забытье». Эти припадки сопровождаются во-первых, полной потерей сознания, во-вторых, судорогам: начинающимися сначала в отдельных частях тела, а затем переходят в общие судороги всего тела.
Судорога начинается тем, что «он шевелил челюстями издавал странные, негромкие, похожие на мычание звуки».
«Губы шевелились, точно он что-то пережевывал во рту».
«Лежа на спине, сжав пальцы правой руки, так, как будто он держал ими перо, Л. Н. слабо стал водить рукой по одеялу». Затем судорога переходит на нижние конечности: – Бирюков рассказывал, что ноги больного вдруг начали двигаться, он подумал, что Л. Н-чу хочется почесать ногу, но, подошедши к кровати, увидел, что и лицо его перекошено судорогой. Потом начались один за другим страшные припадки судорог, от которых все тело человека, беспомощно лежавшего в постели, билось и трепетало, выкидывало с силой ноги. С трудом можно было удержать их»…
Это описание припадка настолько характерно описано (не врачом), что классические картины эпилептических судорог настолько ясны, что тут никакого сомнения быть не могут в их достоверности.
Также мы видим, что после припадка у больного полная амнезия всего происшедшего, ибо после припадков, поздно вечером, когда Л. Толстой пришел в себя, он удивился Душану, который все время находился у постели больного – «Как вы сюда попали?» – обратился он к Душану и удивился, что он болен.
– «Ставили клистир? – Ничего не помню»…
Точно также 4-го утром, проснувшись в полном сознании, когда Бирюков рассказал ему содержание бреда, – он доволен был содержанием бреда.
Об этих амнезиях после припадков отмечает также и сын его Илья Львович в своих напоминаниях о своем отце[24] на странице 228 мы читаем:
… «Несколько раз с ним делались какие то необъяснимые внезапные обмороки, после которых он на другой день оправлялся, но временно совершенно терял память.
Видя в зале детей брата Андрея (пишет он) которые в это время жили в Ясной, он удивленно спрашивал, «Чьи это дети? – встретив мою жену, он сказал ей: «ты не обидься, я знаю, что я тебя очень люблю, но кто ты, я забыл», и, наконец, взойдя раз после такого обморока в залу, он удивленно оглянулся и спросил: «а где же брат Мишенька?» (умерший 50 лет тому назад).
На другой день следы болезни исчезали совершенно».
Итак, мы с достоверностью можем на основании этого сказать, что Лев Толстой страдал эпилептическими припадками с потерей сознания, с эпилептическими судорогами, с бредом во время припадков и с последующей полной амнезией происшедшего.
Теперь спрашивается: быть может, этот описываемый припадок был единичный случай в жизни Толстого, и что из этого нельзя заключить, что он был вообще подвержен припадкам. Чтоб осветить этот вопрос, мы также имеем целый ряд данных, говорящих против того предположения, что этот припадок был единичный.
Помимо свидетельства такого авторитетного психиатра, как Ломброзо, говорившего об этом еще чуть – ли не 40 лет тому назад, мы имеем целый ряд свидетельств близких Льву Толстову лиц, из которых ясно видим, что припадкам он был подвержен, как свойственной ему привычной болезни, к которой близкие настолько привыкли и изучили эту болезнь, что даже по продромальным симптомам, узнавали раньше, когда будет припадок. Так, например, в том же описанном выше секретарем Толстого припадке, мы читаем:
– «…Входила (речь идет о Софье Андреевне) ко Льву Николаевичу. Он сидел на кровати. Спросил, который час, и обедают ли. Но Софье Андреевне почудилось что-то недоброе: глаза Льва Н-ча, показались ей странными.
– Глаза бессмысленные… Это перед припадком. Он впадает в забытье… Я уже знаю. У него всегда перед припадком такие глаза бывают»…
Из этого явно следует, что его жена, Софья Андреевна, настолько изучила его припадки; что знает, что «такие глаза, бывают всегда» перед припадком. Значит; припадков таких она видела достаточно настолько, что она, будучи не медиком, но наблюдательным человеком, как всякий, в ее положении, узнает те привычные, ей и знакомые симптомы, предшествующие припадку, картина которых, ей представляется, как нечто хорошо знакомое.
О том, что припадки бывали, с ним нередко и раньше, явствует также из целого ряда других литературных документов. Так, если мы возьмем воспоминания его дочери А. Толстой («об уходе и смерти Л. Н. Толстого»), то у ней мы находим такое место: (стр. 156).
«Когда он (т. е. Л. Толстой) заговорил, я поняла, что у него начинается обморочное состояние которое бывало и прежде. В такие минуты он терял память, заговаривался, произнося какие-то не понятные слова…
И дальше на этой же 156 странице:…
«Мы поняли, что положение очень серьезное, и что, как это бывало и прежде, он мог каждую минуту впасть в беспамятство. Душан Петрович я стали понемногу раздевать его, не спрашивая его более, и почти перенесли в кровать.
Я села возле него, и не прошло и пятнадцати минут, как я заметила, что левая рука его и левая нога стали судорожно дергаться. То же самое появлялось временами и в левой половине лица»…
… Мы попросили начальника станции послать за станционным доктором, который бы мог в случае нужды помочь Душану Петровичу. Дала отцу крепкого вина, стали ставить клизму. Он ничего не говорил, но стонал, лицо было бледно, и судороги, хотя и слабые, продолжались.
Часам к девяти стало лучше. Отец тихо стонал. Дыхание было ровное, спокойное»…
Из этого описания другого припадка, в другом месте дочерью Льва Толстого мы видим, что припадок сопровождается так же судорогами и потерей сознания, что припадку предшествуют признаки, по которым близкие заранее узнают, что будет припадок; «в такие минуты (т. е. до припадка) он не заговаривался, произнося какие-то непонятные слова».
На основании этого дочь его, А. Толстая «поняла», что начинается то состояние, «которое бывало и прежде»: «он мог впасть в беспамятство».
А главное, что мы можем из этого заключить, что припадкам этим он был подвержен, как ему нечто настолько свойственному, что по симптомам предвестников узнают наступающий припадок. Будь этот описываемый припадок, как единичный случай, или как нечто редкое, вызываемое исключительным состояниям, то дочь его и близкие не могли бы этими предшествовавшими признаками руководиться, что будет припадок.
Насколько резко и характерно было это состояние перед припадком для родных и близких, видно из следующего описания:
Гольденвейзер на стр. 318 в своем дневнике (цитируя записки А. П. Сергеенко, описывает состояние здоровья Л. Н. когда он был подвержен целому ряду припадков в связи с неприятными переживаниями, таким образом:
«…Душан Петрович рассказывал, что 14-го, в тот день, когда Софья Андреевна написала Л. Н-чу свое письмо, он ожидал, что у Л. Н-ча будет вечером опять припадок. Л. Н. с утра был слабый, голос у него был вялый, и, когда он говорил, губы у него слабо двигались, рот едва открывался Все это, особенно то, что, слабо двигались губы, было, для Душана Петровича нехорошим признаком.
Но, несмотря на свою слабость, Л. Н. все-таки решил после завтрака поехать на прогулку. Душан Петрович пробовал было его отговорить, предлагая ему поехать в экипаже, но Л. Н. сказал, что поедет верхом потихонечку, и что он чувствует, ему будет лучше от прогулки. Душан Петрович не мог больше отговаривать Л. Н., и они поехали. Отъехали они шагом, Л. Н. ехал впереди. Душан Петрович тревожился за него; он был слишком слаб. Но, проехав шагом некоторое расстояние, Л. Н. припустил лошадь, а затем остановил ее и подозвал к себе Душана Петровича. И Душан Петрович не поверил глазам своим. – Это был совсем другой Лев Николаевич, чем 1/4 часа тому назад. Лицо оживленное, свежее, голос громкий, и губы, по словам Душана Петровича, совершенно «жизненные».
Теперь перейдем к анализу характера этих припадков. Можем ли мы эти припадки квалифицировать, как эпилептические, т. е. припадки, свойственные так называемой эссенциальной или генуинной эпилепсии? – Это мы должны категорически отвергнуть. Не говоря уже о том, что ни клиническая картина самих припадков, ни характер периодичности этих припадков – не соответствует картине генуинной эпилепсии, – само течение, т. е. все развитие психики Л. Толстого резко противоречит такой форме эпилепсии.
Как известно, психика одержимого генуинной эпилепсией сопровождается резким притуплением психических способностей, что про психические способности Льва Толстого сказать уж никак нельзя. Наоборот, необычное развитие его необычайных психических способностей поражает нас, и развитие сохранилось вплоть до самой его смерти. Так что такая диагностика нам кажется прямо нелепой. Точно также мы не должны эти припадки диагностицировать, как истерические припадки по соображениям, приводимым ниже.
Можем ли мы считать эти припадки, как припадки кортикальной, (или Джексоновской) эпилепсии?
Как известно, Джексоновская эпилепсия имеет в основе какое-либо органическое поражение мозговой корки в виде и сифиломы, туберкула, цистицерка, инородного тела, или, наконец, в виде каких либо разлитых вазомоторных расстройств в области коры.
Никаких данных для такого предположения из биографии Л. Толстого мы не имеем, а потому вводить в дифференциальную диагностику такое предположение мы не инеем никаких оснований.
Единственно, о чем еще могла быть речь, так это вазомоторные; расстройства в области коры в форме артериосклероза.
Случайное падение, что также явствует из описания того состояния, которое последовало после припадка.
Точно также Лев Николаевич Толстой был подвержен обморокам.
Как пример, иллюстрирующий эти обмороки, приводим следующий отрывок от 4 августа (Дневника Гольденвейзера на стр. 203):
… «Софья Андреевна стала читать Л. Н. в столовой все ту же страничку из дневника со своими комментариями.[25] Среди чтения Л. Н. встал и прямой, быстрой походкой, заложив руки за ремешок и со словами: «Какая гадость, какая грязь» прошел через площадку в маленькую дверь к себе. Софья Андреевна за ним. Л. Н. запер дверь на ключ. Она бросилась с другой стороны, но он и ту дверь – на ключ. Она бросилась с другой стороны, но он и ту дверь успел запереть. Она прошла на балкон и через сетчатую дверь стала говорить ему: – «Прости меня, Левочка, я сумасшедшая». Л. Н. ни слова не ответил, а немного погодя, страшно бледный, прибежал к Александре Львовне и упал в кресло. Александра Львовна взяла его пульс – больше ста и сильные перебои».
Выше, при описании в своем дневнике секретарем Л. Толстого Булгаковым – припадка, нам также бросилось в глаза изменение психики перед припадком. Прежде всего, мы видим затемнение сознания с состоянием спутанности. Так, в этом дневнике отмечается так:
– Наконец, его спокойно уложили. – Общество…общество насчет трех,…общество насчет трех…
Л Н. бредил.
Записать – попросил он.
– Бирюков подал ему карандаш и блокнот. Л. Н. накрыл блокнот носовым платком и по платку водил карандашом. Лицо его было мрачно.
– Надо прочитать, – сказал он и несколько раз повторил: разумность… разумность… разумность… Было тяжело, непривычно видеть в этом положении обладателя светлого, высокого разума, Льва Николаевича.
– Левочка, перестань, милый, ну что ты напишешь? Ведь это платок, отдай мне его, – просила больного С. А-на, пытаясь взять у него из рук блокнот. Но Л. Н., молча отрицательно мотал головой и продолжал упорно двигать рукой с карандашом по платку…
Аналогичное состояние перед припадком при другом случае, упомянутом выше, описывает и дочь его, А-ра Л.:
«В такие минуты он терял память (говорит она), заговаривался, произнося какие-то непонятные слова. Ему, очевидно, казалась, что он дома, он был удивлен, что все было не в порядке, не так, как он привык.
– Я не могу еще лечь, – сделайте так, как всегда. Поставьте ночной столик у постели, стул. Когда это было сделано, он стал просить, чтобы на столике была поставлена свеча, спички, записная книжка, фонарик и все, как бывало дома.
Когда сделали и это, мы снова стали просить его лечь, но он все отказывался…
Из этих отрывков, описывающих психическое состояние Льва Толстого перед припадком, мы определенно видим, что, его психика была настолько помрачена, что мы можем это состояние его психики обозначить, как то сумеречное состояние, которое бывает перед припадком у аффект-эпилептиков. По-видимому, при этих состояниях, он галлюцинировал, принимая, например, чужую обстановку в дороге (описанное дочерью Александрой Львовной выше состояние перед припадкам случилось в дороге) принимает за обстановку домашнюю, как она пишет: «Он был удивлен, что все было не в порядке, не так, как он привык».
Он требовал, чтоб был поставлен ночной столик, свеча и т. д.
А что у Л. Толстого бывали галлюцинации вообще, свидетельствует также Гольденвейзер.
В его дневнике на стр. 382 есть такая заметка, довольно, определенно на это указывающая:
«В дневнике Л. Н. есть запись, указывающая, что ему послышался, как бы какой то голос назвавший, не помню, какое число, кажется, марта.
Л. Н. казалось, что он должен в это число умереть, – на это есть несколько указаний в его дневнике».
Конечно, из этого свидетельства Гольденвейзера мы не можем в достаточной степени заключить, когда и при каких обстоятельствах послышался этот голос Л. Толстому: было ли это перед или во время припадка, было ли это во время каких-либо других состояний, ничего из этого заключать нельзя. Но одно несомненно, что Л. Толстой в тех или иных случаях галлюцинациям был подвержен. На это также указывает и Ломброзо.
Также отмеченная Крепелиным раздражительность и аффективность характера, свойственная аффект – эпилептикам, – мы также можем констатировать у Л. Толстого.
Эту сторону его психики хорошо характеризует сын его Лев Львович. Из нижеприводимых нами целого ряда отрывков воспоминаний Льва Львовича мы можем довольно определенно представить себе картину этой аффективно-раздражительной психики Льва Толстого.
… «Если он хорошо работал, все весь день шло хорошо, все в семье были веселы и счастливы, – если нет, то темное облако покрывало нашу жизнь».
…«Я вспоминаю, что каждый вечер управляющий приходил к нему разговаривал с ним о делах, и часто мой отец так сердился, что бедный управляющий не знал, что сказать и уходил, покачивая головой».
(Воспоминания Л. Л. Толстого «Правда о моем отце» – Ленинград. 1924 г.)
… «Почти каждый год приезжал Фет в Ясную. Отец был рад его видеть. Фет говорил мало и даже как-то трудно. Иногда, прежде чем произнести слово, он долго мычал, что было забавно для нас детей, но мой отец слушал его с живым интересом, хотя редко, даже почти никогда не обходилось без ссоры между ними». (Там же стр. 30)
…«Однажды отец в порыве ярости кричал на него (воспитателя-швейцарца).
«Я вас выброшу из окна, если вы будете вести себя подобным образом».
«Отец любил сам давать уроки математики…
Он задавал нам задачи, и горе нам, если мы их не понимали. Тогда он сердился, кричал на нас. Его крик сбивал нас с толку, и мы уже больше ничего не понимали». (Там же стр. 48.):
…Иногда таким исключением была болезнь детей, недоразумения с прислугой, или ссоры между родителями, «всегда были мне неприятными».
…«Я вспоминаю довольно серьезную ссору между отцом и матерью. Я тогда примирил их. Что же было причиной ссоры? Я не знаю, быть может, отец был недоволен чем-нибудь, что сказала мать, быть может, просто рассердился он на нее, чтоб дать выход своему плохому настроению Он был очень сердит и кричал своим громким неприятным голосом. Еще. Ребенком питал я отвращение к этому голосу. Мать, плача, защищалась». (Там же стр. 49).
…Я не любил его, когда он ссорился с мамой». Там же стр. 86).
… «Серьезный, всегда задумчивый, сердитый всегда и ищущий новых мыслей и определений – так он жил между нами, уединенный со своей громадной работой».
(Описание времени кризиса. Там же стр.97).
.. «С детства привык к уважению и страху перед ним». (стр. 105).
Из этих отзывов сына о своем отце мы определенно видим аффективный характер отца, так что «с детства привык к страху перед ним, ибо «серьезный, всегда задумчивый, сердитый всегда» отец часто ссорился. Ссорился со своей женой, ссорился с друзьями, с прислугой и даже на детей своих он сердился, кричал» настолько, что «горе нам, если мы их (т. е. заданных им задач) не понимали».
– Эта аффективная а вспыльчивая психики преобладала над Толстым, особенно в ту его эпоху жизни больше, когда его религиозно-мистические идеи и настроения еще не охватили его. Как известно, этот перелом в его психике начался в начале 70-х годов и к 80-м годам закончился. Перелом этот также не произошел случайно, а является логическим следствием структуры аффект-эпилептической психики.
Как отмечено было выше, Крепелин считает симптомом, двойственным аффективной эпилепсии также приступы патологического страха смерти. Этот симптом мы имеем также у Льва Толстого.
О том, что он страдал от этих тяжелых приступов страха мы увидим сейчас.
Отметим сейчас один из наиболее ярких приступов, с которого, по-видимому, и начался последующий ряд таких приступов.
В 1869 году, при поездке в Пензенскую губернию для выгодной покупки нового имения, Лев Толстой останавливается в Арзамасе и там переживает приступ болезненного страха смерти, безпричинной тоски.
Он так описывает это переживание в письме к Софье Андреевне от сентября 69 года:
– «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мною было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи; я устал, страшно хотелось спать, и ничего не болело; Но вдруг на меня напала тоска, страх и ужас, такие, каких я никогда не испытывал». Сын его Сергей Львович в своих воспоминаниях (Голос минувшего 1919 г. кн. № 1–4) также описывает этот приступ:-
– «В одиночестве, в грязном номере гостиницы, он в первый раз испытал приступ неотразимой, беспричинной тоски, страха смерти; такие минуты затем повторялись, он их называл «Арзамасской тоской».
Это переживание он описывает в «Записках сумасшедшего»).
В Толстовском ежегоднике за 1913 г. С. А. Толстая в ею напечатанном отрывке «Из записок Софьи Андреевны Толстой» под заглавием «Моя жизнь» она, описывая 4-е паломничества Л. Н. в монастырь «Оптина Пустынь» (в 1877, 1881, 1880, 1910 г.) замечает: «сколько напрасных, тяжелых ожиданий смерти и мрачных мыслей о ней пережил Л. Н. во всей своей долголетней жизни. Трудно перенестись в это чувство вечного страха смерти».
Да, эти приступы страха перевернули все существо Л. Н-ча, – Вся его мистика, вся его добродетельность, резиньяция жизни, отказ от барства и проч., вся его мораль и проповедь объясняется нам благодаря этим и другим психопатическим переживаниям, как мы это увидим после.
Отметим также еще особенность в психике Толстого, которая также дополняет картину аффект эпилепсии.
Это – чрезвычайная сенситивность и эмотивность.
Как известно, Л. Толстой реагировал чрезвычайно сенситивно на всякую несправедливость, на всякое зло Этой сенситивностью, и чрезвычайно повышенной чувствительностью объясняется и чрезвычайно легкая слезливость Л. Толстого.
Л. Н. легко был склонен к слезам при всякого рода эмоциональных переживаниях. Это подтверждается данными наблюдениями Гольденвейзера, у которого в дневнике мы читаем (стр. 376):
– «Плакал Лев Николаевич легко, больше не от горя, а когда рассказывал, слышал, или читал что-нибудь, трогавшее его. Часто плакал, слушая музыку». Вообще в дневнике его часто отмечается факт, что Л. Н. плачет по поводу того или иного переживания (неприятного или приятного характера).
«Я хотел продолжать разговор, – пишет он, – но к горлу что-то подступило. Я очень слаб был на слезы. Не мог больше говорить, простился с ним и с радостным, умиленным чувством, глотая слезы, пошел».
«От радости, или от болезни, или от того и другого вместе я стал слаб на слезы умиления, радости. Простые слова этого милого, твердого, сильного человека, такого, очевидно, готового на все доброе и такого одинокого, так тронули меня (речь идет о случайной встрече с крестьянином), что рыдания подступили мне к горлу, и я отошел от него, не в силах выговорить ни слова».
Эта резкая наклонность к слезам (сенситивность, «чувствительность») замечается еще с детства. Его за это в детстве прозвали: «Лёва – рева», «Тонкокожий».
Яркие примеры этой чувствительности он приводит в своем очерке «Записки сумасшедшего». Эту черту (по-видимому, унаследованную от матери) он сам неоднократно отмечает в своих письмах и произведениях.
После его перелома психического эта слезливость резко увеличилась, а под старость – тем более.
Сам Лев Николаевич сознает связь этой слезливости, когда он говорил: «От радости, или от болезни, или оттого или другого вместе я стал слаб на слезы»…
Несомненно, что эта повышенная эмотивность, слезливость, резиньяция жизни, и прочее – есть часть симптомокомплекса аффект эпилептической психики. Если первый период жизни Толстого до «Арзамасского страха» проявлялся и доминировал вспыльчиво – аффективный полюс аффект эпилептической психики, то во 2-й период, после перелома, доминировал другой полюс – аффективно-сенситивный полюс. Как тот, так и другой в сильных приступах эмотивности реагировали припадками.
Между прочим, сам Лев Толстой довольно хорошо охарактеризовал свою аффективно раздражительную натуру с её переходами в сенситивную слезливость в одном полушуточном произведении под названием: «Скорбный лист душевно больных Ясно-Полянского госпиталя»,[26] где он дает историю болезни всех обитателей Ясной Полины, в шутливой форме. Надо сказать, что под этой шуткой дается меткая характеристика.
Характеристикой своей личности начинается этот «скорбный лист» и таким образом:
«№ 1 (Лев Николаевич). Сангвинического свойства принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами «Weltverbesserungs wahn». Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словами. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждения всех, кроме себя и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к не натуральной слезливой чувствительности».
Резюмируя все вышеизложенное – мы приходим к следующему заключению.
Лев Николаевич Толстой страдал эпилептическими припадками, сопровождавшимися судорогами полными или неполными; с потерей сознания и с последующей амнезией. Припадку предшествовали предвестники.
Эти припадки мы диагностируем, как припадки аффективной эпилепсии, на следующих основаниях:
1. Эти припадки развились у Толстого на основе психопатической предрасположенности.
2. Припадки у Толстого всегда следовали после каких либо аффективных переживаний.
3. Эти припадки не вызвали у Льва Толстого обычного эпилептического изменения психики (в смысле слабоумия); наоборот, не смотря на глубокую старость, его психическая функции стояли до конца его последних дней на свойственной ему высоте.
Помимо этого мы можем констатировать, что:
4. Лев Толстой страдал приступами патологического страха, смерти.
5. Обморочными припадками и мигренью.
6. Приступами головокружения с потерей равновесия.
7. Галлюцинациями во время припадков (Petit mal?)
8. По своему характеру Лев Толстой был одержим эффективностью и раздражительностью с одной стороны; чрезвычайной сенситивностью и слезливостью с другой стороны.
9. Помимо того он был подвержен патологическим изменениям его настроения (см. ниже).
10. Вся эта картина аффективной эпилепсии, со всеми главными и второстепенными симптомами развилась на почве эпилептической конституции. Артериосклероз сыграл тут роль вторичного фактора, а не первичного.
Единственно, что нам остается пока неизвестным, когда появились впервые его судорожные припадки. Это обстоятельство требует дополнительного исследовании. Также необходимы дополнительные исследования по вопросу о том, как влиял на течение болезни артериосклероз.
Итак, отметив всем вышеуказанным всю аффект-эпилептическую основу нервно-психической структуры личности Толстого – укажем теперь, как эта структура отразилась на его творческих тенденциях. А что она отразилась – это, несомненно. Да, мы можем определенно сказать, что весь Толстой вся его личность нам теперь делается более понятным. Нам делается теперь понятным, например, почему Толстой, будучи «великим писателем земли русской», как его окрестил Тургенев, вдруг переживает такой резкий перелом в его жизни, благодаря чему его творчество, как писателя, отходит на задний план, и он превращается в мистического проповедника – обличителя, делается «толстовцем» и создает «Толстовство»,[27] Мы берем этот момент в его жизни, как самый характерный момент в творчестве аффект-эпилептика, и постараемся осветить его с этой стороны (не вдаваясь в освещение других моментов творчества Толстого, как выходящих из рамок этой работы).
Как было отмечено выше, Крепелин и Bratz считают также характерным симптомом для аффективной эпилепсии, – то патологическое изменение настроений и личности, которое бывает при post – эпилептических, а также других состояниях. Как известно, часто такие аффект эпилептики после припадка переживают какое-то своеобразное чувство облегчения и даже своеобразно повышенное состояние всего их психического тонуса, делающее их нередко экстатиками. В состоянии такой экстатичности, помимо своеобразного чувства счастья, они переживают ту необыкновенную «ясность мысли», ту необыкновенную легкость и обостренность восприятия внешнего мира, о которой каждый такой аффект-эпилептик хорошо знает.
Такие несомненно патологические переживания имел и Толстой. Имел он также, между прочим, и в тот день, когда с ним был тот выше описанный припадок падения с ведром в руках, По воспоминаниям Маковицкого,[28] в тот же день после того припадка об этом своеобразном переживании. Л. Толстой отмечает:
– «Мне сегодня так хорошо думалось.
В болезни, в страданиях (говорит он) отпадает суеверие материальной жизни, и появляется сознание реальной духовной жизни, чтоб здесь, сейчас исполнять волю Бога, а учение материалистов утверждает как раз противоположное; они суеверием считают духовную жизнь. Мне стало ясно, почему легко умирают и самые эгоистичные люди: потому что суеверие материальной жизни отпадает.
А. Л-не Л. Н. сказал:
– Хотел тебе диктовать: – мысли били необыкновенно ясны, ***) но боялся повредить себе завтра утром».
В этом отрывке сказался весь Толстой с его аффект-эпилептической психикой, когда он переживает то своеобразное post – эпилептическое переживание, когда мысли бывают «необыкновенно ясны». Тут он сам нам определенно указывает тот источник, откуда возникла его мистическая концепция его мистического ученая о духовной жизни, его «Толстовства» со всеми его логическими выводами и последствиями.
Чтоб ясное осветить этот момент, мы должны напомнить следующее. Лев Толстой после многолетней барски-эпикурейской жизни со всеми материальными благами мира сего, вдруг, однажды, переживает тот вышеуказанный болезненный приступ «арзамасскаго страха» смерти (о котором говорилось выше.) Эти приступы ужаса, страха смерти повторяются затем много, много лет – «сколько напрасных тяжелых ожиданий смерти и мрачных мыслей о ней пережил Л. Н. во всей своей долголетней жизни.
«Трудно перенестись в это чувство вечного страха смерти»… говорит С. А. Толстая об этих приступах.
Эти припадки привели его к такому отчаянию, что он готов был повеситься на перекладине у себя в комнате. И он бы это сделал, если бы не появились другие моменты аффект-эпилептической психики, которые дают совершенно другое направление развитию психики Толстого, благодаря чему эта психика получает свой естественный исход в мистическое. Представьте себе человека, до крайности измученного этим вечным ужасом и страхом смерти, который ищет ту соломинку, за которую он бы мог схватиться для спасения… и он находит… Увы, в переживаниях той же аффект-эпилептической сущности.
Наряду с этими приступами страха смерти являются и те приступы (о которых говорилось выше) совершенно противоположного характера, приступы экстаза, приступы необыкновенной экзальтации и счастья, во время которого «мысли бывают необыкновенно ясны», когда все так легко разрешается, когда весь космос постигается с такой необыкновенной кристалльной ясностью, что вся сущность материального мира (т. е. эпикурейская, барская жизнь, тело с его постоянной борьбой за жизнь во время припадков) делается благодаря величию этой ясности – предрассудком, и поэтому аффект-эпилептик и приводит к такому заключению, как Л. Толстой, когда он говорит после такого приступа, что «в болезни, в страданиях (т. е. после припадка) отпадает суеверие материальной жизни, и появляется сознание реальной духовной жизни, чтоб здесь, сейчас исполнить волю Бога».
Здесь наилучшим образом Толстым сформулировано то специфическое чувство, присущее только эпилептикам в их переживаниях, когда тело вот-вот уходит от них, а что-то «духовное» они ощущают как-то необыкновенно, – острее, яснее, и появляется какое-то обостренное «сознание реальной духовной жизни» (как он говорит), а потому также ему становится ясно, почему легко умирают и самые эгоистические люди, потому что, говорит он, суеверие материальной жизни отпадает» в такой момент. – Вот тут то, в этих переживаниях выстраданный аффект – эпилептик находит свой якорь спасения, свою соломинку, за которую можно ухватиться в его несчастьи: необыкновенно остро и «ясно» восприняв «сознание реальной духовной жизни и настолько «ясно», «что здесь, сейчас – же исполнять волю Бога» (как он говорит). И тут то рождается его мистико-духовная концепции «исполнять волю Бога», как новое «откровение», как им лично воспринятое в страшных страданиях, как «спасение» от этих страданий. Этим переживаниям придается исключительное значение. Необычайные переживания делают и его самознание необычайным: и в психике его происходит тот переворот, который всех так поразил. – Из аффективно вспыльчивого, угрюмого, сурового, замкнутого, вечно ссорившегося со всеми барина-эпикурейца он, превращается к нечто противоположное: в «святого» подвижника, в чрезвычайно добродетельного и сенситивного проповедника «любви братской», «непротивления злу» и «Толстовства» со всеми его атрибутами резиньяции жизни, отказа от барства и проч. и проч. Психически благодаря этому он настолько меняется, что его родной брат Сергей Николаевич, поражаясь этой перемене, говорил о нем (сыну Л. Толстого – Льву Львовичу):
– «Ты знаешь, я не разделяю взглядов твоего отца, но я не могу отказать в справедливости в отношении всего того, что касается его личности. Посмотри только, как он изменился, каким он стал мягким и хорошим».
И, действительно, Л. Толстой стал не только – «мягким и хорошим», но чрезвычайно сенситивным на всякую несправедливость, на всякое зло. Он получает необычайную жажду «просветить всех других от этого зла», он получает необычайную жажду быть проповедником того, что он воспринял в экстазе с «необычайной ясностью».
Он делается волей неволей пророком, основателем нового учения. Вот таким образом произошел в нем тот переворот, о котором была речь выше.
С ним произошло то, что произошло со всеми аффект-эпилептиками – пророками. Таков был Магомет, таков был Достоевский в его мистических переживаниях, таков и Лев Толстой. Все они подвержены аффект-эпилептическому страданию, а потому у всех у них одна и та же патопсихическая сущность и один и тот же генезис мистической концепции внешнего мира.
Все они подвержены одним и тем же законам патологии аффект-эпилептической природы.
И так только мы их можем понять.
Пориомания Максима Горького[29] Д-ра И. Б. Галант (Москва)
О wandern, wandern meine Lust, О wandern! Herr Meister und Frau Meisterin Lass mich im Frieden weiterziehen und wandern. (Wilhelm Miller «Wanderschaft»)Если нам трудно указать со строго научною точностью, какая внутренняя связь имеется между суицидоманией Максима Горького и его безусловно отягчающей наследственностью, так как в асценденции Горького самоубийства не встречаются мы должны представлять себе эту связь таким образом, что следственные дегенеративные черты, переходя от предков к потомкам способны вариировать и принимать совершенно новые до сих пор небывалые формы, то пориомания или страсть к бродяжничеству Горького очень легко находит свое объяснение, как переданная по наследственности психопатическая черта. Отец Горького одно время в юности своей бродяжничал, прабабушка и бабушка его по линии матери тоже долгое время нищенствовали и бродяжничали. Неудивительно поэтому встретиться с пориоманией и у самого Горького.
Пориомания,[30] в какой форме она бы ни встречалась, есть психопатическая черта, свидетельствующая о более или менее тяжелом нарушении общего психического равновесия индивида, обыкновенно прельщаются бродяжничеством люди неустойчивые (die Haltlosen), боящиеся серьезного труда (попросту говоря: лентяи), страдающие болезненными любопытством и жалостью новых впечатлений (имбецильная неофилия). Возможны конечно и другие причины бродяжничества, которые однако являются более случайными (душевная болезнь – эпилепсия, шизофрения и т. д.).
Что бродяжничество встречается почти исключительно у неуравновешенных, чтобы не сказать тяжело психопатических душевно-больных людей, об этом свидетельствуют наилучшим образом произведения самого Горького. Сколько бродяг Горький не нарисовал – а рисовал их Горький в большом количестве – все они, даже те которые способны вызывать нашу симпатию, психопаты от роду или люди опсихопатившиеся, душевно-больные, олигофреники, всякого рода преступники и другие темные люди.
Если остановиться на любых двух, трех рассказах Горького, рисующих бродяг, напр., в рассказах «В степи» (1897 «Проходимец» (1898), «Товарищи» (1895),[31] то мы сейчас же знакомимся с тяжелыми преступниками, («Студент» в рассказе «В степи») или с тяжелыми психопатами, каковы Павел Игнатьевич Промтов, «Проходимец» или Витя Тучков, герой рассказа «Товарищи». Честный бродяга в рассказе «Дело с затяжками (1895)[32] оказывается тяжелым олигофреником и т. д.
Бродяга Промтов может нас здесь особенно интересовать, так как он развивает философию бродяжничества, которая, пожалуй, одно время не была совсем чуждой и Алексею Пешкову так долго и усердно бродившему по безбрежным степям, полям и равнинам великой матушки России. Горький, во всяком случае, очень любил ту романтическую черту, которая более или менее присуща всякой бродяжьей жизни, то богатство случайностями и неожиданностями, ту пестроту впечатлений, которую нередко приносит с собой бродяжничество. Сама философия бродяжничества, как ее развивает Промтов такова:
«Вы должны понять это – в бродяжьей жизни есть нечто всасывающее, поглощающее. Приятно чувствовать себя свободным от обязанностей от разных маленьких веревочек, связывающих твое существование среди людей… от всяких мелочишек до того облепляющих твою жизнь, что она становится уже не удовольствием, а скучной ношей… тяжелым лукошком обязанностей… вроде обязанности одеваться – прилично говорить – прилично… и все делать так, как принято, а не так, как тебе хочется. При встрече со знакомыми нужно, как это принято, сказать ему – здравствуй! а не – издохни! – как это иногда хочется сказать.
Вообще – если говорить по правде – так все эти торжественно-дурацкие отношения, что установились между порядочными городскими людьми – скучная комедия! Да еще и подлая комедия, потому что никто в глаза не называет ни дураком, ни мерзавцем…, а если иногда это и делается, так только в припадке той искренности, которую называют злобой…
А на бродяжьем положении живешь вне всякой этой канители… то же обстоятельство, что ты без сожаления отказался от разных удобств жизни и можешь существовать без них, как-то приятно приподнимает тебя в своих глазах. К себе становишься снисходительным без оглядки… хотя я к себе никогда не относился строго, не одергивал себя, и зубы моей совести никогда у меня не ныли…, не царапал я моего сердца когтями. Я, знаете, рано и как-то незаметно для себя, твердо усвоил самую простейшую философию: как ни живи – а все-таки умрешь: зачем же ссориться с собой, зачем тащить себя за хвост влево когда натура твоя во всю мочь прет направо? И людей, которые гнут себя на-двое, я терпеть не могу… Чего ради они стараются? Бывало, я разговаривал с такими юродивыми. Спрашиваешь его: зачем; ты, друг, поешь, зачем ты, брат, скандалишь? Стремлюсь, говорит, к самоусовершенствованию… Чего же, мол, ради? Как – чего ради? В совершенствовании человека – смысл жизни… Ну, я этого не понимаю; вот в совершенствовании дерева смысл ясен – оно усовершенствуется до пригодности в дело, и его; употребят на оглоблю, на гроб или еще на что-нибудь полезное для человека… Ну, хорошо! ты совершенствуешься – это твое дело; но, скажи, зачем ты ко мне пристаешь и меня в свою веру обратить хочешь? А затем говорит, что ты скот и не ищешь смысл жизни. Да я же нашел его, ежели я скот и сознание скотства его не отягощает меня. Врешь, говорит. Коли ты, говорит, знаешь, ты должен исправиться. Как исправиться! Да, ведь живу в мире с собой, ум и чувства у меня едино суть, а слово и дело в полной гармонии! Это, говорит, подлость и цинизм… вот так рассуждают все они, бывало. Чувствую я, что они врут и глупы; чувствую это и не могу не презирать их, потому это – я людей знаю! – если все сегодняшнее подлое грязное и злое объявить завтра честным, чистым, добрым – все эти морды, без всякого усилия над собой, завтра же и будут совершенно честными, чистыми и добрыми. Им для этого понадобится только одно – грусть свою уничтожить в себе… Так-то.
Резко это, говорите? ничего, сойдет. Пусть резко, зато правильно… Я, видите, ли так полагаю: служи богу или черту, но: богу и черту. Хороший подлец всегда лучше плохого честного человека. Есть черное, и есть белое, а смешай их – будет грязное. Я всю жизнь мою встречал только плохих честных людей, таких знаете, у которых честность-то из кусочков составлена, точно они ее под окнами насбирали, как нищие. Это – честность разноцветная, плохо склеенная, с трещинами… А то есть честность книжная, вычитанная и служащая человеку – как его лучшие брюки – для парадных случаев… Да, и вообще, все хорошее у большинства хороших людей – праздничное и деланное; держат они его не в себе, а при себе, на показ, для форса друг перед другом… Встречал я людей и по самой натуре своей хороших… но редко они встречаются и почти только среди простых людей, вне стен города… Этих сразу чувствуешь – хорош! И видишь, родился хорошим… да!
А, впрочем, черт с ними со всеми – и с хорошими и с плохими! Знать я не хочу Гекубы…
Я понимаю, что рассказываю вам факты жизни моей кратко и поверхностно, и что вам трудно понимать – отчего и как… но это уже дело мое. Да и суть не в фактах, а в настроениях. Факты – одна дрянь и мусор. Я могу много наделать фактов, если захочу; возьму вот нож, да и суну его вам в горло – вот и будет уголовный факт! А то ткну в себя этот нож – тоже факт будет… вообще можно делать самые разнообразные факты, если настроение позволяет. Все дело в настроениях – они плодят факты, и они творят мысли… и идеалы… А знаете вы, что такое идеал? Это просто костыль, придуманный в ту пору, когда человек стал плохим скотом и начал ходить на одних задних лапах. Подняв голову от серой земли, он увидал над ней голубое небо и был ослеплен великолепием его ясности. Тогда он, по глупости сказал себе – я достигну его. И с той поры он шляется по земле, с этим костылем, держась при помощи его до сего дня все еще на задних лапах.
Вы не подумайте, что, и я тоже лезу на небо – никогда не ощущал такого желания… я это так сказал, для красного словца!»
По одному этому монологу, который однако необходимо было привести целостью, если мы одним взмахом крыльев хотели добраться до самых источников, из которых интеллигент – бродяга черпает мудрость своей жизни, и одним взглядом обнять идейную сторону этой жизни, мы легко убеждаемся, какой бесплодный нигилизм, чудовищный цинизм, неоправданный, злой эгоизм лежат в основе мировоззрения бродяги. Отрицая всякую общественную жизнь, так как он видит в ней одни только, отрицательные ее стороны, не будучи в состоянии понять весь смысл общественной жизни людей, как основного фактора культурного строительства человеческого рода, бродяга, благодаря крайне болезненному своему эгоизму и беспринципности легко решается на всякого рода антисоциальные поступки и кончает тем, что втягиваясь все более и более в омут преступных злодеяний, теряет всякий человеческий облик и хладнокровнейшим образом совершает неслыханные гнусности ничего лучшего для себя, не ожидая, как верную гибель. «Я уверен, говорит Промтов, что если меня, когда-нибудь будут бить – меня не изувечат, а убьют. На это нельзя обижаться, и было бы глупо этого бояться».
Морали, конечно, бродяги никакой не признают, видя в ней одну из многих глупых условностей социальной жизни людей. К тому же интеллигент-бродяга до того способен разукрасить безнравственность потоком красноречивых слов, что она в его устах превращается чуть ли не в добродетель. Послушаем, как Промтов «оправдывает» ту ложь и обман, которыми он опутывает людей.
«Врать умеючи – высокое наслаждение, скажу я вам. Если врешь и видишь, что тебе верят, – чувствуешь себя приподнятым над людьми, а чувствовать себя выше людей – удовольствие редкостное! Овладеть их вниманием и мыслить про себя – дурачье! А одурачить человека всегда приятно. Да и ему человеку-то, тоже ведь приятно слышать ложь, хорошую ложь, которая гладит его по шерстке. И, может быть, всякая ложь – хороша или же, наоборот, – все хорошее – ложь. Едва ли на свете есть что-нибудь более стоящее внимания, чем разные людские выдумки: мечты, грезы и прочее такое. К примеру, возьмем любовь – всегда любил в женщинах как раз то, чего у них никогда не было и чем я обыкновенно сам же их награждал. Это и было лучшее в них. Бывало, видишь, свежую бабеночку и сейчас же воображаешь – обнимать она должна – этак. Раздетая она такова, в слезах – такая-то, в радости – вот какая. Потом незаметно веришь себя, что все это у нее есть, именно так есть, как ты того хочешь… И, разумеется, по ознакомлении с нею, какова она есть на самом деле, торжественно садишься в лужу!… Но это неважно – ведь нельзя же быть врагом огня только за то, что он иногда жжется, нужно помнить, что он всегда греет, – так ли? Ну вот… По сей причине и ложь нельзя называть вредной, поносить ее всячески, предпочитать ей истину… еще неизвестно ведь – что она такое, эта истина, никто не видал ее паспорта… может быть, она, по предъявлении документов, черт знает, чем окажется…
Трудно поверить, что Горький, увлекаясь бродяжьей жизнью, одобрял ее всю в принципе и ее ставил, подобно Промтову. Как идеал человеческой жизни. В таком случае Горький не выбрался бы никогда из бродяжьей жизни и пропал бы несчастным бродягой. Бродяжничал Алексей Пешков вынужденно, иногда же без нужды из-за скуки и увлеченья «свободой» бродяжьей жизни и бродяжничал он, отыскивая, где попало временную работу, чтобы прокормиться; временами совершал он, бродяжничая преступления, в общем же знал во всем меру и никогда не погружался в грязь бродяжьей жизни так, чтобы совершенно не выбраться из нее или выбраться с большим ущербом для нравственной своей личности.
Из преступлений, совершенных Алексеем Пешковым во время бродяжничества, можно отметить кражу со взломом, как Горький это рисует в рассказе: «Однажды осенью» (1894) (Том 1 собрания сочинений). Решился А. Пешков на этот шаг, мучимый жалостью к несчастной, голодной и избитой проститутке. Впрочем, Алексей Пешков мог бы быть восприимчив к воровству и по другой причине, т. к. в той среде, где рос и воспитывался Алексей, воровство вообще-то не считалось преступлением:
«Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев «прирабатывали на реке» – ловили дрова и бревна, унесенные половодьем, перевозили на досчанниках мелкий груз, но, главным образом, занимались воровством с барж и вообще – «мартышничали» на Волге и Оке, хватая все, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились.
Весною, в горячее время перед ярмаркою, по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом – слободские ребятишки всегда обшаривали их карманы, это был промысел узаконенный, им занимались безбоязненно, на глазах старших.
Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых – шкворни, железные подоски из тележных осей».
Таким образом, мы видим, что обвинять одну только наследственность в выработке патологических черт характера рискованно и следует постоянно принимать во внимание и внешние условия жизни, в которых живет человек. Отягченная наследственность безусловно предрасполагает к развитию психопата или психопатических черт характера, и ceteris paribus человека с отягченной наследственностью скорее заболеет душевной болезнью чем таковой с благополучной наследственностью. С другой стороны, не надо забывать, что при исключительно хороших условиях жизни человек с отягченной наследственностью может быть совершенно иммунным к душевным заболеваниям. Что касается Горького, то условия жизни были против него и в развитии его пориомании следует обвинять не только наследственность, но и известные условия жизни еще в школьные его годы, когда он был принужден зарабатывать на жизнь ветошничеством.
«Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо – тоже, пуд костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше».
Многим покажется сомнительным, что занятие ветошничеством может быть моментом, предрасполагающим к пориомании. Мое личное убеждение таково, что бродить целыми днями с мешком на плечах и рыться в разном соре и мусоре не может не предрасположить к бродяжничеству особенно лиц, и без того предрасположенных к пориомании наследственно. Что бродяжничание ветошника, все равно что нищенствование, будит в человеке бродяжнический его инстинкт, не может быть и потому еще подвержено сомнению, что большинство нищенствующих очень легко впадает в пориоманию, что впрочем, легко объясняется еще тем обстоятельством, что у них нет своего собственного крова.
Наследственность и условия жизни толкали Горького на бродяжью жизнь, от которой Горький, как и от многих других зол своей жизни, спасся. Насколько бродяжья жизнь несовместима с элементарными требованиями морали можно судить по тому обстоятельству, что честнейший из бродяг, Алексей Пешков не остался без греха. В общем же нет, видно, зла без добра, и, если бы судьба не довела Алексея Пешкова до бродяжничества, давая ему возможность наблюдать любопытнейший экземпляр подонков общества – бродягу, мы не имели бы высоко художественных рассказов Горького о бродягах, которые, снабжая неоценимым научным материалом психологов, психопатологов, социологов и т. д. закрепили за Горьким бессмертную славу великого художника русского народа и земли русской!
О суицидомании Максима Горького[33] Личность Максима Горького в свете совершенного им в декабре 1887 г.[34] покушения на самоубийство. Д-ра И. Б. Галант
Влечение к самоубийству или суицидомания (suicidomania) – явление, которое как много других непонятных явлений, сделалось в науке «вопросом», принадлежит к так называемым «проклятым вопросам» науки, ибо оно кажется на первый взгляд неразрешимым, или оно действительно неразрешимо. Нам поэтому кажется необходимым прежде чем говорить о суицидомании Горького разобраться как следует в самом вопросе самоубийства, ибо только таким путем мы облегчим себе впоследствии задачу, состоящую в анализе личности Максима Горького (собственно душевной его жизни) в связи с его суицидоманией.
Главная ось, вокруг которой вращается проблема самоубийства, это вопрос о том имеем ли мы при самоубийстве дело с проявлением душевной болезни, и самоубийство есть явление психопатологическое, свидетельствующее о тяжелом невропсихическом расстройстве, или же самоубийство есть (или может быть) явление «нормальное» т. е. не вытекающее из психопатогенных мотивов. Разрешение этого принципиального вопроса как это почувствует читатель сам, весьма важно и без него никак нельзя двинуть вперед проблему самоубийства и превратить ее из «научного вопроса» в научно обоснованную истину, объясняющую, вполне удовлетворительно явление самоубийства.
К несчастью, вопрос этот до сих пор не разрешен, и мнения расходятся. Я говорю «к несчастью», ибо вопрос этот один из самых древних вопросов, а в психиатрии он зародился одновременно с зарождением и модерным развитием этой науки в конце 18 и начале 19 столетия (французская школа – Эскироль (Esquirol), и если даже не верить старой мудрости Гете (Goethe), что никто не мыслит абсолютно новые, уже раньше не высказанные мысли («Wer капп was Dummes, wer was Kluges denken. Das nicht die Vorwelt schon gedach»), то что касается вопроса самоубийства, здесь была высказана такая масса всевозможных мнений, что действительно трудно поручиться, что в ближайшем будущем предстоит совершенно новое, радикальное разрешенье вопроса. Познакомимся, однако, со старыми и новыми научными взглядами на самоубийство.
По Вейхбродту (Weichbrodt) у евреев библейской эпохи самоубийство не встречалось, и в библии нет слова, соответствующего слову самоубийство, имеющемуся во всех языках.[35] В талмудическую эпоху самоубийство очевидно благодаря более близкому знакомству с другими народами начало распространяться среди евреев, и талмуд различает двоякого рода самоубийство: преднамеренно обдуманное, вполне сознательно совершенное самоубийство, и самоубийство в состоянии невменяемости, самоубийство душевно-больных, перепитых, несовершеннолетних, а также самоубийство находящегося в битве со врагом воина в случае неблагоприятного для него исхода битвы. Особенно сильно распространилось самоубийство среди древних евреев ко времени второго разрушении Храма и в связи с катастрофическим положением страны, так что ученые начали вести борьбу с этим злом. Josephus, который между прочим сам кончил самоубийством, когда ему угрожала смерть от руки врага, писал: «Почему мы спешим пролить нашу собственную кровь? Почему мы хотим насильно разорвать
У всех древних и даже первобытных народов – у египтян, греков, римлян, у германцев, индийцев и т. д. самоубийство было очень распространено то, как народный обычай, то как средство «хорошо умереть». «Хорошо умереть» значило по Сенеке избежать опасности плохо жить… У германцев старики, чувствуя приближение старческой слабости, убивали себя, у герулов замужняя женщина не должна была пережить своего мужа, как и у индийцев, у которых вдова по смерти мужа, а слуга по смерти хозяина кончали самоубийством.
Насколько в древности, в частности у римлян было распространено самоубийство можно судить по тому факту, что Тацит, рассказывая о самоубийстве префекта Рима, Lucius Piso, говорит, что он умер естественной смертью!..
Таким образом, у древних народов самоубийство равнялось естественной смерти и считалось вполне нормальным явлением. Иначе смотрит на самоубийство новая и новейшая психиатрия. Отец современной научной психиатрии, Эскироль защищал мнение, что самоубийство во всех случаях – явление патологическое; и берет оно свое начало в болезненных состояниях души. Он указывает на наследственный характер склонности к самоубийству и сообщает, случай, где бабушка, мать, дочь и внучка кончали самоубийством. Подобный случай сообщает Вольтер (Woltaire). «Я видел почти собственными глазами самоубийство, которое заслуживает внимания врачей. Зрелого возраста человек, живший в хороших условиях, занимавшийся серьезным трудом, не подверженный никаким страстям, наложил на себя 17 октября 1769 года руки и оставил магистрату города, в котором он жил, посмертную записку, в которой он извинялся за свой поступок. Опубликовать этот документ не нашли нужным из-за боязни вызвать и других людей на подобного рода поступок. До этого пункта мы ничего экстраординарного не видим, подобные случаи попадаются везде. Поражает лишь следующее: его брат и отец тоже кончили самоубийством в том же возрасте. Какая тайная закладка духа, какая симпатия, какое содействие психических законов ведет отца и двух его сыновей к тому, что они в том же возрасте, одним и тем же образом от своей же руки погибают».
Все выдающиеся психиатры недавно протекших и наших дней стоят, что касается самоубийства, на точке зрения Эскироля. Вернике (Wernicke) высказывается по этому пункту следующим образом: «Кто после потери огромного состояния, после приговора к лишающему чести наказанию, после смерти любимого лица накладывает на себя руки действует под влиянием переоцененной идеи (ėbervertige idėe), и мы принуждены признать этот акт ненормальным, хотя и нельзя низвести его на душевную болезнь. В каждом единичном случае надо будет поэтому установить, имеем ли мы перед собою болезненно переоцененную идею, или же таковую, которая помещается в границах здорового. Решение этого вопроса мы склонны будем поставить в зависимость от того достаточен – ли мотив, который одарил данное воспоминание этим доминирующим аффектом или нет.
Гаупп (Gaupp) говорит о многих людях, которых мы и, можем назвать душевно-больными, которые однако, обнаруживают некоторые болезненные черты – это природы нервные, психопатические, дегенеративные личности. Они часто рождаются от душевно-больных, нервно-больных, запоем пьющих, слабых родителей. Вырожденцы (дегенераты) обнаруживают строение духа, дающее благоприятную почву для мыслей о самоубийстве: сносный ум, большая возбужденность не отличающихся продолжительностью чувств, слабые импульсы воли, не увенчающиеся успехом, сильно подчеркнутые эгоистические инстинкты, повышенная чувствительность к неприятным впечатлениям и переживаниям – такая смесь душевных способностей оказывается мало способной к борьбе с бурями жизни. Эти индивиды легко разочаровываются в жизни и при повышенной аффективной возбужденности таких психопатических личностей дело легко доходит до необдуманных поступков (самоубийство).
Величайший психиатр земли русской Сергей Сергеевич Корсаков смотрит, на самоубийство в лучшем случае как на акт результирующий из психической неуравновешенности. «Самоубийство есть явление, встречающееся нередко в жизни и причисляемое к актам, не выходящим из круга поступков, которые может совершить и вполне нормальный человек. Действительно, когда человек решается на самоубийство из чувства долга или на основании требований рассудка, то это может быть и при здоровом уме. Но статистика показывает, несомненно, что большинство самоубийц происходит из психопатических семей, и сами по себе представляют нередко резкие признаки психической неуравновешенности.
Поэтому в громадном большинстве случаев приходится смотреть на самоубийство, даже вызываемое экономическими и общественными условиями, отсутствием нравственных устоев и высших идеалов, как на акт душевного (может быть кратковременного) расстройства. И, действительно, часто мы видим стремление к самоубийству у лиц, формально психически расстроенных, особенно у меланхоликов».
Все же у Корсакова можно вычитать если не прямое, то во всяком случае косвенное указание на возможность толкования самоубийства, как не вытекающего из психотической природы человека. А некоторые современные психиатры прямо таки утверждают, что загадка самоубийства не может найти своего разрешения указанием на психопатогенное происхождение его. Груле (Gruhle) пишет в своей «психиатрии для врачей»: «Это напрасная игра понятиями и словами, если обсуждают вопрос, представляет ли собой самоубийство патологический акт или же принадлежит он области нормальных явлений. Это твердо установленный факт, что оно часто вытекает из настроений, которые обладают анормальной глубиной и силой. Твердо установлен и другой факт, что судьба, и обстоятельства жизни человека до того запутываются, что при спокойном обдумывании положения самоубийство представляется единственно возможным выходом из положения».
Бирнбаум (Birnbaum) высказывается, к проблеме самоубийства как следует: «Многочисленные, между собой переметенные внутренние и внешние сцепления, вся запутанная ткань, в которой душевные задатки и развитие, внутренние, мотивы и внешние обстоятельства, психическая ситуация и положение в жизни, вместе действуя, ведут к этому конечному пункту (самоубийству) – никогда не могут быть распутаны и разрешимы односторонним увлечением одной какой-нибудь нитью клубка. Но так же мало разрешима загадка самоубийства, если не выделить и не оценить как следует существенно патологический уклон явления, Самоубийство само по себе не есть еще патологический феномен, все же оно часто бывает таковым, и нередко оно бывает таковым в первую линию». Вслед затем Бирнбаум еще раз подчеркивает: «Загадку самоубийства нельзя разрешить одним указанием на психопатологический генез его».
Из вышеприведенных мнений психиатров о природе самоубийства явствует, что все они, в противоположность господствовавшему в древнем мире взгляду на самоубийство, как на нормальное явление, видят в самоубийстве главным образом проявление болезненного душевного состояния, и расходятся психиатры в своих мнениях лишь постольку, поскольку они склонны видеть в исключительных случаях в самоубийстве нечто «разумное», акт вытекающий так сказать необходимо из стечений обстоятельств и представляющий единственный выход из положения. Решения проблемы самоубийства в отвлеченном смысле, т. е. независимо от конкретного случая, быть не может, т. к. оно должно было бы сводиться к выводу, что самоубийство есть явление то нормальное, то ненормальное, что собственно ничего не говорит о самой сущности явления, и оставляет нас в нерешительности и даже серьезном смущении. Каждый же единичный случай самоубийства представляет собой очень сложную задачу, где физиология и патология до того между собой переплетаются, что трудно точно сказать какому элементу следует отдать предпочтение и следует ли говорить о «физиологическом» или «патологическом» самоубийстве.
Таковы результаты естественно-научного исследования проблемы самоубийства, сведущиеся к решению вопроса о естественности («нормальное» явление) и неестественности («ненормальное» явление) самоубийства, и которые, к сожалению, не могут быть названы вполне удовлетворительными. Посмотрим теперь, как обстоит дело с философской стороной вопроса. «Философия» самоубийства вращается вокруг вопроса о нравственности и безнравственности самоубийства, и философское изучение вопроса самоубийства гораздо старше естественно-научного его изучения. На необходимость этого двустороннего изучения самоубийства в очень красивой форме указывает в 13 книге «Dichting ef Wahrheit» Гете: «Самоубийство есть событие человеческой природы, которое, хотя оно уже с давних пор, и очень обстоятельно обсуждается, требует от каждого человека участия и в каждой эпохе должно сызнова обсуждаться. Ведь неестественно же, что человек отрывается от самого себя и не только повреждает, но уничтожает себя; отвращение жизни имеет физиологические и моральные свои причины первые причины должны быть изучены врачом, последние моралистом».
Из древних философов Аристотель смотрел на самоубийство, как на безнравственный поступок, безнравственный не по отношению к самому себе, а по отношению к государству. Эпикур находил человека, кончающего самоубийством, потому что ему жизнь опостыла, смешным, осуждая таким образом самоубийцу как лишенного твердых моральных принципов человека. В противоположность такому взгляду стоики защищали мнение, что прощаться с жизнью должно быть каждому дозволено и самоубийство рассматривалось в философской школе стоиков, как добродетель. Зено (Zeno) повесился в глубокой старости, после того как он упал и поломал себе палец. Народ воздвигнул, ему памятник с надписью: «Жизнь его совпадала с его учением».
Учение стоиков о самоубийстве нашло себе среди римских философов приверженца в лице Сенеки (Seneca), который защищал «свободу» умирать, кому как хочется. Указывая на то, что все люди имеют один только вход в жизнь и много различных выходов из жизни, Сенека проповедовал: «Если несчастье настойчиво преследует несчастие, то он в каждый момент может уйти из жизни. Дверь открыта. Кто не хочет дольше оставаться, может уходить.
Видишь ты тот крутой отвес? Оттуда вниз дорога к свободе! Видишь ты там море, реку, колодезь? На их дне живет свобода! Видишь ты то небольшое, иссохшее, искривленное дерево? На нем висит свобода!.. Ты спрашиваешь, каков самый легкий путь к свободе – каждая артерия твоего тела – такой путь к свободе!»
Религиозная философия (монотеистические религии) осуждает самоубийство, как преступление, и лишь немногие отцы церкви как Евсебий (Eusebius), Хридостом (Chrisostomas), Иероним (Hieronymus) извиняют самоубийство в случаях, где невинность подвержена опасности. Магомет (Mohammed) прямо запрещает самоубийство: «Не будьте самоубийцами; кто провинится против этой заповеди, того пожрет огонь ада» (Коран, Сура 4).
Эта религиозная агитация против самоубийства вела к тому, что в религиозные века средневековья при всем том отрицании жизни, которым отличалась эта историческая эпоха, самоубийство было весьма редким явлением и жизнь меняли обыкновенно произвольным заточением в монастырь, а не смертью.
Философия XVIII и XIX столетий в лице некоторых своих главных представителей видела в самоубийстве безнравственней поступок. Кант (Kant) обозначал самоубийство безнравственным поступком, т. к. самоубийца унижает этим поступком в своем лице человеческое наше достоинство. Шопенгауэр (Schopenhauer) говорит, что самоубийство стоит на дороге к выполнению высших моральных целей, т. к. оно вместо настоящего избавления от мира горя и мучений дает лишь фиктивное спасение из положения. Однако, он далек от того, чтобы объявить самоубийство преступлением и говорит, что надо осудить самоубийство, чтобы не быть осудимым на самоубийство.
Не станем далее излагать мнения различных философов о нравственности или безнравственности самоубийства, т. к. и ничего нового из этих мнений не извлечем. Взгляды на самоубийство меняются от философа к философу и, что более интересно, у одного и того же философа в зависимости от того, каковы мотивы самоубийства. Так Геббель (Hebbel) думает, что самоубийство всегда грех, если оно вызвано какой-нибудь одной деталью жизни, а не совокупностью всех обстоятельств жизни, не «всей жизнью». Мы видим здесь до чего произвольны философские понятия морали и как трудно строить мораль самоубийства или объявить раз и навсегда самоубийство безнравственным, где люди иногда потому кончают самоубийством, что не могут иначе жить чем безнравственно, и самоубийство в таком случае, как преследующий моральную цель поступок, волей неволей приходится считать истинным моральным актом!
Как раз у Горького одним из многих мотивов покушения на самоубийство были преступления против морали, как он, Горький, ее понимал. Однако, для того, чтобы оценить как следует покушение Горького на самоубийство в психиатрическом смысле и во всех других отношениях, и для того, чтобы доказать, что tentamen Suicidii Горького есть проявление той суицидомании, которой он страдал, по крайней мере, 1–2 месяца, нам необходимо познакомиться с некоторыми литературными произведениями Горького, которые рисуют нам жизнь, характер и душевные переживания автора до и в период времени непосредственно предшествовавший покушению на самоубийство.
О самом факте покушения на свою жизнь, Горький в «Моих университетах» сообщает следующее:
«Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц очень конфуженный, чувствуя себя до нельзя глупым, снова работал в булочной».
Что касается мотивов покушения своего на самоубийство, то Горький о них пишет:
«Я пробовал описать мотив этого решения (убить себя) в рассказе «Случай из жизни Макара». Но это не удалось мне – рассказ вышел неуклюжим, неприятным и лишенным внутренней правды. К его достоинствам следует отнести – как мне кажется – именно то, что в нем совершенно отсутствует эта правда. Факты правдивы, а освещенье их сделано как будто не мною, и рассказ идет не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа – в нем для меня есть нечто приятное, как будто я перешагнул через себя».
Прочитав рассказ «Случай из жизни Макара»,[36] я мог легко убедиться, что Горький напрасно наклеветал на этот драгоценнейший документ для изучения его юности, объявив его лишенным внутренней правды. Я в Макаре до того точно узнал того самого Максима Горького, с жизнью которого знакомился в «Моих университетах», что для меня не могло существовать никакой тени сомнения в том, что Макар это точная копия юного Максима Горького, тогда еще только Пешкова, что я ни минуты не сомневался в допустимости научной обработки фактов, сообщенных Горьким в «Случае из жизни Макара», как таковых его личной жизни, чего Горький, между прочим, сам не отрицает. Что касается сомнительной внутренней правды, то я старался пополнить, корригировать и освещать факты «Случая из жизни Макара» такими из «Моих университетов», так что если действительно были в жизни Макара, как это утверждает Горький, некоторые неправильно освещенные пункты и не в той мере правдивые, как бы этого хотел сам Горький, то они, я смею надеяться, получили под моим пером настоящую свою правдивость и мы здесь будем читать истинную научно обоснованную историю суицидомании Горького.
Что представлял собой юноша Пешков (Максим Горький) в годы своего расцвета, когда душу его не терзали гибельные мысли о самоубийстве?
Незадолго перед этим (решением застрелиться) он (Макар) чувствовал жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытного и важного, ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл.
Ежедневно с утра до ночи тянулись они одно за другим как разнообразно кованные звенья бесконечной цепи; глупое сменялось жестоким, наивное – хитрым, было много скотского, не мало звериного, и – вдруг трогательно вспыхнет солнечной улыбкой что-то глубоко человечное – «наше», как называл Макар эти огоньки добра и красоты, которые, лаская сердце великою надеждою, зажигают в ней жаркое желание приблизить будущее, заглянуть в его область неизведанных радостей.
Жизнь была подобна холодной весенней ночи, когда в небе быстро плывут изорванные ветром клочья черных облаков, рисуя взору странные фигуры, и внезапно между ними в мягкой глубокой синеве проблеснут ясные звезды, обещая на завтра светлый солнечный день. Был Макар здоров и как всякий здоровый юноша любил мечтать о хорошем – жило в нем крепкое чувство единства и родства с людьми.
В каждом человеке он хотел вызвать веселую улыбку, бодрое настроение; это ему часто удавалось и в свою очередь повышая его силы, углубляло ощущение единства с окружающим.
Он много работал и не мало читал, всюду влагая горячее увлечение. Хорошо приспособленный природою к физическому труду, он любил его, и когда работа шла дружно, удачно – Макар как будто бы пьянел от радости, наполняясь веселым сознанием своей надобности и жизни, с гордостью любуясь результатами труда.
Он умел и других зажечь таким же отношением к работе и, когда усталые люди говорили ему:
– Ну чего бесишься? Ведь хоть на двое переломись – всего не сделаешь!
Он горячо возражал:
– Сделаем, а там гуляй свободно!
И верил, что если убедить людей дружно взяться за работу самоосвобождения – они сразу могли бы разрушить, отбросить сторону все тесное, что угнетает, искажает их, построить новое, переродиться в нем, наполнить жилы новой кровью, и тогда наступит новая, чистая, дружная жизнь.
Чем больше он читал книг и внимательно смотрел на все, медленно и грязно кипевшее вокруг, – тем ощутимее и горячее становилась эта жажда чистой жизни, тем яснее видел он необходимость послужить великому делу обновления!
Вот чем был юноша Горький!
Это был идеально настроенный юноша, который, видя всю грязь жизни, хорошо зная все недостатки людей, умел любить жизнь и людей таковых, каковы они, есть. Великое уменье, которое так легко давалось юноше Горькому, потому что он владел необыкновенной физической силой и живым умом, которые давали ему чувство возможности построить «в ну» новую жизнь и вселяли в нем надежду превратить грязное и порочное в идеал чистоты, красоты и добродетели.
Однако, идеализм Горького, как это часто бывает с идеализмом неопытных юношей, обманутых иллюзией необыкновенных своих физических и моральных сил, сделался причиной душевного расстройства, развитие которого Горький нам рисует, как следует:
«Каждое сегодня принималось им (Макаром) за ступень к высокому завтра, завтра, уходя все выше, становилось все более заманчивым, и Макар не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от действительного сегодня, незаметно отделяют его от людей.[37]
Этому сильно помогали книги: тихий шелест их страниц, шорох слов, точно топот заколдованного ночью леса или весенний гул полей, рассказывал опьяняющие сказки о близкой возможности царства свободы, рисовал дивные картины нового бытия, торжество разума, великие победы воли.
Уходя все глубже в даль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота. Книжное незаметно заслоняя жизнь, постепенно становилось мерилом его отношений к людям и как бы пожирало в нем чувство единства со средою, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство – таяла выносливость и бодрость насыщавшие Макара.
Сначала он заметил, что люди как будто устают слушать его речи, не хотят понимать его и в тоже время в нем явилось повелительное тяготение к одиночеству. Потом каждый раз, когда его мнения оспаривались или кто-нибудь осмеивал их наивность, он стал испытывать нечто близкое обиде на людей. Его мысли дорого стоили ему, он собирал и копил их в тяжелых условиях, бессонными ночами за счет отдыха от дневного труда. Был он самоучка, и ему приходилось затрачивать на чтение книг больше усилий, чем это нужно для человека, чей ум приспособлен к работе с детства школой.
Утратив ощущение равенства с людьми, среди которых он жил и работал, но слишком живой и общительный для того, чтобы долго выносить одиночество, Макар пошел к людям другого круга, но в их среде еще более – и даже органически, чуждой ему, он не встретил того, что искал, да он и не мог бы с достаточной ясностью определить, чего именно ищет.
Он просто чувствовал, что в груди его образовалось темное холодное зияние, откуда, как из глубокой ямы, по жилам растекается, сгущая кровь, незнакомое, тревожное чувство усталости, скуки, острое недовольство собою и людьми».
Уже в этих описаниях Горького ясно чувствуется, что со здоровым, жизнерадостным, человеколюбивым юношей Горьким, начали происходить серьезные изменения, которые ведут к полному метаморфозу его характера и всей его психической сущности в смысле развития выраженного психопатического состояния. Развивается у Горького очень опасный аутизм, состоящий в полной потере смысла реального и замене мира действительного, «действительного сегодня», как говорит Горький вычитанными в книгах утопиями, «дивными картинами нового бытия», которое он не может сделать ясным ни себе, ни другим людям. Горький теряет природную свою общительность, чувствует непреодолимую склонность к одиночеству, которое для него тем гибельнее, что оно способствует развитию его аутизма и мизантропии, выражающейся пока что, в остром недовольстве людьми, в «обиде, на людей». Тают у Горького его выносливость и бодрость, главным образом в бесплодной борьбе за идеалы, которые из-за интеллектуальной слабости юноши Горького ясны ему самому и вокруг и внутри его образуется «холодная пустота», «темное холодное зияние», которые он не в состоянии чем-нибудь выполнить. Находясь в таком жалком состоянии полного душевного развала, Горький ищет спасения у людей высшего круга, но «люди нового круга были еще более книжны, чем он, они дальше его стояли от жизни, им многое было непонятно в Макаре, он тоже плохо понимал их сухой книжный язык, стеснялся своего непонимания, не доверял им и боялся, что они заметят это недоверие.
У этих людей была неприятная привычка: представляя Макара друг другу они обыкновенно вполголоса или шопотом, а иногда и громко, добавляли:
– Самоучка… Из народа…
Это тяготило Макара, как бы отодвигая его на какое-то особое место. Однажды он спросил знакомого студента:
– Зачем вы всегда говорите, что я самоучка, что я из народа и подобное?
– Да ведь это же «батя, факт!».
Здесь место осветить детальнее отношения юноши Горького к интеллигенции вообще и к студентам в частности для того, чтобы получить ясное представление о том, какую роль сыграли эти отношения в развитии психопатического состояния Горького, кончившегося суицидоманией.
Читая «Мои университеты», мы можем легко убедиться, что студенты для Горького были высшие люди, и он их долгое время обоготворял. Он буквально жил и работал для студентов, защищая их всячески от нападков своих товарищей, которые были нередко не просто идейные, а физические ощутимые кулачные удары. Студенты были долгое время для Горького идеальные люди, мысли о которых помогали ему заполнять ту душевную пустоту, которая его так ужасала. Но как ни старался Горький уберечь этот свой идеал от поругания, ему это не удалось, и ему даже самому пришлось развенчать свой идеал, особенно после следующего случая.
Юноша Пешков посещал время от времени со своими товарищами, пекарями, дома терпимости, где Пешков впрочем, не лишал себя, по его словам, невинности. Однажды экономка дома терпимости рассказала пекарям следующее: «Самый ж непонятный народ, это, обязательно, студенты академии, да. Они такое делают о девушками: велят помазать пол мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками и ногами на тарелки и толкают ее в зад – далеко ли уедет по полу? Так – одну, так и другую. Вот. Зачем это?».
После этого рассказа пекари поклялись избить студентов, и у Пешкова в первый раз не хватило духу защищать студентов, к которым он после этого мало помалу, совсем охладел. Это было как раз в то время, когда идеалы Горького рушились один за другим, и он все больше и больше чувствовал одну только пустоту жизни и людей. Понятно, поэтому, что «как бы там ни было, – в этой среде Макар не мог укрепить свою заболевшую душу. Он пробовал что-то рассказывать о затмении души, был не понят и отошел прочь без обиды – с ясным ощущением своей ненужности этим людям. Первый раз за время своей сознательной жизни, он ощутил эту ненужность, было ново и больно.
Потом вероятно сказалось переутомление, отозвались ночи без сна, волнующие книги, горячие беседы, – Макар стал чувствовать себя физически вялым, а в груди всегда что-то трепетало, нервы, как будто проколов кожу, торчали поверх нее, точно иглы, и каждое прикосновение к ним болезненно раздражало.
Макару было 19 лет, он считал себя неутомимо сильным, никогда не хворал, любил немножко похвастаться своею выносливостью, а теперь он стал противен сам себе, стыдился своего недомогания, стараясь скрыть его, едко осуждал сам себя, но все это плохо помогало, и тревога, ослабляющая душу, становилась тяжелей…
В то же время он почувствовал себя влюбленным, но не мог понять в кого именно: в Таню или в Настю, ему нравились обе. Полногрудая, высокая и стройная приказчица Настя только что окончила учиться в гимназии, радуясь, свободе, она весело и ясно улыбалась всему миру большими, темными, как вишни, глазами и показывала белые, плотные зубы, как бы заявляя о, своей готовности съесть множество всяких вкусных вещей. Таня была маленькая, голубоглазая, белая, точно маргаритка; она, со всеми говорила ласково, слабеньким, однообразно звеневшим голосом, мягкими, как вата, словами и смеялась тихим тающим смехом.
Макар не скрывал своих чувств перед ними и это одинаково смешило подруг – они были веселые. Он же подходил к ним как бездомный иззябший человек, подходит зимней ночью греться, около костров, горящих на перекрестках улиц, ему думалось, что эти умненькие девушки могут та или другая, все равно – сказать ему какое то свое, ласковое женское слово, и оно тотчас рассеет в его груди подавляющее чувство отброшенности, одиночества, тоски.
Но они шутили над ним, часто напоминая ему о его 18 годах и советуя читать серьезные книги, а усталая голова Макара уже не воспринимала книжной мудрости, наполняясь, все более темными думами.
Мы видим таким образом, что неудачи юноши Горького копились, фатальным для него образом и неминуемо должны были вести к катастрофе. Горький ищет спасения от разъедающего его червя отчаяния в любви и думает, что одно ласковое слово любимой женщины, спасет его от гибельного для него в это время чувства одиночества и заброшенности. Однако это слово не приходит, и Горький погружается в темные думы.
«Их было бесконечно много, они как будто бы давно уже прятались где-то глубоко в нем и везде вокруг него; ночами они поднимались со дна души, ползли изо всех углов, точно пауки, и все более отъединяя его от жизни, заставляли думать только о себе самом. Это были даже не думы, а бесконечный ряд воспоминаний о разных обидах и царапинах в свое время нанесенных жизнью и казалось так хорошо забытых, как забывают о покойниках. Теперь они воскресли, оживились, непрерывно вился их хоровод – тихая торжествующая пляска; все они были маленькие, ничтожные, но их – много и они легко скрывали то хорошее, что было пережито среди них и вместе с ними.
Макар смотрел на себя в темном круге этих воспоминаний, поддавался внушениям и думал:
– Никуда не гожусь. Никому не нужен».
Эти болезненные мысли о своей ненужности были может быть самыми страшными и самыми мучительными для юноши Горького? Насколько глубоко они засели в юном, больном уме Горького, и как терзали они его больную душу можно судить по другому его весьма важному для биографии Горького и для изучения его личности рассказу: «Макар Чудра» (1892).[38] Цыган Макар Чудра это вариация Макара из рассказа: «Случай из жизни Макара» и под цыганом Макаром надо разуметь того же юношу Горького, покушавшегося на девятнадцатом году своей жизни на самоубийство. Доказательством этого моего предположения, являющегося для меня лично неопровержимой истиной, я вижу в следующих моментах. 1) Макар Чудра, сидевши в тюрьме, тоже покушался на свою жизнь, правда, через повешение, и развивает философию самоубийства, коренящуюся равным образом в убеждении ненужности человека. 2) Макар Чудра – цыган, цыган же у Горького символ пекаря. Рассказывая в «Случае из жизни Макара» о том, как его посетил в больнице, где он лежал раненый после неудачного покушения на свою жизнь, один из его товарищей пекарей, он его сравнивает с цыганом. Горький же, как известно, был в юности пекарем, а потому неудивительно, что он себя изображает в лице цыгана. Наконец, в 3) Я не могу видеть простую случайность в том, что покушавшийся на самоубийство цыган Макар Чудра, развивавший философию ненужности человека, как главное оправдание самоубийства, назывался Макаром, а не каким либо другим именем. Не может таким образом быть сомнения, что Макар Чудра идейно есть тот же Макар, что и в «Случае из жизни Макара», и Горький, очевидно оставшийся на всю свою последующую жизнь очень заинтересованным тем состоянием своей души, которое повело его в юности к самоубийству, пытался впервые дать в Макаре Чудре описание этого своего состояния и выдвинул один только момент своей ненужности, который особенно мучительно отзывался на душевном его состоянии, и может быть в первую очередь повел Горького к самоубийству. Впрочем, пожалуй, что нет, ибо Горький пишет в «Случае из жизни Макара: «А, вспомнив горячие речи, которыми он еще недавно оглушал людей подобных себе, внушая им, бодрость и будя надежды на лучшие дни, вспомнив хорошее отношение к нему, которое вызывали эти речи, он почувствовал себя обманщиком и – тут решил застрелиться.
Вот мы пришли к тому факту в истории развития суицидомании Горького, который служил нам исходным пунктом изучения этой истории: преступление против морали, пункт, который по Горькому имел решающее значение и окончательно определил его образ действий. Мы видим, что преступление это вряд ли может квалифицироваться таковым, и, юридически говоря, никакие преступления за Горьким к тому времени не велись. Однако, Горький находился в таком болезненном состоянии, что его разгоряченная фантазия делала, как говорят, «из мухи слона». Мы, поэтому, не удивимся, что «преступление» имело решающее значение в tentamen suicidii Горького.
К счастью, можно теперь сказать для всей России, самоубийство Горького кончилось неудачей, и России суждено видеть еще одного из гениальных своих сыновей успешно оплодотворяющим и по наши дни славообильные поля русской словесности.
* * *
Если мы теперь, окончивши анализ всех тех обстоятельств, которые вели юного Горького к покушению на самоубийство, попытаемся охарактеризовать то душевное состояние, в котором Горький находился последнее время перед покушением на свою жизнь, то мы без всяких оговорок принуждены будем сказать, что Горький был к тому времени душевно больной человек и страдал психозом, который в немецкой психиатрии известен под именем Erschėpfungs – psychose – по-русски психоз изнурения или истощения. Данные к тому, что психоз Горького развился на почве переутомления и изнурения сил имеются в «Случае из жизни Макара», где Горький рассказывает, что он работал денно и нощно не отдыхая, то физически, то умственно напрягаясь чересчур при этой последней работе, и что переживал сверх того сильные душевные потрясения, стараясь привить свои идеи другим людям и терпя при этом нередко полную неудачу. В результате сверхчеловеческих усилий Горького работать физически и умственно без отдыха, так что он вызвал всеобщее удивление, и его упорный труд определяли как «бешенство» (– Ну чего бесишься? Ведь хоть на двое переломись – всего не сделаешь!), вся его нервная система натянулась до возможного максимума, нервы, как образно выражается Горький от крайнего натужения как будто превратились в острые проволоки, которые, проколов кожу, торчали поверх нее, точно иглы, в каждое прикосновение к ним болезненно раздражало.
Такое напряжение и перетяжение нервов ничем другим не могло окончиться, как последующим их крайним ослаблением с полным лишением способности опять натягиваться и прийти в состояние напряжения, необходимого для успешной человеческой деятельности. У юного пекаря Пешкова-Горького интеллектуальная сторона, как более слабая, потерпела первая, и слабый ум Горького отказался ему повиноваться. Его ум ничего больше не воспринимал, Пешков-Горький не был в состоянии думать, не мог продолжать ту общественную работу, которую он вел, а в связи с этим у него развилось весьма опасное чувство своей недостаточности, своей непригодности, никчемности, своей ненужности, наконец. Это весьма болезненное чувство получало тем больше пищи, что у Горького в связи с невозможностью продолжать прежнюю общественную свою деятельность развился аутизм и повелительное тяготение к одиночеству, и чувство заброшенности непременно должно было выращивать самые горькие плоды отчаяния у человека, видевшего весь смысл жизни в беспрестанной шумной работе в кругу сильных умом и телом людей на благо таких же выдающихся других людей. Измученный трудом, больной ум юного Пешкова-Горького не мог навести его снова на путь благополучия, мысли одна другой черней затемняли давно потерявший свой жизненный блеск ум и Пешков-
Горький не видел перед собой другого исхода, как ускоренную самоубийством окончательную смерть…
Нам теперь совершенно ясны корни покушения на самоубийство Горького, которые таились в тяжелом психозе истощения. Если я в заглавии и много раз в моих рассуждениях о tentamen suicidii Горького говорю не просто о попытке покончить самоубийством, а о суицидомании Горького так это из-за того, что мы у Горького имеем дело не с мимолетным скоро преходящим влечением к самоубийству, а с глубоко вкоренившимся желанием, мучившим Горького еще долгое время после того, как ему не повезло и в самоубийстве. Об этом свидетельствуют следующие отрывки из «Случая из жизни Макара» (после самоубийства), которые, я привожу один за другим в хронологическом их порядке.
«О смерти не думалось – Макар был спокойно уверен, что как только представится удобный случай – он убьет себя. Теперь это стало более неизбежным и необходимым, чем было раньше: жить больным, изуродованным, похожим на этих людей (больных) – нет смысла.
«Ему казалось, что это решение его сердца, но в то же время он чувствовал что-то другое, молча, но все более настоятельно спорившее с этим решением: он не мог понять – что это? И беспокоился, стараясь незаметно подсмотреть лицо назревающего противоречия».
– Зачем он приходил, – думал Макар, когда татарин ушел.
– Зачем?
Искать ответа на этот вопрос было приятно.
Он чувствовал себя с каждым днем все более здоровым, а в душе становилось все темнее и запутаннее и как-то незаметно для него – мысль о смерти переселилась из сердца в голову. Там она легла крепко, об ее черный угол разбивались все другие мысли, ее тяжкая тень легко и просто покрывала собою все вопросы и все желания.
– Зачем жить? – думал Макар, и она тотчас подсказывала свой простой ответ:
– Незачем.
– Что делать? – Нечего. Ничего не сделаешь.
Ночами, когда все спали, он, открыв глаза, думал о том, как все вокруг обидно, противно, жалко – главное же обидно, унизительно. Как хорошо было бы, если бы в жизнь явились упрямые, упругие люди и сказали бы всему этому:
– Не хотим ничего подобного. Хотим, чтобы все было иначе. Он не представлял как именно иначе, но отчетливо видел: вот, сердятся, волнуются, кишат спокойные люди, решившие все вопросы, подчинившиеся своей привычке жить по правилу избранному ими; этими правилами, как топорами, они обрубали живые ветви разнообразно цветущего древа жизни, оставляя сучковатый, изуродованный, ограбленный ствол, и он был во истину бессмыслен на земле!…
Было хорошо думать об этом, но когда Макар вспоминал свое одиночество – картины желанной, бурной, боевой жизни становились тусклыми, мысли о ней вяло блекли, сердце снова наполнялось ощущением бессилия, ненужности.
И в презрении к себе самому снова разгоралась мысль о смерти. Но теперь она уже не изнутри поднималась, а подходила извне, как будто от этих людей, которые всеми своими словами победно говорили ему:
– Ты – выдуманный человек, ты никуда не годишься, ни на что не нужен, и ты глуп, а вот мы – умные, мы – действительные, нас – множество и это нами держится вся жизнь.
Они все дышали этой мыслью, они улыбались ею, снисходительно высмеивая Макара, она истекала из их глаз, была такая же гнилая, как их лица, грозила отравить.
Макар угрюмо молчал…
Так боролся юный Пешков-Горький со смертью, с мыслью о самоубийстве, долго боролся, тяжело боролся, пока не победил каким-то чудом свою болезнь и вернулся к новой, впоследствии столь славной жизни!
Горький осудил впоследствии самоубийство, как «унизительную глупость», и ушел, таким образом, далеко от всех тех писателей, философов и ученых, которые старались найти какое-либо оправдание самоубийству. А психиатр, ознакомившись с деталями истории суицидомании Горького, должен еще раз серьезно задуматься над вопросом: «Не коренится ли противоестественный акт самоубийства в тяжелом психическом расстройстве самоубийцы и не есть ли каждый самоубийца, попросту говоря, душевно больной человек?
Делирий Максима Горького[39] О душевной болезни, которой страдал Максим Горький в 1889–1890 гг. Д-ра И. Б. Галант (Москва)
В небольшом очерке: «О вреде философии», на страницах 183–195 шестнадцатого тома полного собрания сочинений М. Горького, озаглавленного: «Мои Университеты»[40] Горький художественно красочно, но видимо вполне правдиво описывает душевную болезнь, которою он страдал в 1889–1890 годах. Описание это имеет для психиатра не только огромный теоретический интерес, но, как мы сейчас убедимся, и не малое практическое значение, а сверх того описание это имеет не маловажную историческую ценность, ибо Горький обратился за советом к врачу психиатру и сообщает, как его психиатр лечил, давая нам, таким образом возможность судить о психиатрической науке того времени в ее применении на практике.
Судя, по заглавию очерка: «О вреде философии», легко допустить, что Горький обвиняет свое увлечение философией и философскими проблемами в развитии той психической болезни, которою он страдал в 89/90 годах, и мы имели бы перед собой своего рода «morbus philosophicus». Однако, вряд ли Горький сам верил тому, что философия его сделала душевно-больным, хотя космогонические бредовые идеи или представления играют большую роль в делирии Горького. Вернее думать, что Горький немного подтрунил над самим собой и дал юмористическое выражение тем напрасным усилиям разрешить не разрешимое (вопрос возникновения мира), которые утомляли его юный ум. Философией же Горький занимался в то время очень мало, и по собственному его признанию он не стал читать «Историю Философии», которую он достал. Она ему показалась скучной…
Но Горький слушал лекции по философии у знакомого студента-химика Николая Захаровича Васильева, большого оригинала, наслаждающегося ломтями ржаного хлеба, посыпанными толстым слоем хинина, и показавшего вообще сильное средство с различными химическими веществами, которыми он неоднократно отравлял себя пока не отравился в 1901 г. окончательно индигоидом, работая ассистентом у профессора Коновалова в Киеве. После двух лекций Васильева по философии, одной о демократии и другой об Эмпедокле, Горький спустя несколько дней заболел.
А может быть и раньше! Уже на второй лекции Васильева Горький видел нечто неописуемое страшное внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой на бок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветви и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а вслед за него стремительно несется рогатая голова совы – вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно».
«В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел, величественно движутся, противоборствуя друг другу Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день и освещает все движущееся мертвенно однотонным светом».
Болезнь развивается дальше, и Горький пишет об этом: «через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит,[41] рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватила меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решился дойти до конца страха, и вероятно, именно это спасло меня».[42]
Следует целый ряд фантазий, которые Горький переживал отчасти галлюцинаторно, и из которых самое интересное, так как в нем содержится «описание» вечности, следующее:
«Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами. Вот они тесной толпою идут по воздуху и наполняют мир оглушающим звоном, от него падают, как срезанные невидимой пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома и вот все на земле превратилось в столб зеленовато горящей пыли, осталась только круглая, гладкая пустыня и, посреди, я, один на четыре вечности, Именно – на четыре, я видел эти вечности, огромные темно – серые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроницаемой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом»…
«За рекою, на темной плоскости вырастает, почти до небес, человечье ухо, обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, вырастает и, – слушает все, что думаю я.
«Длинным двуручным мечем средневекового палача, гибким, как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины, все нагие, шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шею. Сзади меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами».
«Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи, вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и вспыхнув, точно клок ваты, я исчезал».
Кроме галлюцинаций зрения у Горького в это время были ясно выраженные галлюцинации слуха, которые бывали до того интенсивны, что вызывали его на шумные выступления:
«А дома меня ожидали две мыши, прирученные мною. Они жили за деревянной обшивкой стены; в ней на уровне стола, они прогрызли щель и вылезали прямо на стол, когда я начинал шуметь тарелками ужина, оставленного для меня квартирной хозяйкой».
«И вот я видел: забавные животные превращались в маленьких серых чертенят и, сидя на коробке с табаком болтали мохнатыми ножками, важно разглядывая меня, в то время как скучный голос, неведомо чей, шептал, напоминая тихий шум дождя:
– Общая цель всех чертей – помогать людям в поисках несчастий.
– Это – ложь – кричал, я озлобясь. – Никто не ищет несчастий…
«Тогда являлся некто. Я слышал, как он гремит щеколдой калитки, отворяет дверь крыльца, прихожей, и – вот он у меня в комнате. Он – круглый, как мыльный пузырь, без рук, вместо лица у него – циферблат часов, а стрелки – моркови, к ней у меня с детства идиосинкразия. Я знаю, что это муж, той женщины, которую я люблю, он только переоделся, чтобы я не узнал его. Вот он превращается в реального человека, толстенького с русой бородой мягким взглядом добрых глаз; улыбаясь он говорит мне все то злое и нелестное, что я думаю о его жене и что никому, кроме меня, не может быть известно.
– Вон! – кричу я на него.
Тогда за моей стеной раздается стук в стену, – это стучит квартирная хозяйка, милая и умная Филицата Тихомирова. Ее стук возвращает меня в мир действительности, я обливаю глаза холодной водой, и через окно, чтобы не хлопать дверями, не беспокоить спящих, вылезаю в сад, там сижу до утра.
Утром за чаем хозяйка говорит:
– А Вы опять кричали ночью…
Мне невыразимо стыдно, я презираю себя».
Очень важным симптомом, пополняющим картину болезни Горького, которую мы стараемся воспроизвести здесь по отрывкам из «О вреде философии», это резкая сновидная оглушённость, ведущая к тому, что Горький, работая забывает вдруг себя и окружающее и бессознательно вводит в работу совершенно чуждые ей элементы, не стоящие с ней ни в прямой, ни в косвенной связи, как это бывает во сне, где самые невозможные противоречащие факты связываются в одно целое. Вот что рассказывает Горький:
«В ту пору я работал, как письмоводитель у присяжного поверенного А. И. Лапина, прекрасного человека, которому я многим обязан. Однажды, когда я пришел к нему, он встретил меня, бешено размахивая какими то бумагами крича:
– Вы с ума сошли? Что это Вы, батенька, написали в апелляционной жалобе? Извольте немедля переписать, – сегодня истекает срок подачи. Удивительно. Если это шутка, то плохая, я Вам скажу.
Я взял из его рук жалобу и прочитал в тексте четко написанное четверостишие:
– Ночь бесконечно длится… Муки моей – нет меры. Если б умел я молиться. Если б знал счастье веры.Для меня эти стихи били такой же неожиданностью, как и для патрона, я смотрел на них и почти не верил, что это написано мною».
А фантазии и видения все более и более овладевают Горьким:
«От этих видений и ночных бесед, с разными лицами которые неизвестно как появлялись передо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий».
Наверно я не очень удивился бы, если бы любой дом города вдруг перепрыгнул через меня. Ничто, на мой взгляд не мешало лошади извощика, встав на задние ноги провозгласить глубоким басом:
– «Анафема».
К этим экстравагантным выходкам необузданной фантазии, к сновидной оглушенности галлюцинациям, временами присовокупляются навязчивые идеи, действия и поступки:
Вот на скамье бульвара, у стены кремля сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу:
– Бога нет.
Она удивленно, обиженно воскликнет:
– Как? А – я? – тотчас превратится в крылатое существо и улетит, вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная, синяя слизь, а меня как уголовного преступника приговорят быть 23 года жабой и чтоб я, все время день и ночь звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.
Так как мне очень, нестерпимо хочется сказать даме, что бога – нет, но я хорошо вижу, каковы будут последствия моей искренности, – я как можно скорей, стороной, почти бегом, ухожу».
Реальность, мир действительных явлений, перестает временами, совершенно существовать для Горького:
«Все – возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукою до заборов, стен, деревья. Это несколько успокаивает. Особенно – если долго бить кулаком по твердому, убеждаешься, что оно существует.
«Земля очень коварна, идешь по ней также уверена как все. люди, но вдруг ее плотность, исчезает под ногам земля становится такой же проницаемой, как воздух, – оставаясь темной, – и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, оно длится секунды».
«Небо тоже ненадежное; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз острие вершины упрется и череп мой и я должен буду неподвижно стоять на одной точке, до поры пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют, тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня.
Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.
Душа моя сильно болела. И если б, два года тому назад я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства я наверное применил бы этот способ лечения больной души».
Удивительно. Несмотря на то, что Горький приложил все свои старания, чтобы дать нам точное описание душевной болезни, которой он страдал в 89–90 годах, он ни разу не упоминает сопровождалась ли его болезнь лихорадкой или нет, считая очевидно это обстоятельство совершенно безразличным и без всякого влияния на развитие и характер душевной болезни. А между тем лихорадка эта та ось, вокруг которой вращается нередко психиатрическая диагностика, и вообще – то этот момент никогда не должен упускаться психиатром из виду.
К счастию мы из описания Горького в состоянии заключить, что описуемая им в «О вреде философии» душевная болезнь сопровождалась сильными припадками лихорадки, и вся его болезнь может быть определена психитрически, как лихорадочный делирий (Delirium febrilis).
Мы пришли к этому заключению на основании следующих обстоятельств.
Несмотря на то, что Горький был крепкого телосложения, и он не забывает при всяком удобном случае рассказать о своей атлетической силе, позволявшей ему выполнять в юные годы тяжелейшие работы (пекаря, грузовщика и т. д.), он, тем не менее, легко простуживался и серьезно простуживался. Так Горький рассказывает в следующем за «О вреде философии», очерке: «О первой любви», как он, живя в старой бане в саду попа, в короткое время заболел сильным ревматизмом: «Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячок был не совсем пригоден для семейной жизни, он промерзал в углах и по пазам. Ночами, работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее – ковром и все – таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверхъестественно при моем здоровье и выносливости. Лекции по философии Горький слушал у своего учителя, студента Васильева, в саду в сырые ночи: «Также, как накануне, был поздний вечер, а днем выпадал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно».
Об учителе, студенте Васильеве, он пишет, что он в это время болел лихорадкой: у Николая была лихорадка, он зябко кутался в старенькое пальто, шаркал ногами по земляному полу беседки, стол сердито скрипел».
Все это позволяет нам думать, что Горький вместе с философской мудростью нажил себе серьезную лихорадку с бредом, и увлекшись чудными картинами своего бреда забыл совершенно про лихорадку. А что лихорадка Горького была очень сильная и его бросало то в жар, то в озноб можно судить по таким ощущениям как «оно дышало в мозге мне холодными иглами» (!) или «вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув, точно клок ваты, я исчезал».
Такого рода ощущения у душевно больного вряд ли могут быть выражением какого-нибудь другого физиологического состояния, если не состояния сильной лихорадки. В моей работе «Рагėsthesien ė Kėrperhallutinationen» в Венских «Jahrbucher fur Psychiatrie und Neurologie» 1924 года, я доказываю, что у душевно больных самые обыкновенные ощущения превращаются часто в ужасающие галлюцинации, и всем известное «беганье мурашек» при отсиживании ног превращаются у душевно больного в ощущение в ноге огромной сползающей головой вниз змеи, которая в ступне открывает пасть и вкусывается ногами в пол, не давая возможности двинуть ногой. В самом же деле при парестезии бегания мурашек нельзя двигать ногой из-за того, что нога на некоторое время немеет и получается легкий, скоропреходящий паралич…
Таким образом, не может для нас существовать никакого сомнения, что душевная болезнь, которой страдал Горький в 1889–1890 представляла собой лихорадочный делирий (Delirium febrilis). За этот диагноз говорит то характерное сочетание симптомов-фантазии, иллюзий, галлюцинаций, аффекта страха – на которые мы уже указали, иллюстрируя их выдержками из описания Горького своей болезни, сновидной оглушенностью и лихорадкой. Крепелин характеризует кратко лихорадочный делирий, как делирий, «сопровождающейся более или менее резкой сновидной оглушенностью, неясным часто извращенным усвоением окружающего и фантастическими переживаниями, иногда также довольно сильным беспокойством с боязливым или веселым настроением».
Страдал Горький, несомненно лихорадочным делирием, который благодаря увлечению Горького космогоническими фантазиями получал особенно богатую пищу и пышно расцветал, может быть дольше чем это было бы при других менее благоприятных условиях. Как же лечил психиатр Горького? Вот что нам рассказывает об этом сам Горький.
«…Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену страшно белою рукою, сказал:
– Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей, вы человек здоровый – и стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин – как? Ну! это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее в любовной игре, – это будет полезно.
Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых для меня, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз очень памятных мне.
– Я кое-что слышал о вас и – прошу извинить, если это не понравится Вам. – Вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Все, что Вы читали, видели, возбудило у Вас только фантазию, а она совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но на свой лад. Затем: один древний умник сказал: «Кто охотно противоречит, тот не способен научиться ничему дельному». Сказано хорошо. Сначала – изучить, потом противоречить так надо.
Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого черта:
– «А – бабеночка очень полезна для вас».
Я нарочно цитирую весь отрывок, где Горький рисует психиатра, из-за исторической ценности этого отрывка. Как ни странно, но задолго до возникновения и распространения Фрейдовского психоанализа (Книга «Studien uder Hystherie», которую Freud писал вместе с Иосифом Breuer’om и послужившая основой и исходным пунктом психоанализа опубликовались лишь в 1895 году), приписывающего половой сфере, собственно психосексуальным расстройствам, главную роль в развитии душевных болезней, существовал, очевидно, среди русских психиатров взгляд, что половая жизнь принимает самое деятельное участие в формировании здоровой и больной психики человека, и психиатр, дававший Горькому советы настаивает (!) на том, чтобы он завел себе «бабенку, которая пожадней к любовной игре», уверяя его, что это ему будет полезно!
Не умаляя ничуть роли сексуальной сферы в ее влиянии на психическое развитие индивида, я считаю лишним особенно сильно подчеркнуть, что в случае Горького половой вопрос был не причем, в чем с нами согласится каждый психиатр, прочитав вышеизложенный анализ болезни Горького.
Да и вообще-то психиатр не должен быть первым, лишающим человека (хотя – бы советом) половой его невинности, тем более что воздержание не может быть причиной душевной болезни, особенно если воздержание это проводится не насильственно, а вытекает из самой природы человека, как это было у Горького. Горький упоминает много раз, что у него половое влечение в юности было слабо развито, объясняя это отчасти тяжелым физическим трудом, отчасти увлечением литературой и наукой. Как же в таком случае воздержание вполне естественное и разумное могло, хотя бы даже косвенно, вести к душевной болезни?
Во всем другом психиатр правильно советовал Горькому. Горький явился к психиатру, когда лихорадка прошла, и делирий тоже начал ослабевать. Однако, изнуренный; долго длившейся лихорадкой, исхудалый и разбитый бессонницей, измученный ужасами бешеных фантазий, пережитых часто, как кошмарная действительность. Горький нуждался более чем когда-либо в рациональной медицинской; помощи. Полное отречение от книг, отдых, крепкое питание и разумный не переутомляющий физический труд должны были в короткое время восстановить от природы крепкое здоровье Горького.
И Горький выздоровел!
* * *
Нигде в психиатрической литературе, и в литературе вообще не найдем мы такого типичного, удачного описания лихорадочного делирия. Описанный Горьким лихорадочный делирий до того типичен и поучителен для психиатра, что он должен остаться в психиатрии под ярлыком: Delirium febrile Gorkii. Психиатры всех времен любили дробить делирии по их содержанию на бесчисленные разновидности,[43] что вполне позволительно ввести в психиатрическую литературу это новое обозначение делирия, понимая под ним лихорадочные делирии, которые по содержанию и духу очень близко стоят к пережитому Горьким в 1889–1890 годах лихорадочному делирию.
О психастеническом мироощущении А. П. Чехова (в связи с рассказом «Чёрный монах»).[44] Проф. Бурно М. Е
Уже более тридцати лет постоянно думаю о Чехове, поскольку пациенты, с которыми занимаюсь особенно много, более или менее похожи на Чехова и многих чеховских героев своими душевными особенностями. По этой причине Чехов им нередко ближе, созвучнее других писателей – и своим мироощущением тоже. Думаю, что Антон Павлович Чехов – психастеник. Это не душевная болезнь, а определенный болезненный характер, притом, как правило, более трудный для себя, нежели для других. Гениев со здоровой душой нет вовсе, и подлинное глубокое творчество всегда есть серьезное лечение гения. На одухотворенно-творческой высоте жизни пропадает граница между больным и здоровым, значение имеет лишь структура-рисунок души, а он, понятно, гораздо отчетливее и богаче в своем патологическом усилении. Структура-рисунок души творца светится-звучит в его произведениях, переживаниях, поступках. Не проникнувшись этим «рисунком», мы не проникнемся и закономерностями творчества писателя так, как это возможно сделать естественнонаучно, то есть исходя в данном случае из биологической основы души (а не теоретико-психологически, не филологически, где исследование идет мимо этой основы). Чехов сам говорил, писал о том, что писателю для понимания людей, жизни необходимо изучать психиатрию (Т. Л. Щепкина-Куперник. Днимоейжизни, 1928; письмо Е. М. Шавровой от 28 февр. 1895, подробно – в книге Е. Б. Меве «Медицина в творчестве и жизни А. П. Чехова», 1989). Антон Павлович не считал себя душевно-больным. «Кажется, я психически здоров, – писал он А. С. Суворину 25 янв. 1894 г. – Правда, нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, переходное и житейски естественное». Слово «переходное» соответствует психиатрическому термину «пограничные состояния», к которым и относится «психастения». Во многих чеховских письмах, особенно Суворину, с которым Чехов много лет был так откровенен, еще задолго до чахотки рассыпаны характерные психастенические жалобы: на месяцами продолжающееся «безличное и безвольное состояние», когда «у меня не характер, а мочалка» (А. Суворину – 18 авг. 1893 г.), на «боязнь публики и публичности» (А. Эртелю – 4 марта 1893 г.), на «противную» «физическую и мозговую вялость, точно я переспал» (Ал. Чехову 16 марта 1893 г.), на «нервы скверные до гнусности», на то, что нет «смелости и умения жить» (Ал. Чехову – 4 авг. 1893 г.), на телесное и душевное постарение – «встаю с постели и ложусь с таким чувством, как будто у меня иссяк интерес к жизни» (А. Суворину – 8 апр. 1892 г.), на «смертную тоску по одиночеству» и «отвратительное психопатическое настроение» (А. Суворину – 28 июля 1893 г.). М. П. Чехов («Вокруг Чехова», 1960) описывает типичные для психастении ипохондрические и вегетативные расстройства брата: «усилившийся геморрой (…) наводил на него хандру и мрачные мысли и делал его раздражительным из-за пустяков»; «мучительная боль в левом виске, от которой происходило надоедливое мелькание в глазу (скотома)». О чеховской ранимости, застенчивости-стеснительности, страхе обратить на себя внимание людей вокруг себя одухотворенно-тонко пишет в своих воспоминаниях Н. Д. Телешов («Чехов в воспоминаниях современников», 1960).
Не думаю, чтобы Чехов, писатель-врач с естественнонаучным мироощущением, серьезно интересовавшийся психиатрией, посердился бы на то, что усматриваем в нем психастеничность, что и через это пытаемся по-своему глубже – подробнее проникнуть в чеховское. Для чего? Конечно же, для того, чтобы лучше помочь пациентам. Помочь им понять – прочувствовать в процессе Терапии творческим самовыражением (сложный лечебный метод, который разрабатываю – совершенствую уже много лет), как именно Чехов, страдая подобными трудностями, успешно лечил себя творческим самовыражением в своей жизни. «…Работая, я всегда бываю в хорошем настроении» (Л. Авиловой – 6 окт. 1897 г.).
В чем же существо психастенического склада? Прежде всего – в слабой, вяловатой чувственности, мешающей, при всей психастенической мыслительной реалистичности, непосредственно, живо, естественно воспринимать мир и самого себя в отчетливой красочности (в противовес, например, чувственно-истерическому Бунину или сангвинически-синтонному Мопассану). Блеклая чувственность с неловкой, рабски-тревожной неуверенностью в своих чувствах психологически понятно соединена в психастенике с компенсаторной склонностью к тревожному анализу – размышлению о себе и мире и с внешне скромной одухотворенностью. Снаружи часто малозаметная, эта неуверенность в своих чувствах обостряется переживанием обезличенности в непосредственном общении с людьми, особенно малознакомыми. Тревожный самоанализ с нравственно-этическими страданиями, например, в духе нервного припадка, случившегося с чеховским студентом Васильевым («Припадок»), нередко усложняется страхами перед тяжелыми болезнями у себя, близких людей, перед всем, что может серьезно помешать служить своему делу, по возможности выполнить-завершить свое жизненное предназначение (к примеру, страх перед женитьбой). Ко всему, что не помогает служить своему делу, на котором всецело сосредоточен, – психастеник может быть довольно прохладен-суховат (при всем внешнем дружелюбии), хотя, и мучается за это угрызениями совести. Правда, по обстоятельствам, он может избирательно проникнуться острым сочувствием, жалостью к кому-то (в том числе к несчастному животному), не имеющему прямого отношения к делу его жизни. По причине загруженности одухотворенным размышлением без чувственной практичности психастеник, в отличие от чувственных натур, не столько чувствует человека «нутром», «по-женски», сколько осмысляет-анализирует его в сопереживании ему. И может по этой причине (особенно если он не психиатр) немало ошибаться, например, в нравственных качествах человека, подобно Чехову, так долго отчетливо не чувствовавшему безнравственные черты Суворина. Психастеничность не только Чехова, но и наших пациентов (в том числе и многих лишь похожих на психастеников, то есть психастеноподобных) сказывается в прозе не столько действием, сколько нравственно – этическими переживаниями – размышлениями, монологами, представляясь многим практичным людям «порядочным занудством».
Во многих письмах Чехов типично психастенически жалуется на свои душевные трудности, характер. Так, рассказывая в письме Суворину (4 мая 1889 г.) о своих «психоорганических свойствах», Чехов сетует, что для литературы в нем «не хватает страсти и, стало быть, таланта». «Я не разочарован, не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг все как-то менее интересно. Надо подсыпать под себя пороху». Суворин, которому более всех досталось в письмах чеховских жалоб, видимо, все советовал писателю жениться. «Жениться я не хочу, – писал ему Чехов (18 окт. 1892 г.), – да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой». И вообще «от жизни сей надлежит ожидать одного только дурного – ошибок, потерь, болезней, слабости и всяких пакостей». «Для самолюбивых людей, неврастеников нет удобнее жизни, как пустынножительство. Здесь ничто не дразнит самолюбия, и потому не мечешь молний из-за яйца выеденного». Стараясь (из психастенической деликатности-терпимости) внешне быть гостеприимным, Чехов психастенически страдал от продолжительного общения с людьми, обострявшего его тревожное переживание своей неестественности и страх не выполнить свой жизненный долг, то есть не успеть выразить себя достаточно полно в своих художественных произведениях. Именно здесь, а не в медицине. А. Суворину (2 авг. 1899 г.): «…Не хорошо быть врачом. (…) Все это противно, должен я Вам сказать. Девочка с червями в ухе, поносы, рвоты, сифилис – тьфу!!» Об относительном гостеприимстве Чехова. А. С. Суворину (8 дек. 1893 г.): «…Ах, если б Вы знали, как я утомлен! Утомлен до напряжения. Гости, гости, гости… (…) Я ведь и из Москвы-то ушел от гостей. (…) А мне надо писать, писать и спешить на почтовых, так как для меня не писать значит жить в долг и хандрить». М. П. Чеховой (17 янв. 1898 г.): «Я встаю рано и пишу. Утром мне хорошо, день проходит в еде, в слушании глупостей, вечером киснешь и хочешь одного – поскорее бы остаться solo».
Тоска по одиночеству характерна для психастеника (независимо от таланта и профессии) именно потому, что лишь наедине с собою он приходит в себя: ослабевает тревожное переживание той неестественности (напрягающее его на людях), яснее становится собственное чувство-отношение к происходящему с ним в жизни, и он, соскучившийся по себе самому, по самым близким ему людям, успокаивается в сравнительной душевной свободе, тревожась, однако, что кто-нибудь чужой может нарушить это его ощущение свободы-самособойности. А если в тишине спасительного одиночества он еще имеет возможность творить, то это еще более усиливает радость встречи с собою до светлого вдохновения. Из всего этого нетрудно вывести свойственное психастенику мироощущение. Тревожный, аналитически сомневающийся, неуверенный в себе, в своих чувствах реалист, он боится смерти. В отличие от людей одухотворенно-аутистического (идеалистического) склада, психастеник обычно не способен к серьезному религиозному переживанию. «…Смерть – жестокая, отвратительная казнь, – говорил Чехов. – Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешиться тем, что сольюсь со вздохами и муками в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. (…) Страшно стать ничем» (Дневник Суворина, 1923). Антон Павлович явно чувствовал-понимал неразрывность непосредственно (а не в рассказе, например) существующей духовной индивидуальности с телесными особенностями человека, рассыпающимися в гробу. В отличие от людей чувственно-истерического склада, Чехов не мог счастливо вытеснять из сознания неугодное, веруя в то, что смерть имеет отношение лишь к другим людям. Не способен был Чехов и жить-наслаждаться сегодняшним днем, синтонно-эпикурейски радуясь тому, что смерти нет, пока есть «Я», а когда придет смерть, меня с моими переживаниями уже не будет. Как психастеник, Чехов понимал, что «станет ничем», это было страшно и хотелось остаться в жизни людей после своей смерти духовно таким, какой есть, то есть живой нравственной индивидуальностью – в своих произведениях, важных для людей, в своих письмах, в воспоминаниях современников.[45] Это и было для него подлинным бессмертием, и так оно и случилось. Сегодня мы говорим о Чехове как о живом человеке, гении реалистической нравственности, духовности, говорим и пишем побольше, чем о живых людях, празднуем его дни рожденья, чувствуем ясно его застенчиво-тихое или иронически-смешливое присутствие в этом Доме-музее.
В рассказе «Черный монах», в размышлениях-переживаниях душевно заболевшего Коврина ясно видится психастеническое мироощущение самого Чехова. Галлюцинаторный монах говорит Коврину о «вечной правде», а магистр психологии Коврин, не верующий в вечную жизнь, бессмертие людей, не может понять, зачем людям «вечная правда». Ему, однако, приятно слушать, что цель вечной жизни, как и всякой жизни вообще, «наслаждение в познании», и он, Коврин, – «один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими» и служат «вечной правде» своими мыслями, намерениями, посвященными «разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно». Что же касается душевного нездоровья, которое все время реалистически отмечает у себя Коврин в беседе с монахом, воспринимая монаха как галлюцинацию, то здоровье, нормальность, по мнению монаха, это то скучное, с чем надо идти в стадо. Последнее есть «сокровенные мысли» и самого Коврина, поскольку все это он способен, как и прежние высказывания монаха, по-своему – духовно-материалистически – переложить-преломить. Так и сам Чехов перекладывал, преломлял, аранжировал по-своему духовно – религиозное в духовно – реалистическое, например, в рассказах «Студент» и «Архиерей». И Чехов уточняет в «Черном монахе», как именно Коврин понимает бессмертие: если бы Магомета лечили от «экстаза и вдохновения», «то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки». Кстати, способность довольствоваться и слабыми надеждами на долгую жизнь своего «Я» после смерти в душах хотя бы нескольких людей (быть может, даже каких-нибудь чудаков в будущем) более или менее смягчает-успокаивает страх смерти и не выдающихся, но психастенически достаточно сложных наших пациентов. Основаниями для этих надежд могут быть: опубликованная творческая статья, даже неопубликованная самобытная рукопись, которую, может быть, будут когда-нибудь читать, акварельный пейзаж для правнуков и т. п. Таким образом, для Коврина, как и для Чехова, важно остаться для людей после себя своим земным «Я», а не в. ином измерении, не бесформенным духом, не частицей Мировой души. Для него мало просто радовать лишь сейчас живущих людей садовым творчеством, «роскошными цветами, обрызганными росой», как делает это его хмуро-синтонный тесть Песоцкий. Но, в отличие от Чехова, Коврину пока не удалось, как и сам это понимает, выразить в творчестве свое «Я» до реалистического бессмертия. Все более полно охватывающее Коврина психотическое парафренное (сказочное, с переживанием своего величия) расстройство религиозного содержания, как это бывает в психиатрии, побуждает его к одухотворенному творчеству. Но это сказочное творческое вдохновение стали лечить-приглушать; во всяком случае, врачи и близкие не помогли клинико-психотерапевтически глубинной стихийно-целебной психотической работе его души, организма, и наступил общий (и телесный тоже) упадок. Но все же напоследок психозу удается лечебно убедить умирающего Коврина, в соответствии с тайными желаниями философа, в том, что он – бессмертный гений. В последние мгновения жизни слабеющий Коврин лежит на полу возле большой лужи крови у своего лица, но «невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо» и «черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения». И это также прекрасно по-чеховски перекладывается-преломляется духовно-материалистически в том смысле, что жизнь человека, оставившего себя в своих творческих произведениях для будущих поколений, после смерти только еще разворачивается по-настоящему. Смерть творца становится и для него самого торжественным, светлым переходом в бессмертие. Так нередко случается, что писатель, по обстоятельствам жизни, сам осознанно-отчетливо, уже не как автор, а просто как человек, переживает то, что переживали прежде герои его произведений. И, возможно, Чехов, знавший в ту ночь, что сейчас умрет, также ощутил эту торжественную радость. И, прежде чем выпить предложенный доктором традиционно прощальный бокал шампанского, улыбнулся жене «своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского…» Потом «покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда…» (О. Л. Книппер-Чехова. А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 1960). На лице умершего Коврина «застыла блаженная улыбка». И Ольга Леонардовна смотрит наутро «на прекрасное, успокоившееся, как бы улыбающееся лицо Антона Павловича, словно понявшего что-то».
Послесловие
Перечитав несколько раз свой труд, я усомнился в адекватности заглавия книги, ее содержанию. Ведь первая строка стихотворения А. Пушкина (Полное собрание соч. В 10 том., М., 1946, т. 3, с. 266–267): «Не дай мне Бог сойти с ума.». недвусмысленно указывает, что хотя и в шутливой форме, но поэт боялся безумия (а кто его не боится?), потому, что:
«Да вот беда: сойди с ума, И страшен будешь, как чума», но поэт поясняет: «Не то, чтоб разумом моим Я дорожил; не то, чтоб с ним Расстаться был не рад»;Что же пусть разум оставит поэта, лишь бы отпустили его на волю, а там:
«Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чаду Нестройных, чудных грез!»Так может в этом и есть счастье безумия, когда поэт воспаряет к вершинам небес и перед ним открываются фантастические картины бытия, и он заслушивается шопотом или ревом волн, счастье переполняет его и он волен, «как вихорь, роющий поля, ломающий леса».
«Не существует Гения без примеси сумасшествия», – об этом говорил еще Аристотель. Так может дай Бог, чуть-чуть сойти с ума?.
Представьте, что безумие или легкая «сумасшедшинка» не коснулась бы наших гениальных писателей и поэтов? Разве увидел бы свет скорбный труд АРадищева, потаенную философию П. Чаадаева, пронзительно-мрачные стихи М. Лермонтова, сатанински – прекрасную Панночку Н. Гоголя, тяжкие раздирающие душу романы Ф. Достоевского?
Могла ли быть написана загадочная «Песнь торжествующей любви» И. Тургенева, чудовищный «Красный цветок» В. Гаршина или безумно-кровавые стихи молодого В. Маяковского? Нет, нет и еще раз нет!
Где же те искры гениальности у советских писателей (Эренбурга, Пастернака, Бродского трогать не будем – они и не были совсем советскими) – Леонова, Панферова, Фадеева, Соболева и т. д., а ведь все они были лауреатами Сталинских и прочих премий? Ну не было в них этой Божьей искры, видно не сподобились, или советская эпоха погубила зачатки таланта у этих, когда, то почитаемых писателей?
И вот теперь мой тяжкий труд закончен.
Книга эта не для обывателей, не для любителей копаться «в сегодняшнем окаменевшем дерьме», – как заметил В. Маяковский, не для тех, о которых писал А. Пушкин в письме к П. А. Вяземскому: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому, что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!» Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе». (Полное собр, сочин. В 10 т., М., 1946, т.10, с.191).
Эта книга может стать полезной для литературоведов в оценке творчества мастеров литературы с иных позиций, она может явиться и учебным пособием для преподавателей курса психиатрии и, несомненно, она должна сыграть свою роль при проведении психотерапии творческим самовыражением.
Словарь медицинских терминов, иностранных слов и выражений, встречающихся в тексте книги
Амбивалентность – возникновение антагонических тенденций в психической деятельности.
Anaesthaesia psychica dolorosa – утрата эмоциональных реакций на все окружающее с мучительным переживанием полной душевной опустошенности.
Апоневроз – плотное широкое сухожилие под кожей волосистой части головы.
Апологетика – предвзятая защита, восхваление чего-либо, вместо объективного суждения.
Аспирация – попадание инородных тел в дыхательные пути при вздохе.
Астения – состояние повышенной утомляемости с частой сменой настроения, раздражительною слабостью, расстройством сна.
Аутизм – погружение в мир личных переживаний с ослаблением или потерей контакта с действительностью.
Аура – расстройство сознания, сопровождающееся своеобразным ощущением, движением, или психическим поражением, предшествующее эпилептическому припадку.
Аффект – кратковременная и сильная положительная или отрицательная эмоция.
Брутальный – грубый, злокачественный (брутальное течение болезни).
Бужирование – расширение трубчатых органов (пищевода, мочеиспускательного канала).
Булимия – ненасытный аппетит.
Вербальный – словесный.
Вербигерация – ритмичное, монотонное повторение какого-либо слова, иногда бессмысленное нанизывание сходных по звучанию фраз, слов или слогов.
Галлюциноз – совокупность галлюцинаций в различных органах чувств или наплыв галлюцинаций в изолированном виде (вербальный г., зрительный г., и т. д.).
Гидроцефалия – водянка мозга, скопление спинно-мозговой жидкости в полости черепа.
Гиперкератоз – чрезмерное развитие рогового слоя кожи.
Гипогонадизм – синдром недостаточной функции половых желез, приводящий к изменению внешнего облика человека.
Grand mal – большой эпилептический припадок.
Девиация – отклонение.
Депрессия – подавленное тоскливое настроение с угнетением психической активности и разнообразными телесными нарушениями (потеря аппетита, похудание, запоры и т. д.).
Дефиниция – краткое определение какого-либо понятия.
Дисфория – угрюмое, ворчливо-раздражительное, злобное и мрачное настроение.
Диэнцефальный – (или гипоталамический) синдром возникает при различных повреждениях гипоталамуса, проявляется в основном расстройствами вегетативной нервной системы.
Идеомоторный – речедвигательный
Идиопатический – собственный, внутренний (заболевание с невыясненной причиной).
Иллюзия – ложное восприятие реальных вещей или явлений.
Императивный – повелительный.
Импульствный – порывистый, неожиданный.
Инвектива – выпад, оскорбление.
Интернист – врач, занимающийся лечением внутренних болезней, терапевт.
Инфернальный – нездешний, потусторонний, адский.
Истероид – патологический демонстративный характер.
Ипохондрия – болезненная мнительность
Кататонический синдром – группа симптомов, характерных для патологии в двигательной сфере (заторможенность – ступор или возбуждение).
Каутеризация – способ лечения прижиганием какими либо химическими веществами или электротоком (в дерматологи, урологии).
Копулятивный цикл – процесс совокупления.
Конвульсия – сильная судорога всего тела.
Либидо – влечение, половое влечение.
Маниакальный синдром – чрезмерное стремление к деятельности, сочетается с повышенным настроением, ускорением мышления и речи.
Манифестные симптомы – болезненные симптомы, в первую очередь заявляющие о себе.
Мастурбация – исскуственное раздражение половых органов в целях сексуального удовлетворения (онанизм).
Мезальянс – неравный брак.
Меланхолия – см. депрессия.
Морфологическое исследование – патологоанатомическое исследование.
Мутизм – отсутствие речевого общения больного при сохранности речевого аппарата.
Нозология – принадлежность болезни к какому либо классу заболеваний.
Облигатный симптом – симптомы обязательные в структуре какой либо болезни.
Онейроидный синдром – сновидное помрачение сознания.
Осциллирующее течение – мерцающее проявление симптомов от выраженности к затуханию, и наоборот.
Панегирик – восторженное и неоправданное восхваление.
Паранойяльный синдром – систематизированное бредообразование, интерпретативный бред, бред толкования.
Пароксизм – бурная эмоция, внезапный приступ сильного душевного или двигательного возбуждения.
Патогномоничный – симптом характерный только для конкретного заболевания.
Перверсия – половое извращение.
Pro me – для собственного употребления.
Прогредиентное – непрерывно развивающееся и утяжеляющееся течение болезни.
Пиетет – глубокое уважение, почтительное к кому-либо или чему – либо.
Психосенсорный синдром – синдром, характеризующий искажение в восприятии окружающего и собственной личности.
Раптус – неистовое возбуждение, внезапно, подобно взрыву, прерывающее заторможенность или ступор.
Резонерство – бесплодное мудрствование.
Сенильный – старческий.
Сенестопатии – разнообразные, крайне неприятные, мучительные, тягостные ощущения, исходящие из различных областей и не имеющие соматической основы.
Seu – или
Сенситивный – чувствительный.
Синтонный – уравновешенный, живой и контактный.
Сомнамбулия – снохождение, проявление эпилепсии и гипноза.
Сперматоррея – непроизвольное семяистечение, один из симптомов простатита.
Суицидальный – стремящийся к собственной смерти.
Сумеречный синдром – помрачение сознания при котором наблюдается дезориентировка в окружающем, с галлюцинациями, бредом, аффектами тоски, злобы, страха, неистовом возбуждении.
Транс – состояние измененного сознания, при котором совершаются автоматизированные действия.
Ургентный – состояние угрожающее жизни и требующее неотложных мероприятий по спасению больного.
Урогенитальный – мочеполовой.
Фобия – страх.
Шизоид – патологическое изменение личности, характеризующееся замкнутостью, нелюдимостью, чудачествами.
Шуб – приступ шизофрении, после которого часто возникают новые свойства личности.
Экзальтация – состояние повышенной возбудимости, восторженности; болезненная оживленность.
Экспансия – несдержанность в проявлении своих чувств, бурная реакция на все.
Эксплозивный – взрывчатый, грубо-несдержанный.
Экстаз – высшая степень восторга, воодушевления, иногда на грани исступления.
Эндогенный – внутренний, э. болезнь, возникающая от внутренних неизвестных причин.
Эйфория – состояние приподнятого настроения, довольства не соответствующего объективным условиям.
Экзогенный – наружный, э. болезнь, возникающая от внешних известных причин.
Эпилептоид – патологическое изменение личности, характеризующееся вязкостью мышления, обстоятельностью, педантизмом.
Этимология – происхождение слова и его родственные отношения к другим словам.
Примечания
1
Господь с вами! (лат.)
(обратно)2
Да приидет Царствие твое (лат.).
(обратно)3
Я сделал, что мог, пусть сделает лучше, кто может! (лат.)
(обратно)4
Morbus sacer – священная болезнь – эпилепсия, которой страдал Магомет.
(обратно)5
Crescendo (ит.) – в нарастающем темпе.
(обратно)6
Певец скорби (исп.).
(обратно)7
Ананказм – от греческой богини судьбы, неизбежности Ананке.
(обратно)8
Клинический архив гениальности и одаренности. Л., 1925. Вып. III. Т. I. С. 29–46.
(обратно)9
Майков. «Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки».
(обратно)10
Там же.
(обратно)11
Здесь мы должны предупредить читателя: само собой разумеется, что, говоря о «маниакально депрессивной конституции» Пушкина, мы этим еще и хотим сказать, что Пушкин страдал определенно выраженным маниакально-депрессивным психозом, мы хотим этим только указать, что в психике Пушкина были какие то приступы маниакально-депрессивных состояний «Были ли эти маниакально-депрессивные состояния – циклотимическия циклоидныя или же действительныя приступы маниакально-депрессивного психоза – мы пока от такой точной диагностики воздерживаемся до более детальных и следований.
(обратно)12
Здесь и далее курсив наш (Я. М.)
(обратно)13
Правописание XIX века здесь и далее сохранено по оригиналу – В. Г.
(обратно)14
Цит. по статье Лернера в III томе соч. Пушкина, под редакцией Венгерова. С. 351
(обратно)15
Клинический архив гениальности и одаренности. Л., 1925, вып. 1, том 1, с. VII–XXVIII.
(обратно)16
Т. е. к Гольденвейзеру.
(обратно)17
Здесь и далее везде курсив наш (С. Г.).
(обратно)18
Vidermuth, Ueber Epilepsie Zeilschrift f. Behandlunq schwachs. 1893.
(обратно)19
Напомним еще здесь, что Ломброзо
(обратно)20
Crocq, De l pilepsie des viell ards Presse med. Belg. 1890
(обратно)21
Simpson senil Epilepsie, rit. Med.,Journal 1894.
(обратно)22
Bratz. Die Affectepilepsische Anflie der Neuropathischen und Psychopatischen. Monatschrifft f r Psychiatrie und neurology 1911.
(обратно)23
Kraepelin – Psychiatrie B. III 1149 p.
(обратно)24
Илья Львович Толстой, мои воспоминания, Берлин, изд. Ладыжникова.
(обратно)25
Речь идет о том месте дневника Л. Н., где он будто, по утверждению Софьи Андреевны, упоминает о своей физической связи с Чертковым, что вызывало у Л. Н. всегда негодование.
(обратно)26
Илья Львович Толстой, мои воспоминания стр.97 изд. Ладыжникова. Берлин.
(обратно)27
Мы не говорим здесь о «Толстовстве» как об общественном явлении, мы здесь говорим о психогенезе «Толстовства» в самой личности Толстого со стороны происхождения его религиозно-мистических идей.
(обратно)28
Из записок Маковицкого «Голос Минувшего» 1923 г. № 3, стр. 18
(обратно)29
Клинический архив гениальности и одаренности. Л., 1925 г. вып. III т. III.
(обратно)30
Пориомания – научное психиатрическое обозначение страсти к бродяжничеству
(обратно)31
Все три рассказа во II томе Собрания сочинений. Госиздат. 1924 или том II и III сочинений Горького, изданных товариществом «Знание» С. Петербурга 1900 г.
(обратно)32
Том I Собрания сочинений.
(обратно)33
Клинический архив гениальности и одаренности. Л., 1925 г. вып. III, т. 1, с. 93–109.
(обратно)34
За точность указанного года (1887) я не ручаюсь, ибо сам Горький в «Моих университетах», рассказывая о своем покушении на самоубийство (XVI т. полного собрания сочинений Горького, стр.76. ГИЗ Ленинград 1924) удовлетворяется одним только указанием месяца этого событии. Высчитав, что Горький страдая лихорадочным своим делирием в 1889–90 г., я, основываясь на том, что Горький говорит, что он лишь потому не покончил во время этой болезни самоубийством, что два года тому назад убедился, «как унизительна глупость самоубийства» нашел 1887 год настоящим годом первой попытки Горького покончить самоубийством.
(обратно)35
(С этим мнением Weichbrodt'a не совпадает случай Саула. В 31-й главе Liber I Samuelis, идет рассказ о неудачной войне Саула с филистимлянами, Саул, будучи совершенно побежден и не желая попасть в плен, просил своего оруженосца, чтобы он его убил, на что этот последний не согласился. Тогда Саул сам бросился на острие своего меча и умер, – оруженосец последовал его примеру. В первой главе Liber II Samuelis рассказывается, что несколько дней после этого к Давиду явился некий амалеклекитянин, заявивший, что он докончил Саула, которого он нашел умирающим на своем мече по собственной его просьбе, думая, очевидно, получить за это награду, т. к. Сауул был врагом Давида. Однако Давид приказал убить этого амалекитянина за то, что он поднял руку на миропомазанника Бога. Судя по этим библейским рассказам, самоубийства, правда, в весьма редких исключительных случаях происходили и у древнейших евреев и это простая случайность, если в библию не попало слово, обозначающее самоубийство. ту тесную связь, которая существует между душой и телом?… Ведь везде в природе, всему на земле живущему чуждо стремление к самоубийству, которое есть преступление перед богом, нашим творцом. Нет животного, которое преднамеренно убило бы себя»…
(обратно)36
Последний рассказ III т (стр.320–351) полного собрания сочинений Горького, – издательства ГИЗ. Ленинград – Москва 1924.
(обратно)37
Все в тексте Горького курсивом выделенные места, подчеркнуты мной, а не Горьким.
(обратно)38
Первый рассказ первого тома полного собрания сочинений Горького Гиз. 1924.
(обратно)39
Клинический архив гениальности и одаренности. Л., 1925 г., вып. III, том I с. 47–55.
(обратно)40
Государственное издательство. Ленинград 1924 г.
(обратно)41
Все напечатанное здесь курсивом места в тексте Горького подчеркнуты нами, а не самим Горьким.
(обратно)42
Этим последним предложением Горький очевидно, хочет сказать, что он охотно отдавался ужасающим фантазиям, которые он отчасти сам вызывал, при чем эти фантазии при болезненном психическом его состоянии переживались им, как ужасная действительность, потрясающая страхом всю его нервную систему. Почему, однако, Горький думает, что это его «спасло», а не наоборот давало пищу его болезни трудно сказать.
(обратно)43
См. об этом: Корсаков С. С. Курс психиатрии 2-е издание. Москва 1901.
(обратно)44
Клиническая психотерапия М., 1999. С. 364–370.
(обратно)45
Это мироощущение, кстати, обнаруживается и в известном стихотворении психастенического поэта Евгения Баратынского «Мой дар убог…»
(обратно)

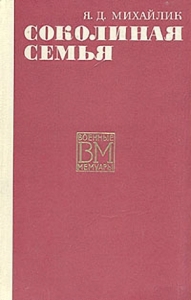



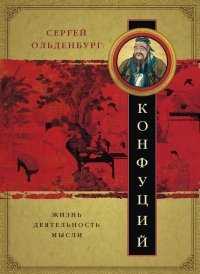
Комментарии к книге «Психопатология в русской литературе», Валерий Петрович Гиндин
Всего 0 комментариев