Предисловие REMEMBER
«Божественная Плевицкая». Так называли ее. Она была невероятно популярна в начале XX столетня — до того, как пронеслись над Русью огненные вихри с кровавыми дождями, уничтожая все и вся… «Несравненная Плевицкая». Действительно, равных ей не было. А главное она была первая! Первая, осмелившаяся выйти на большую сцену с русскими народными песнями.
Пели в трактирах и даже на сценах «хоры лапотников», но такой певицы, как Надежда Плевицкая, прежде не было. Были цыганские певицы, порой даже совсем не цыганского происхождения, что, однако, ничуть не влияло на их популярность и на качество исполнения, — в истории русской эстрады сохранилось много имен. Были русские, замечательно подражавшие французским шансоньеткам. А вот русских народных до нее не было. Они появились после. В большом количестве. И процветают до сих пор. Пользуются популярностью. Возможно, заслуженной. Но вряд ли кто-либо из них знает имя Надежды Плевицкой, вряд ли кто-то испытывает хоть малейшую благодарность к ней, открывшей русской песне путь на большую сцену, вряд ли хоть кто-то ставит свечки за упокой ее души… За упокой ее неистовой, мятущейся, грешной души!
В наше время Плевицкую чаще всего вспоминают не любители музыки и не поклонники русской эстрады.
Ее вспоминают люди, увлекающиеся историей разведки. Конечно: ведь это была одна из самых знаменитых шпионских историй конца 30-х годов! Похищение советской разведкой одного из вождей белоэмигрантов — генерала Евгения Карловича Миллера! Знаменитая русская певица, любимица царя Николая II — тайный агент НКВД! Загадочное исчезновение ее мужа и сообщника. Показательный, на весь мир прогремевший процесс. Жестокий приговор. Загадочная смерть…
Об этом писали. Писал Леонид Млечин в книге «Алиби для великой певицы». Писал Борис Прянишников в книге «Незримая паутина» — правда, книга эта вышла в Нью-Йорке и до русского читателя так и не дошла. Писал даже Владимир Набоков: на английском, и в издававшиеся у нас сборники этот рассказ, кажется, даже и не входил, — правда, у него Надежда Плевицкая предстает под именем Марии Славской. «Мария» — как самое распространенное русское имя, «Славская» — наверное, от слова «слава».
«Она была знаменитой певицей. Не опера, нет, даже не „Сельская честь“. La Slavska звали ее французы. Стиль: десятая часть цыганщины, одна седьмая — от русской бабы (каковой она и была изначально), и на пять девятых — „расхожий“, под „расхожим“ я разумею гоголь-моголь из поддельного фольклора, армейской мелодрамы и казенного патриотизма. Дроби, оставшейся незаполненной, довольно, полагаю, чтобы дать представление о физическом великолепии ее чудовищного голоса.
Выйдя из мест, бывших, по крайней мере географически, самым сердцем России, она с годами достигла больших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, а там и Двора, где стиль этого рода весьма одобрялся.
В артистической Федора Шаляпина висела ее фотография: осыпанный жемчугами кокошник, подпирающая рука, спелые губы, слепящие зубы и неуклюжие каракули поперек: „Тебе, Федюша“.
Снежные звезды, являвшие, пока не оплывали края, свое симметрическое устройство, нежно ложились на плечи, на рукава, на шапки и на усы, ждущие в очереди открытия кассы.
До самой смерти своей она пуще любых сокровищ берегла — или притворялась, что бережет, — затейливую медаль и громоздкую брошь, подаренную царицей. Сработавшая их ювелирная фирма наживала порядочные барыши, при всяком торжественном случае преподнося императорской чете ту или иную эмблему тяжеловесной державы (и что ни год — все более дорогую): скажем, аметистовую глыбу с утыканной рубинами бронзовой тройкой, застрявшей на вершине, словно Ноев ковчег на горе Арарат; или хрустальный шар величиной с арбуз, увенчанный орлом с квадратными бриллиантовыми глазами, очень похожими на Распутинские (много лет спустя Советы показали наименее символичные из этих поделок на Всемирной выставке в качестве образчиков своего процветающего искусства).
Шло бы все так, как должно было по всем приметам идти, она могла бы еще и сегодня петь в оснащенном центральным отоплением Благородном Собрании или в Царском, я выключал бы поющий ее голосом приемник где-нибудь в степном углу Сибири-матушки. Но судьба сбилась с пути. И тогда приключилась Революция, а за нею — война белых и красных».
Впрочем, даже Набокова — эстета и тонкого психолога интересовала преимущественно эта нагремевшая шпионская история, только международный скандал и роль в этом скандале бывшей «царевой любимицы», божественной Плевицкой-Славской…
Певица-шпионка!
Ее жизнь — сюжет для романа, а то и для голливудского многосерийного кино. Кстати, рассказ Набокова так и назывался: «Помощник режиссера». И являл собой литературный набросок для несостоявшегося фильма о ней… Нет, не о ней: о том, как знаменитая певица-эмигрантка и знаменитый белый генерал помогли советской разведке похитить руководителя русского белоэмигрантского движения.
А о ней — о ней пока еще не было…
Девочка из деревни Винниково Курской губернии, послушница из монастыря, в пятнадцать лет сбежавшая в балаган, а в шестнадцать — в кафешантан, певшая купцам в трактирах и Государю в Царском Селе, снискавшая всероссийскую славу… история Золушки, доброй феей для которой стала Песня!
Она была женой польского балетного танцора, красного командира и белого генерала…
Она умела безумно любить: за одним из своих любимых она пошла на фронт, переодевшись в мужскую фельдшерскую форму, а ради другого согласилась на преступление и погибла… Во имя любви? Во имя идеи?
Это уже вам судить.
Итак, представьте себе мирный 1912 год. Санкт-Петербург. Зимний вечер. «Поет Надежда Плевицкая» — аршинными, причудливо выписанными буквами оповещает афиша на тумбе. Поперек афиши — косо наклеенная полоса бумаги со словами: «Все билеты проданы».
Окна кассы закрыты, но подле них все равно толпятся студенты в серых шинелях, гимназистки в плюшевых коротких шубках, дамы и господа в мехах — бобровых и собольих, купцы и офицеры, приказчики из магазинов и горничные.
Ярко горят фонари у подъезда, серебрится в воздухе мелкий снежок, радужно искрятся сугробы.
До концерта еще полтора часа, но значительная часть публики уже здесь. Ожидают…
Вот легкий трепет прошел по толпе, и разом все зашептали, заговорили, зашумели, задвигались, стараясь пробиться вперед: «Едет! Едет! Она! Ее автомобиль!» — огромный черный автомобиль, сверкая стеклами, проплыл сквозь толпу к крыльцу служебного входа.
Дверца открылась, на снег выпрыгнул маленький подвижный человечек с тростью в руках и протянул руку, чтобы помочь выйти даме…
Она вынырнула из автомобиля, выпрямилась во весь рост. Высокая, статная, в роскошнейшей шубе: куньей, цвета темного меда с золотым блеском. Одна рука еще упрятана в муфту, другой рукой, затянутой в лайковую перчатку, она коснулась шляпки — причудливое и несколько громоздкое сооружение из бархата, вуали и завитых страусовых перьев, но все знали ее пристрастие к пышно декорированным шляпам и считали это пристрастие не только простительным, но даже очень милым, как мило было все, что делала эта женщина. Коснувшись шляпы и убедившись, что она на месте и держится надежно, певица той же рукой, свободной от муфты, сделала легкий приветственный жест… По толпе поклонников прошел восторженный вздох. Она оглянулась — под кружевом вуали сверкали глаза, светились свежим румянцем щеки, алели губы. Она улыбнулась и сделала шаг к крыльцу… И тут под ноги ей полетели цветы: фиалки, мимоза, лилии, розы, камелии, хризантемы — все, что пряталось до сего момента от мороза на груди, под шубками и шинелями, все это летело на снег! Зимним вечером в Петербурге она шла по живому благоухающему ковру из цветов — те несколько шагов, которые нужно было пройти от автомобиля до крыльца служебного входа…
«Надежда Васильевна! Милая! Восхитительнейшая! — неслось ей вслед. — Божественная! Плевицкая! Плевицкая! Плевицкая!»
У самой двери она наклонилась, подняла со ступенек маленький, измятый букетик фиалок и спрятала его в муфту. Какая-то гимназистка восторженно завизжала: это был ее букетик, и Плевицкая взяла его! Какое счастье! Остальные цветы собирали со снега спутники Плевицкой: полная, скромно одетая дама и какой-то господинчик в котелке. Тот, маленького роста, который помог Плевицкой выйти из автомобиля, уже скрылся вместе с ней за дверями служебного входа. Наконец на снегу осталось всего несколько одиноких цветков, сломанных, раздавленных каблучками певицы, россыпь опавших лепестков — яркими мазками по белому холсту… Остальные цветы собрали в охапки и унесли в тепло.
Первые цветы сегодняшнего концерта… Но их будет больше. В десять раз больше. Плотным ковром цветы покроют сцену, служителям придется в спешке сгребать их, чтобы освободить место для новых букетов…
Ведь популярность Плевицкой не имеет границ!
Сам Государь с Великими княжнами будет сегодня в царской ложе!
И вот Надежда Васильевна Плевицкая в своей артистической уборной.
Горничная Маша уже час здесь: приехала вместе с концертным платьем и украшениями в шкатулке, чтобы заранее всё приготовить… Она сразу же, с порога, разоблачает хозяйку, раздевает до белья, закутывает в плед, подает чашку горячего чая и рюмку с валериановыми каплями. Концертное платье висит на вбитом в стену крюке, сверкает сквозь чехол белизной и серебряной вышивкой. Ехать прямо в нем нельзя по той простой причине, что в нем вообще нельзя садиться. Оно должно облегать фигуру как перчатка, и под него белье особое нужно и вышедший из моды корсет… Облачаться в концертное платье — сложнейшая процедура! Это всегда делалось в самый последний момент. А прежде, согревшись и успокоившись, Плевицкая с помощью Маши переодевается в то самое особое белье, накидывает пеньюар и садится к зеркалу.
Маша ставит перед ней миску, в которой дымится отвар череды, окунает в отвар кусок мягчайшего холста, выжимает и прикладывает к лицу Надежды Васильевны. Затем повторяет ту же процедуру с шеей, с открытыми плечами и грудью. Потом легкими, быстрыми движениями наносит на лицо, плечи и грудь крем на восковой основе: он замечательно разглаживает кожу и удерживает пудру. На шею класть его нельзя: шея слишком подвижна, крем и пудра на ней будут заметны… Зато лицо и плечи будут просто сиять белизной и свежестью весь вечер, как бы она ни устала!
Приходит гримерша и пудрит певицу с помощью лебяжьей пуховки: прикосновения так нежны, что по коже проходит трепет, пудра окутывает ее ароматным облаком… И наконец оседает. Излишки гримерша смахивает. Затем тоненькой кисточкой подводит глаза.
Надежда Васильевна никогда не была по-настоящему довольна своим лицом: оно слишком широкое, скуластое, румяное, со вздернутым ширококрылым носом и полными губами, а глаза — небольшие, раскосые, лукавые… Но у красавиц — какими их рисуют художники и на картинах со всякими античными наядами и Афродитами, и на рождественских открытках, и на жестянках с чаем, и на рекламе мыла, — у красавиц таких лиц не бывает и глаз таких не бывает: лицо красавицы представляет собой нежный овал, носик у нее изящный, губки — бантиком или сердечком, а глазищи — громадные, грустные, с длинными-длинными ресницами. Надежда Васильевна всегда требует, чтобы глаза ей максимально увеличивали. Работа кропотливая, требует почти ювелирной точности… Плевицкая сидит, затаив дыхание. Горничная Маша тоже затаила дыхание — на всякий случай. Сама себе подводить глаза Надежда Васильевна так и не научилась.
Наконец глаза «сделаны». Правда, увеличить их так, как хотелось бы Надежде Васильевне, все равно не удалось. Но они сделались заметно больше… Плевицкая благодарит гримершу и сама подкрашивает себе губы, окуная кончик пальца в фарфоровую баночку с помадой.
Теперь приходит черед парикмахера. Он распускает огромную черную косу певицы и укладывает всю эту тяжелую массу волос в сложнейшую, объемную прическу. Маша подает ему диадему с крупными бриллиантами, сделанную в форме кокошника — на заказ, специально для Плевицкой. Диадема закрепляется в волосах…
Когда прическа закончена, Надежда Васильевна еще несколько минут отдыхает. Чаю выпить уже нельзя — от горячего питья может выступить испарина и подпортить макияж. Она просто сидит, расслабившись, в кресле и смотрит на себя в зеркало. Она даже улыбается… Сегодня она довольна собой. Сегодня она достаточно красива.
Она встает. Прическу окутывают шелковым платком и со всеми предосторожностями на певицу надевают платье. Ловкие руки Маши быстро-быстро застегивают многочисленные мелкие крючочки, скрытые в швах. Плевицкая подчиняется ее рукам безвольно, как кукла. Не дай бог, какой-нибудь крючочек оборвется… Или зацепится не за ту петельку… Ее концертное платье — настоящее произведение искусства! Многие зрительницы в зале будут гадать: как же Надежда Васильевна сумела натянуть на себя это платье? Разве что предварительно намылившись от бедер до плеч? На самом деле платье состоит из нескольких практически не соединенных между собой частей. Если она в нем сядет или хотя бы резко повернется, платье попросту лопнет. Поэтому ходит она плавно-плавно… «Как лебедушка плывет!»
Мало кто из них вспомнит, что когда-то, еще на заре ее славы, один критик, восхищаясь, впрочем, ее пением, заметил, что она не умеет держаться на сцене и что «концертное платье дурно сидит на ней»: другая бы и внимания не обратила на эту заметку, а Надежда Васильевна прорыдала несколько часов и с тех пор шила свои концертные платья только у самых лучших портних, прибегая к самым невозможным ухищрениям, лишь бы только платье сидело на ней хорошо.
Белые атласные перчатки до локтей — Плевицкая стесняется своих рук: огромных и грубых, несмотря на тщательный уход и маникюр. Поверх перчаток на запястьях — браслеты с бриллиантами. В вырез ложится огромное бриллиантовое колье. Бриллианты Плевицкой знамениты в обеих столицах. Некоторые находят, что это вульгарно: надевать столько драгоценных украшений. Заявляют, что у Плевицкой «сорочий вкус», то есть страсть ко всему броскому и блестящему. И правда… Ну и что?! Она ведь не графиня! Она — крестьянка!
Крестьянка…
Маша опускается на колени и надевает ей туфли.
Вовремя: в дверь деликатно стучатся.
Пора на сцену!
Несмотря на многолетнюю уже привычку, несмотря на выпитый чай и валерианку, волнуется она самым мучительным образом, сердце колотится где-то в горле… Перед последним шагом из-за кулис она на секунду останавливается, судорожно сглатывает, откашливается… И, гордо выпрямившись, идет!
Зал встречает ее громовыми аплодисментами. И цветами. Цветы летят на сцену, хотя она еще не начала петь. Плевицкая кланяется на три стороны, улыбается, снова кланяется… А цветы летят, летят к ее ногам! А сколько их будет еще во время концерта, после каждой из песен! А после концерта!
Наконец по жесту ее аккомпаниатора аплодисменты смолкают. Воцаряется тишина.
Надежда Васильевна поднимает взгляд к царской ложе. Государь там… Он смотрит на нее… Он улыбается ей! Она знает и обожает эту улыбку: милую, чуть смущенную, ободряющую! Она обожает взгляд Его лучистых глаз! Она обожает своего Государя! Великие княжны рядом с Ним — словно четыре розовых бутона! Нет, три розовых бутона: Ольга Николаевна, Мария Николаевна, Анастасия Николаевна — розоволицые, большеглазые, в золотистых кудрях, похожие на отца-Государя. И один бутон белой лилии: Татьяна Николаевна, тоненькая, изысканно-хрупкая и надменная, похожая на свою мать-Государыню. Государыни нет… Не любит она русских песен. Что ж, тем лучше! Значит, сегодня Надежда Васильевна будет петь только для Него!
Надежда Плевицкая. Художник ФА. Мялявин
Она кланяется еще раз — отдельно царской ложе — и чуть ниже, чем остальным (но ровно настолько ниже, насколько позволяет сложное устройство ее платья). Выпрямляется, складывает руки на груди, набирает воздуха в легкие… И поет. «Когда я еще молодушкой была…» Голос ее, сильный, низкий, с пробивающимися иногда пронзительными нотками, разносится по залу. «Ехал на ярмарку ухарь-купец, ухарь-купец, удалой молодец…» Ее слушают замерев, с наслаждением. Аплодируют долго и шумно. Государь — дольше других. У многих на глазах — слезы восторга.
Это действительно восхитительно! И так ново! Никто еще не выходил на сцену концертного зала с русскими народными песнями! Такие песни поют кухарки — на кухне, прачки — во время стирки, ямщики — в дальней дороге, а еще гуляки — в придорожных трактирах! Это всегда считалось mauvais ton. Развлечение для плебеев, а слух избранной публики услаждали ангельские голоса итальянских оперных певцов и сладенькие голосочки французских шансоньеток. Но теперь — теперь это так модно! Так популярно! Так a la russe! И действительно — такое удовольствие! Такой могучий голос! Не голос, а голосище! И эта обворожительная простота… Государю это нравится. Все знают: Плевицкая — его любимица, частенько поет в Царском Селе, а летом — в Ливадии… Божественная, божественная Плевицкая! Браво! Браво!
Цветы летят к ее ногам… Цветы… Цветы…
Часть I ДЕЖКИНЫ РАДОСТИ
Думали — нищие мы, нету у нас ничего, А как стали одно за другим терять, Так, что сделался каждый день Поминальным днем, — Начали песни слагать О великой щедрости Божьей Да о нашем бывшем богатстве. Анна АхматоваГлава 1 СВЕЧА ПЕРЕД БОГОМ
I
Акулина Фроловна Винникова за время своего счастливого супружества одиннадцать детей выносила и родила — семеро, правда, еще в младенчестве Божьей волей померли, ну да это было обычным делом, когда ребятенок к Богу в рай отправлялся, даже и ходить-то не научившись, хорошо еще, четверо остались им с Василием Абрамовичем на радость да на подмогу, а и того могло бы не быть: поздновато они за труды родительские принялись — хоть и не по своей вине, судьба так распорядилась, что забрали в солдаты молодого мужа — чуть больше месяца после свадьбы прошло; ну да то дело прошлое, и теперь, одиннадцать выносив и родив, Акулина Фроловна загодя почувствовала, когда двенадцатое дитя во чреве взыграло, в мир запросилось. Когда дело привычное — и тревог меньше: баню Акулина Фроловна заранее уже подготовила, и теперь — ужин на стол поставить успела, дочку старшую, Настеньку послала за соседками, и неспеша, постанывая и поохивая, направилась в баню — рожать. Через малое время и соседки собрались. Вообще-то полагается, чтобы старшая женщина роды принимала, но старше Акулины Фроловны были только совсем уж старые старухи: ей пятьдесят шесть годков минуло — поздно ведь они с Василием Абрамовичем за труды родительские принялись. И, хоть дело и привычное — не в первый и не во второй раз, а в двенадцатый! — тяжко в пятьдесят шесть лет дитя вытужить.
Музей Н.В. Плевицкой в Винникове
Она уж думала, что не будет у нее больше.
Три года назад Маша на свет появилась — думала, последняя.
И вдруг — снова!
Они с Василием Абрамовичем не бедно жили и каждое дитя на радость рождалось, но все-таки в ее годы не детей, а внуков нянчить положено. И уже не самой на лавке лежать, мучаясь, а перепуганную молодайку — невестку или дочь — утешать, успокаивать, поучать.
Три дочери росли у Акулины Фроловны и только один сын — Колюшка. И она очень надеялась, что в этот раз в последний — больше уж детей у нее наверняка не может быть! Господь благословит ее сыном. Но, когда увидала дитя — девочку, дочь — в натруженных руках соседки, тоже возрадовалась от души, да так возрадовалась, что вряд ли рождение сына могло бы большую радость ей дать. Маша, та слабенькая была. А эта большая, крепкая! Да такая голосистая!..
— Первой певуньей будет, — пошутила будущая крестная, вытирая новорожденную. Потом спросила:
— Последняя она, чай, у тебя, Хроловна?
«Хроловна» устало кивнула.
— Ну, значит, счастливой будет — последыш!
И угадала. В первом — точно: стала девочка первой певуньей всея Руси.
И во втором — тоже угадала. Счастливой она была.
Очень долго была она счастливой.
II
Говорят, «все мы родом из детства» — в детстве закладывается основа личности и взаимоотношений ее с миром, самые яркие впечатления детства помнятся даже в старости, когда забываешь уже и то, что было час назад, а детские страхи преследуют человека до самой смерти. Недаром большинство писателей-биографов и ученых-литературоведов, изучая жизнь и творчество кого-нибудь из гениев или знаменитостей, столько старания прилагают, чтобы хоть что-то узнать о детстве изучаемой персоны, хоть малые крохи собрать, потому что без этих крох не создать объемный и, если так можно сказать, углубленный портрет Выдающейся Личности. Многие «взрослые» поступки Выдающейся Личности ставят перед современниками и исследователями загадку, ответ на которую часто бывает заложен в самых ранних годах жизни, о которых редко остаются воспоминания очевидцев… Вот, например, выдающийся полководец Суворов до шести лет был ребенком болезненным и хилым, практически не ходил, а ирландский писатель Брэм Стокер, автор «Дракулы» и «Подземелья белого червя», с восьми до двенадцати лет страдал нервным параличом и провел их в постели, и мать-ирландка развлекала его жутковатыми легендами. Пушкин до трех лет был молчалив и странен, и единственным другом раннего его детства стала няня Арина Родионовна, а Эйнштейн до пяти лет вовсе не разговаривал, и друзей у него совсем не было. Наполеон Бонапарт в детстве был не в меру агрессивным и очень хитрым и немилосердно тиранил всех своих братьев и сестер, которых позже так щедро вознаградил за перенесенные в детстве мучения. Стивен Кинг, известный автор романов ужасов, в детстве был хилым очкариком, страдавшим от издевательств как сверстников, так и старшеклассников, а другой автор романов ужасов, не менее известный Дин Кунц, также страдал от побоев отца-алкоголика, кинорежиссер Роман Поланский, прославившийся своими жестокими психологическими триллерами, детство провел в Варшавском гетто, стал свидетелем убийств и издевательств над близкими ему людьми… Почему они стали такими жестокими, странными, алчными, хитрыми, добрыми? Почему они поступили именно так, а не иначе, хотя, казалось бы, подобный поступок противоречил логике их прежних деяний? Если знать, какими детьми они были, ответ нередко приходит сам собой.
Нам — из конца беззаконного и кровавого XX века с его урбанистической культурой — очень сложно было бы понять, каким было детство Надежды Плевицкой: девочки Дежки из деревни Винниково в конце относительно спокойного и сравнительно мирного XIX века, если бы сама она, уже в зрелые годы, не оставила нам своих воспоминаний о детстве, об отрочестве и о юности, воспоминаний, уложившихся в две тоненькие книжечки — «Дежкин карагод» и «Мой путь с песней», вышедшие в двадцатых годах на Западе, на русском языке, неоднократно переиздававшиеся большими тиражами. Но — тогда и у них. Сейчас и у нас они тоже издавались: крохотным тиражом. До широкого читателя они так и не дошли. А жаль: теперь это уже документ, представляющий собой особую ценность не только как история детства великой певицы, деревенской Золушки, дошедшей с песней до Царевых палат, но также ценность историческую, литературную и даже этнографическую. Из этой книги хоть что-то, хоть мало, но можно узнать, какими были мы — русские — совсем недавно, но так давно: до всех великих потрясений, смешения национальностей и веры. Но это отступление, а главным остается: как она прожила свои первые годы, откуда родом была она — будущая первая народная певица, будущая царева любимица, будущая жена белого генерала, будущая «агент Лубянки»?
Детство Надежды Винниковой прошло среди сплошных красот да чудес.
Со стороны казалось бы: обычное детство девочки из средней крестьянской семьи конца XIX века. Деревянная люлька, которую старшая из сестриц качала, продев ногу в специальную петлю, чтобы руки от работы не отрывались. Через пару годков босоногая, в одной рубашонке, как и положено было крестьянским детям обоего полу в первые годы жизни, Дежка дни свои проводила зимой — на печи, летом — во дворе, среди домашней птицы, где можно было поиграть деревянными чурочками, но со двора — ни шагу. А чуть в ум вошла — первые труды: огород полоть, гусей пасти, матери по дому помогать. Все у нее было, как у всех, и неоткуда, казалось бы, чудесам и красоте-то взяться! Но ей довелось видеть красу и чудо в том, чего другие не замечали вовсе, что было для них обыденно и скучно. Изумленно распахнутыми глазами смотрела девочка на окружающий ее мир, и душа наполнялась восторгом, будто чаша, и переполнилась, чтобы много позже излиться песней и отдать большому миру тот восторг, которым когда-то, в детстве, мир одарил ее.
Впрочем, именно песня была тем светлым лучом из рая, который коснулся души еще совсем крохотной, новорожденной девочки и пробудил в ней то нечто, что отличало ее всю жизнь от других.
Качалась деревянная люлька, в которой до Дежки первые младенческие сны свои видели одиннадцать братьев и сестер ее, семеро из которых так и не захотели расстаться с блаженным младенчеством и войти в большой грозный мир и заснули навеки под землей в маленьких, похожих на люльки гробах.
Погост начинался недалеко от двора Винниковых, и тихими ночами умершие младенцы в своих подземных колыбелях могли слышать песню, которую пела Акулина Фроловна над живой, мерно качающейся колыбелью:
Баю, баю, детятка! Поспи, детятка, поспи, У Бога счастья попроси, Бог счастьица дает, Тебе в люленьку кладет.Колыбельных у Акулины Фроловны в запасе было много-много…
Потом из колыбельных Дежка уже выросла, но все равно любила сиживать рядом с матушкой и слушать, как она поет «священные» песни.
Только ради песни и могла на месте усидеть, потому как нраву была неугомонного, весела и любопытна не в меру. Жизнь деревенская проста и строга, все — по обычаю, все — по закону, и каждый обязан этот закон соблюдать: иначе чем мир-то держаться будет! А Дежечка с ранних лет обнаружила в себе бунтарский дух и все смирить его пыталась, да так и не смогла. Но то потом было, а в пору детства она принуждала себя к послушанию и очень хотела быть хорошей, причем хорошей, как все, именно «как все», а не как-то иначе. Того, что «на особицу», в деревне ведь не любят, видя в «особенном» зачатки бунта, способного порушить или хотя бы повредить веками создававшийся жизненный уклад. И вот старалась Дежечка быть, как все — отцу с матерью на радость.
Позже вспоминала она:
«Семеро было нас: отец, мать, брат да четыре сестры. Всех детей у родителей было двенадцать, я родилась двенадцатой и последней, а осталось нас пятеро, прочие волею Божьею померли. Жили мы дружно, и слово родителей для нас было закон. Если же, не дай Бог, кто „закон“ осмелится обойти, то было и наказание: из кучи дров выбиралась отцом-матерью палка потолще со словами:
— Отваляю, почем ни попало.
А вот и преступления наши:
Родители не разрешали долго загуливаться. Чтобы засветло дома были, наказывала мать, отпуская сестер на улицу, потому что „хорошая слава в коробке лежит, а дурная на дорожке бежит“. Вот той славы, „что на дорожке бежит“, мать и боялась. А если случалось, что мы заиграемся, забудемся, на выгон, из-за церкви, показывалась мать. Шла она медленно, будто прогуливаясь, руки держала позади — эту манеру мы знали: раз руки за спиной, значит, прячет палку. И когда в пылу веселья не замечали мы ее приближения, она подходила и „сызновости“ ошарашивала палкой старшую из сестер — „с тебя, мол, спроса больше“. Претерпев всенародный срам, мы бегом спешили домой, а за нами и улица расходилась: вслед за „Хроловной“ приходили „Федосеевна“ и „Поликарповна“ звать своих дочерей. „Вестимо: строгая мать — честная дочь“. Доставалось нам также и за „черное слово“ — чертушка, черт. Таким скаредным словом в доме у нас не ругались. А за ложь наказывали престрого».
Старшие больше отцу помогали в полевой работе, а Дежка больше с матерью по хозяйству. Посуду убрать-помыть, крапивы для хрюшек нарвать-нарубить, гусей пасти или на рыбалку — матушка ее была страстным рыболовом и в рыбалке видела не только пополнение скудного крестьянского стола, но и наиглавнейшее развлечение. Дежка, во всем послушная, гордившаяся тем, что она — первая мамина помощница, в этом совершенно матушку не понимала. Две вещи ненавистные для нее были: пасти гусей — потому что скучно — и ловить рыбу!
Но если реальность налагала бесчисленные обязанности на каждую крестьянскую девочку с самых ранних разумных ее лет, то Дежечка, будучи от других отличной, умом и сердцем стремясь быть «хорошей — как все», душою все равно оставалась в плену красоты и чудес, которые мир щедро открывал ей, готовой их видеть и принимать.
Даже простое казалось ей чудесным, даже в маленьком, ближнем мире своем, ограниченном избой да двором, Дежка умудрялась совершать открытия не мельче колумбовых — так, но крайней мере, для нее это было… А за ближним миром простирались дальние: деревня — целый мир непознанный, а за деревней — и вовсе мир огромный, бескрайний, о котором из рассказов старших узнавала, да и тот мир тоже непоследний: есть еще тайный мир, незримый, где ангелы на небесах и черти в аду, где русалки на ветвях качаются, где леший пугает, где полуденица шалит, где обитают умершие и откуда приходят они навестить живых: легким ветерком бесплотным слетая или жутким упырем восставая из могилы…
Погост деревенский со двора видать было, и упырей Дежка боялась до смерти! А вот душ бесплотных — тех не боялась и знала, как и все деревенские знали, что зимою, в самое лютое время, когда дни коротки, а ночи длинны, когда новое солнце нарождается, отпускают души кроткие с небес на землю на три дня: навестить родных. И вьются они у печных труб, стараясь согреться дымом родного очага, и плачут горестно, заглядывая в окошки родного дома, и стучат, царапают в стены — впусти, дай погреться! — зная, что безнадежны их порывы, что нет им места среди живых… Но некоторые все-таки в избу пробираются, и все три дня хозяйки в домах не метут, боясь потревожить души умерших родных, затаившиеся по углам. И Дежка смотрела во все глаза, и чудилось ей иногда какое-то легкое, вскользь, движение в темном углу или под лавкой, что-то призрачное, будто клочок тумана… Такой представлялась ей лишенная тела душа. Пока в доме гостили души, Дежка тихо себя вела и ничем другим не интересовалась, кроме высматривания этих самых бесплотных душ. А когда улетали они обратно на небеса, а дни стояли холодные, лютые, что и носа из избы не высунешь, чтобы не отморозить в тот же миг, девочка находила для себя другую забаву.
В короткой своей рубашонке, босоногая, шлепала Дежка по чисто выметенному полу избы к заиндевелому оконцу, залезала на лавку и вплотную приникала к маленькому стеклышку, на котором мороз выписал дивные, алмазно сверкающие цветы, — ах, красота, какая красота! — даже весной и летом на Мороскином лугу, издавна славившемся яркими и пышными цветами, такой красоты не встретишь! Девочка прижимала ладошку к стеклу, терпела жгучий холод, чтобы потом любоваться, как новые, мельчайшие узоры затягивают след ее ладошки, похожий на пятилучевую звездочку. А иногда дышала на стекло, терла пальцем, чтобы крохотное окошечко образовалось, с глазок размером, и так занятно было смотреть через это окошечко во двор. Хотя, выбеги на крыльцо, все то же и увидишь! Однако через прогретое в инее пятнышко света смотреть ей было любопытнее.
А вечера зимние! В них — особое очарование, потому что все вместе собираются в жаркой духоте избы, и старшие, не истомленные работой дневной, как это бывает весной-летом-осенью, не сразу спать ложатся, а прежде сидят, беседуют… А девочка — слушает.
«Отец мой был николаевским солдатом. Прослужил восемнадцать лет, а шесть лет ему подарили за его честную и беспорочную кавалерскую службу. Был он стрелком, да на учении порохом засорил глаза. И, как я помню его, всегда страдал он глазами, а под конец совсем плохо стал видеть. В селе все его звали Солдат. Долгими зимними вечерами, когда прялки сестер тихо гудят, приходили к нам посидеть, покалякать почтенные господа-мужики: да и к кому же пойти, как не к солдату бывалому?
Прялка матери умолкала, когда отец начинал рассказ про Крым, где отбывал он солдатскую службу. Уж какая тут пряжа, когда вспоминалось про прошлое: мать моя только что вышла замуж, как ее Васю забрали в солдаты, и через год отправилась она к мужу в Крым. Из Курска до Одессы на лошадях — тогда не было железной дороги, — а из Одессы пароходом до Феодосии. Много лет утекло, уже состарилась мать. А путешествие свое помнила, как будто оно было вчера.
…Вспомнили, что пора ужинать. Изба пустела, мать хлопотала у печи. За стол, не помывши рук и Богу не помолясь, не садились, а за едой сидеть смирно-чинно и „зубы не скалить“. Обыкновенно после ужина мать и сестры старшие садились за прялки, брат плел лапти, а мы, две младшие, да и батюшка укладывались спать. Выла вьюга в трубе, ласково гудели прялки, брат Николай тихо постукивал свайкой по колодке. Под музыку зимы и труда засыпала я в нашей тесной, но дочиста набеленной избе».
По весне первые цветы вырастали на погосте, и говорили люди, глядя на белые, желтые, лиловые звездочки, заискрившиеся на просевших холмиках: «Вот и Радуница пришла, мертвых из гробов отпускают». Дежка, конечно, боялась гробов и мертвых, от одной мысли о них страшно было, и в сторону погоста вечерами старалась вовсе не смотреть, а то, того и гляди, увидишь, как вспучивается земля и из могилы появляется страшная окостенелая рука! Но на Радуницу от этих слов вовсе не страшно, а радостно было, потому как на Радуницу все, кто осенью и зимою преставился, освобождаются из темноты гробов, из-под груза мерзлой и мокрой земли и по корешкам цветов, по стебелькам, через венчики, пестрыми бабочками взлетают — и на небеса, к Господу!
А если радуга в небе расцветала — все из изб высыпали, даже самые старые старики выползали, стеная и охая, а ребятишки визжали, прыгали, в поле бежали, где радуга виднее, а взрослые работу прерывали, чтобы хоть на миг взглянуть на семицветную небесную дугу — Божий мост! По тому мосту души праведных в небо поднимаются… А если кому повезет хоть раз в жизни двойную радугу увидеть, тот наверняка и счастливым, и богатым станет! Двойная радуга — верный знак… Дежка Винникова часто этот знак в небе видела, хотя подруги уверяли, что радуга — одна, что нет под широкой дугой второй, узкой… Но даже одинокая радуга — какое чудо, какое диво! Как радует душу чистота красок! Воистину радуга — радость! Бог дал радугу людям, как знамение после окончания Великого Потопа, и до тех пор, пока радуга будет являться в небесах, конец света не наступит… Перед концом века даже в деревне Винниково опасались наступления конца света, но каждое новое явление радуги развеивало эти опасения: конец света должен наступить при жизни того поколения, которое с младенчества ни разу радуги не увидит.
А потом, на Троицу, надо было венки плести и в церковь нести, а ведь в эту же пору, как назло, в самом разгаре игры русальи: шалят русалки от заката до рассвета, а то и днем в лесной тени появиться могут. А с русалкой только встреться… Если приглянешься ей — песней заворожит и в воду утянет. Если не понравился — защекочет насмерть. Все одно — плохо! Правда, крали русалки в основном красивых деток, а себя Дежка такой уж красивой не считала… К тому же она последыш, последняя у родителей, а последышей и первенцев сам Бог храпит… И все равно жутко было на Троицу за цветами ходить. И оттого очень интересно!
Правда, чем старше становилась Дежка, тем больше веселый нрав и любопытство брали верх над тем чистым восторгом, которым полнилась душа ее первые годы ее на земле. Восторг остался, конечно, но стал он иным: реальность забирала в плен, и все реже выпадали мгновения того ослепительного, с замиранием сердечным счастья, которым встречала она, едва научившись ходить, и первый увиденный цветок, и иней на стекле, и радугу…
Цветы, снег, радуга — все от Бога, от того, что господа «мечтою» зовут, а крестьяне — «баснью», но и реальное — то, что не от Бога, а от людей, — несло в себе красу и чудо.
Вот песни: разве не от реальности? Люди ведь придумали коленца плясовых, сложили песни — люди, а не Тот, кто создал этот мир во всем его многоцветье! Может, Он-то, если верить некоторым попам, Его служителям, не так уж благосклонно к этим песням относится… Хотя нет, в это Дежка не верила. Лгут все попы! Ведь есть святые песни: те, что для Него в церквах поются! Бесовскими называют те песни, что в хороводах-карагодах да на игрищах… Но ведь карагод — краса такая! Заглядишься, заслушаешься! И — радость, радость! Разве может быть — от нечистого? От нечистого — злоба и уныние. А радость вся — от Бога.
Было время, когда по приказам поповским музыкальные инструменты выискивали и разбивали, в костры бросали. Было время, когда песни и пляски считали грехом душегубительным, говорили: «Сии вси волсви плотяные бесове и слуги антихристовы, и сие творяще да будут прокляти!» А пуще всего ополчились святоши на женские пляски: «О, злое проклятое плясание! О, лукавыя жены многовертимое плясание! Пляшущи бо жена — любодейница диаволя, супруга адова, невеста сатанина; вси бо любящи плясание безчестие Иоанну Предтече творят — со Иродею негасимый огнь и неусыпающ червь осудит!» Говорили те святоши, что даже смотреть на пляски — грех: «Не зрите плясания и иные бесовских всяких игор злых прелестных, да не прельщены будете, зряще и слушающе игор всяких бесовских; таковыя суть нарекутся сатанины любовницы».
А Дежка так любила на карагоды глядеть! Мала она была — лет восемь или девять, — в такие годы девочек в карагоды еще не берут, а в некоторых местностях и вовсе к местам игрищ молодежи не подпускают. К счастью, в селе Винникове Курской губернии другие обычаи были, и девочка могла ходить на ярмарку, песни слушать, на пляски смотреть: «Метет, летает кругом яркоцветный, ликующий вихрь. Я ношусь от карагода к карагоду, Машутка едва за мной поспевает; она кличет меня — ей пить хочется, есть, а я не слышу; душа моя настежь раскрыта».
Упиваясь празднеством — как ей казалось, наравне со всеми празднующими и ликующими! — и не знала маленькая Дежка, что это бурлит в ней, пробуждаясь, ее талант, который когда-то встанет во весь рост и повлечет ее по жизни, по миру, далеко заведет… Пела ее душа, а сама она еще не решалась петь, потому что мала: засмеют, а то и прогонят. Только наедине с собой спеть она могла.
Первый удачный концерт и первая концертная прибыль случились у Дежки именно в тот праздничный день, когда, возбужденная, переполненная счастьем, с рвущейся из груди песней, убежала она на дальний выгон, чтобы петь там вдали от всех, а вроде как вместе со всеми, в праздничный вечер, когда все поют и карагоды водят. Очень вовремя послала мать ее пасти ненавистных гусей — в тот вечер и самой Дежке хотелось уйти подальше от дома, от людей. Только верная подружка Машутка с ней пошла. Ну да Машутке Дежка всегда доверялась, знала: не засмеет Машутка, сама ведь тоже от малолетства своего страдает и если не петь, то поплясать очень рада бы была!
«Под горой, не боясь, что нас кто увидит, стали мы с Машуткой плясать, подражая Татьяне и старшим сестрам. Я запела протяжную:
Дунай речка, Дунай быстрая, Бережечки сносит. Размолоденький солдатик Полковника просит: — Отпусти меня, полковник. Из полку до дому. — Рад бы я, рад бы отпустити, Да ты не скоро будешь, Ты напьешься воды холодной. Про службу забудешь.Пела я и прислушивалась к своему голосу. Мне очень хотелось, чтобы походил он на Татьянин. А с горы на плотину съезжал по ту пору экипаж, в котором сидели соседнего помещика барыня и барышни. Поравнявшись с нами, они замахали платками, и в нашу сторону полетел большой кулек. Коляска промчалась, а мы с Машуткой стали сбирать как с неба упавшие гостинцы: каких только сластей не было в кульке. Этот кулек — первый дар за мою песню».
А ведь говорили самые старые старики, какие только жили еще в Винникове, будто пляскам и песням люди тоже когда-то учились у ветра, облаков, снежных вихрей, будто хороводы-карагоды вначале листья опалые поздней осенью водили, а люди, на них глядючи, свои хороводы заводили… Или будто бы солнце выманивали, в круг становясь и приплясывая… Если старикам верить, и впрямь получается — все прекрасное от природы, от Бога. А те попы-святоши, которые музыку играть не велели, музыкальные инструменты ломали и петь-плясать запрещали, — они-то, верно, и были самые диаволовы прислужники!
Отец с матерью вряд ли похвалили бы Дежку за такие мысли, а чужого человека и вовсе осудили бы…
Но как иначе назвать людей, которые, пользуясь церковной своей властью, у других людей — простых, им подвластных, — радость отнять хотят? Ведь в жизни так мало радостей! Печаль, мрак, воды горькие — вот что такое жизнь человеческая… И редки, редки искры радости! Едва дитя входило в ум — а Дежка рано умненькой стала, как это часто случается с «поздними детьми», — так сразу печаль и горечь подступались к нему… А сердце тянулось к радости.
III
Радости, несмотря на то что случались редко, все-таки бывали разнообразны: кто-то из подружек Дежкиных больше всего игры на лугу любил, кто-то — нарядиться, кто-то — полакомиться, кто-то — поплясать, и только мечтали, что о взрослых карагодах… Дежка тоже все это любила, но слаще любых лакомств, веселее плясок и игры были для нее песни.
Рано начала пробовать она свой голосок. Стеснялась — в лесу пела, в поле или когда гусей пасла. Стеснялась того, что кто-то, кроме этих самых гусей, или коров, или закадычной подружки-кумы Машутки, её пение слышал. Стеснялась, но тот Троицкий день, когда за песню ее кульком с лакомствами подарили, на всю жизнь запомнила.
Особенно любила маленькая Дежка свадьбы крестьянские, потому как по обычаю именно на свадьбе больше всего песен поется, самых разных! Грустные песни — когда невесту «отпевают» подружки, накрывая фатой, когда «умирает» она для прежней семьи, для своего отчего-материнского рода, чтобы заново «родиться» в новой, мужней семье, когда супруг после венчания откроет ее лицо. Песни веселые — когда встречают жениха с дружками, чтобы не передумали, не свернули назад, да и дружкам жениха тоже попеть приходится, чтобы пропустили их в избу подружки невесты… Песни шутливо-дурашливые — когда свадебный поезд встречают и с поезжанами по деревне катят, чтобы отпугнуть злые силы или злой глаз колдовской обмануть: известно, что нечисть очень боится насмешки, но при этом свадьбу сглазить, невесту «испортить», а поезжан вовсе в волков превратить — самая радость для колдуна или ведьмы, всякую радость животворящую ненавидящих. А еще игровые песни пелись, для гостей на свадебном пировании… Так что каждая свадьба в деревне была для Дежки ее личным праздником.
Очень мечталось Дежке стать первой певуньей на деревне — как предсказали ей бабы, у Акулины Фроловны роды принявшие. Хотя какая девчонка в деревне не мечтала об этом? Стать первой работницей, первой красавицей, первой певуньей, первой плясуньей — чтобы все лучшие женихи к ней присватались!
Только вот Дежка мечтала об этом не ради женихов. Вот в этом-то вопросе она совсем не была похожа на своих подружек: женихи ее не интересовали. Она злилась даже, когда ей о женихах говорили, хотя при юном возрасте такие разговоры только в шутку могли вестись.
Петь лучше всех она хотела ради самого пения. Петь ради песен — чтобы краше, звонче, чище, чем у других, выходило.
А еще очень хотелось ей выучиться грамоте.
В те времена для крестьянского ребенка — для девочки! — это желание было в некотором роде экстраординарным… Были, конечно, среди крестьян «сознательные» родители, которые отдавали детей в школу, чаще мальчиков, и не столько с просветительской целью, сколько ввиду усиливающейся моды уезжать в город на заработки. В городе без грамоты трудно. Читать не умеешь, считать не умеешь, вместо подписи крестик ставишь — непременно работодатели обманут. А вот девочке грамотной вовсе не обязательно быть: в жены лучше берут не грамотных, а здоровых, работящих, умелых, красивых и с хорошим приданым. Если еще и грамотная — совсем хорошо. Но и без этого запросто обойтись могут. А бывали семьи, где «образованность» для женщины считалась едва ли не пороком, где девочку ни за что не пустили бы в деревенскую школу, в один класс с мальчишками! Еще в XIX веке у крестьян из старообрядцев грамотные женщины встречались в три раза чаще, чем у приверженцев православной никонианской церкви, да и то только потому, что для старообрядцев книги имели особо важное религиозное значение, и в основном носительницами «тайного знания» были женщины-странницы, к которым государство в случае разоблачения применяло все-таки менее суровые карательные меры. Обычная же крестьянка должна много работать и много рожать, да мужа почитать.
«Надо сказать, что кроме матери все были у нас малую толику грамотны. А если я умею немного читать и писать, то потому лишь, что горькими слезами выплакала у матери разрешение ходить в школу. Рукава моего серенького платья были мокры от неутешных слез (платки-то носовые полагались у нас только в день воскресный к обедне) — так убедительно просила я мать отпускать меня в школу…»
IV
Настоящее, хорошо поставленное пение Надежда впервые услышала в Девичьем монастыре в Курске.
«И вот мы в церкви стоим, а с левого и правого клироса идут тихо и стройно черные монахини. Вот стали они полукругом перед Царскими Вратами, а посреди матушка Мелитина с морщинистым, но тонким лицом, прекрасная в своей черной мантии.
— Глас шестый. Господи возвах к Тебе, услыши мя.
Проникновенному альту плавно ответил весь хор. В нежной волне голосов слышался мягкий бас. К моему удивлению, баском пела тоже монахиня: бывает. Я еле сдерживала слезы умиления. Множество свечей, как стая огненных мотыльков, колыхалось над огромными серебряными подсвечниками, заливая светом своим драгоценные ризы святых. У большого образа Матери Божией играет разными огнями множество лампад. К этому образу чинно подходили и прикладывались богомольцы. Там стояла монахиня и вытирала со стекла следы поцелуев чистым полотенцем. Сияли пелены, изумительно расшитые золотом. Все сияло изумительной красой. Меня охватил молитвенный восторг, я твердо порешила уйти в монастырь. Не расставалась я с мыслью уйти в монастырь и когда мы вернулись с богомолья домой. В моей детской голове стояли образы кротких монахинь».
И с того дня мечтою о монастыре Дежка сделалась просто одержима. Это еще сильнее выделило ее среди других подруг: не о красивом сарафане и не о богатом женихе мечтала, а петь лучше всех и в монастырь уйти. И ведь если бы была она странная, малахольная или хворая, а то ведь здоровая девочка, веселая, игрунья, крикунья! А мечтала о пении да о монастырской тишине…
Но Дежка знала: родители приняли бы ее желание за блажь. Поэтому она до поры молчать о своем желании решила и вся отдалась прежней великой мечте: о школе.
«Помолились Богу, и я степенно и важно вышла на улицу — впервые, кажется, не вприпрыжку. Около школы толпились девочки, мальчики. Дверь была еще закрыта, я успела оглядеться: много незнакомых, но много и винниковских. Хотя и весело было тут, все же сердце билось тревожно. Вот застучал деревянный засов, распахнулась широкая дверь, и туда хлынул поток ярких платочков, картузов, больших отцовских шапок. В гомоне детских голосов трудно разобрать, кто чего хочет. Я, новичок, скромно жалась, почтительно всем уступая дорогу; даже пинки, которыми меня угощали, безответно терпела. Я не отходила от Серафимы, дочери священника. Она была подруга моих игр, а училась уже второй год и могла за себя постоять».
Учил всех ребятишек, вне зависимости от года обучения, причем по всем предметам сразу, один учитель: Василий Гаврилович, из разорившихся дворян, по убеждению ушедший «в народ». Плевицкая его вспоминала: «Высокий, с приятным лицом, в сером костюме, белоснежный воротничок, манжеты, очки золотые, а штиблеты так и блестят. Меня еще не было на свете, когда он уже учительствовал у нас. Мужики его любили: „Умный наш Василий Гаврилович, добрая душа, честности непомерной, настоящий барин, даром что бедный, а все село по милости его грамоту знает“». Учил не за деньги — за прокорм, причем никогда не требовал причитающегося ему, а с благодарностью принимал, кто чего мог ему дать: кусок мяса, дюжину яиц, битую птицу, зерна пару пудов или дровишек…
Дежке в школе нравилось, хотя поначалу у нее плохо дело шло, особенно в плане письма — не удавались ей закорючки, не держали пальцы карандаш! Но потом и с этим справилась. И вообще стала одной из лучших учениц в классе — и одной из главных озорниц, наравне с мальчишками. Но учитель Василий Гаврилович никогда не корил ее за непослушание. И хвалил чаще, чем других. А через несколько лет он будет к ней свататься… Так что, возможно, бойкая Дежка нравилась ему еще ребенком.
И вот уже она — не дитя, уже почти взрослая девушка: четырнадцатый годик ей пошел, в старые времена в такие годы, бывало, и замуж шли! А случается, и теперь уж в четырнадцать-пятнадцать лет венчаются, если только уговорить попа поменять запись в церковных книгах, надбавить невесте два-три годика… Правда, смотрелась Дежка еще совершеннейшим ребенком: толстенькая была, крепкая, с круглым смешливым личиком. Волосы — слава те, Господи! — сделались густыми и жесткими, и коса у нее теперь — чуть не в руку толщиной.
И в карагоды ее теперь пускают! Годами она, правда, еще не вышла, но ее за голос берут: такого голоса, как у нее, ни у кого больше нет! Когда Дежка Винникова запоет, все другие притихают, устыдившись… Куда до нее «водяновским саянкам», или «заверским», или «богдановским»! Так что уж целых две мечты, можно сказать, сбылись: школу закончила и лучшей певуньей на деревне стала. Да что там — лучшей на деревне! Лучшей в округе!
Хоровод. Художник А.С. Степанов
Парни, правда, еще не заглядываются… Зато матери, у которых сыновья подрастают тех же лет, что и Дежка, стали к ней уже приглядываться: как по улице пройдет, как работает, когда страда. И в карагодах — тоже. Но для них ее певучесть — не главное достоинство. Скорее недостаток, если слишком уж будущая невестка празднества да веселье любит… Пенье — это для развлечения. Пусть поет, но чтобы это работе не было помехой. И чтобы мужу и родным его угождала. И чтобы детей рожала. И не хворала. Впрочем, и свекровям будущим Дежка Винникова нравилась. Хорошая девка. Крепкая. Работящая. Хоть и с норовом… Но с норовом — это тоже не так страшно, как если бы малахольной была. Правда, блажь эта, насчет монастыря… Шила в мешке не утаишь, да и не таилась Дежка от подруг, говорила: уйду в монастырь, буду петь в хоре. Но даже подруги принимали это как блажь. А старшие считали, что блажь эта пройдет, как только Дежка в возраст войдет и заневестится. Вот тогда приглянется ей какой-нибудь паренек — сразу о монастыре и забудет!
Дежку разговоры о женитьбе злили, даже шуток на эту тему она терпеть не желала. Только от мамочки и сносила.
Подружки ее частенько заговаривали о замужестве, даже Машутка, даром что рябая и глухая, — и та мечтала выйти и за богатого, и чтобы не бил, и чтобы свой был, винниковский! Гадали даже, кто раньше замуж выйдет, кого муж любить будет, а кого бить, будет ли богатый или бедный, увезет ли на чужую сторону, сколько будет детей…
Дежка в этих гаданиях никогда не участвовала. Она свою судьбу наперед знала. Она в монастырь пойдет, и никто переубедить ее не сможет, даже мамочка!
Тишина и прохлада, трепещут огоньки свечей, тускло сияют оклады икон, строго и скорбно смотрят темные, узкие, большеглазые лики, сладко пахнет ладаном… И звучит хор. И так складно, так ровно звучит, такая красота и святость в этом пенье, что душа так и взмывает ввысь, к каменным сводам церковным, и еще выше, к золотой колоколенке, и еще выше, и выше: в небесную синеву, к птицам, к облакам, к солнцу, к Богу! Поют монашки, и среди них — она, Дежка: в черном платке до бровей, тоненькая и бледная, и красивая, такая красивая, какой не бывать ей, если она в деревне останется и замуж выйдет. И поет она лучше всех! И матушка Милетина довольно улыбается ей: молодец, Дежка! Впрочем, нет, тогда ее уже не Дежкой звать будут, нарекут новым именем, потому что для этого она умрет и заново родится для жизни чистой и непорочной.
Конечно, в монастыре ей не хватать будет карагодов веселых, песен шутливых, плясок. Поплясать-то она тоже любила! Но, может быть, если она научится смирению, если осенит ее истинной святостью. Возможно, ей тогда мирских развлечений и не захочется. А сейчас пока ни одной свадьбы без нее не обходилось, ни одного праздника. Ей хотелось отпеть-отплясать уже сейчас, чтобы на много лет монастырского смирения хватило. Правда, Дежка решила, что не очень скоро в монастырь пойдет. Сначала надо матушку с батюшкой отблагодарить за то, что они ее вспоили-вскормили, вырастили и воспитали. То есть поработать как следует, пока не придет срок замуж выходить. А когда срок придет — тогда уж она в монастырь и пойдет. Тогда ведь она будет совсем взрослая и помешать ей уже никто не сможет! А может, и мешать не станут. Поймут, что для иной доли она избрана.
Если бы знала Дежка, каким путем в монастырь она придет, может, и вовсе бы отказалась от этой своей мечты!
Тяжело заболел отец. Простудился. Как раз на семнадцатое сентября, на день рождения и ангела Надежды пришелся разгар его болезни. Но день рождения отметили, как всегда, отец настоял, не хотел праздник своей младшенькой портить. Мать пирог с кашей испекла, сестры тянули Дежку за уши, чтобы росла хорошо, а потом этот самый пирог над ее головой преломили, чтобы была сытой и богатой. Приходили поздравлять родственники и соседи, мать, гордясь, показывала им приданое, которое для дочек накопила: подушки да одеяла.
Отец весь праздник на печи пролежал, душил его кашель. Мать давала ему отвары собственного изготовления: доктора в деревне не было, каждая мать семейства была сама себе лекарь, в каждом доме на чердаке сушились вязанки трав. Отварами, медом да жиром нутряным мать всегда от простуд детей своих выхаживала. И отцу скоро тоже полегчало. Может, если бы отлежался как следует, все бы и обошлось… Но крестьянин долго отдыхать не может: хозяйство придет в упадок. И, хотя подросли уже справные помощники, Василий Абрамович не желал все хозяйство на плечи детей перекладывать, тем более что по осени хлопот много — всем достанется. Он взял на себя самое, как всем казалось, легкое: свозить муку на мельницу. Чего уж там — туда и обратно отогнать телегу. Даже мешки сам не грузил, а на мельнице разгрузить помогут… Однако вернулся совсем больной, слег и уже больше не поднялся. Водички попил холодной, прямо из ручья, очень уж пить хотелось… Сам он принял ухудшение своей болезни как наказание, сказал жене:
— Вот видишь, мать, наказал Господь. Человек, как скотина, наклонкой и без креста пить не должен.
Промучившись трое суток, Василий Абрамович скончался, успев благословить детей и причаститься.
«Горе наше, горе. Мать убивалась. Помню, как причитывала она, обнимая гроб, обливая его слезами. Я от потрясения занемогла, а когда встала с постели, точно выросла лет на пять. Улетела веселость моя, я притихла. Отца похоронили, минуло мало дней, как стала я просить мать отвезти меня в монастырь. Мать не возражала. И я помню ее слова: „Видно, уж Господь Бог направил Дежку на путь праведный, истинный“. Отвезла меня мать в Девичий монастырь и отдала под заботливую руку тех старушек-монахинь, у которых мы ночевали четыре года назад. Старшая матушка Милетина уже сорок лет была монастыркой, а мать Конкордия — свыше двадцати. Тяжелым трудом они сколотили себе крошечные сбережения и выстроили келью в четыре покоя: монахини живут здесь на свои средства, это не общежительный монастырь, все работают сами для себя, и каждая по своим способностям имеет достатки; только уж очень престарелые живут на счет монастырский. Мне средства к жизни доставляли из дому.
Чтобы постричься в монахини, нужно прожить в монастыре не меньше трех лет, неся послушание, а потом сделать вклад в триста рублей. Тогда одевали в черную одежду и свершали постриг в монашеский чин. Но многие девушки несли послушание и ходили в цветных платьях по четыре и пяти лет, не имея для вклада трехсот рублей. У моих старушек была келейница Поля. Она уже шесть лет в монастыре, а все ходит в цветном: вклада не вносит. А как ей внести, когда она, бедная, к рукоделию неспособна, зарабатывать не в силах, а сама сирота. Жила она у старушек, работала черную работу и так при них и кормилась. Часто видела я у Поли заплаканные глаза: желалось ей черного платья да пострига, обительских уз навеки.
Троицкий монастырь, куда меня привезли, — в городе Курске, на Сергиевской улице. Тут же базар, трактиры, торговая суета. В базарное время и за высокие стены долетают уличный гул и гам. А в стенах обители разлита благостная тишина. Проходят, как черные тени, монахини. Неугасимая лампада мерцает в правом крыле нижнего храма, в часовне. Там, у аналоя, день и ночь дежурная монахиня читает псалтырь, там неустанна молитва к Престолу Господню об упокоении усопших.
Тоскуя по отцу, я часто забегала в часовню ставить заупокойные свечи.
— Иде же праведние упокоются, — молилась я.
Ведь молиться за упокой его душеньки и отпросилась я в монастырь.
Наше место, молодых послушниц, было при входе во храм, с левой стороны. Подле, за решеткой, тоже слева, виднелось множество остроконечных черных повязок молодых монахинь. А с правой стороны было место монахинь скуфейных, и тут же, впереди, стояло кресло матушки игуменьи. Когда мы выходили попарно прикладываться ко кресту, то повертывались к матушке игуменье лицом и кланялись ей низко, касаясь рукой земли. Все монастырские уставы нравились мне. Казалось, что в обители свято все и что грешному места тут нет. Так минул год и другой. Мои покровительницы-старушки уже поговаривали одеть меня в черные одежды, чтобы я могла петь на клиросе.
Мне тогда шел шестнадцатый. И зачем я выросла, лучше бы так и остаться мне маленькой Дежкой, чем узнать, что и тут, за высокой стеной, среди тихой молитвы, копошится темный грех, укутанный, спрятанный. Лукава ты, жизнь, бес полуденный.
А может, оттого, что больно глазаста я стала и душа забунтовала, что судьба звала меня в даль иную».
Петь в монастыре она, конечно, еще лучше выучилась. Не только так петь, как душа велит, но и слушаться матушку Милетину: так, чтобы из хора особо не выделяться, когда тот не требуется. Это в деревне хором пели так, чтобы друг друга перекричать, чтобы именно тебя лучше всех было слышно… А в монастыре иное нужно. Хор — он на то и хор, чтобы все голоса складно лились, как один единый. Чтобы на душе от этого нения становилось легко и сладко.
В общем, на пользу пошла Дежке Винниковой монастырская певческая школа. Только это одно и ничего более не осталось от «великой мечты» ее детства, за которую когда-то она готова была со всем миром сражаться…
Вышивать ее еще сестра Маша выучила, хотя монашки научили еще лучше, но только вышивание никогда отрады ее душе не давало. Скучно стало Дежке в монастыре, среди старух. Охладела ее душа к святой жизни. А тут еще и сомнения всякие. Легкой добычей стала душа ее для бесовских мирских соблазнов.
Глава 2 БЕСПУТНАЯ
I
Если бы один путь из монастыря был бы: в родную деревню вернуться и замуж выйти, как все, — нет, пожалуй, Дежка осталась бы, «укрепясь в вере». Домой возвращаться ей совсем не хотелось. Во-первых, засмеют ее винниковские: как много о монастыре говорила, как сильно хотела стать святой, а не хватило святости-то, сбежала из обители! Засмеют, непременно засмеют. Всю жизнь, поди, будут звать «монашкой»! А во-вторых, не хотелось ей быть, «как все». И замуж тоже не хотелось. Скучно это. Еще скучнее, чем монастырь. Здесь хоть какая-то красота. Да такая, что, пожалуй, и с годами не потускнеет! Здесь каждый день петь можно. А там, в деревне, там что ни год, то красота и чудесность жизнь все убывают и убывают. Дежка даже понять не могла, отчего это происходит, но ведь ясно помнила: все не так было, пока она не выросла. Мир иным был. Или — казался? Мир-то, наверное, не менялся… Она переменилась.
Нет, в деревню Дежка не вернулась бы. Ни за что. Осталась бы в монастыре, если бы не…
Если бы не нашел для нее хитрый бес нового соблазна! Новой красоты, да такой яркой и прельстительной, что перед нею сердце Дежки никак устоять не могло!
Первый шаг к славе Надежда сделала безо всякой поддержки, идя наперекор и судьбе, и всем деревенским понятиям о достоинстве и приличиях.
На пасхальную неделю в Курске была большая ярмарка, куда съезжались несколько бродячих трупп — цирковых и театральных. Огромный балаган раскидывали на Георгиевской площади. В балагане выступали, а на площади рядом с ним в палаточках показывали «чудеса» — диковинки всякие, уродцев или экзотических животных, панорамы с картинами войн и кораблекрушений.
На пасхальной неделе Дежку отпустили из монастыря в гости к сестре Дуняше, служившей в Курске, в красильне. Дежка про чудеса на Георгиевской площади была наслышана, но воочию не видела и умолила сестру сводить ее туда. Хоть и не подобают послушнице такие развлечения, но Дуняша согласилась: она в Дежке видела еще ребенка. И так понравился Надежде балаган, что она самовольно пришла к директору и попросилась в акробатки. И только примерив голубой в блестках наряд, по деревенским понятиям, совершенно непристойный, она усомнилась в своем решении. А когда к ней клоун приставать начал, испугалась. А тут и мать за ней пришла, увела из балагана свое непутевое чадо.
Но первый шаг к будущей славе был уже сделан в тот миг, когда она переступила порог «балагана». Не акробаткой ей стать хотелось в самом-то деле, не по канату ходить: привлекал ее мишурный блеск нарядов и особенно публика. То, что она будет выступать. И на нее будут смотреть. В ней уже тогда пробудилась актриса… Ведь исполнение ее народных песен в далеком пока еще будущем будет поражать не только переливами дивного голоса, но и необыкновенным актерским мастерством. Именно актерский талант, каким-то чудом зародившийся в деревенской девочке, не давал ей спокойно прожить свою жизнь, как мать с отцом жили, как сестры и браг…
Акулина Фроловна от стыда за дочь плакала:
«— И за что наказал меня Господь? Терпеть такой срам. Лучше бы прибрал тебя Бог. Ишь что вздумала: из святой обители да в арфянки. Что, тебя лукавый, что ли, осетовал?..
Мне стало стыдно, что мать на улице плачет, шумит, я тихонько отстала от нее, нырнула в ворота. А она думала. Дежка за нею идет, и размахивала руками, и все упрекала. Я выглянула. Мать шла сгорбившись, убитая, жалкая, голова дрожит. И заглотала я горькие слезы. „Да что же делаю с мамочкой, с милой моей, ненаглядной " Побежала, обняла ее, и в слезах обещала ехать в деревню, домой, куда хочет, только в монастырь не вернусь. "Но, мамочка, будь спокойна, я Бога не потеряла. Бог крепок в моей душе ".
Мы утихли. Мать, утерев слезы, стала рассказывать, как меня отыскали. Дуня, хватившись, пошла в монастырь, а там меня нет. Заволновалася Дуня и ехавшему в село Винникова Афанасию наказала, чтобы мать обязательно завтра же была в городе. Мать — в Курске и, узнавши тут, что Дежка пропала, заголосила. Да сестре кто-то сказал, что видели Дежку у балаганов. Мать туда, расспрашивая всех о девочке Надежде. Тот выпивший клоун ей и указал, что, кажется, такая тут есть.
Забилась я у сестры в угол и плакала от стыда. Теперь мать меня успокаивала:
— Не плачь, Дежка, вот поживем в деревне до июля, а там тетка Аксинья едет в Киев на богомолье, я тебя с ней отправлю, поклонишься святым угодникам, в пещерах побываешь, заодно и у сестры Настеньки. Она уже три месяца в Киеве, ее мужа туда в солдаты угнали.
Лукава ты жизнь, бес полуденный. Тут же в горячей моей голове пронеслось: "Вот хорошо — в Киев. Там, верно, тоже есть балаганы — уйду в балаган""".
Знала бы Акулина Фроловна мысли своей младшей дочери — ни за что не пустила бы ее, непутевую, в город! Но мать думала, что Дежка искренне раскаялась в содеянном и больше страшной ошибки своей не повторит. Богу свечку поставила за то, что не случилось ничего по-настоящему страшного и позорного с ее девочкой в балагане: ведь могло случиться, могло! Помолилась горячо о том, чтобы винниковские соседи ни о чем не прознали. Дунечке сурово наказала: молчать о случившемся! А то после такого Дежку никто и замуж-то не возьмет: не поможет ни работоспособность ее, ни вполне приличное по винниковским меркам приданое… Ведь подумают: не соблюла себя! И правильно подумают, сама Акулина Фроловна так думала, когда уводила Дежку из балагана… Побывать в таком зазорном месте — и соблюсти чистоту: Божье чудо, никак иначе! Но винниковские в чудо могли не поверить…
Пока они думают, что Дежка в монастыре. Акулина Фроловна потом им скажет, что забрала сама Дежку из монастыря, пожалев ее юность, что Дежка монастырь покинула, склонившись на уговоры матери. Грех, конечно, лгать, но чего не сделаешь ради любимого дитяти! А Дежка — непутевая — была у Акулины Фроловны самой любимой. Так всегда бывает: кто из детей больше тревог матери доставляет, того и любят больше. К тому же Дежка — младшенькая… Последыш, Божий дар… Ну оступилась. Глупость сделала. Надо защитить ее теперь, хоть даже и солгав!
А пока Акулина Фроловна решила, что лучше Дежке в Курске с сестрой пожить и поработать тоже здесь, в городе. В конце концов, времена так изменились, что теперь не только парни, как встарь, но и многие девушки в город на заработки уезжают! Горничными нанимаются, кухарками или на фабрику куда… Скопит себе на приданое — и возвращается. Да что там девки! Молодки тоже: у кого молока много, нанимаются в кормилицы. За молоко здоровое, деревенское хилые городские барыньки хорошо платят!
Конечно, в городе-то девки от крестьянской работы отвыкают… Встречаются, конечно, такие сознательные, что зиму и весну проводят в городе, деньги зарабатывают, а лето и осень дома, семье в поле помогают. Но таких мало. Чаще затягивает городская жизнь… Но в конце концов, может статься, Дежка за городского замуж выйдет! За извозчика пли за приказчика — они, говорят, богато живут. Да и банщики, и разносчики — мало ли в городе хороших мужиков, способных семью прокормить? Может, и не придется Дежке в Винннково возвращаться. Она ведь на других девок винниковских совсем не похожа: то в школу просилась, то в монастырь, а то в балаган уйти надумала! Нет, для простой деревенской жизни она не создана. Заскучает еще, в деревне-m И в городе тоже приличные люди живут. Поумнеет же она когда-нибудь настолько, чтобы мать могла не бояться за нее и не ждать новых безумств? А пока юна да глупа — за ней присмотрят. И сестрица Дунечка, и другие добрые души найдутся.
II
Первой доброй душой, решившей помочь непутевой девчонке, стала экономка миллионера купца Гладкова, кроткая и богомольная старая дева Ксения Ивановна. Она часто выслушивала слезные жалобы Акулины Фроловны на проделки младшей дочери: "Настырная такая, что даже — прости Господи Дежкины прегрешения — в ахтерки сбежала". Ксения Ивановна решила горю помочь и порекомендовала Дежку своих хозяевам, хвалила, уговаривала взять в услужение. Дежке хотелось домой, в деревню, но спорить она не посмела, не желая еще сильнее огорчать свою и без того несчастную мать.
Дежку приставили к дочери Гладкова, Наденьке, ее ровеснице и тезке. Барышня вид имела цветущий, но, согласно моде того времени, старалась казаться барышней хрупкой, склонной к обморокам и простудам. У Дежки с ней установились самые дружеские отношения. Впрочем, и другие члены семьи Гладковых тоже относились к молоденькой горничной по-доброму. Только сам хозяин, Николай Васильевич Гладков, огорчал Дежку: "Высокий и грузный купчина, человек был он неплохой, но имел привычку досадную: как ни пройдет мимо, обязательно ущипнет". Впрочем, Дежка не оскорблялась на эти щипки, а удивлялась: "Барин, а щиплется, неужели все они таковы?"
Летом Гладковы выехали на дачу, в имение, Дежку взяли с собой, и там, купаясь в реке, она простудилась. Как раз в ту пору часты были случаи дифтерита, и Дежку поспешили отослать в Курск, в больницу, откуда она через неделю уехала домой, к матери. Мать радовалась. Сестрица Дунечка служила в городе, сестрица Настенька вышла замуж и жила в Киеве, брат Николай все дни проводил в поле, только сестрица Маша дома, но она была по характеру мрачной, неразговоривой — не то что веселая Дежка.
"Мои винниковские подруги уже невестились, держали себя как взрослые и ходили в карагодах при старших. Помню, как-то вечерком, когда я сидела с матерью под березой, у нашей избы, подошел к нам высокий человек. Присмотревшись, я узнала в нем Сергея Егорыча. Был он из разорившихся помещиков, опустился и стал чем-то средним: ни барин, ни мужик. На деревне он славился своей брехней, так его и звали: Плетень.
— Ну, пошел плетни плесть.
Сергей Егорыч был человек молодой, тихий и вежливый; играл хорошо на гармонии, и никогда никто не видал его пьяным. Он ступил к нам, мать чего-то смутилась, а Плетень пошел плесть Бог его ведает небылицы какие, и Надеждой Васильевной меня называл, и просил погулять с ним на выгоне. "Вот тебе, здравствуйте, с чего вдруг я стала Надеждой Васильевной? — посмеивалась я про себя. — И почему мать так смутилась?" Сергей Егорыч вскоре ушел, и тогда оказалось, что это он приходил свататься и что мать, напуганная моими проделками, была готова отдать меня за Плетня замуж. Мать засмущалась, заговорила, что Ягорыч человек неплохой и женишок — чести приписать. Я пожелала, чтобы сама Акулина Фроловна пошла за Плетня замуж, а я не пойду: наотрез отказала".
Отказала Дежка и следующему своему соискателю, учителю Василию Гавриловичу. Мать с горя едва не слегла. Так ей хотелось дочь непутевую замуж выдать, на другие плечи — мужские, сильные — переложить ответственность за ее будущее благополучие, теперь казавшееся все более и более сомнительным.
III
Киев поразил Дежку огромными масштабами и своей "европейскостью" — сколько здесь было вывесок на иностранных языках, сколько диковин! И одевались здесь барыни особенно, не так, как в Курске. Да и вообще все было не так… В Киеве жизнь по винниковским меркам была "совсем столичной". И развлечений для молодых куда как больше, чем в строгом, богобоязненном Курске. Но даже в Киеве Дежка скоро соскучилась. Не то чтобы соскучилась: нет, развлечений здесь хватало, да и сам город, что ни день, удивлял ее новизной, и привыкнуть к нему Дежка не смогла бы еще очень долго… Но в Киеве она еще острее почувствовала свою "деревенскость". Простоту свою и скромность.
Вот идет она — темное платье в крапинку, розовая косыночка, свежий румянец, тяжелая коса змеей по спине вьется, — а мимо, поскрипывая рессорами, коляска какой-нибудь барыньки… Только пыль из-под копыт, из-под колес — и Дежке на юбку! А барынька разлеглась на подушках, от солнца кружевным зонтиком укрылась, и наряд у нее — ленты, вышивка, аппликация, и шляпка — будто букет, с бархатными цветами и пушистыми перьями, а из-под шляпки — тугие золотые локоны, и румянец такой яркий, что натуральным он уж никак не может быть…
То есть это вначале Дежка думала, что румянец у барынек — натуральный. Дивилась их красоте. Но потом новая подружка Наденька объяснила ей, что не румянец это, а помады особые, которыми барыньки лицо покрывают: белая помада — для белизны, розовая — для румянца, и красная еще есть — для губ. Надя сводила даже Дежку в галантерейный магазин, чтобы показать, как там эти помады лежат в коробочках. И локоны, по словам Нади, у этих барынек тоже чужие. Покупают на локоны девичьи косы, платят золотом, а потом француз-куафер волосы эти особой краской в золотой цвет покрасит, завьет… И сделает: или парик (что-то вроде волосяной шапки, Дежка видела такой в окне парикмахерской, на восковом манекене), или просто "бандо", которые полулысые барыньки на затылок и виски шпильками прикрепляют. А некоторые ленятся "бандо" на голову крепить и прикалывают чужие локоны прямо к шляпке. Надя рассказывала, будто видела своими глазами, как в ветреный день с головы одной барыньки слетела шляпка вместе с локонами и покатилась по мостовой. Вид у барыньки был препотешный! Надя всегда смеялась, когда рассказывала… Дежка тоже смеялась вместе с ней. Но в глубине души у нее зрело глубокое недовольство жизнью. Пусть у нее и коса своя, и румянец свой! Зато барыньки — в шляпках, под зонтиками, в колясках! А Дежке только пыль из-под колес достается…
Для другой девушки это чувство стало бы "ощущением социальной несправедливости" и, возможно, толкнуло бы ее на революционный путь: в литературе доперестроечных времен много было таких историй… И в реальной жизни начала XX столетия много.
Но у Дежки Винниковой это глухое внутреннее недовольство своим положением переросло в желание новой жизни, знакомое ей еще по монастырским временам. Захотелось чего-то такого, такой красоты и такого чуда, чтобы даже эти барыньки в шляпках и с накладными локонами ей, Дежке Винниковой, позавидовали! Чего-то особенного… Совсем нового… Как балаган. Только чтобы лучше, потому что в новой киевской жизни своей Дежка поняла все убожество того балагана, где она едва не осталась.
Поселилась Дежка у сестры своей Настеньки. Работать пошла в прачечную неподалеку, где в скором времени подружилась с там же работавшей родственницей хозяйки, бойкой девицей Надей — опять свела ее жизнь с ровесницей и тезкой.
Но и второй шаг к Большому Искусству Дежке Винниковой тоже пришлось сделать самостоятельно.
"Надя не раз хвасталась, что у нее есть знакомые студенты и артисты из сада "Аркадия" и что, если я захочу, мы можем вечером пойти в сад, а билеты нам достанет артист Волошенко. Пойти в сад, где музыка, — вот чудеса, я просто стала преклоняться пред Надей. Еще бы, такие знакомства: студенты, артисты. Наконец день желанный настал, и в обществе студентов мы отправились в сад "Аркадия". Разноцветные гирлянды фонариков украшали вход и аллею сада. Гремел военный оркестр, сновала нарядная толпа, и, кажется, одна только я была в косынке, а все в шляпках. Это меня немного смущало. На открытой сцене, когда взвился занавес, я увидела тридцать дам в черных строгих платьях с белыми воротниками. Дамы стояли полукругом, все они казались мне красавицами — какие прически, какой цвет лица. И вдруг раздался лихой марш:
— Шлет вам привет Красоток наш букет, Собрались мы сюда Пропеть вам, господа, Но не осудите. Просим снисходить, А впрочем, может быть, Сумеем угодить. Беззаботное веселье, господа, Вот в чем заключается жизнь наша вся. Где играют, пьют, Пляшут и поют, Нас всегда найдешь ты Тут, как тут. Нам грусть-тоска — все нипочем, Мы веселимся и поем. Упрек людской — лишь звук пустой. Довольны мы своей судьбой.Волощенко, встретивший нас еще у входа с билетами, теперь спросил, нравится ли нам хор. Он сказал, что ест мы захотим, то можем в хор поступить. "Еще бы не нравиться, еще бы не хотеть — да это лучше балагана", — думала я. Тут же в саду мы и решили не откладывать в долгий ящик: Волошенко завтра придет за нами и поведет к хозяйке хора знакомиться.
Хозяйка хора, Александра Владимировна Липкина, высокая, с гордой осанкой, гладко причесанная, без всяких румян и белил, мне очень понравилась. В квартире ее было очень уютно, по-семейному: встретила нас чистая старушка в белом чепце — мать Ачександры Владимировны, бегала маленькая девочка, ее племянница, у образа горела лампада. Александра Владимировна понравилась нам. Мы понравились ей. Мы условились завтра прийти за авансом, заказать себе форму: черное и белое платья, а также попробовать голоса. Мы с Надей были в восторге и без долгих слов решили тихонько у драть: я — от сестры, Надя — от тетки. Александре Владимировне мы, конечно, не сказали, что от родных уходим тайком: боялись, что не возьмет.
На другой день в зимнем зале "Аркадии " происходила моя первая репетиция, за пианино сидел Лев Борисович Липкин, а вокруг него стоял хор. Помнится, разучивали "Марш-пророк".
Когда мы вошли, Лев Борисович сказал:
— А ну, две Надежды, покажите, какие у вас голоса.
Мне было стыдно: все разглядывали нас. Липкин дал аккорд, я взяла дрожащим голосом ноту.
— Смелей, смелей.
Я взяла смело.
— Ого, хорошо.
В уголке сидела дама в черном платье. Липкин позвал ее.
— А ну, Люба, спой свое соло, пусть Надя послушает, она может петь с тобой контральтовую партию в "Пророке".
Люба откашлялась.
— Ангел-хранитель, укажи мне спасенье, — вдруг рванула она, — мой покровитель, дай утешенье. Сердце уныло в горьком томлении, кровь вся застыла от упоения.
Она фальшивила, но у нее был не голос, а голосище, я даже оторопела. А Липкин рассердился:
— Фальшь, фальшь. Ну, дуб ты этакий, повтори еще. А ты, Надежда, слушай, запоминай.
Люба пропела снова. Мне дали написанные слова, а мотив я легко запомнила и, к большому удовольствию Льва Борисовича, пропела соло без ошибки.
— Вот и прекрасно, — радовался он. — Теперь Люба не собьется.
А у Нади голоса не оказалось.
На сцене репетировали какие-то танцы, и нас послали туда, к руководительнице. Ее также звали Надежда, по фамилии Астродамцева. Скромно одетая, бледная женщина встретила нас словами:
— Ну, тезки, покажите ваши таланты. Вот ты, станцуй гопака, — обратилась она к Наде.
Та протанцевала, ее одобрили. Настала мой очередь.
— Сделай так, — сказала Астродамцева и показала мне па.
Я попробовала, но вышло что-то плохо: смутил меня "гопак". У нас в деревне эта фигура называется "через ножку", и девушки у нас никогда так не прыгают, они танцуют плавно, а прыгают через ножку только парни. Но меня заставили пробовать именно "через ножку", которая тут называлась па-де-бас. Астродамцева покрикивала, чтобы я не держала рук перед носом, а отбрасывала их широко по сторонам. "Ну хорошо, — подумала я, — отбрасывать — так отбрасывать", — и так размахнулась вправо, влево, что кругом засмеялись, а Астродамцева подскочила:
— Ну ты, деревня, чуть мне зубы не вышибла. Но толк из тебя, вижу, выйдет.
В хор я была принята. Нам положили восемнадцать рублей жалованья в месяц на всем готовом. А что делалось после нашего бегства дома, мы не знали, да и не думали: нас захватила новизна.
В хору все певцы были женатыми, и делился хор на семейных, на учениц и хористок, и на дам, располагавших собой, как им заблагорассудится. Семейные выносили всю тяжесть программы. Это были потомственные и почетные труженики эстрады. Они выступали по нескольку раз в вечер, так как наш директор, Липкин, должен был давать в "Аркадии" программу в двенадцать-пятнадцать номеров. Учениц в хору было шесть, все подростки, в том числе и я. Нас обучали для капеллы и держали в ежовых рукавицах: девчонок никуда не пускали самостоятельно по городу. После программы кормили нас ужином и гнали спать, хотя, правда, программа кончалась в два часа ночи, но по-ресторанному это рано.
В первый раз надела я черное платье и в модной прическе вышла с хором на сцену, когда пела с Любой соло в "Пророке".
Волнение мое было велико. Я стояла справа, первой, и боялась, как бы мне от волнения не свалиться в оркестр. В голове шум, звон — уж какое тут соло, даже не помню, когда мне выступать, вся надежда на Любу. Тут меня ободрил выразительный взгляд Льва Борисовича, я поняла, что вступать скоро. Тут же случилось чудо: Люба вступила вовремя, я за ней. Лев Борисович улыбался из-за пианино: ну, значит, ничего. Действительно, мой первый дебют сошел, слава Богу, хорошо".
Но вскоре после дебюта настигла Дежку пренеприятнейшая новость: оказывается, труппа отправлялась на гастроли — на две недели в Курск и оттуда в Царицын, на Волгу. Пришлось падать в ноги Липкиной и признаваться в том, что из дома сбежала, что в Курске показываться страшно… Впрочем, вопреки опасениям Дежки, Липкина ее не прогнала, а только посмеялась. Дежка посоветовалась с подружкой Надей, и они решили, что в Курск со всеми вместе Дежке поехать нужно, но придется жить в гостинице затворницей, на улице не показываться, а уж такого, чтобы родственники Дежки явились на спектакль, — нет, такого случиться не могло, так что Дежка могла ощущать себя в полнейшей безопасности.
"Знаю, я поступила с родными жестоко, не написала им о себе. Сама в душе я страдала, но боялась написать, чтобы меня не искали. С какой тревогой я садилась в поезд, который увозил наш хор в Курск. Помню, среди ночи, в вагоне, я проснулась. Поезд стоял. Издали наплывал бархатный звон, и я сразу узнала родные колокола: мы приехали в Курск в три часа, на рассвете, когда там к ранней гудят колокола. Побежать бы по полям, через лесок, мимо деревенского храма, прямо в нашу избу, где еще отдыхает от трудов своих мать, обнять бы родную, шепнуть "мама, я здесь" и заглянуть в знакомые уголки, и помолиться у креста на отцовой могиле.
Рано утром мы переезжали через город в "Европейскую гостиницу", и по дороге я вспомнила, что моя сестра Дуня обзывала эту гостиницу "непристойным местом". Как-то раз, когда я была еще в монастыре, шли мы с Дуней по главной улице и встретили двух дам, очень ярко и нарядно одетых. На мой вопрос, кто они, сестра с презрением ответила, что это арфянки из "Европейской гостиницы", и даже плюнула. Понятно, как велико было мое опасение, чтобы кто не увидел, как я буду входить в "непристойное место".
Но переезд прошел благополучно. Разместили нас, учениц, в большой комнате, а рядом устроились семейства артистов и сами хозяева хора. Более шумный народ поселился от нас далеко, в другом конце коридора. Я кроме репетиций — никуда, а над голосом работала усердно. Уже мне пророчили, что из меня выйдет хорошая капеллистка.
Но не надолго хватило терпения отбывать добровольный арест и сидеть безвыходно дома. Как преступника тянет к месту преступления, так и меня тянуло погулять по Московской улице да заглянуть в монастырский двор, откуда когда-то удрал Паучок.
По мудрым советам подружки Нади я надела для этой прогулки шляпку с большими полями и густую вуаль, одолжив и то и другое у наших певиц. Когда я так нарядилась и посмотрела в зеркало, то собой осталась довольна: узнать меня трудно, я сама не узнала в зеркале Дежку. Шляпу я надела впервые, и от особенно меняла мое лицо. Так мы вышли с Надей из гостиницы и поднялись на гору, к Московской улице. Никто из знакомых не встретился нам по пути. Пауки на вуальке мешали мне смотреть, и я, не привыкшая к такому жестокому украшению, откинула вуаль с лица. С волнением миновали мы дом, где живет сестра. Все благополучно. Но, когда повернули обратно, вдруг вижу, из ворот выбежала сестра Дуня в большом платке. По-видимому, куда-то спешила. Мы повстречались. Мельком взглянув на меня, близко, слегка задев локтем, прошла она. И вот, словно что вспомнив, повернула, забежала вперед, заглянула мне под шляпку и побледнела.
— А-а, барышня, пожалуйте-ка домой.
Схватила меня за руку, повела за собой. Я растерялась, сестра Дунечка дрожала, она думала, что ведет за собой погибшее создание в шляпке. Я понимала, как мне будет трудно убедить сестру, что вовсе не такая я скверная и что, хотя "Европейская гостиница " — место не очень пристойное, но все же и там есть уголок чистоты. Дуня привела меня в кухню, сорвала с меня шляпку, бросила об пол, строго крикнула:
— Сиди!
И быстро ушла в мастерскую к хозяину. Я сообразила, что она хочет взять отпуск, чтобы немедленно отправиться со мной в деревню, и решила действовать. Подняла с полу эту несчастную певичкину шляпку и бросилась из кухни на двор. Выбежала на улицу, крикнула извозчика, сунула ему рубль:
— Гони что есть духу, в "Европейскую".
Извозчик, верно, не удивился, что ему так щедро заплатили, раз "барышня" из "Европейской". Он домчал меня скоро. Погони не было, и я успокоилась, но швейцару наказала:
— Если будут спрашивать Винникову, скажи, что такой нет.
Швейцар мне подмигнул:
— Понимаю.
Я больше на улицу — ни ногой. Через неделю уедем в Царицын — и делу конец. А с Надей, подругой, я крепко поссорилась — зачем убежала, когда сестра потянула меня за собой. Накануне отъезда в Царицын, после репетиции, спускалась я, помню, вниз по лестнице к себе в комнату, беспечно напевая только что разученную песню. Но вдруг оборвался голос, я сама от неожиданности поскользнулась и чуть не покатилась со ступенек: в дверях гостиницы стояла сестра Дунечка и молча смотрела на меня. Бежать было некуда. Растерянно я стала приглашать ее зайти.
— Я — в этот. Ополоумела ты, непутная, — сказала Дуня дрожащим голосом, — ты сама выйди, мать плачет, сейчас же иди сюда.
Видно было, что разговаривать с ней невозможно. Казалось, она даже была готова меня побить. Я вышла на улицу и увидела мать: она стояла, сгорбившись, такая жалкая. По исхудавшему лицу текли слезы. Плакала и Дуня.
— Мамочка, ну пойдем ко мне, я покажу тебе, где живу, — просила я мать, но она не слушала, упрекала:
— И в кого ты уродилась? Родила тебя на свое великое горе. Глаза б мои не глядели, в какое место пошла. И как тебя земля носит.
Корила меня, а слезы лились по морщинистому лицу.
— Пойдем, посмотри, мама, пойдем, — молила я.
Мать жалобно посмотрела на сестру. Та молчала.
— Ну пойдем, — вздохнула мать. — А ты, Дуняша?
— Я не пойду.
Привела я мать в комнату Александры Владимировны. Там у образов горела лампада. Бабушка в белом чепце сидела в кресле, тихо играя с внучкой. Мать этого никак не ждала. Она помолилась на образа, огляделась:
— О, да тут и старушка, Божий дар, и лампадочка, знать, не совсем Бога забыли.
Мать любовно посмотрела на меня.
Вошла Александра Владимировна и совсем мать мою покорила:
— Акулина Фроловна, ваша Дежка с талантом. Мы ее вымуштруем, и она будет хорошей артисткой.
— Да что с ней поделаешь? Все равно убежит. Видишь, какая она востроглазая. Вот пойду с батюшкой да с наставницами посоветуюсь. Уж очень большой грех — быть актеркой. Но, видно, с Богом-то и везде можно жить. А ты, Дежка, что скажешь? Можно тут жить и душу не загубить?
Я сказала, что прошу оставить меня здесь, а сохранить себя можно везде, это зависит от самого человека.
— Так-то оно так, только если б отец твой был жив, он бы с тебя кожу спустил за этакие выдумки.
Сидела мать у нас долго и совсем успокоилась.
— Ну, вот что, Александра Владимировна, бери ты ее, — сказала она под конец, — да бей ты ее, если слушаться не будет. Вот перед Богом, отдаю тебе Дежку.
И заплакала, и благословила меня.
— Слава Богу, что хоть нашлась, а то ночи не спала, все думала о тебе, непутевая ты моя Дежка.
Слава Богу, гора с плеч. Мать дозволит мне ехать в Царицын, и в день отъезда она и Дунечка провожали меня на вокзале. Мать там сказала, что советовалась с матушкой Милетиной, а та ей ответит: всякому свое на роду написано. Мать меня пожурила:
— Горевала больно матушка Мелитина, что ты к ней не зашла.
Я передала Милетине мой послушный поклон и прощальный привет".
Так в шестнадцать с половиной лет, с благословения матери, при поддержке доброй наставницы, начала Дежка свою артистическую карьеру.
IV
В Царицыне снизошло на Дежку озарение, поняла она, в чем для нее состоит главная радость бытия:
"…я впервые увидела нашу милую Александру Владимировну на сцене. Я и не знала раньше, что она так задушевно и просто пела народные песни. Немудрено, что публика ее встречала любовно. Она и не знала, с какой жадностью, с каким горячим восторгом я слушала ее пение.
Бывало, сидит моя мать за прялкой и поет тихо, а у самой слезы. Пела она для себя, уходила в печаль песни, а я, бывало, выбегу на полянку в вешний день, осмотрюсь кругом на Божий мир, и нахлынет вдруг на душу пресветлая радость, и зальет сердце счастьем. И не знаешь, откуда такое счастье взялось, кого благодарить, какими словами, — душа возликует, и сама зальешься радостной песней. А слушают только цветики-травы, светлый простор, да птицы щебечут, точно наперегонки славя Того Деятеля Радостей, Кто наполнил всю вселенную такой красой.
Слушая Александру Владимировну, я думала, что хорошо радоваться и горевать с песней наедине, но еще лучше стоять вот так, перед толпой, и рассказывать людям про горькую долю-долюшку горемычную, про то, как "гулюшка-голубок, сизы перья воркунок" подслушал тоску девичью, что отдают за постылого. А то завести людей во зеленый сад, где "поют-рыдают соловушки", а то позвать в хороводы, в карагоды веселые. "Вот, если бы я могла стоять на месте Александры Владимировны". Я слушала ее песни, а сама горела".
Вообще мнение о кафешантанных певицах в народе было невысокое, да и то сказать: более чем половина этих барышень главной мечтой своей видела не служение высокому искусству и даже не славу, а отыскать богатого покровителя, чтобы любил, наряжал, в коляске катал и не принуждал выходить на опостылевшую сцену. Многие и приходили-то в театр с такой целью, соскучившись работой швеи или горничной. И в каждом приглашающем "спеть для него в отдельном кабинете" видели того самого богатого покровителя и на все готовы были, лишь бы не упустить своего счастья. В результате чего падение происходило стремительно, затем подобные случаи учащались, и нередко свой творческий путь кафешантанные певицы заканчивали в каком-нибудь провинциальном "веселом доме" или попросту на панели. Так что дурное мнение о кафешантанных певицах в целом было вполне оправданным… Но не раз и не два случалось, что Дежка, бедная, чистая Дежка, до сих пор подсознательно верившая, что ежели кому из "ребят" чрезмерно довериться, то "и глазки потухнут, и голосок пропадет" — Дежка тоже страдала от этого общераспространенного мнения.
Особенно первый раз был страшен. Ей тогда только-только сравнялось семнадцать, но и в зрелом возрасте, уже побывавшая замужем, много любившая, опаленная и страстью, и грехом, она с отвращением, стыдом и мукой вспоминала этот случай.
В Царицыне это было, они тогда пели в ресторане Ракитского. И программа-то была обычная. И одеты были в обычные черные свои платья с белыми кружевными воротниками. В общем, все — как всегда. Дежку, правда, поставили одной из трех солисток: исполняли какую-то песню "на голоса" — ее голос был самым низким, а сама она была из солисток самой юной… И самой привлекательной, за счет деревенской своей полноты и свежести. После концерта некоторым из "кафешантанных барышень" присылали букеты цветов и коробки с конфетами или пирожными, к которым прикреплялись записочки… После прочтения коих удостоенные цветов "барышни" быстренько пудрились, подправляли прическу, брызгались духами и — исчезали на всю ночь. А Дежку и нескольких столь же юных Александра Владимировна спать гнала.
А в тот вечер, не успели певицы разойтись, появился за кулисами высокий худой старик, по одежде — купец, борода до пояса, весь облик такой степенный, лицо благородное… Подошел к Дежке, заговорил ласково, называл "дочкой" и очень хвалил ее пение. Дежка от похвал его, конечно, расцвела. И, когда старик принялся просить ее спеть для него — для него одного и чтобы без хора, по-простому — она, ничего дурного не заподозрив, согласилась.
Как назло, Александры Владимировны рядом не было. А из тех, кто был, никто и не подумал предостеречь девочку. Думали, наверное, что она сознает вполне, на что идет и ради чего. Старик-то одет хорошо был, и на жилете блестела цепь от часов — золотая, толстенная, с брелоками.
Сначала старик хотел, чтобы Дежка к нему домой ехала и там пела, но Дежка сказала старику, что хозяйка хора никуда уезжать строго-настрого не велит. Тогда старик заказал кабинет в том же ресторане. Принесли фрукты, пирожные, вино. Пирожные такие Дежка прежде только в витринах кондитерских магазинов видела, да и фруктов экзотических, персиков да винограда, пробовать ей не доводилось: разве что мать принесет с ярмарки фунтик засахаренных винных ягод да и раздаст каждому по ягодке, как конфеты.
Старик угощал, как и положено доброму хозяину-хлебосолу. Особенно вина выпить уговаривал. Но Дежка больше стаканчика никогда не пила. Стаканчик красненького даже матушка Акулина Фроловна по праздникам выпивала… Наконец, Дежка решила, что пришло время отблагодарить за угощение, да и час был поздний, устала она. Спросила: каких песен хочет гость — русских, цыганских или опереточных? Вместо ответа старик накинулся на нее, обхватил жилистыми руками, принялся тискать, целовать, полез за корсаж и все бормотал: "Я ж озолочу тебя, дура, озолочу, я богатый!" Дежка с перепугу даже голоса лишилась, но отбивалась яростно. Как ни силен был старик, с крепкой деревенской девчонкой сладить не удалось. Он еще силился удержать ее, говорил, что квартиру ей снимет, платьев накупит, денег даст… Но тут Дежка опомнилась от первого испуга и, видя, что из порванного лифа у нее виднеется голая грудь, заголосила что было сил! Крики ее переполошили людей в зале, в дверь кабинета принялись стучаться. И тогда старик побагровел, полиловел даже как-то от ярости и принялся хлестать Дежку по щекам, бить кулаками по голове, кричал всякие слова бранные, половину ид которых Дежка даже и не понимала… А потом распахнул дверь и вытолкнул растерзанную, зареванную Дежку прямо в зал! Да еще напоследок кулаком по спине стукнул и еще раз, уже прилюдно, "дурой" обозвал! Дежка, плача, сжимая обеими руками разорванный лиф, опрометью бросилась прочь. А вслед ей несся громовой хохот — весь зал смеялся! И она не знала даже: над ней смеются или над стариком.
После всю ночь она уснуть не могла. Трясло ее, плакала от обиды и отвращения. Все вспоминались поцелуи старика… Сухие, будто мертвые, губы и колкая борода… "Кафешантанные барышни" утешали ее, как умели, наливали ей валериановых капель, давани горячего молока. Кто-то, конечно, позлорадствовал, кто-то назвал "дурой, счастья своего не увидавшей" — старик-то был богатый, всем известный купец, баржами владел! Но в основном даже самые падшие жалели девчонку, попавшуюся по деревенской наивности своей.
На другой день сам Ракитский, хозяин ресторана, выговорил Александре Владимировне за поведение ее "барышни", оскорбившей одного из самых почтенных посетителей ресторана. Александра Владимировна извинялась, оправдывалась: дескать, девочка глупенькая, неопытная, не поняла намерений гостя, испугалась… Но Ракитский все равно остался недоволен. И порекомендовал Александре Владимировне впредь брать в хор только "понятливых" барышень.
А Дежка в этом ресторане больше не пела. Она вовсе нигде не пела, весь день в номерах отсиживалась, чиня подругам платья и белье, покуда Липкины нового контракта с каким-то театриком не подписали. Не могла она выйти к этим людям, среди которых мог быть старик… Или те, кто видел, как убегала она в порванном платье и с растрепавшимися волосами…
После этого случая у нее даже мысль была — домой вернуться. Но потом Дежка поняла: нет пути назад. Не примут ее теперь ни в монастыре, ни в Винникове. Только родных позорить и себя на муку обречь. Для винниковских она теперь — падшая.
"Арфянка". Если даже сестрица Дунечка подозревает в дурном… Нет, возвращаться ей нельзя. Да и не сможет она жить прежней жизнью после всего, что пережила и перевидала! Она же в неделю без хора соскучится!
И она осталась. Только впредь осторожней была и все попытки любезностей со стороны незнакомых мужчин пресекала сразу же, вне зависимости от того, сколь порядочными и благонамеренными эти мужчины ни выглядели. И цветов не брала. И конфет не брала. Ничего не брала. Накрепко ей стариковы фрукты с пирожными запомнились…
"Я теперь вижу, что лукавая жизнь угораздила меня прыгать необычайно: из деревни в монастырь, из монастыря в шантан. Но разве меня тянуло туда чувство дурное? Когда шла в монастырь, желала правды чистой, но почуяла там, что совершенной чистоты-правды нет. Душа взбунтовалась и кинулась прочь.
Балаган сверкнул внезапным блеском, и почуяла душа правду иную, высшую правду — красоту, пусть маленькую, неказистую, убогую, но для меня новую и невиданную.
Вот и шантан. Видела я там хорошее и дурное, бывало мутно и тяжко душе — ох, как! — но "прыгать "-то было некуда. Дежка ведь еле умела читать и писать. Учиться не на что. А тут петь учили. И скажу еще, что простое наставление матери стало мне посохом, на который крепко я опиралась: "голосок" мне был нужен, да и "глазки" хотелось, чтобы тоже блестели…
Из Царицына мы потянулись в Астрахань. В самом конце сезона, когда мы собирались уже на зиму в Киев, в "Аркадию", у нас случилось несчастье: милую Александру Владимировну украли, ну да, просто украли. Только много позже выяснилось, что ее украл богач, перс, и увез на своей яхте в Баку. Лев Борисыч Липкин, горячо любивший жену, едва не кончил самоубийством, дамы вовремя досмотрели. Об Александре Владимировне не было ни слуху ни духу, и без нее мы перебрались в Киев".
Следов Липкиной так сыскать и не удалось. Никогда не узнала Дежка, как прожила и где окончила свои дни ее добрая наставница. Это было печально, страшно, но совсем неудивительно для того времени.
Случалось, даже барышень из богатых семей, отдыхавших на собственных дачах в Крыму, похищали и продавали в турецкие гаремы. Сейчас это кажется романтикой голливудского кино, а еще в начале нашего века было реальностью. Иногда увозили силой. Иногда сманивали деньгами. Случалось, обещали какую-нибудь хорошенькую блондинку из "падших" пристроить в пользующийся "хорошей" репутацией "веселый дом", а отправляли куда-нибудь за море, в вечное рабство… А бывали и "профессиональные соблазнители", обольщавшие вполне приличных барышень обещанием жениться, увозившие вроде как под венец и к взаимному счастью, а на самом деле к перекупщику, который вывозил девушку за границу: в обычный бордель таким путем женщину поместить было невозможно — бордели контролировались полицией, и силой никого там удерживать не смогли бы. А вот довезти одурманенную морфием девушку до морских берегов и погрузить на яхту… Сколько было таких случаев! Русские женщины были красивы и пользовались успехом у поставщиков "живого товара" в гаремы Самарканда, Бухары, Хивы, Стамбула и даже далекого Тегерана… Иногда этим несчастным удавалось бежать и укрыться за стенами русского посольства. Но такие случаи были редки. Эту проблему "поднимали в прессе", журналисты писали гневные статьи, но бороться с этим явлением в те времена было так же бесполезно, как теперь бороться с наркоманией или организованной преступностью.
Дежка очень любила Липкину — даже больше, чем родных сестер. Долго горевала… Но горе-то оно горе, а надо было как-то жить дальше, уже своим умом, потому что других покровительниц и защитниц кроме Александры Владимировны в хоре у Дежки не было. Зато соперниц и завистниц хватало… Только и жди подвоха! Только и знай, что огрызаться!
И снова потянуло Дежку на родную сторонку, домой, к матушке… И снова остановил все тот же страх: не примут ее винниковские. Засмеют. Опозорят. Чего ей делать в деревне? От работы она отвыкла… Да и замуж ее уже никто не возьмет. Не поверят, что соблюла себя!
А она ведь соблюдала себя так строго! Не то что "кабинетных встреч" с цветами и конфетами — даже "по любви" Дежка ни с кем не встречалась. Уж романы-то случались даже с теми из кафешантанных, которые считали себя порядочными и ни на какие посулы не покупались, живя во имя служения чистому искусству! И романы эти никогда не ограничивались платонической возвышенной любовью: нет, это были бурные страсти, порой с весьма заметными "последствиями". Иные даже замуж выходили, венчались: им Дежка завидовала. Но это — редко. Чаще просто переезжали к возлюбленному, а то и уезжали вместе с ним, если это был актер какого-нибудь из вечно гастролирующих театров. Случалось, возлюбленный в последний момент сбегал, и "барышня", плача, собирала свои немудреные пожитки и переезжала из гостиницы, где жили остальные кафешантанные, в съемную комнатку: ожидать рождения ребенка. Чаще, правда, от беременности удавалось избавиться. Плод или "вытравляли", вызывая выкидыш какими-нибудь ядовитыми аптекарскими составами, или прибегали к услугам акушерок. "Вытравлять" считалось безопаснее, хотя нередко после подобного мероприятия "барышня" принималась болеть и дурнеть лицом: состав разрушал почки и печень. Но при Дежке никто хотя бы не умер непосредственно от "вытравления"… А вот после визита к акушерке — когда "вытравить" не удалось — умерла одна славная девушка, Дежкина ровесница. Умирала она тяжело, мучилась, горела, бредила. "Барышни" по очереди сидели с ней, подавали ей пить, прикладывали холодные компрессы на лоб и на живот, опускали ее руки в мисочки с колотым льдом: считалось, таким способом можно сбить жар. Но за доктором не посылали до последнего: боялись, что из-за подпольного аборта будут неприятности… Послали все-таки, когда больная совсем плоха стала. Ее отвезли в больницу. Когда подняли с кровати, оказалось — тюфячок под ней насквозь пропитался кровью. В больнице девушка умерла.
Дежка после этого страшного случая еще крепче утвердилась в добродетели. Хотя, конечно, наслушавшись разговоров, которые велись между кафешантанными барышнями, она тоже начала было мечтать о чем-то таком… Романтическом… Но мечты оставались только мечтами.
Правда, один раз Дежка почти влюбилась: в актера провинциального театра — молодого, красивого, очень обходительного, выступавшего на сцене в ролях jeune premier (героя-любовника) и имевшего неизменный успех среди провинциальных светских львиц бальзаковского возраста. Актер был уверен в своем великом предназначении, презирал убогое настоящее и более всего любил поговорить о будущем: каким оно ему представлялось. Называл себя "новым российским Кином". Кто такой этот Кин, Дежка и представления не имела, но в будущее величие нового знакомого уверовала сразу и без сомнений, чем совершенно подкупила его. Но развития их взаимоотношения не получили: актер имел суперсовременный взгляд на взаимоотношения полов, то есть жениться он не собирался, особенно на полуграмотной кафешантанной певичке из деревенских. И кончилось все весьма плачевно: после очередной попытки обольщения разгневанный неудачей, он обозвал Дежку "деревенщиной". За что был удостоен такой крепкой оплеухи, что самой же Дежке и пришлось посылать в аптеку за льдом, чтобы остановить кровь, текущую из носа незадачливого ухажера. Больше, разумеется, они не встречались. И, если бы у Дежки спросили, она бы даже и объяснить не смогла, что именно так обидело ее в этом слове "деревенщина". Ведь действительно же она из деревни! А значит, действительно "деревенщина"! Однако обиделась… И больше "романов" у нее не случалось — до самой встречи с будущим ее мужем, польским балетным танцором Эдмундом Плевицким.
Муж похищенной Липкиной с горя запил, и к концу сезона хор распался. Всех, кто сам себе места не нашел, Липкин пристроил в польскую балетную труппу Штейна, которая как раз тогда приехала на гастроли. Девушки радовались, что довелось поступить в такую престижную труппу, где танцевали артисты Варшавского правительственного театра: прима-балерина Завадская — она в ту пору была уже не молода, но все еще знаменита — и первые танцовщицы Згличинская, Токарска, танцоры Бохенкевич, Устинский и Плевицкий. Эдмунд Плевицкий. Будущий муж Надежды.
Впрочем, бывших кафешантанных из хора Липкиной ставили в самые последние пары, ибо танцевать они не умели: от них требовалось только покачиваться в такт музыке, взявшись за руки. Но с ними занимались, учили основам балета, благо в ту пору балет от нынешнего сильно отличался, и танцовщица должна была не порхать и парить над сценой, а просто принимать красивые позы и переступать ножками, поднявшись на носочки.
Матери Дежка писала часто, и с большим трудом удалось ей объяснить Акулине Фроловне, "что за птица балет".
Глава 3 МУЖНЯЯ ЖЕНА
I
Как и многие известные в истории обольстительницы, Надежда Винникова красавицей не была: лицо у нее было самое обыкновенное: круглое, скуластое, со вздернутым носом, ярким сочным ртом и небольшими, раскосыми, очень живыми и блестящими глазами — распространенный крестьянский тип. Великолепны были ее тело, смоляная коса, белизна кожи и нежный, свежий румянец — "будто роза в молоке", говорили о ней, — но все-таки и в этом не было чего-то уникального, не из-за этого привлекала она все взгляды, где бы ни появлялась: на освещенной сцене провинциального театра, в столичном концертном зале, или на масляничной ярмарке зимой, или жарким полднем на пыльной, сонной улице малороссийского городка. Было в ней что-то особенное, какой-то внутренний огонь, нечто неотразимое, наповал сражавшее любого, стоило ей только пожелать. И так всю жизнь, до самой смерти: в нее влюблялись лучшие мужчины, а женщины — возможно, тоже лучшие и более нее достойные внимания лучших мужчин — рядом с ней как-то меркли, поэтому у нее подруг-то и не было. Только в детстве. А как выросла, как проявилось в ней вот это самое неотразимое, запылал скрытый пламень в раскосых хитрых глазах, в крови, под белой нежной кожей, — так сразу утратила она расположение своих сверстниц, и тех, кто чуть старше, и даже тех, кто моложе. Зато мужчин возле нее всегда было много. Мужчины ее любили, опекали, заботились, аплодировали в концертных залах, забрасывали цветами, или просто оборачивались ей вослед, когда она проходила по улице, стуча каблучками и игриво змеясь всем полным, ладным телом.
Сейчас она спешила на почту, быстро и мелко семенила, потому что платье на ней было узкое, обтягивающее как перчатка, что препятствовало нормальному шагу. Сшито платье было еще в Киеве, по французскому журналу, по последней моде: платье — узкое, рукава — широкие, и черная бархатная аппликация по розовому шелку (самое модное сочетание цветов в этом сезоне), и крохотная, но очень высокая и сложно декорированная шляпка с коротенькой вуалеткой, накрахмаленной и откинутой вверх — Надежда так и не привыкла смотреть на мир сквозь кружевную сетку, а от солнца заслонялась кружевом зонта, и на руках у нее были перчатки, и крохотный ридикюль, вышитый бисером, висел на запястье. В общем, Надежда не поскупилась, чтобы выглядеть настоящей барышней, как будто из благородных. В конце концов, она — актриса. И должна выглядеть соответственно, то есть шикарно. Даже если вышла из гостиницы только для того, чтобы проверить, не пришло ли для нее письмо и никаких других дел в городе не имеет. Что поделаешь — положение обязывает! И потом, не висеть же такому замечательному платью в шкафу. Оно же вот-вот из моды выйдет, и не его вина, что труппа застряла в этом жалком городишке, где и развлечений-то нет никаких, кроме музыки в парке и их же спектаклей!
Письма из Винникова, от матушки, Надежда давно ждала: все на почту бегала, боялась, что заваляется, затеряется заветный конвертик, а театр вдруг сорвется с места, как бывало уже не раз, взметнется перелетной птицей и вновь примется кружить над землею русской бескрайнею, покуда не выберет себе новый город для "гнездования". А письмо (без адреса, на имя Надежды Винниковой, актрисы Варшавского правительственного театра, а собственно, на имя театра отправленное) покуда-то вслед полетит, и догонит ли, не затеряется ли по дороге? Очень даже может затеряться. И снова придется писать матушке, и ждать ответа, и снова тревожиться. Да и для матери письмо написать — целая история, потому как она писать не умеет, и сестры, хоть и читают по складам, тоже буквы неловко выводят, просить кого-нибудь из односельчан придется, а с таким деликатным делом не всякому доверишься, и так о младшей дочке ее много всякого болтали, будто о какой непутевой. Впрочем, какой же она была, если не непутевой? Самая непутевая и есть! По крайней мере крестьяне-то, весь свой путь от колыбели до погоста знавшие заранее, согласно дедовским заветам, рассчитавшие, должны считать непутевой Дежку Винникову, потому как непонятен им путь ее и цель туманна. Для них песни петь — обряд, да еще забава, для нее — жизнь и труд. Но им наверняка это странным кажется. Чтобы за песни — платили? Чтобы пением — жить? Бедная матушка! Чего только не пришлось ей натерпеться, наслушаться! И вот теперь — снова: дочка благословения просит, вроде бы хорошо, что честь по чести в брак вступает, как другие, не хуже других, и болтать дурного меньше станут, когда узнают в деревне, что Дежка Винникова замуж вышла! Но за кого, за кого замуж!!! За иноземца, иноверца, актера, который пляшет для чужой забавы и этим живет! И на свадьбу даже в родную деревню приехать не хочет, и приданое, за много лет для младшенькой дочки накопленное: и холсты льняные, и десять попон шерстяных, и покрывало, а главное — шесть пуховых подушек, столько ни одной из сестер не было! — зря ведь приданое пропадает, в сундуках пролеживает. Не приедет Дежка за приданым! Да и не нужны Эдмунду Плевицкому ее подушки.
Надежда только представила, как вручает надменному грациозному Плевицкому свой сундук — и шесть подушек сверху! — и не смогла сдержать смешка, но тут же опомнилась, испугалась и перекрестилась: примета известная — нельзя смеяться, когда к серьезному готовишься, а то всю удачу прохохочешь! В дверях почты постояла минутку в трепете, сложила зонтик — и шагнула внутрь, в духоту и пыльно-бумажный запах.
В зале было пусто — в такой час люди почтенные дома почивают после сытого обеда, — и за конторкой скучали только двое служащих: тоненький паренек в тщательно отглаженной форменной тужурке и такая же тоненькая, но слегка увядшая барышня в темной юбке и белой блузке.
Когда Надежда вошла, привнеся с собой в тишину — шуршание шелковых юбок, в пыльно-бумажную духоту — сладкий запах туберозы, своих духов, — паренек полыхнул на нее вос-торженным взглядом, густо покраснел и принялся пощипывать свои реденькие усики: Надежда, чуть не каждый день ходившая на почту, боялась, как бы он себе усы не повыдергал.
Барышня же смерила ее презрительным и завистливым взглядом: Надежда думала, что барышня завидует ее платью и шляпке (наряд и впрямь был дивный, она сама себе завидовать готова была), ну а презирает, верно, за простонародное произношение.
— Письмо для артистки Винниковой из деревни Винниково? — с притворной любезностью, ехидно спросила барышня.
Надежда нахмурилась. Она не понимала, почему ее фамилия — вернее, то, что фамилию она носит по названию родной деревни, — вызывает у барышни такое насмешливое презрение. У них в деревне все носили фамилию "Винников" или "Винникова". И ничего такого странного или стыдного Надежда в этом не видела. Она из Винникова — значит, она Винникова! Чудная какая барышня. Хотя в городе таких барышень много. Наверное, от душного воздуха они такими становятся. Вон, какая эта худая да бледная. Потому и вредная.
А может, ее смешит, что у артистки такая простая фамилия? Вообще-то действительно артисты чаще всего брали себе псевдонимы — красивые, сложные, а то и двойные, и обязательно с окончанием на "ский", чтобы по-благородному звучало. Надежда когда-то думала взять себе псевдоним. Но так и не придумала ничего оригинального. И оставила эту идею. В конце концов, она ведь не артистка, а певица! И не солистка пока еще. И без псевдонима прекрасно обходилась. А теперь, ежели матушка благословение даст на их брак с Плевицким, Надежда его фамилию возьмет, и будет красиво и по-благородному, и почти как псевдоним: Надежда Плевицкая.
— Есть для вас письмо, — с робкой улыбкой сказал юноша за конторкой.
Надежда схватила письмо, развернула. Узнала почерк сельского учителя Василия Гавриловича, улыбнулась: видно, поборола мать свою робость перед "грамотеем" — и правильно сделала, потому что Василий Гаврилович наверняка уж не станет сплетничать и злословить о непутевой. Пробежала глазами строчки. И вздохнула с облегчением — так глубоко, что чуть было не треснул тесно облегающий лиф: матушка благословила!
Прижимая письмо к груди, вышла Надежда из здания почты, не заметив в своей радости, каким тоскливым взглядом проводил ее юный почтовый клерк. Так спешила, что позабыла даже зонтик раскрыть, так и несла его в руке. До театра она вприпрыжку шла — не бежала только потому, что сознавала неуместность и неприличие такого поведения, да еще башмаки модные узконосые очень уж жизнь осложняли: детство в лаптях проходила артистка правительственного театра, и теперь больно и неловко было ногам, втиснутым в "трубочки" из жесткой полированной кожи.
Репетиция к вечернему спектаклю уже началась: на сцене под звуки старого репетиционного рояля и под ритмическое постукивание тросточки балетмейстера две молоденькие балерины-полячки, Згличинская и Токарска, представляли па-де-труа с солистом Эдмундом Плевицким — грациозно сплетались гибкие руки, изгибались талии, вздымались сухощавые мускулистые ноги. Надежда села в первый зрительский ряд и принялась ждать: ей казалось, сегодня репетиция особенно затягивалась, танцоры двигались лениво, как под водой, а фальшивые звуки рояля терзали нервы. Она ерзала от нетерпения на месте, не замечая даже, что мнет свою роскошную юбку (обычно Надежда бывала аккуратна — садилась на краешек, изящно подхватив и расправив складки ткани!), и то складывала письмо, то расправляла его на коленях — балетмейстер сердито оглядывался, слыша хруст бумаги, но Надежда совершенно не замечала его неудовольствия. Влюбленными глазами смотрела она на Плевицкого: как красиво склоняет он стан к одной из партнерш, как ловко подхватывает другую, как горделиво откидывает голову — солнечный луч, косо падающий на сцену, высвечивает точеный четкий профиль, золотит убранные под сетку кудри. Вечером Эдмунд смажет волосы бриллиантином — чтобы блестели во время спектакля. А моет их каждый день! И душит одеколоном из хрустального флакончика со смешной резиновой грушкой.
Сидя в зале и глядя на сцену, Надежда вспоминала запах одеколона Плевицкого и вздыхала от счастья, разглаживая ладонями письмо.
Матушка дала благословение! Им с Эдмундом можно будет пожениться!
Они уже почти целый год любили друг друга, но, не в пример другим театральным барышням, Надежда себя соблюдала в строгости и неизменно запирала на ночь дверь своего номера.
В театре нравы вообще-то вольные царили, даже понятие такое было "театральная жена". Как говорил один из героев Куприна: "Мы — свободные художники, а не чиновники консистории и потому никогда не прикрываем наших отношений к женщине только обрядовой ложью-с. У нас любят, когда хочется и сколько хочется. А театральная жена — только термин. Я так называю женщину, с которой меня кроме известных физиологических уз связывают сценические интересы…"
Но Надежда Винникова никак не желала допустить в свою жизнь "физиологических уз" вкупе со "сценическими интересами". Ей нужен был "честной венец", чтобы стыдно не было. Не только перед матерью и винниковскими, а и перед самой собой. Так уж она была устроена и воспитана. "Физиологические узы" как раз представлялись ей чем-то малоприятным — приходил на память тот старик-купец, а потом тот молодой актер, который мнил себя "новым Кином"… В общем, ничего хорошего. И к любви — той любви, которую питала она к Плевицкому. — те гнусные "физиологические узы" никакого отношения иметь не могли. Потому как после "честного венца" "физиологические узы" становятся нормальным супружеством, от которого дети родятся. Выйти замуж за Эдмунда она была согласна. Правда, он очень долго не предлагал ей законного супружества… Но Надежда думала, что он от стеснительности медлит. Он же такой деликатный! Главное — чтобы матушка благословила ее на брак: тогда чисто все будет, без греха… И глазки не потухнут, и голосок не пропадет!
Эдмунд Плевицкий, будучи влюбленным не на шутку, видя неприступность ее добродетели и отчаявшись окончательно, сделал наконец ей предложение.
И матушка дала благословение на их брак!
Правда, матушка велела, чтобы все было по чести, чтобы венчались в церкви, и очень переживала, что Плевицкий — иноверец. Если бы она узнала, что он вовсе в Бога не верует, она бы переживала еще больше. Вообще-то в таких случаях — когда один из брачующихся был православный христианин, а другой католик или лютеранин — обряд венчания совершался в двух церквях сразу: сначала — в православной, затем — в костеле или в кирхе. Надежде, пожалуй, страшно было бы войти в чужую церковь — хотя ради Эдмунда она, пожалуй, решилась бы — но, к счастью, он не настаивал на венчании по католическому обряду. А на территории Российской империи законным признавался только брак, совершенный в православной церкви, — потому этот обряд и справлялся первым. Жалко, конечно, что настоящей свадьбы, как в деревне — с песнями, с играми, с приданым, с поезжанами, со сватами и подружками-игрицами, с долгим свадебным застольем, — у нее не будет. Как-то за все годы в театре она подружками не обзавелась, а если и были барышни, с которыми Надежда в добром знакомстве состояла, все равно — городские они, деревенских обрядов не знают. Не самой же себе петь жалельные и величальные?
Балетмейстер объявил перерыв, и Плевицкий, вытирая полотенцем лицо и шею, спустился со сцены в зал — к Надежде.
— Что, Надя?
Он произносил чуть-чуть неправильно, с мягким "д", что получалось почти "Надья", но не совсем так, а все-таки как-то по-иностранному, по-благородному. Надежде очень нравилось его произношение — "интриговало", и она замечала, что в ее присутствии Плевицкий усиливает свой акцент, хотя с другими говорит почти совсем чисто по-русски.
— Матушка благословение дала, — прошептала Надежда.
— Ну, вот и радость нам, — улыбнулся Плевицкий. — Через неделю в Киев возвращаемся. Вы здесь венчаться желаете или до Киева ждать будем?
— Да уж довольно мы ждали, — лукаво улыбнулась Надежда, опуская ресницы.
В поезд она садилась уже Надеждой Плевицкой.
II
Прежде ездила она в вагоне с другими "барышнями", но в этот раз Плевицкий разорился на отдельное купе в первом классе — с отдельной дверью, с мягкими, бархатом обитыми диванчиками, с плафоном лампы в виде тюльпана из матового стекла, с плотными шелковыми шторками, за которыми можно было спрятаться от всего мира. Надежда сразу же задернула шторки, лампу зажгла — "уют навела", — и до самого вечера они болтали, смеялись, на станциях выходили, чтобы купить ягоды, молоко, пирожки.
Когда-то сама Надежда — маленькая — стояла на станции с пирожками, ждала единственного поезда, рано утром проходившего, и предлагала пирожки "господам", выглядывавшим из купе. Тогда поезда казались ей чудом из другого мира, она и мечтать не смела, чтобы самой на поезде ехать, да и страшно "на чугунке": гремит, горит, дымит, и паровоз — черное чудовище. А теперь вот выходила из дверей отдельного купе и покутит пирожки да ягоды у босоногих девчонок в латаных платьицах и широких материнских платках, покупала даже больше, чем они с Плевицким могли бы съесть: она была счастлива сейчас, и ей хотелось поделиться своим счастьем со всеми на свете — и с этими босоногими девчонками тоже. С ними — особенно. Она словно с самой собой — маленькой — делилась счастьем.
Потом, когда ночь пришла и Плевицкого потянуло ко сну, Надежда вдруг распахнула шторки, взглянула в черноту окна, зеркально отражавшего их купе, озаренное желтым светом, и погасила лампу. Стекло тут же стало прозрачным, и Плевицкий увидел пустынную черную степь, над которой в пустынном черном небе плыла луна — ровный белый диск в вуали легких облачков. Пейзаж скучный, если не сказать — жуткий, но Надежда засмотрелась, задумалась, подпирая рукой щеку. Плевицкий пытался отвлечь ее от созерцания, обнял игриво — она отмахнулась и продолжала смотреть в окно поезда. Обиженный, молодой муж улегся спать на бархатном диванчике.
А Надежда смотрела на пустошь, озаренную призрачным лунным светом, и думала о русалках, играющих на берегах речек; о холодных утопленниках, что выходят в этот час из поглотивших их вод; о душах некрещеных ребятишек, порхающих в ветвях деревьев; о леших, сбивающих путников с дороги; о прекрасных пышнотелых болотницах, что сидят на листьях кувшинок и завлекают неосторожных охотников сладким пением; о страшном Волчьем Пастыре, который в этот час собирает в лесах свой лютый народ; о вдовах, потерявших себя, что в ночь ждут полюбовника — Змия Огненного, ждут с горячечным нетерпением, хоть и знают, что иссосёт-истомит, насмерть ласками уморит; о ведьмах, творящих колдовство, порчу наводящих, рожь свивающих в жгуты лунной ночью, когда честные христиане по домам сидят, спят давно. Вся та сладкая жуть, о которой так любо было думать в детстве, лежа на теплой лежанке, под боком у матушки или сестрицы, когда дверь на замке и собака настороже, — все те страшные рассказы, которыми пугали и забавляли деревенских детишек старики, вдруг вспомнились, нахлынули сейчас, при виде луны, плывущей над чужой, иссушенной степью. Вагон слегка покачивался, и так уютно и тепло было в купе, и так приятно думать о всяком жутком… Как в детстве: прижмешься к отцу на печке — и думаешь, как там сейчас на освещенном луной погосте…
Все добрые христиане спят в этот час — одна она не спит. Кто знает, что можно увидеть ночью, из окна поезда? Какие тайны страшные подглядеть, невидимкой затаившись в темном купе, за черным стеклом? Что-то коротко сверкнуло в облаках подле лунного круга — уж не Змий ли Огненный сверкнул из-под черного плаща золотым телом?
Видение было так явственно, что Надежда вздрогнула, перекрестилась, задернула шторку и снова зажгла лампу.
Плевицкий недовольно поморщился во сне, натянул на лицо край пальто, которым укрывался. Дорожная подушка-думка выпала из-под головы на пол. Надежда подняла ее, отряхнула ладонью и осторожно подложила под кудрявую голову мужа.
…Что знаешь ты обо мне, Эдмунд? Что я о тебе знаю?
Его мир казался Надежде туманной тайной — что-то смутное, бунтарское, ведь они все время бунтуют, эти поляки, и русский царь-батюшка посылает солдат усмирять их, и еще непонятные слова чужих молитв, и речь чужая, шипящая "проше, панн", и узкие шпили костелов, которые впервые Надежда увидала в турне по Малороссии, и грустные бледные лица балетных танцовщиц: Завадской, Згличинской. Токарской. О доме своем, о семье своей Эдмунд никогда не говорил, и познала Надежда, есть ли у него дом, живы ли отец с матерью, один он на свете или братья-сестры имеются? ничего не знала. У них в деревне такое невозможно было: у них об женихе или невесте знали все — и не только о них, но и об их родителях, дедах, прадедах. На том и стояла деревня. Но не для того Надежда из дому ушла, чтобы и в вольном мире по деревенским законам жить. Она любила Плевицкого — тихого, мягкого, деликатного человека с изысканными манерами, — и ничто не имело значения, кроме ее любви к нему, его любви к ней. У себя в родной деревне Винниково да и в соседних деревнях — ей не найти бы такого, не встретить за всю жизнь. Другой же ей не был нужен.
Сейчас она думала, что любовь ее к Плевицкому — на всю жизнь. И, если бы ей сказали, что когда-нибудь — в недалеком будущем — от Эдмунда Мячеславовича, мужа любимого, в ее жизни одна только фамилия останется, Надежда не поверила бы, а то бы и рассердилась.
Что до того, что она о нем немногое знает. Так и он о ней тоже не знает почти ничего. Она как-то стыдилась того, что она из деревни, и старалась поменьше болтать в хоре и в театре, все воспоминания в себе таила, чужих не посвящая.
Но Эдмунда придется-таки посвятить, затем хотя бы, чтобы потом как-нибудь, когда выдастся времени свободного хоть месяц, отвезти в Винниково, на поклон к матушке.
Одобрит ли матушка ее выбор? Нет, не может быть, чтобы не одобрила: Эдмунд — настоящий "барин" по их деревенским понятиям. Одобрит и еще гордится будет! А все-таки на душе Надежды что-то доскребывало: как-то не так складывалось все в ее жизни. Не к тому готовили ее батюшка с матушкой.
Вагон покачивался, и мелко содрогались на верхней полке три шляпные коробки — не нарядные картонные, в каких шляпы продаются, а добротные, берестяные, высокие, в каждую по две-три шляпы на специальной подставке помещалось.
Наверное, столько нарядных шляп не было и у тех "барышень Рышковых", которым так горячо завидовала маленькая Дежка, стоя в деревенской церкви во время торжественной обедни. Вот что значит детская мечта — воспоминание о шляпках из листа лопуха! У Надежды оказалась настоящая страсть к красивым и оригинальным шляпам — порой даже оригинальность доминировала над красотой: Надежда покупала и водружала на голову что-нибудь вовсе невероятное, в перьях, лентах и цветах, творение несчастной шляпницы-француженки, волею судьбы заброшенной в малороссийскую провинцию и сошедшей с ума от солнца, пыли и одиночества.
Плевицкий втайне посмеивался над шляпными пристрастиями Надежды, но никогда не критиковал даже самые безумные ее приобретения: она была гневлива и обидчива. Разумнее бывало выждать время, и уже потом, когда шляпа поднадоест, деликатно посоветовать убрать пару самых ярких перьев. Надежда всегда восхищалась его элегантностью и к советам прислушивалась, но, когда перья были убраны, шляпа из пышного безумия превращалась в какое-то бесформенное гнездо.
Надежда, конечно, сердилась. Выбрасывала шляпу и скоро забывала, а в новом городе шла в шляпную мастерскую за обновой, и, если Плевицкий имел хоть малую толику сил и времени, он шел вместе с ней, и совместными усилиями выбиралось что-нибудь вполне пристойное.
Надежда вообще была щеголихой — наряжаться более всего любила, питаться могла солеными огурцами да черным хлебом, зато на сэкономленные деньги покупала себе пару лайковых перчаток (черных, в них руки меньше кажутся), или шелковые чулки, или какой-нибудь кружевной воротничок, шарфик, бархотку на шею. В любых горестях можно было утешить ее обновкой. И Плевицкий находил, что это очень даже мило. И забавно. Она вообще была на редкость милой и забавной девочкой. Надя Винникова, девятнадцати лет.
Что до ее варварского вкуса — вкус вырабатывается опытом и деньгами. Поездит по стране — приобретет опыт. Появятся деньги — начнет разбираться и в качестве товаров. Пока же она, как сорока, хватала все самое броское, яркое и тащила в их совместное гнездо. И Плевицкий не находил возможным и нужным воспитывать ее вкус уже сейчас. Зачем внушать ей сомнение в собственном вкусе, зачем портить ей удовольствие от покупок, если со временем это все равно само собой придет, безо всяких обид и огорчений? А пока она была даже забавна в своих невероятных шляпах и ослепительных платьях! Она была такой милой девочкой! И такой страстной.
Длинные, очень густые, тяжелые, черные — не иссиня-черные и блестящие, как бывают у француженок и татарок, — но смоляные, густой бархатной черноты, словно соболий мех, но еще темнее, — роскошные волосы Надежды, освобожденные от шпилек, спадали на ее круглые смуглые плечи, и ныряли, тонули в них руки Плевицкого — тонкие, белые, артистичные руки балетного танцора.
Надежда всегда восхищалась его руками — и завидовала. У нее-то самой кисти рук были крупные, широкие, короткопалые, сызмальства натруженные — да так, что никаким уходом, никаким миндальным мылом, кремом и маникюром невозможно было их выхолить. Вот она и затягивала их в перчатки, имея по паре к каждому своему туалету, и не любила прилюдно перчатки снимать: боялась, что руки ее "выдают".
Не понимала девочка, что "выдает" ее — все! Что при статности и полнокровности, при лице широкоскулом, широконосом, крестьянском, такой нет смысла таить свое происхождение, прятать его за атласными платьями в оборках, за шляпками, лайковыми перчатками и редикюлями — оно все равно за себя говорит лицом ее и фигурой, не только руками натруженными, и даже не говорит, а кричит. И не идут ей все эти платья и шляпки — ей бы сарафан, да рукава прозрачные с прошивками, да кокошник, жемчугом низанный, — вот тогда хороша будет! Хотя, на взгляд Плевицкого, она и теперь была хороша, в свои двадцать лет, молодая, цветущая и сильная. Да, в облике — сила, и в голосе — сила, особенно когда она пела не игривые кафешантанные песенки, а свои, народные, или стилизованные под народные, которые тогда были в моде: как она их пела — с ней, казалось, и вся душа пела, а у зрителей глаза наливались слезами!
Эдмунду Плевицкому, впрочем, эти песни не очень-то нравились: дикарское в них было, варварское, грубое, страсть жестокая, безудержная — слишком русские, у него, поляка, неприязнь ко всему дикому русскому в крови была. Но он видел, как это слушали, и понимал, что, стоит только найти для Надежды хороший ангажемент, и все переменится — для них обоих. В Варшавском правительственном театре, среди тоненьких балеринок, ей вовсе нечего делать. Не тот репертуар — и зритель идет не тот.
Ей нужен свой зритель. Вернее, свой слушатель. Который поймет. Которому в самую душу эта песня польется.
Но для того, чтобы получить хорошего зрителя, нужен был еще и хороший антрепренер. Плевицкий начал подумывать о том, чтобы самому заняться устроением карьеры своей юной и талантливой жены, но опыта достаточного у него пока еще не было, да и времени тоже: расставаться с балетом он пока не хотел.
А в Киеве, куда Плевицкие вернулись уже супругами, их ждал тяжелый удар: оказалось, что директора их театра — Штейна — в поезде нет. На одной из маленьких станций он потихоньку вышел и — сбежал со всей кассой. Что толкнуло его на такой поступок, было в общем-то непонятно: гастроли были достаточно удачны.
Труппу охватила паника. Тут было уже не до фантазий о будущей необыкновенной карьере Надежды — надо было думать о хлебе насущном.
А пока сняли маленький номер в скромной гостинице и начали ждать. И — искать.
III
Видя, как один за другим пристраиваются в разные театры другие балетные, Плевицкий запаниковал. В труппе Штейна он был на первых ролях среди танцоров, а теперь не мог себе нового места найти! Вернее, взять-то его соглашались, но — на вторые роли и платить предлагали такие копейки… Гордый поляк приходил в бешенство, хлопал дверью… А дома — в гостиничном номере — бросался ничком на кровать и часами молчал или закатывал полноценные истерики с заламыванием рук. Но Надежда оставалась на удивление спокойна.
— Всякое в жизни бывает. Переживем. Обойдется.
Она пыталась его успокоить, но его это только раздражало. Как же — "бывает"! Ни с кем, кроме него, такого не бывает! И как они "переживут", когда деньги кончаются? Надо было экономнее жить раньше. Он почти забыл, что они поженились-то совсем недавно, и готов был винить Надежду в транжирстве и легкомысленном отношении к семейному бюджету. И еще эти шляпы — половину их крохотного номера занимали коробки с ее шляпами! "Обойдется"! Ничего не обойдется.
Надежда пожимала плечами. Но не сердилась, а жалела его. Он был такой. Такой нежный! И ранимый! И, хотя он был старше ее почти что на десять лет, у него не было настоящего жизненного опыта — как у нее, например! Он совершенно не был готов бороться с трудностями. Тем более: разве это — настоящие трудности? Если бы он пережил то, что пережила она к своим девятнадцати годам. Такие приключения не во всяком романе прочтешь, что у нее было! Потому и не боится ничего. Страшнее, чем было, когда из монастыря в балаган сбежала, аза ней матушка пришла, все равно ей уже не будет. Подумаешь — сбежал какой-то там Штейн! Другой Штейн найдется. Их много, Штейнов этих. А вот тех, кто петь и танцевать умеет, тех мало. А они ведь людям больше нужны, чем Штейны! В театр идут не на Штейна смотреть, а на Эдмунда Плевицкого, не Штейна слушать, а ее, Надежду!
Плевицкий раздражался на ее рассуждения, и кратковременное супружество их едва не потерпело крах: спасло то, что приехала в Киев на гастроли труппа Манкевича и им удалось поступить туда.
Классического балета эта труппа не ставила, но зато Плевицкого взяли на должность балетмейстера — ставить танцевальные номера в водевильных спектаклях.
И оклад оказался даже больше, чем у Штейна.
В общем, как и предсказывала Надежда, "все обошлось".
В семье снова воцарился мир. Плевицкий радостно признал, что Надежда оказалась права. А ее совершенно умилило то, что он — муж, мужчина! — готов признать свою неправоту, и она все, совершенно все ему простила, хотя на самом деле и не сердилась вовсе на него.
У Манкевича Надежда уже не танцевала, а только пела. Плевицкий был вполне доволен этим: он считал, что для балета Надежде легкости не хватает и грации. Ну не давались ей пируэты. А в песне она была царицей, и Манкевич очень скоро поставил ее на сольные партии. Какое-то время Плевицкий надеялся, что Манкевич (сам — бывший оперный певец) оценит по-настоящему талант его жены, но со временем разочаровался и в нем: хозяин труппы сам выбирал репертуар для Надежды и предпочтение отдавал цыганским романсам. Конечно, их Надежда пела хорошо, потому что она вообще пела хорошо. Но цыганщина не была ее стихией.
Какая цыганка из нее — дородной, румяной?
Цыганка должна быть худой, желтой, словно бы снедаемой внутренним огнем… И петь с подвыванием.
Подвывать Надежда быстро научилась, но все-таки не было в ее подвываниях истинно цыганской порочной страсти.
И Плевицкий сердился на директора труппы, и мечтал найти для Надежды "достойного" антрепренера.
Сама же она получала удовольствие от любых выступлений: лишь бы петь, лишь бы на сцене.
Пусть цыганщина! А до того была ведь оперетта. Да и в балете танцевать приходилось. Но могла ведь вовсе в монастыре остаться. Или в деревне. Пела бы сейчас на хорах, облаченная в черное, или деревенские свадьбы были бы единственной отдушиной! А тут каждый день — новое. Города, зрители, подмостки. Та тяга, которую она ощущала еще в юности, в детстве, не ослабла с тех пор, как она вошла в мир театра, как познала его собственным опытом, собственной жизнью. Даже сильнее еще стало: не влечение уже, а любовь. И ей хотелось остаться здесь — любой ценой. Если директору труппы нужны цыганские романсы — она будет петь цыганские романсы! Лишь бы дали ей сцену и зрителей. Она слишком многое преодолела на пути к своей мечте, и теперь ей казалось грешным роптать на что-то: пусть даже на неподходящий репертуар. Она ведь поет! Чего же еще ей желать?! Театр ей был дороже спасения души. Она ведь в театр из монастыря сбежала. Так что на спасение души теперь уж, верно, рассчитывать не приходится!
С труппой Манкевича Надежда Плевицкая впервые попала в Санкт-Петербург, пела в знаменитом загородном ресторане на Крестовском острове: "Зимой туда мчались ковровые тройки, хохотали бубенцы, кутались в заиндевелые соболя "гости дорогие". Полон сверкающий зал. Цветы, огни бриллиантов, сияют глаза, мелькают лица холеные, барские. В зимнем саду, под темными лаврами, сидят новодеревенские старухи-цыганки, зорко следя за своими смуглыми внучками, как бы не улыбнулись лишний разок блестящему гусару или рослому кирасиру. У цыган строго: если какая сверкнет черным глазам на барина, старая цыганка забеспокоится, подзовет:
— Ты проси лучше барина, чтобы хор пел, а лясы точить нечего.
Хоров было много: цыганский, русский, венгерский, малороссийский, итальянцы и мы — лапотники Манкевича.
В праздники у нас было время посещать дневные спектакли. Бывали и в Мариинском, в балете, слушали и оперу, но чаще ходили в оперу в Народный дом. Это нам быт доступно. Театр был моим отдыхом и моей школой. Пять лет прослужили мы в труппе Манкевича. Я уже там премьерствовала. Манкевич, сам бывший оперный певец, всегда настаивал, чтобы я пела только народные песни. Давно уже меня приглашали в Москву, к "Яру", но я все не хотела покидать труппу, с которой за эти годы сжилась. Но после долгих колебаний согласилась я, наконец, принять ангажемент в Москву. Директором "Яра" был тогда Судаков. Чинный и строгий купец, он требовал, чтобы артистки не выходили на сцену в большом декольте: "К "Яру" московские купцы возят своих жен и, Боже сохрани, чтобы какого неприличия не было". Старый "Яр" имел свои обычаи, и нарушать их никому не полагалось. При первой встрече со мной Судаков раньше всего спросил, большое ли у меня декольте. Я успокоила почтенного директора, что краснеть его не заставлю. Первый мой дебют был удачен. Не могу судить, заслуженно или незаслуженно, но успех был. Москвичи меня полюбили, а я полюбила москвичей. А сама Москва — белокаменная, наша хлебосольная, румяная, ласковая боярыня, кого не заворожит".
Здесь Плевицкая чуть-чуть покривила душой в своих воспоминаниях: хоть в "Яр" некоторые купцы и возили своих жен (при том, что почтенные купеческие жены в людных местах вовсе не бывали, и в почтенных купеческих домах иных книг, кроме Библии, не держали, но всякие купцы бывали в начале века: бывали такие, что науками интересовались и дочерям своим даже учиться позволяли, а раз так, могли и жен к "Яру" возить), а все-таки славился "Яр" не только русской кухней, белоснежной телятиной, жареным поросеночком, раковым супом и двенадцатиярусной гигантской кулебякой, ради коих даже великие князья из Петербурга отобедать приезжали. Знаток московских нравов, Владимир Алексеевич Гиляровский, вспоминал: "На обедах играл оркестр Степана Рябова, а пели хоры — то цыганский, то венгерский, чаще же русский от "Яра". Последний пользовался особой любовью, и содержательница его, Анна Захаровна, была в почете у гуляющего купечества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу порекомендовать; последняя исполняла всякий приказ хозяйки, потому что контракты отдавали певицу в полное распоряжение содержательницы хора. Только несколько первых персонажей хора, как, например, голосистая Поля и красавица Александра Николаевна, считались недоступными и могли любить по своему выбору. Остальные были рабынями Анны Захаровны. После обеда, когда гурманы переваривали пищу, а игроки усаживались за карты, любители "клубнички" слушали певиц, торговались с Анной Захаровной и, когда хор уезжал, мчались к "Яру" на лихачах и парных "голубчиках", биржа которых по ночам была у Купеческого клуба. "Похищение сабинянок" из клуба не разрешалось, и певицам можно было уезжать со своими поклонниками только от "Яра"".
У ресторана "Яр". Москва. Открытка начала XX в.
Разумеется, Плевицкая, не входившая в состав хора и заключавшая контракт с Судаковым самостоятельно, была избавлена от необходимости исполнять подобные прихоти "гостей", но в будущем именно ее выступление в "Яре" припоминали те журналисты, которые хотели как-то задеть, унизить, очернить "народную певицу".
Пела у "Яра" — значит, продавалась.
Значит, случалось ей петь и "в отдельных кабинетах", и уезжать после спектаклей с "гуляющими".
Кто же не знает "обычаев" старого "Яра"?
Это же не Большой зал консерватории, здесь не только голос, здесь иное нужно!
А Плевицкая, на свою беду, была в ту пору молода, хороша собой и вполне аппетитна на купеческий вкус — и потом чуть не всю жизнь ей оправдываться пришлось, что путь в Большой зал консерватории проходил для нее через "Яр".
Она оправдывалась — но никто не верил!
Уж очень наивной показалась читавшим ее книгу эмигрантам ложь о том, что якобы Судаков тревожился о целомудрии облика своих певиц и о нравственности зрителей.
Другое дело — Плевицкая не была "собственностью" Судакова, не пела в постоянном составе, а значит, ни он, ни какая-либо "знаменитая Анна Захаровна" или кто-нибудь, кто сменил Анну Захаровну на ее "должности", не мог диктовать ей своих условий.
Не хотела идти в кабинет — и не пошла!
В ту пору Надежда Плевицкая действительно была еще очень наивной и чистой… Возможно, где-то в глубине души боялась, что и от супружеской измены "глазки потускнеют и голосок пропадет"!
"В Москве успеху меня был большой, и потому предложений было много. На зиму я возобновила контракт с "Яром", а на осень, за большой гонорар, подписала контракт на нижегородскую ярмарку, к Наумову. По программе я стояла последней и выступала в половине первого ночи. В зале обычно шумели. Но когда на занавес выбрасывали аншлаг с моим именем, зал смолкал. И было странно мне, когда я выходила на сцену: передо мной стояли столы, за которыми вокруг бутылок теснились люди. Бутылок множество, и выпито, вероятно, немало, а в зале такая страшная тишина. Чего притихли? Ведь только что передо мной талантливая артистка, красавица, пела очень веселые, игривые песни, и в зале было шумно. А я хочу петь совсем не веселую песню. И они про то знают и ждут. У зеркальных стен, опустив салфетки, стоят, не шевелясь, лакеи, а если кто шевельнется, все посмотрят, зашикают. Такое необычайное внимание я не себе приписывала, а русской песне. Я только касалась тех тихих струн, которые у каждого человека так светло звучат, когда их тронешь.
Помню, как-то за первым столом, у самой стены, сидел старый купец, борода в серебре, а с ним другой, помоложе. Когда я запела "Тихо тащится лошадка", старик смотрел-смотрел на меня, и вдруг, точно рассердясь, отвернулся. Молодой что-то ему зашептал, сконфузился. Я подумала, что не нравится старому купцу моя песня, он пришел сюда веселиться, а слышит печаль. Но купец повернул снова к сцене лицо, и я увидела, как по широкой бороде, по серебру, текут обильные слезы. Он за то рассердился, что не мог удержаться — на людях показал себя слабым.
Заканчивала я, помню еще, свой номер "Ухарь-купец". После слов "А девичью совесть вином залила" под бурный темп, махнув рукой, уходила я за кулисы в горестной пляске, и вдруг слышу из публики, среди рукоплесканий:
— Народная печальница плясать не смеет.
Видно, кто-то не понял моей пляски, а пляской-то я и выражала русскую душу: вот плачет-надрывается русский, да вдруг как хватит кулаком, шапкой оземь, да в пляс".
IV
Возможно, при всем выдающемся таланте пришлось бы Надежде Плевицкой остаток жизни петь в маленьких провинциальных театрах и ресторанах, и не стала бы она той "легендарной Плевицкой", которую знаем мы теперь.
Вмешалось провидение.
Л.В. Собинов
Той осенью, когда пела она в ресторане Наумова, в Нижегородском оперном театре гастролировал Леонид Собинов, любимец Императорской сцепы. Он зашел поужинать в ресторан Наумова, слушал Плевицкую, следил за реакцией зала, а потом зашел к ней познакомиться и сказал:
— Заставить смолкнуть такую аудиторию может только талант. Вы — талант.
И он предложил ей участвовать в его благотворительном концерте в оперном театре.
Конечно, это было потрясение, счастье, ощущение крыльев, в мгновение раскрывшихся за спиной. Пожалела, что нет рядом Плевицкого: он был бы рад, он больше, чем кто бы то ни было, верил в нее. Но одно дело — Эдмунд, муж, балетный танцор, понимающий в движениях, но не в песнях, и совсем другое — самый выдающийся тенор русской оперной сцены. Собинов сказал, что она талантлива! Подспудно, конечно, она сама всегда знала, но одно дело — знать что-то самой и совсем другое — услышать от постороннего, от великого. Собинов был бесспорный авторитет, ему можно было верить — и, значит, наконец можно было поверить себе.
И.В. Плевицкая в 1908 г.
Понимая ее волнение и неуверенность, Леонид Витальевич снова приехал на следующий день, привез букет чайных роз и подтвердил свое приглашение.
Петь в оперном театре! Выйти на настоящую сцену! Надежда не спала в ту ночь вовсе, так волновалась. Примеряла наряды, выбирала, в чем ехать в театр: ведь там, в зале, будут такие сливки нижегородского светского общества, какие и в ресторан Наумова-то, может, не захаживали и уж подавно брезговали кафешантаном и опереткой, где ей приходилось выступать до сих пор.
Пока ждала за кулисами своего выхода, переживала мучительно, несколько раз являлась трусливая мысль — сбежать. Собинов пел божественно, стены театра дрожали от рукоплесканий. Выйти на сцену после него? Здесь уже не храбрость нужна, а дерзость! Прогонят ее, слушать не станут после таких соловьиных трелей ее простую песню.
Но вот к ней подошли, ее объявили, бежать было поздно — и она пошла на сцену, дрожа, на негнущихся ногах. И запела. Что это было? "Тихо тащится лошадка"? "Ухарь-купец"? Это и многое, многое, успех был огромный, ей аплодировали, ее вызывали снова и снова. Потом Собинов взял ее за руку и вместе с ней вышел на сцену, словно представляя ее публике, и снова грянули аплодисменты, и целый дождь цветов хлынул к их ногам.
Через пару дней какая-то из нижегородских газеток выразила робкое недоумение появлением "кабацкой" певицы в оперном концерте. Автор статьи выступил с критикой. Еще неделю назад она переживала бы над любой статьей, где упомянули бы ее имя, ну а критика вовсе могла бы ее убить! Но теперь жизнь ее переменилась самым коренным образом, и статейка показалась мелочью, едва заслуживающей внимания. Конечно, польстило, что Собинов сам съездил к редактору газеты и потребовал в письменном виде извиниться перед его, Собинова, "протеже". Но, в сущности, ей не нужны были извинения этой газетки. В ту осень 1909 года двадцатипятилетняя Надежда осознала истинную силу своего таланта. И она решила: теперь все должно быть иначе. Никаких ресторанов. Никаких жующих купцов. Собинов вывел ее на оперную сцену. И ее долг — удержаться на этой сцене. Пусть не на оперной — но все-таки на настоящей, большой сцене.
Глава 4 КАК ПРИХОДИТ СЛАВА
I
Жизнь Надежды с Эдмундом Плевицким была весьма далека от идеала супружеской жизни, но — вот в чем парадокс! — многие женщины, измученные семейными неурядицами, назвали бы их совместную жизнь идеальной. Действительно: они любили друг друга, они бесконечно доверяли друг другу и всесторонне друг друга поддерживали, они были прекрасной парой — как внешне, так и в духовном плане — и это при том, что они почти не жили вместе… То есть периоды их совместной жизни были очень коротки. На первом месте у обоих все-таки стояла артистическая карьера. Плевицкий был человеком трезвым и рациональным, самолюбив был более чем в меру (возможно, потому, что пользовался огромным успехом у слабого пола, а потому не имел нужды как-то дополнительно самоутверждаться), а посему интересы жены он ставил выше своих, потому что понимал: ее талант — неизмеримо больше. Поэтому спокойствие семейной жизни чаще приносилось в жертву именно Надеждиным бесконечным гастрольным поездкам. Она пела то на Харьковской ярмарке, то в Москве, то в Ялте, он же все еще состоял в труппе Манкевича, где у него были вполне приличные роли, к тому же Манкевич поручил ему работу балетмейстера и Эдмунд Плевицкий с успехом обучал молоденьких танцовщиц: занятие весьма приятное! Нет, разумеется, когда Надежда была рядом, он все свое свободное время отдавал ей, потому что любил жену, да и прельщала она его более, чем любая другая женщина. Но периоды совместной жизни случались все реже, и становились они все короче.
Похвалы Собинова вдохновили Надежду, и теперь она изо всех сил боролась за признание, работая с абсолютной самоотдачей. Главное — чтобы не было "простоев". Главное — все время где-то выступать. Поет она хорошо. И есть надежда, что когда-нибудь ее по-настоящему услышат! Муж полностью ее в этом поддерживал… И Надежда соглашалась на любые условия, даже на самые нищенские гонорары, лишь бы ее слышали как можно чаще, лишь бы каждый месяц иметь хотя бы десяток концертов. Гастроли в Ялте были началом многолетних, практически беспрерывных разъездов Надежды по стране: "За пятнадцать лет изъездила я великие русские просторы, не сосчитать, сколько десятков тысяч верст отмерила, а не объездила всей России…"
Лето 1910 года Надежда Плевицкая провела в Ялте, но в сентябре погода неожиданно испортилась, зарядили дожди, и Ялта опустела. Летний театр Зона, располагавшийся под открытым небом, немедленно закрылся. И Надежда, собиравшаяся возвращаться в Москву не ранее ноября, оказалась без дела.
Столь длительное — два месяца! — безделье она посчитала для себя вредным и принялась искать для себя какой-нибудь работы: здесь, в Ялте.
В городском театре играла украинская труппа Глазуненко: сборы спектакли давали плохие, и Глазуненко, с которым Надежда как-то познакомилась в местном театральном "кружке", пожаловался, что "горит". Ему печем было платить не только актерам, по и за аренду помещения.
И тогда Надежда предложила ему свои народные песни.
Сначала Глазуненко был смущен, отказывался: ему совсем нечего было платить, да и не знал он почти Плевицкую, и слышал о ней немного. Но Надежда гордо пояснила, что в Москве-то ее хорошо знают, потому что она пела у "Яра", а в Ялте сейчас гостило много москвичей, проделавших долгий путь к морю и ждавших теперь, что "распогодится".
Глазуненко решил рискнуть, по, чтобы ничего не потерять в случае неудачи, отказался заключать контракт и обещал Надежде заплатить двадцать процентов от чистой прибыли: если она, эта прибыль, вообще будет.
Так Надежда Плевицкая оказалась на сцене Ялтинского городского театра:
"После третьего звонка, когда занавес, шурша, поднялся вверх, я перекрестилась и вышла на ярко освещенную сцепу. За мной тянулся длинный шлейф моего розового платья. А пол-то грязный, а платье-то дорогое, но Бог с ним, с платьем, — унять бы только дрожь в коленях. А в зале темно, не вижу никого, и лишь пугающе поблескивают из тьмы на меня стекла биноклей. Мне непривычна такая темень, кому я буду петь, с кем беседу поведу, кому буду рассказывать, не этим же страшным стеклам, мерцающим в потемках? Я должна видеть лица и глаза тех, кто меня слушает. Но с первым аккордом мой страх унялся, а потом, как всегда, я захмелела в песнях.
По моему знаку зал осветили. Мне стало уютно. Сверху, из райка, мне кивали гимназистки, мне улыбались из первых рядов. И я уже знала, что все в зале — друзья мои. Успех полный, понапрасну я так волновалась.
В уборной теснился народ. В голове у меня перепутались лица и имена поздравляющих, и во всем теле звучит радость победы.
А на другое утро прочла я в "Ялтинском вестнике" первую обо мне статью: "Жизнь или искусство ". Неизвестный автор ее удивил меня тем, как почувствовал каждую мою песню, будто душу мою навестил".
Статей о Плевицкой было много — особенно в самом начале ее творческого пути.
Тот, первый, ялтинский журналист, восхищался "живою жизнью", "земною силой", поразившей его в пении Плевицкой. Утверждал, что пение ее — это не искусство, это сама жизнь во всей своей неистовой красе!
Прочих критиков пленяла самобытность исполнения, непохожесть на других… Ведь и вправду она была первой "народной певицей" на русской эстраде! Одни ее превозносили, другие пытались низвергнуть, но каждый старался хоть как-то прикоснуться к этому новому, сверкающему таланту, и каждый признавал, что это действительно талант, настоящий талант: только одни считали, что талант Плевицкой — "дурного сорта", а для других это был просто талант, бесценный уже потому, что любой талант — редкость и чудо.
Прочитав в газете благосклонный, восторженный даже отзыв, Плевицкая воспрянула духом и подумала, что, возможно, неудача с театром Зона обернется другой удачей: после этой статьи к Глазуненко просто повалят зрители! Что еще делать в скучной, дождливой Ялте, как не ходить по театрам? Тем более — послушать хваленую московскую певицу. Она написала даже коротенькое, полное орфографических ошибок, но весьма жизнерадостное письмо мужу и приложила полосочку с вырезанной из газеты статьей: вот, дескать, как хвалят твою Дежку, гордись!
II
В Москве о ней заговорили после возвращения отдыхающих из Ялты. Сама Плевицкая еще не прибыла, а о ней уже говорили как о каком-то чуде, необыкновенной певице, буквально потрясшей красотой голоса и мастерством исполнения гостей на вечере у барона Фредерикса. Заранее пытались выяснить, когда намечаются ее концерты, где она будет петь… Но у Плевицкой тогда даже импресарио не было, так что узнать было не у кого.
Журналисты тоже заинтересовались личностью новой "звезды", начали расспрашивать о ней у Судакова, бывшего ее последним московским "работодателем", Судаков не без удовольствия рассказал все, что знал, надеясь, что неожиданная популярность Плевицкой послужит хорошей рекламой его заведению, где, как он был уверен, Надежда будет петь после возвращения из Ялты… Таким образом появилась первая статья о ней в одном из главнейших музыкальных изданий: статью написал некий "К" и опубликовал в журнале "Граммофон" за 1910 год: "Сейчас в большую моду входит Н. Плевицкая, гастролировавшая в "Буффе" и получившая имя певицы народной удали и народного горя. Карьера ее удивительная. Прожила семь лет в монастыре. Потянуло на сцену. Вышла за артиста балета. Стала танцевать и петь в кафешантанах, опереттах. Выступала и с Собиновым, и одна. В "Буффе" среди сверкания люстр пела гостям русские и цыганские песни. Какой прекрасный, гибкий, выразительный голос. Ее слушали, восторгались. И вдруг запела как-то старую-старую, забытую народную песню. Про похороны крестьянки. Все стихли, обернулись. В чем дело? Какая дерзость. Откуда в "Буффе" гроб? Люди пришли для забавы, смеха, а слышат: "Тихо тащится лошадка, по пути бредет, гроб рогожею покрытый на санях везет". Все застыли. Что-то жуткое рождалось в ее исполнении. Сжимало сердце. Наивно и жутко. Наивно, как жизнь. И жутко, как смерть".
Вернувшись в Москву, Плевицкая узнала, что те десять концертов в Ялтинском театре у Глазуненко прославили ее и открыли перед ней широчайшую концертную дорогу, а то, что её принял "высший свет", в одночасье сделало ее модной. Все это было совершенно неожиданно, она и предположить не могла… Но положение срочно нужно было упрочить. Ее могли забыть очень быстро. Поговорили месяц, вышла статья… Сверкнула новая звезда… И — плавно скатилась вниз с эстрадного небосвода! Сколько было таких случаев. Удачу надо хватать за хвост и держать крепко-крепко.
И Надежда наняла импресарио, который быстренько нашел концертный зал, дал рекламу в газеты, заказал в типографии афиши, напечатал билеты… Которые мгновенно разошлись: москвичи хотели услышать ту, о которой столько говорилось этой осенью!
Н.В. Плевицкая у входа на студию звукозаписи
Одним из достоинств внезапно явившейся славы было то, что теперь Надежда могла выбирать, где петь и на каких условиях.
И первым делом расторгла все контракты, по которым ей приходилось петь в ресторанах: ее раздражал вид жующих физиономий. Нет, это был не каприз примадонны, вообразившей себя сродственницей оперным дивам. Просто в крестьянской культуре принято серьезное отношение к песне. К тому же трактиры и рестораны все-таки считались "зазорными" местами, и Надежда, благоговевшая перед матерью, счастлива была написать ей, что все изменилось к лучшему и в "зазорных" местах Дежка больше не ноет.
Первым концертным импресарио Надежды Плевицкой был В. В. Семенов — как она сама его описала, "маленький и пузатенький, с белым кукольным лицом". Договор на десять концертов, с каждого из которых Надежда должна была получить по триста рублей, Семенов заключил с ней еще в Крыму. Когда сборы начали приносить по пять тысяч рублей за концерт, импресарио, похоже, слегка засовестился, но гонорар певице не повысил, зато принялся на каждом концерте публично, прямо на сцене, подносить ей дорогостоящие и громоздкие подарки, которые Плевицкая ненавидела по причине их бесполезности. В конце концов, Плевицкая нашла себе другого импресарио, В.Д. Резникова, предложившего ей куда более выгодный контракт: "Резников сам мне предложил сорок концертов с гарантией: десять — в столицах по две с половиной тысячи рублей за каждую, десять — по тысяче рублей и двадцать — по восемьсот. Вот и достаток ко мне пришел, что позволило мне взять хорошую квартиру в Дегтярном переулке…" Пока квартира обустраивалась, Плевицкая жила в меблированных комнатах Морозова на Большой Дмитровке, особенно жалуемых артистами.
А потом случилось то, о чем Надежда даже и мечтать бы и не посмела: настоящее чудо и такой взлет, какого никак уж не чаяла для себя крестьянка Курской губернии:
"Помню, в первых числах марта белое московское утро. Падал хлопьями тихий снег, ложился мягким пуховиком за окном, на подоконник, причудливо и пышно нарядил деревья, и все стало серебристым и светлым. Снег тихо колдует над Москвой, и впрямь стала Москва, словно Серебряная Царевна в своем покое снежном. Так бы и не отходила от окна, все смотрела, смотрела бы на эти белые колдующие хороводы, на притихшую, запушенную улицу, по которой с храпом проносятся рысаки, в дымке дыхания и снега, а бубенцы бормочут, смеются и все куда-то спешат, спешат. Сквозь белую дымку мелькают дуги расписные, легкие сани, седоки в бобрах. Зимнее московское утро, родимая Москва, Серебряная Царевна моя, сон далекий. Я помню, это было утро посте моего прощального бенефиса в театре "Буфф". В то белое утро, посте театральных именин, я и себя чувствовала именинницей, глядя на цветы и подарки, от которых было тесно в комнате. Горничная Маша, мой неизменный спутник тех лет, принимала мои успехи и на свой счет и говорила:
— Ну и подарков мы вчера получили — пропасть. А успех у нас был — ужасти.
В дверь постучали. Выбежав на стук, Маша вернулась с ошалелыми, круглыми глазами: просит приема московский губернатор Джунковский.
— Милости прошу, — сказала я входящему генералу Джунковскому. Губернатор был в парадном мундире.
Мне была понятна оторопь Маши при появлении в нашей скромной квартире такой блестящей фигуры: было с чего ошалеть.
— Я спешил к вам, Надежда Васильевна, прямо с парада, — сказал Джунковский. — Я приехал с большой просьбой, по поручению моего друга, командира Сводного Его Величества полка генерала Комарова. Он звонил мне утром и просил, чтобы я передал вам приглашение полка приехать завтра в Царское Село петь на полковом празднике, в присутствии Государя Императора.
— Кто же от своего счастья отказывается, — сказала я, вставая. — Только как быть с моим завтрашним концертом? Ведь это мой первый большой концерт в Москве, да и билеты распроданы.
— С вашего позволения я беру все это на себя. Я переговорю с импресарио, а в газетах объявим, что по случаю вашего отъезда в Царское концерт переносится на послезавтра.
Конечно, долго уговаривать меня не приходилось. Я была согласна. Генерал Джунковский сказал, что для меня оставлено место в курьерском, пожелал успеха в Царском Селе и распрощался. От неожиданной радости белого утра, от цветов, которые свежо дышали в моей комнате, у меня приятно кружилась голова. Я видела из окна, как серый в яблоках рысак унес закутанного в николаевскую шинель статного московского губернатора".
…Нет, нам, современным, не понять, что передумала-перечувствовала она в тот день! Быть приглашенной ко двору! Петь перед Государем! Просто видеть Его воочию, быть рядом с ним! Любовь к Царю воспитывалась с детства, в прямом смысле слова впитывалась с молоком матери. Каждый ребенок в России, ложась вечером в кроватку, молился не только о себе и своих близких, но и об Государе! И с возрастом это чувство не уходило, оно только менялось… Становилось иным — качественно. Но оставалось. Царей обожали и обожествляли. Единственная, даже мимолетная встреча с Царем — при выпуске из института благородных девиц или юнкерского училища — оставалась драгоценным воспоминанием, всю жизнь сохраняемым в тайниках души…
Когда уехал от нее московский губернатор, Плевицкая бросилась на колени перед киотом: молиться… Она так восходила к славе, с таким трудом поднялась из самых низов, из кафешантанного хора, и вдруг — уже завтра, завтра! — вершина, о которой еще сегодня утром она и мечтать не смела… Завтра она будет петь перед Царем! Важнее этого концерта у нее уж ничего в жизни не будет, потому что важнее этого ничего просто и быть не может! Господи, Господи, помоги! Только бы завтра петь хорошо! А послезавтра может уж и не быть, не важно, ничего не важно, только — завтра! Вся жизнь до сего момента и то, что будет после, все это — ради одного лишь мига, который наступит завтра, когда она предстанет перед Царем!
"В тот день Маша вертелась волчком, спешно готовясь к отъезду. Она уложила меня в постель набраться сил на завтра, а сама хлопотала. Надобно было решить важный вопрос: какое мы платье наденем. И решили мы надеть белое от Пантелеймоновой и украсить себя всеми драгоценностями, какие только имеются, а на голову еще парчовую повязку.
А позже я узнала, что Государь о моем пышном наряде отозвался неодобрительно и высказал сожаление, что я не была одета более скромно. Позже были скромны мои платья, когда я пела в присутствии Его Величества.
С трепетом садилась я в придворную карету. Выездной лакей в красной крылатке, обшитой желтым галуном, и с черными императорскими орлами ловко оправил плед у моих ног и захлопнул дверцу кареты. На освещенных улицах Царского Села мы подымали напрасные волнения городовых и околоточных: завидя издали карету, они охорашивались и, когда карета с ними равнялась, вытягивались. Такой почет, больше к карете, чем ко мне, все же вызывал у меня детское чувство гордости.
Через несколько мгновений я увижу близко Государя, своего Царя. Если глазами не разгляжу, то сердцем почувствую. Оно не обманет, сердце, оно скажет, каков наш батюшка Царь.
Добродушный командир полка В А. Комаров, подавая мне при входе в собрание чудесный букет, заметил мое волнение.
— Ну чего вы дрожите, — сказал он. — Ну кого боитесь? Что прикажете для бодрости?
Я попросила чашку черного кофе и рюмку коньяку, но это меня не ободрило, и я под негодующие возгласы В Л. Дедюлина и А А. Мосолова приняла двадцать капель валерианки. Но и капли не помогли.
И вот распахнулась дверь и я оказалась перед Государем. Это была небольшая гостиная, и только стол, прекрасно убранный бледно-розовыми тюльпанами, отделял меня от Государя. Я поклонилась низко и посмотрела прямо Ему в лицо и встретила тихий свет лучистых глаз. Государь будто догадывался о моем волнении, приветил меня своим взглядом. Словно чудо случилось, страх мой прошел, я вдруг успокоилась. По наружности Государь не был величественным, и сидящие генералы и сановники рядом казались гораздо представительнее. А все же, если бы я и никогда не видела раньше Государя, войди я в эту гостиную и спроси меня — "узнай, кто из них Царь?" — я бы не колеблясь указала на скромную особу Его Величества. Из глаз Его лучился прекрасный свет царской души, величественной простотой своей и покоряющей скромностью. Потому я Его и узнала бы.
Он рукоплескал первый и горячо, и последний хлопок всегда был Его.
Я пела много.
Государь был слушатель внимательный и чуткий. Он справлялся через В А. Комарова: может быть, я утомилась.
— Нет, не чувствую я усталости, я слишком счастлива, — отвечала я.
Выбор песен был предоставлен мне, и я пела то, что было мне по душе. Спела я и песню революционную про мужика-горемыку, который попал в Сибирь за недоимки. Никто замечаний мне не сделал.
Теперь, доведись мне петь Царю, я, может быть, умудренная жизнью, схитрила бы и песни этакой Царю и не пела бы, но тогда была простодушна, молода, о политике знать не знала, ведать не ведала, а о партиях разных и в голову не приходило, что такие есть. А как я была в политике не таровата, достаточно сказать то, что, когда услышала о партии кадетов, улавливала слово "кадет" и была уверена, что идет речь об окончивших кадетский корпус. А песни-то про горюшко горькое, про долю мужицкую, кому же и петь-рассказыватъ, как не Царю своему Батюшке? Он слушал меня, и я видела в царских глазах свет печальный.
Пела я и про радости, шутила в песнях, и Царь смеялся. Он шутку понимал простую, крестьянскую, незатейную.
Я пела Государю и про московского ямщика:
— Вот тройка борзая несется, Ровно из лука стрела, И в поле песня раздается — Проищи, родимая Москва! Быть может, больше не увижу Я, златоглавая, тебя, Быть может, больше не услышу В Кремле твои колокола. Не вечно все на белом свете. Судьбина вдаль влечет меня. Проищи, жена, прощайте, дети. Бог знает, возвращусь ли я? Вот тройка стала, пар клубится, Ямщик утер рукой глаза, И вдруг ему на грудь скатилась Из глаз жемчужная слеза.После моего "Ямщика " сказал АЛ. Мосолову:
— От этой песни у меня сдавило горло.
Стало быть, была понятна, близка Ему и ямщицкая тоска.
Во время перерыва ВЛ. Комаров сказал, что мне поручают поднести Государю заздравную чару.
Чтобы не повторять заздравную, какую все поют, я наскоро, как умела, тут же набросала слова и под блистающий марш, в который мой аккомпаниатор вложил всю душу, стоя у рояля, запела:
— Пропоем заздравную, славные солдаты, Как певали с чаркою деды наши встарь, Ура, ура, грянем-те солдаты, Да здравствует Русский наш сокол Государь.И во время ретурнеля медленно приблизилась к Царскому столу. Помню, как дрожали мои затянутые в перчатки руки, на которых я несла золотой кубок. Государь встал. Я пела ему:
— Солнышко красное, просим выпить, светлый Царь, Так певали с чаркою деды наши встарь! Ура, ура, грянем-те, солдаты, Да здравствует Русский родимый Государь!Государь, приняв чару, медленно ее осушил и глубоко мне поклонился.
В тот миг будто пламя вспыхнуло, заполыхало, грянуло громовое ура, от которого побледнели лица и на глазах засверкали слезы.
Когда Государя уже провожали, Он ступил ко мне и крепко и просто пожал мою руку:
— Спасибо вам, Надежда Васильевна. Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такой, какая вы есть. Я много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца. Самая простая песня в вашей передаче становится значительной и проникает вот сюда.
Государь слегка улыбнулся и прижал руку к сердцу.
— Надеюсь, не в последний раз слушаю вас. Спасибо!
И снова крепко пожал мне руку.
В ответ на милостивые слова Государя я едва могла вымолвить:
— Я счастлива, Ваше Величество, я счастлива.
Он направился к выходу, чуть прихрамывая, отчего походка Его казалась застенчивой. Его окружили тесным кольцом офицеры, будто расстаться с Ним не могли. А когда от подъезда тронулись царские сани, офицерская молодежь бросилась им вслед и долго бежала на улице без шапок, в одних мундирах. Где же вы — те, кто любил Его, где те, кто бежал в зимнюю стужу за царскими санями по белой улице Царского Села? Иль вы все сложили свои молодые головы на полях тяжких сражений за Отечество? Иначе не оставили бы Государя одного в те дни грозной грозы с неповинными голубками-царевнами и голубком-царевичем. Вы точно любили его от всего молодого сердца"…
III
Песни Плевицкой имели совершенно особое значение для последнего русского Царя.
Появление ее в царском дворце было неизбежно — и это уже не было счастливой случайностью, как знакомство ее с Собиновым и приглашение на оперную сцену: рано или поздно Государь узнал бы о ней и позвал бы петь во дворец.
Государь Николай II любил и ценил русскую песню, как, наверное, никто другой в современной Плевицкой России. А.А. Мосолов вспоминал:
"Подобно отцу, Николай II придерживался всего специфически русского. Помню фразу, сказанную Им знаменитой исполнительнице русской народной песни Плевицкой после ее концерта в Ливадии:
— Мне думалось, что невозможно быть более русским, нежели я. Ваше пение доказало мне обратное; признателен вам от всего сердца за это ощущение.
Царь был большим знатоком родного языка, замечал малейшие ошибки в правописании, а главное, не терпел употребления иностранных слов.
Помню один разговор с Ним по этому поводу. Как-то за чаем беседовали о русском правописании. Принимал участие и князь Путятин. По желанию Государя Путятин принес составленный им список названий родни по-русски, даже весьма отдаленной, по которому тут же Царь экзаменовал детей и нас. Никто не знал весьма многих, в свете малоупотребляемых терминов, что очень радовало детей.
— Русский язык так богат, — сказал Царь, — что позволяет во всех случаях заменить иностранные выражения русскими. Ни одно слово неславянского происхождения не должно было бы уродовать нашего языка.
Я тогда же сказал Его Величеству, что Он, вероятно, заметил, как я их избегаю во всеподданнейших докладах.
— Верится мне, — ответил Царь, — что и другим ведомствам удалось внушить эту привычку. Я подчеркиваю красным карандашом все иностранные слова в докладах. Только министерство иностранных дел совершенно неподдается воздействию и продолжает быть неисправимым.
Тут я назвал слово, не имеющее русского эквивалента:
— Как же передать "принципиально"?
— Действительно, — сказал Царь, подумав, — не нахожу подходящего слова.
— Случайно, Ваше Величество, я знаю слово по-сербски, которое его заменяет, а именно "зачельно", что означает мысль за челом.
Государя это очень заинтересовало, и Он заметил, что при первой возможности учредит при Академии наук комиссию для постоянной разработки русского словаря наподобие французского академического, являющегося авторитетным руководством как для правописания, так и для произношения.
Только в одной области Царь (и этого нельзя ставить ему в вину) допускал послабление своего национализма: большой знаток музыки, Он одинаково ценил как Чайковского, так и Вагнера. "Кольцо Нибелунга" было поставлено на императорской сцене по Его личному почину и возобновлялось регулярно в каждом сезоне.
Добавлю, что национализм Николая II не носил того крайнего, почти монолитного характера, как у Александра III. Сын был гораздо тоньше и культурнее отца, да и не располагал энергией, чтобы приводить в действие крайности, в которые иногда впадал Александр Александрович. Николай II, правда, надевал дома красные крестьянские рубахи и даже дал их под мундир стрелкам императорской фамилии. Носились также с грандиозной мыслью об уничтожении современных придворных мундиров, с заменой их боярскими костюмами московской эпохи. Даже поручили одному художнику изготовить нужные рисунки. В конце концов пришлось отступить перед чрезмерными затратами, которые были бы вызваны подобным планом. Когда подумаешь об одной парче да мехах, не говоря о самоцветных камнях и жемчугах".
IV
После первого визита в Царское Село, чувствуя, что она понравилась, надеясь, что пригласят еще хоть раз, Плевицкая заказала себе весьма скромное — по ее представлению — концертное платье "в русском стиле": похожее на то "боярское платье", в которое обрядили ее, пятнадцатилетнюю, в первый день пребывания в балагане. А к платью — бриллиантовую диадему в виде кокошника. Диадема, разумеется, была совсем не скромной, она стоила целое состояние… Но очень шла к черным волосам Плевицкой и ко всему ее облику, и к этому платью!
Во время последующих визитов в Царское Село и летних концертов в Ливадийском дворце Надежда, памятуя советы "быть скромнее", надевала изо всех украшений только эту одну диадему. И Государю нравился ее "скромный наряд"…
А приглашения следовали одно за другим.
Царь желал слушать ее снова и снова, такое наслаждение доставляли Ему эти простые песни… Великая княжна Ольга Николаевна даже выучилась играть некоторые из мотивов на фортепьяно. А сам Государь любил говорить о песнях Плевицкой, советовал приближенным слушать Плевицкую… Какое-то время подозревали даже, что Царь влюбился в певицу: был же Он влюблен в балерину Матильду Кшесинскую! Но то было до брака Его с обожаемой Алике… И слухи о влюбленности исчезли так же мгновенно, как и появились.
Зато популярность Плевицкой в светских кругах — и вообще ее популярность! — все возрастала. Ведь Надежду Плевицкую теперь называли "царевой любимицей"… И не было обеспеченного человека в Москве и Петербурге, который хоть раз не побывал бы на ее концерте: "На первом моем московском концерте в Большом зале консерватории москвичи удостоили меня бурной овации. А когда я вышла после концерта к автомобилю, меня ждала у подъезда тысячная толпа и так приветствовала, и так теснилась, что студенты устроили вокруг меня живую цепь. У двери автомобиля стоял, и почему-то без шапки, сам московский градоначальник А А. Адрианов. Он помог мне сесть, он что-то говорил, что-то радостно кричали бежавшие за автомобилем студенты. Я вовсе растерялась. Опомнилась я только в курьерском поезде, который мчал меня в Петербург, где я должна была петь на другой же день после московского концерта. Мое купе дышало цветами, в ровной дрожи поезда мне точно кивали головки гвоздик, свежие розы и даже родные васильки, маки, колосья ржи. Откуда только их взяли об эту пору? От озноба, который меня посещает всегда после большого душевного подъема, стучали мои зубы. А Маша то давала мне капель, то горячего мо — лока и тараторила без умолку об "ужастях" московского успеха. Сон не шел ко мне, в голове звенели колокола и сердце ширилось от благодарной любви ко всем людям, ко всему миру за то, что нежданно и незаслуженно — сама не знаю за что — полюбили люди мое простое художество, мои крестьянские песни".
Ливадийский дворец. Современный вид
Между тем в Петербург приехал Эдмунд Плевицкий.
Он ликовал: сбылись самые честолюбивые его мечтания! Наконец-то Надежда получила признание, которое он ей давно пророчил: она сама-то не верила в силу своего таланта, готова была всю жизнь петь хоть хористкой в кафешантане, хоть солисткой в оперетте, хоть цыганские романсы в ресторане лишь бы петь! Он, только он, Эдмунд, поддерживал в ней уверенность в уникальность ее таланта, снова и снова говорил, что путь ее на эстраде должен быть особым, что она не должна идти проторенной тропой, что ей следует выделяться, только тогда ее заметят… Она не верила. Но хотя бы прислушивалась. И вот — свершилось! Ее заметили! Это не только ее, Надежды, это и его, Эдмунда, успех! Его жена — любимица светского Петербурга! В числе ее горячих поклонников — сам Государь Николай II!
И вот Плевицкий приехал, чтобы разделить с ней заслуженный успех. Приехал сюрпризом: последнее время она на его письма не отвечала. Он не сердился на ее молчание и даже не тревожился: она вообще редко писала, потому что для нее выведение каракулей было тяжелым трудом… Плевицкий думал: устала Дежечка, много выступает, много волнуется, часто в высшем свете бывает — некогда писать.
Тревожиться начал, когда они увиделись.
Надежда встретила мужа с каким-то холодным недоумением. Весь вид ее, все ее поведение и обращение явственно показывали, что она не ожидала приезда Плевицкого и теперь тяготится его обществом. Эдмунд был просто потрясен: он не узнавал своей "Надьи"!
Что случилось с ней? Неужели же успех настолько вскружил ей голову? Нет, на нее не похоже: она никогда не была настолько глупой и подлой, чтобы, вознесясь столь высоко, оттолкнуть своих прежних друзей! От нее скорее можно было ожидать излишней щедрости, желания облагодетельствовать всех и вся! Он и приехал-то, чтобы уберечь ее от алчных обманщиков, которые непременно окружат новую знаменитость и постараются воспользоваться ее деревенской наивностью…
Может быть, она полюбила другого? Изменила ему? Это тоже не было похоже на нее, но в жизни случается всякое. Пожалуй, Эдмунд простил бы жене измену. Они так давно не виделись! И даже её деревенское целомудрие могло не устоять перед свободными нравами богемы! Или, возможно, какой-нибудь офицер… Она ведь тоже человек из плоти и крови, ей тоже ведомы соблазны!
Эдмунд пытался честно поговорить с Надеждой на эту тему — и получил тяжелую оплеуху. Хорошо хоть без кровопролития обошлось… Потом Надежда, оскорбленная, долго и яростно рыдала, а Эдмунд просил прощения и капал валерианку ей в чай.
Но даже после оплеухи и последующего примирения в ее отношении к нему не наметилось даже тени прежней теплоты.
Они жили вместе. Надежда представляла всем Эдмунда как своего супруга. Сшила ему новый модный гардероб. Если бывала где-то, то обязательно являлась с супругом: исключение составляли лишь великосветские вечера, куда ее-то приглашали в качестве новомодной диковинки… Плевицкий видел, что праведный гнев ее был совершенно справедлив: она действительно сохраняет верность, и нет никакого офицера, никого у нее нет. Но, несмотря на отсутствие каких-либо внешних причин, прежние взаимоотношения между супругами не восстанавливались. Надежда даже творческими планами и трудностями своими делилась теперь не с мужем, а с импресарио.
Из Петербурга они вместе отбыли в Москву. Плевицкая помогла мужу устроиться в какой-то из театров. Сделала это для того, чтобы "привязать к месту" Эдмунда. Чтобы иметь возможность, как прежде, уезжать от него. Сейчас они уже могли бы позволить себе роскошь жить вместе, не расставаться… Тем более что балетная карьера Плевицкого склонялась к закату, и он воспринимал это со свойственным ему философским спокойствием: как факт, как неизбежность. Он мог бы теперь всегда и всюду сопровождать Надюшу… Если бы она этого хотела.
Но она — не хотела.
Плевицкий не понимал, почему так случилось, но принял и этот удар — так же спокойно и философски, как и свою сценическую "старость". Сама Надежда тоже не понимала… Успех действительно вскружил ей голову, но не в том смысле, что она возгордилась: нет, просто успех пьянил, и все, чего ей хотелось сейчас, это — петь! Петь, петь, петь и чтобы ею восхищались… Она попросту забыла о муже за грохотом аплодисментов, за круговертью московских и петербургских концертов. Он не был нужен ей сейчас. Ей вообще никто сейчас не был нужен, кроме концертного импресарио и публики в залах.
Когда Плевицкий приехал, Надежда неприятно поразилась тому, как безразличен вдруг сделался ей этот человек. Чужой, совсем чужой… Они состояли в браке уже восьмой год. Современные психологи считают, что где-то именно на этом этапе у некоторых доселе вполне благополучных супружеских пар случается кризис взаимоотношений. Плевицкие оказались одной из таких невезучих пар. И выйти из этого кризиса им уже не удалось.
Иногда Надежда задумывалась: а любила ли она хоть когда-то своего мужа? Нет, конечно, они были добрыми друзьями… Но была ли любовь? Или только кипение молодой крови? Только желание иметь какую-то родственную душу в огромном равнодушном мире? Лично ей тогда еще и замуж очень хотелось. Стать мужней женою венчанной. Чтобы перед матушкой и винниковскими своими знакомцами оправдаться… А любовь — была ли?
Возможно, будь они другими, обыкновенными, людьми, не одержимыми сценой, не танцором и певицей, а какими-нибудь обыкновенными… Пусть даже крестьянами, как батюшка с матушкой! Или будь Плевицкий приказчиком, а она барышней из модного магазина… Возможно, тогда их брак был бы гораздо надежнее и она не охладела бы к мужу, потому что и помыслить не смела бы ни о чем подобном! А если бы даже и охладела, у них было бы время и возможность притерпеться друг к другу… Тысячи супружеских пар так и живут: без любви, на одной лишь привычке.
Ведь не противен он ей! Просто безразличен. Не до него ей сейчас. Возможно, потом… Потом она возместит ему все, чего сейчас лишает.
А сейчас все силы, весь огонь души Надежда отдавала песням. Трудно добиться удачи, но не легче ее удержать.
Глава 5 ЦАРЕВА ЛЮБИМИЦА
I
Счастье, что мы не можем предвидеть своего будущего. Особенно если будущее это неизбежно. И тем более когда настоящее так прекрасно, как было прекрасно ее настоящее: незачем отравлять его предвидением будущих печалей. Ведь именно в настоящем Дежку Винникову называли "царевой любимицей"!
И снова, и снова Государь звал ее к себе, чтобы послушать ее простые песни.
"В Царском Селе, в присутствии Государя, я пела уже не раз. Было приятно и легко петь Государю. Своей простотой и ласковостью Он обвораживал так, что во время Его бесед со мной я переставала волноваться и, нарушая правила этикета, к смущению придворных, начинала даже жестикулировать. Беседа затягивалась. Светские, пожилые господа, утомясь ждать, начинали переминаться с ноги на ногу.
Иной раз до меня долетал испуганный шепот:
— Как она с Ним разговаривает!
Это относилось к моей жестикуляции. Но Государь, по-видимому, не замечал моих дурных манер и Сам нет-нет, да и махнет рукой.
Как горячо любил Государь все русское. Я помню праздник в гусарском полку, большой концерт с участием В.Н. Давыдова, Мичуриной, Ленского и оперных итальянцев. Я была простужена и пела из рук вон. Государь заметил мое недомогание и, ободряя меня, передал через Алексея Орлова, что сегодня Он особенно мною доволен. Я до слез была тронута Его чуткостью, но знала, что пою ужасно.
Государь долго мне аплодировал. Меня усадили за стол недалеко от Него. Он ободряюще на меня посмотрел. После меня на эстраду вышел итальянский дуэт. Государь взглянул в программу, посмотрел на итальянцев и затем на меня. Голоса итальянских певцов звенели чистым хрусталем, и казалось, что зал не вместит их. Но и после победного финала Государь остался холоден и, похлопав раза два, отвернулся и снова посмотрел на меня, точно желал сказать глазами: "Теперь ты понят, что хотя ты и безголосая, но поешь родные песни, а они пусть и голосистые, да чужие ".
Государь не раз говорил мне о желании Ее величества послушать меня. Но как-то все не удавалось, В Ялте каждый год Государыня устраивала трехдневный благотворительный базар, который всегда заканчивался концертом. В этом концерте я ежегодно участвовала, но Государыня за дни базара так уставала, что на концерте никогда не присутствовала, а посещали его Государь и все Великие княжны.
Мой успех в Царком кому-то не понравился. Я получат много анонимных писем.
Однажды, в день концерта в Царскосельской ратуше, я получила письмо, в котором неизвестный доброжелатель уговаривал меня не ехать в Царское, так как на меня готовится покушение. Я передала письмо командиру конвоя. Он сказал мне по телефону, что все это глупости. Да и я думала то же. Вечером, отправляясь в Царское Село, я села в карету у подъезда Европейской гостиницы и заметила, что за мной неотступно следует лихач с двумя господами в чиновничьих фуражках. На Царскосельском вокзале двое этих чиновников не спускали с меня глаз. В вагоне они сели рядом со мной. Тут я подумала, что это, верно, мои убийцы и есть. В Царском они проводили меня до ратуши, а потом куда-то исчезли.
Чтобы не прослыть трусихой, я никому ничего не сказала. Но каково же было мое волнение, когда на обратном пути снова замаячили два этих господина. Они следовали за мной до самой гостиницы. Когда я была наконец у себя, мне позвонил из Царского князь Трубецкой, осведомляясь, все ли благополучно. Я сказала, что покуда жива, но какие-то разбойники за мной следили неотступно, а что они намерены делать дальше, не знаю. Князь посмеялся и успокоил меня, сказав, что эти чиновники были присланы не для убийства, а для моей охраны, из-за анонимного письма"…
Прослышав об этом случае, Государь послал Плевицкой подарок — в качестве благодарности за песни и "компенсации" за пережитый страх — огромную бриллиантовую брошь с двуглавым орлом.
Эту брошь Плевицкая считала своим талисманом и надевала на каждый свой концерт. Да, ни в одном городе, ни одного концерта не пела она без этой броши! Она верила: если "царева" брошь на ней — значит, и "петься будет легко".
II
Итак, Плевицкая — на пике славы. Наступило лучшее время в ее жизни: время сбора урожая… Время исполнения всех желаний: давних, затаенных или даже неосознанных. Теперь она могла позволить себе все! Все, чего только сердце попросит!
В том благословенном 1911 году она была еще так молода. И уже так знаменита!
Образ ее уже вдохновляет художников.
Молодой, но уже популярный скульптор Сергей Тимофеевич Коненков создает скульптурный портрет Плевицкой: стоит Дежка в сценическом своем русском наряде, чуть склонила голову, лукавство в улыбке и во взгляде полузакрытых глаз, горло чуть напряжено исходящим из него звуком, сплетены говорящие пальцы — ее рукам он особенное внимание уделил, они словно "на первом плане", первыми бросаются в глаза, а потом уже — лицо под кокошником.
А Александр Бенуа, писавший как раз в то время либретто к "Петрушке" Стравинского, позже вспоминал, что "идея этого номера пришла мне в голову, когда я услышал популярную песенку Плевицкой, которая в те дни приводила в восторг всех — от монарха до последнего его подданного — своей типично русской красотой и яркостью таланта".
Но особенно упрочилась ее слава после восторженной статьи, написанной одним из виднейших театральных критиков того времени, Александром Рафаиловичем Кугелем, умевшим несколькими едкими фразами буквально уничтожить репутацию популярнейшего актера; Плевицкую же Кугель буквально возвеличил:
Н.В. Плевицкая. Скульптор С.Т. Коненков
"В душевной жизни нашей, однако, гораздо чаще чувствуется голод из-за недостатка простоты, наивной лирики, беспечального смеха, чем голод по жирным композициям. Следует различать: наши страдания и наши рефлексы страданий. Публика, слушающая Плевицкую, самая разнообразная: в нее входят организации от довольно простых до крайне сложных и тонких. Но различны рефлексы, отражения собственных настроений и страданий, а не сами настроения и страдания, которые так легко свести к немногочисленным группам. И когда пела Плевицкая, она своим простым, но самобытным, необычайно лирическим искусством свела сложные рефлексы, затейливые тени душевных порывов к их, если можно так выразиться, реальным первообразам. И тут уже произошло слияние душ — как чего-то вполне определенного, ясного и простого. Ну, может быть, это и не совсем вразумительно, что я написал. Но ведь есть же что-то в художественном примитиве, что не только равно художественной сложности, а гораздо ее выше, потому что нужнее мне, вам, толпе, купцам, философам. В эту минуту нам нужно возвращение к первоисточнику, нам нужна мать сыра земля, в которую непреоборимо хочется уткнуться лицом. Я не хочу вина, чаю, шоколаду. Дайте мне стакан воды. Только воды, Н20, живой, чистой влаги, или песни Плевицкой, или сказки, или полевых цветов и свежего сена".
Это действительно был успех! Абсолютный и пока еще не поколебленный ничьей враждебностью.
В зените своей славы прибыла Дежка на родину, в Курск. Сбылось то, чего так боялась ее мать: беспутная Дежка вернулась… Только вот произошло это совсем не так, как Акулине Фроловне представлялось: не в позоре, а в почете въезжала Дежка в город. И не пришлось таить ее возвращение от друзей и знакомых… Хотя бы потому, что невозможно оказалось утаить: торжество городского масштаба!
На концерте в оперном театре собрался весь высший свет Курска, а в главной ложе, на самом почетном месте, Плевицкая пожелала видеть свою мать. Акулина Фроловна смущалась чуть не до слез, когда направляли на нее бинокли, когда со всех сторон волнами шел шепот: "Это ее мать! Ее мать!" По окончании концерта Надежда со сцены в пояс поклонилась главной ложе — и Акулина Фроловна, совсем застеснявшись, тоже вскочила и поклонилась в пояс дочери, до слез умилив этим всех присутствовавших.
И В. Плевицкая в 1910
Во время того же памятного Курску концерта забавное происшествие случилось — долго потом вспоминали и рассказывали как анекдот: Николай Винников, старший брат певицы Плевицкой, будучи пьяным уже сутки, еще со свадьбы другой сестры, что накануне справлялась, в непотребном виде рвался на концерт — без билета, пьяный, грязный, на такой концерт, где вся знать курская присутствовала! — и обзывал городовых, которые в дверях его удерживали, и, бия себя кулаками в грудь, твердил, что он певице братом приходится и желает послушать, как это там она петь будет. Едва удержали.
Вызвали околоточного. Тот, обеспокоившись (а вдруг и впрямь брат? Ведь Плевицкая — из крестьян, это все знают, и мать у нее такая простая, скромная старушка), пытался вежливо буяна уговаривать: де "нехорошо в таком расстроенном виде в зал входить и сестрице неприятности делать". Но Николай, видя робость околоточного, совершенно распоясался, и пришлось посылать уже за полицмейстером, чтобы решал, что делать с пьяным хулиганом господином Винниковым.
А полицмейстер, не желая упускать ни мгновения долгожданного концерта, приказал околоточному усадить пьяного господина Винникова в его, полицмейстера, личный экипаж и "показать ему город Курск со всеми достопримечательностями, а заодно за его же, полицмейстера, счет угощать, сколько душенька примет". Отдав приказ, полицмейстер поспешил на концерт, оставив обомлевшего околоточного и торжествующего Николая.
Околоточный приказ выполнил.
Всю ночь возил по городу пьяного Николая и знакомил с "достопримечательностями" — с ночными питейными заведениями, которые вообще-то были незаконны, а потому досконально известны околоточному надзирателю. К утру, сам уже основательно "угостившийся", околоточный привез полубесчувственного Николая к дому его шурина, мужа Дунечки, где в тот момент гостили и остальные Винниковы — Акулина Фроловна и жена Николая Параша: те, кто смог приехать, потому что самая старшая, Настя, все еще жила в Киеве, где служил ее муж, и детей ей не на кого было там оставить, а везти с собой всю ораву она не решалась; а тихая хромоножка Маша неожиданно для всех вышла замуж за "образованного" — за сельского фельдшера из разночинцев — и уехала вместе с ним тоже куда-то под Киев, куда его направило начальство.
Акулина Фроловна, Дунечка и Параша от стыда едва не сгорели, ругали Николая ругательски, чуть не проклинали — опозорил на весь Курск свою знаменитую сестру-певицу! И в такой день! В день первого ее концерта в родном городе! А Надежда посмел-лась только да поблагодарила полицмейстера за находчивость и заботу о ее беспутном брате.
Да, самым главным событием 1911 года для Надежды все-таки было возвращение на родину: она слишком долго считалась "непутевой" в родной деревне, и близким пришлось много стыда за нее принять, а теперь вот она приехала богатая, во славе, и они могли наконец не стыдиться, а гордиться своей Дежкой.
В свои двадцать шесть лет она взошла на такую вершину. Наверное, не было во всей России другой крестьянки, которая бы пела самому Царю и которую бы Царь называл любимой своей певицей! И уж наверняка в Курской губернии другой такой никогда не рождалось.
И уж тем более в Винникове. Когда она в родную деревню приехала, все посмотреть сбежались, но даже давние знакомые, даже почтенные старики — друзья ее покойного отца — не осмеливались с ней, столичной знаменитостью, первыми заговаривать. Надежду это смущало и печалило.
У Машутки, подруги детства, пятеро детей… Одевается, как старуха, во все темное. А ведь они ровесницы: двадцать семь лет. Надежде тоже пора бы о детях задуматься, и она задумывалась, но дальше того не шло — некогда ей было носить, рожать, кормить и воспитывать. Городские и благородные — те нянькам-гувернанткам сдают, но она все-таки деревенская, ей дико казалось отдать свою кровиночку в чужие руки. Раньше — пока скитались они с мужем по городам, по гостиничным номерам, не имея родного угла, — она очень боялась забеременеть. Береглась изо всех сил и радовалась, что получается уберечься, что ей ни разу не пришлось (как другим кафешантанным) обращаться к акушеркам или бабкам-знахаркам, рисковать жизнью, вытравляя плод. Но сейчас, глядя на племянников и на Машуткиных детей, она действительно обеспокоилась: пора бы и ей родить маленького — себе и матушке на радость!
Она достаточно богата, чтобы не бояться за будущее ребенка. Достаточно знаменита, чтобы не бояться за свою карьеру. И у нее теперь есть дом. Дом, где могли бы расти ее дети под надзором ее матушки и сестриц. Да, матушка вполне могла бы приглядеть за ее детьми, пока сама Надежда будет ездить по городам, давать концерты. И все было бы хорошо.
Если бы не нынешние ее взаимоотношения с Плевицким. Нет, внешне все оставалось по-прежнему: они — добрые друзья, вежливы и ласковы друг с другом, и Плевицкий всегда и во всем ее одобряет и поддерживает. Она все еще нуждалась в его одобрении и поддержке. И в его дружбе. Но она больше не любила Эдмунда Плевицкого. Ушла любовь. Надежда чувствовала, как между ними растет и ширится трещина — так не вовремя! Она ведь только-только всем в Винникове Плевицкого представила, и он так понравился ее матери!
Да, Акулина Фроловна просто души не чаяла в галантном поляке. Плевицкий сразу же стал ее любимым зятем. Она не уставала хвалить его, подкладывала ему кусочки повкуснее… И Плевицкий платил ей неизменной любезностью, которую Акулина Фроловна принимала за искреннюю сыновнюю любовь.
И Надежду это ужасно злило.
Прежде всего потому что так она стосковалась по своей матушке за годы разлуки, что теперь, обретя ее вновь и убедившись в незыблемости ее любви (словно когда-либо в этом сомневалась!), стала ревновать ее ко всем на свете, ко всему миру и уж подавно ревновала к человеку, узами крови с ней не связанному. Обидно ей казалось, что матушка так его — чужого — полюбила.
Ну и потом — неприятно было, что матушка так ценит и любит человека, которого она, Надежда, уже разлюбила.
Теперь она словно бы обязанной жить с Плевицким себя чувствовала из-за того, что он так мил Акулине Фроловне и всеми окружающими принят и признан как ее, Надеждин, муж.
…В то время она еще не помышляла о разводе. Но и с детьми тоже не торопилась, хоть и хотелось уже поняньчить маленького: дети только скрепят их союз — а ну как Надежда еще сильнее к нему охладеет? Ну как он из безразличного противным станет? Как жить тогда? И не уйдешь от него, если дети.
Эдмунд Плевицкий, со своей стороны, если и чувствовал охлаждение Надежды, то не разделял его уж наверняка: он любил в ней не только желанную, безмерно восхищавшую его женщину, но и залог своего будущего процветания, своей покойной старости. Уже теперь он не состоял ни в какой труппе, наслаждался вполне заслуженным, по его мнению, отдыхом, при этом материально полностью зависел от жены и ничуть этой зависимостью не тяготился.
Ее же и это тоже раздражало, хотя она никогда не попрекнула бы его "куском хлеба" — нет, никогда, подобный упрек ее бы саму унизил.
Да, в тот год — 1911-й — Надежда Плевицкая была почти счастлива.
"Почти" — потому что в жизни ее недоставало любви.
III
Уже тогда Надежда начала уставать. Почему-то два года успеха забрали у нее сил больше, чем девять лет странствий с кафешантаном и разными театральными труппами. Наверное, теперь от нее заведомо ждали слишком многого — и она боялась не оправдать ожиданий публики и этого многого им не дать. Она боялась разочарования. Теперь ей было что терять.
И потом, еще молодая, она уже не имела тех юных сил и беспечности, когда легко давалась ей кочевая жизнь — будто птица перелетная, без родного гнезда. Ей захотелось вернуться домой. Нет, насовсем вернуться Надежда пока еще не могла себе позволить, но ей захотелось иметь дом, куда она сможет вернуться когда-нибудь, возвращаться время от времени, где она сможет спрятаться от шумного мира, от славы (некогда вожделенной, вдруг ставшей тяжелым грузом), стать самою собой, прежней Дежкой, и чтобы видели в ней именно Дежку, а не "легендарную Плевицкую". Она решила построить дом. Свой, собственный дом. Где когда-нибудь будет жить в деревенской тиши, вспоминая тревожную, славную свою молодость.
Плевицкая вернулась в Курск, чтобы ехать оттуда вместе с мужем в Винниково: представить Эдмунда семье и односельчанам — их мнение о ней для Надежды по-прежнему было важно, и хотелось, чтобы все видели, что женщина она честная, мужняя жена, — и пройти по тропинкам детства, отдохнуть душой, набраться сил для новых столичных подвигов.
"С сердцем, полным добрых чувств, словно готовая мир обласкать, начат я странствовать по родным просторам и городам, где давно меня ждали в гости. В 1911 году осуществилась моя заветная мечта: Мороскин лес по краю моего родного села, куда я в детстве, на Троицу, бегала под березку заплетать венки и кумиться с Машуткой, наконец стал моей собственностью. К четырем десятинам леса прилегают двадцать десятин пахоты, и там, где пахота подходила к лесу полукруглой лужайкой, я начала строить дом-терем из красного леса по чертежам моего друга В.И. Кардосысоева. Моя усадьба граничила с имением М.И. Рыжковой, и мои северные окна выходили на чудесную поляну Рыжковых, а сочная и буйная трава, а цветы на ней были так разнообразны и красивы, что соблазняли нарушить заповедь — не укради. Словом сказать, это была та самая поляна, на которой дед Пармен, стороживший сенокос барыни Рыжковой, не раз собирался нам, деревенским девчонкам, ноги дрекольем переломать, чтобы неповадно было сено топтать".
В Винникове Надежда Плевицкая снова становилась Дежкой, оставаясь при этом "божественной Плевицкой", — ах, какое наслаждение получала она от соединения этих двух своих личностей, от слитности ощущений! И счастье ее от обладания своей землей было безмерно… Своя земля! Только крестьянин может в полной мере понять значение этих слов: своя земля.
У Дежки Винниковой теперь своя земля была. И она строила свой дом. Дом, где она сможет отдыхать летом. Дом, который был ей поистине жизненно нужен. Потому что пока она снимала у соседей-помещиков летний домик, где было ей не слишком-то удобно, потому что он только вот что не разваливался, а так — продуваем был всеми ветрами. Но и этот домик был для нее драгоценным прибежищем. Отдыхать в деревенском доме матери она не могла: какой уж тут отдых, когда столько ребятни кругом, да и стыдно не помогать по хозяйству. А в деревню она приезжала настолько измотанная, что ей уже не до хозяйства было. После продолжительных гастролей она возвращалась совершенно без сил, теряла в весе по пять-семь килограммов, потому что во время концертов неизменно волновалась и совершенно ничего не могла есть… И после гастролей всегда долго и трудно возвращалась к обычной своей жизнерадостности. В Москве же ей также не было отдыха. Она была — знаменитость. А знаменитостям отдых вроде как и не положен…
"Сколько было бы обиду если бы я уехала из Москвы, не отведав хлеба-соли у многочисленных моих друзей. Эти пышные обеды и банкеты отбирали у меня последние силенки, которые еще оставались от концертных поездок. А жестокие хлебосолы к тому же и песен просили.
— Ну спойте, дорогая, ну что вам стоит.
Сказавший такие слова сразу становился для меня неприятным человеком. Им я даже объяснять не желала, чтобы, когда бы петь мне "ничего не стоило " я не теряла бы по пятнадцати фунтов в весе и не трясла бы меня за кулисами лихорадка, и не пила бы я бездну успокоительных лекарств, и наконец не мучилась бы с расстроенными нервами.
Песни петь, их любить и выносить любимое, затаенное и душевное на суд чужой толпы, стало быть, что-нибудь да стоит. А когда толпа полюбила тебя, возвела на высоту за песни, то куда как надобны силы, чтобы устоять наверху, — ведь падать с высоты страшно, а толпа от своих любимцев требует много, но прощает мало, ничего не прощает.
Вот для того-то, чтобы сил даром не бросать, я рвалась из Москвы к себе, в село Винниково, на простор. Там от цветущих садов веет райским дыханием, там вечерними зорями убаюкивает переливами родной соловей, а поутру разбудит ласковая мать".
К счастью, вместе с ней в Мороскине поселилась мать, полностью взявшая на себя хлопоты по хозяйству, ловко распоряжавшаяся прислугой, которую Надежда привезла с собой из Москвы, и так же ловко умевшая отгонять непрошеных гостей. Впрочем, когда Надежда отдыхала достаточно для того, чтобы гостей принимать с удовольствием, Акулина Фроловна принимала их со всей щедростью русского гостеприимства и униженно просила прощения у тех, кого ей ранее случалось прогнать. Она ведь не со зла! Она ведь ради дочери! Надежечка так замучилась, так исхудала. Доктора велели ей полный покой. Вот она, мать, и обустраивала полный покой. А ала ни на кого не держала! Разумеется, гости на нее не сердились. А если и сердились на грубую деревенскую старуху, так неделикатно прогонявшую их, в гости приехавших, то не осмеливались этого показать, боясь смертельно оскорбить этим Надежду: все знали, что Плевицкая мать свою просто боготворит.
К тому моменту взаимоотношения Надежды с Эдмундом Плевицким из супружеских перешли скорее в братско-сестринские. Нет, иногда они делили ложе, но все реже и реже. Плевицкий жил — и роскошно жил — за ее счет, но Надежда все еще испытывала к нему некоторую благодарность, да и была между ними та теплота, которая иной раз связывает людей крепче любовных уз, но страсть ушла. И Надежда разлюбила — первой. Она это понимала и знала, что он понимает и что он рад бы возобновлению прежнего, и чувствовала из-за этого какой-то стыд. И откупалась от стыда — деньгами.
У Плевицкого появились любовницы. Не в Винникове, разумеется, там его бы за блуд просто убили… Но в те периоды, когда Плевицкие жили в городе, Эдмунд весьма активно изменял жене: он был все еще красив, все так же галантен, да еще и богат благодаря жене, а посему пользовался у женщин неизменным успехом.
Надежда знала о его изменах, но не ревновала. Потому что знала: при всем при этом он все еще ее любит. И, стоит ей только поманить его, приласкать… Да только она не поманит. Она разлюбила его — первая. А значит, и вина за его измены — на ней. И она ему все позволяла. Делала вид, будто ничего не замечает, чтобы не обидеть его ненароком. Новые взаимоотношения с мужем ее забавляли. И немного раздражали. Потому что, не ревнуя, она завидовала "неверному мужу". Ее-то сердце все еще оставалось свободным. Ее жизнь была так скучна и пуста…
Даже слава всенародная, сделавшись привычной, больше не радовала ее. Тем более что на эту славу по-прежнему приходилось много и тяжело работать. А сил и огня прежнего уже не было. Когда-то она готова была петь и забесплатно, лишь бы слушали. Потом пела, чтобы прославиться. Теперь — чтобы славу удержать… А это уже сделалось скучно, этого было мало.
Ей хотелось чего-то большего. Чего-то более важного, чем слава. Чего-то, чтобы наполнило ее душу теплом и светом, вернуло ей прежнюю невинную радость жизни…
Она смотрела на Плевицкого, у которого славы-то никакой не было, а радость жизни была, и смертельно завидовала ему!
Только в родном Винникове, погружаясь в мир своего детства, она начинала чувствовать себя хоть сколько-то счастливой. Она всегда очень любила мать, но с годами это чувство, вместо того чтобы как-то поблекнуть, измениться, как это часто бывает у повзрослевших дочерей, — с годами любовь к матери становилась только сильнее. Это была какая-то отчаянная психологическая зависимость. Возможно, происходило это потому, что у самой Надежды детей не было и подсознательно себя она все еще ощущала ребенком. Какие бы великие победы ни одерживала она, как бы ни была велика ее слава, все равно: рядом с матерью она чувствовала себя все той же восьмилетней Дежкой с тонкой косицей. И каждое слово, каждое желание матери были для нее — законом. По приказанию матери она готова была сделать все что угодно: даже если сама считала бы такой поступок вопиющей глупостью или серьезной ошибкой. Позже в этой глупости или ошибке она винила бы только себя… Себя. Не мать. Мать была для нее выше всякой критики.
И каждый день, проведенный рядом с матерью, был для нее счастьем, и она не уставала умиляться на то, как прекрасна и проста эта деревенская жизнь, от которой когда-то готова была бежать хоть в монастырь, хоть в балаган, хоть к самому черту на рога!
IV
Где-то приблизительно в это же время популярный кинорежиссер Василий Гардин взялся снять Надежду в главных ролях в двух кинофильмах: "Власть тьмы" и "Крик жизни".
Сценарии фильмов писались специально "под Плевицкую", хотя "Власть тьмы" была экранизацией нашумевшей драмы Льва Николаевича Толстого. Съемки производились в ее только что отстроенном имении: на фоне деревянного терема дивной красоты, который многие считали даже архитектурным шедевром в псевдорусском стиле. Да и зритель, собственно, шел смотреть не очередной художественный фильм с звучным названием, а Плевицкую: на киноэкране, причем без голоса! Снять Плевицкую в немом фильме показалось Гардину весьма увлекательным. А ей самой хотелось причаститься нового искусства и попробовать себя в качестве драматической актрисы. Кого конкретно играла Надежда Плевицкая во "Власти тьмы", не писали даже в газетных рекламах этого фильма. Гардин вспоминал не без ехидства о кинематографических экзерсисах знаменитой певицы: "Плевицкая работала с забавным увлечением. Она совершенно не интересовалась сценарием, ее можно было уговорить разыграть любую сцену без всякой связи ее с предыдущей…"
Других воспоминаний об этих фильмах, к сожалению, не осталось, как и самих лент: их смыли после революции как "не представляющих художественной ценности"! Да что там два фильма с Плевицкой: смывались фильмы с Верой Холодной, истинные шедевры, пользовавшиеся бешеной популярностью как русской, так и зарубежной публики! Из пятидесяти фильмов "королевы экрана" уцелело четыре с половиной… И — документальный фильм, запечатлевший ее похороны. Так что исчезновение двух фильмов с "сермяжной царицей" в главной роли можно считать не самой тяжелой, хотя и обидной, утратой русского искусства — тем более что в них Плевицкая была "без голоса", а любили именно ее голос, сохранившийся в довольно-таки приличных американских записях. Впрочем, об этом — позже… До Америки пока еще — на свое счастье — не доехала.
Успех избаловал Надежду настолько, что она осмелилась наконец дать интервью одному бойкому журналисту из "Утра России", — до того не решалась с журналистами разговаривать, стыдясь своего невежества. А тут — решилась, ведь и говорить-то он с ней хотел на тему, более чем понятную, родную: о ее песнях! Все просто… Казалось бы, кто может лучше нее, Плевицкой, рассказать о народной песне? Хотя бы в этой области она была уверена в своих познаниях! Здесь она могла блеснуть! И блеснула…
"Мне особенно больно, когда господа-этнографы обвиняют мои песни в ненародности. Господа-этнографы приезжают в деревню с граммофоном, запишут пару песенок и уедут, а я родилась и жила в деревне и знаю ее. Меня упрекают, что я пою ненастоящие песни, из сборников. Но, поверьте, я изучила все сборники — и Филиппова, и Римского-Корсакова, и Мельчукова, и Ильинского, и все, что можно, я оттуда беру. Но, если петь оттуда все, никто не станет слушать, это скучно, архаично. Я пою песни, которые правдиво рисуют народную жизнь, создают яркие картины. Я пою "Ветку-однолетку ", которую я пела с подругами в деревне, пою "Хаз-Булата", которого мы распевали девушками. "Ухарь-купец", на которого так нападают, написан на слова Никитина, "Тихо тащится лошадка" дает трогательную картину крестьянского горя… Вообще все искреннее, талантливое, понятное народу, близкое ему, рисующее его жизнь правдиво, трогательно, я пою, не считаясь с тем, вошло ли это в сборники ученых или нет. И уж в знании народной жизни со мной, крестьянкой, не господам — этнографам с их граммофонами спорить. Я ни на что не претендую, но я певица народная, народ меня понимает, я ему близка…"
Надежда осталась очень довольна и тем, как она все рассказала, и тем, как журналист написал, обрамляя ее цитаты в "благородное негодование", "искреннее недоумение" и "с трудом сдерживаемые слезы, зазвучавшие в голосе певицы".
Но это маленькое интервью вызвало совершенно не ту реакцию, какую она ожидала…
В редакцию "Утра России" пришло возмущенное письмо от Митрофана Ефремовича Пятницкого, известнейшего собирателя и исполнителя русских народных песен, основавшего в 1910 году свой знаменитый русский народный хор: "Госпожа Плевицкая чувствует себя обиженной "этнографами"… Может ли кто-нибудь обидеть такую самоуверенную "крестьянку", для которой кажутся неинтересными "архаичные" народные мелодии? Невзлюбила госпожа Плевицкая сложившуюся веками народную песню и утверждает, что "Хаз-Булат", "Ветка-однолетка" и другие песни ее репертуара вполне народные и что "не этнографам с ней в знании народной жизни спорить"… Удивляемся, зачем понадобилось газете публиковать смешные претензии милейшей Надежды Васильевны".
Письмо Пятницкого напечатано не было. Но его переписали и "пустили по рукам" — мало кто из представителей музыкальной богемы не прочел его. Поскольку среди интеллектуалов Пятницкий и его этнографические постановки пользовались куда большим уважением, нежели популярная и модная Плевицкая, поднялись голоса в защиту этнографов и настоящей русской песни. И очень скоро Плевицкой пришлось раскаяться в этом своем единственном интервью.
До сих пор на "цареву любимицу", на "первую народную", "на сермяжную царицу" нападать не осмеливались. Но до сих пор она была скромна! Или — пела, или — молчала. А тут осмелилась заговорить, да как! Высказывания Плевицкой на страницах "Утра России" сочли наглыми и претенциозными. Тут же появился комический куплет, высмеивающий "сермяжную царицу", в котором, в частности, были такие слова:
А вот вам баба от сохи Теперь в концертах выступает, Поет сбор разной чепухи. За выход тыщу получает…Появились и карикатуры на Плевицкую, высмеивающие заодно и ее почитателей. В частности, на той, что была напечатана в "Сатириконе", был изображен эдакий домашний концерт: на стене висит плакат "Все билеты проданы", на стульях вдоль стены — разряженная барыня, барин с моноклем в глазу, гимназистка в передничке и студент в форме, а перед ними — кухарка, поющая и аккомпанирующая себе на кастрюле, и в уродливой этой кухарке с широко разинутым орущим ртом любой мог легко узнать черты "царевой любимицы"… Подпись: "Теперь каждый может позволить себе концерты своей собственной Плевицкой".
Еще один критик — умный и тонкий, к чьему мнению внимательно прислушивалась общественность, — написал статью, внешне хвалебную, но буквально сочившуюся скрытым ядом. Эпиграфом к статье было "явление седьмое" из "Плодов просвещения" Л.Н.Толстого.
Григорий (кухарке): Давай капусты кислой!
Кухарка: Только с погреба пришла, опять лезть. Кому это?
Григорий: Барышням тюрю. Живо! С Семеном пришли, а мне некогда.
Кухарка: Вот наедятся сладкого так, что больше не лезет, их и потянет на капусту.
1-й мужик. Для прочистки, значит.
Кухарка: Ну да, опрастают место, опять валяй!
Ехидный критик сравнивал зрителей, восхищавшихся пением Плевицкой, с теми самыми барышнями, которые "объелись сладкого", то есть пресытились классической музыкой, пением итальянцев и прочих иноземных соловьев. Восхищался мудростью "1-го мужика", который нашел такое точное определение происходящему: дескать, увлечение народными песнями Плевицкой — это "для прочистки", а потом снова вернутся к "сладкому" и с новым наслаждением станут слушать итальянцев. Ее же, Плевицкой, искусство, естественно, играло роль "тюри" или "кислой капусты"…
Заласканная, захваленная, привыкшая к повальному восхищению и ослепительной славе, Плевицкая восприняла все это настолько болезненно, почувствовала себя настолько глубоко оскорбленной, что даже и впрямь начала хворать, хотя прежде отличалась несокрушимым здоровьем… Поклонники подняли шум, обвинили противников в "травле", хотя и травли-то никакой не было, мало кто из великих не удостаивался в те вольные времена насмешливой критики: даже Шаляпина не пощадили… Но другие спокойно "встречали удар", понимая, что невозможно быть знаменитым — и не подвергаться нападкам. Федора Ивановича Шаляпина даже забавляли газетные шаржи, он вырезал их и сохранял в особом альбоме. А Надежда Плевицкая не умела и не желала сносить насмешек.
Как большинство деревенских, она была болезненно самолюбива.
Больше интервью она не давала — до самой революции.
А в газетные публикации, где упоминалось ее имя, Плевицкая вчитывалась теперь с подозрительностью, выискивая какое-нибудь очередное оскорбление. Кто ищет — тот всегда найдет: некий театральный деятель — не критик даже, а режиссер — написал о Плевицкой восхищенный очерк, в котором, однако, упоминал, что она — "простая женщина", что "концертное платье дурно сидит на ней", что она "кажется, вовсе не знает, как вести себя на сцене", но при этом преображается несказанно, стоит ей только запеть! Похвалы Плевицкая не удостоила внимания, потому что считала их само собой разумеющимися, зато слова о "дурно сидящем концертном платье" нанесли еще одну рану ее самолюбию, после чего белье она стала покупать в очень дорогом английском корсетном магазине и нашла портниху-волшебницу, русскую по происхождению, но притворявшуюся, как водится, француженкой, которая и шила ей те самые знаменитые концертные платья, облегавшие ее фигуру как перчатка.
V
Осень и зиму Надежда, как всегда, провела в концертных турне, работала напряженно, с обычной своей самоотдачей, но прежних сил у нее уже не было, и, несмотря на благословенный летний отдых в родном Винникове, уже к Рождеству она утомилась настолько, что приходилось вдвое ужимать концертную программу, чтобы певица могла выстоять на сцене, не лишившись чувств. Да, она начала падать в обмороки. Прежде считала это прихотью избалованных барышень: чуть что не по ним — хлоп в обморок, да прямо в объятия кавалеру! Но теперь чувство дурноты почти не отпускало ее, а случалось, что после концерта в гримерной ее окутывал мгновенный мрак, и приходила в себя она уже лежа на софе, в окружении встревоженных горничной, гримерши и распорядителя. Гримерша терла ей виски одеколоном. Маша же привычным жестом подставляла тазик: после обмороков Надежду всегда рвало.
Карикатура на Н.В. Плевицкую. Начало XX в.
Был момент, когда доктора заподозрили беременность. И пару недель Надежда пребывала в блаженно-радостном состоянии: хоть опостылел ей Эдмунд Плевицкий, но малыша-то хотелось! Но — увы… Беременна она не была.
Ладно бы только обмороки и слабость: она начала худеть, и похудела почти что в два раза! Срочно приходилось заказывать новые концертные платья, но к тому моменту, когда они были сшиты, оказывалось, что и новое платье уже висит на ней как на вешалке! Худоба в то время еще не считалась модной, к тому же, худея, Надежда становилась не тоненькой и воздушной, как некоторые анемичные барышни, а как-то некрасиво и грубо костлявой.
Правда, на взаимоотношениях с мужем эта "несостоявшаяся беременность" и вообще ее недомогания сказались благотворно: Надежда и Эдмунд как-то сблизились душевно, и, несмотря на ее худобу и постоянные приступы рвоты, у них даже наметился второй "медовый месяц". Измученная, Надежда готова была снова "полюбить" Эдмунда только за то, что он был сейчас так добр и нежен с ней.
Плевицкая платила лучшим докторам, её обследовали и подозревали у нее поочередно чахотку, белокровие, рак желудка… От каждого из предполагаемых диагнозов волосы дыбом вставали. Начались расстройства сна. Надежда всю ночь металась по кровати или вставала, будила Машу, требовала чаю, грелку к ногам, потом будила Плевицкого, принималась рыдать и жаловаться: из-за кошмарных "предположений" докторов ее мучил страх смерти. Она совсем измучилась и измучила своих домашних. Потом, видя, что Эдмунд и Маша тоже начали бледнеть и худеть и ходят весь день как сомнамбулы из-за постоянного недосыпания, Надежда начала потихоньку принимать морфин, чтобы хотя бы спокойно спать ночью. Плевицкий застал ее, когда она капала настойку морфия в стакан с водой… Устроил скандал, выкинул бутылочку с морфием. В былые времена Надежда возмутилась бы: как он смеет кричать на нее? Она ведь и полюбила-то его когда-то за деликатность и изысканные манеры! Но сейчас упала в его объятия и облегченно разрыдалась на груди мужа: он ведь кричал и шумел, потому что о ней заботился… Не хотел, чтобы она привыкала к морфию. Или отравилась ненароком до смерти, как это частенько случалось с поклонниками сонного зелья. Рыдая, Надежда заявила, что отказывается от дальнейших концертов и немедленно возвращается: чтобы матушку перед смертью повидать.
В конце концов в результате всех этих страданий никакой болезни, кроме переутомления и крайнего нервного истощения, у нее обнаружено не было.
В старые времена она бы решила, что переутомление — это не болезнь, а тоже одна из выдумок избалованных барышень наряду с обмороками и мигренями. Но сейчас чувствовала, что это переутомление может свести ее в могилу.
В феврале 1912 года московские профессора Ротт и Шервинский отослали ее на Ривьеру.
И она поехала, нарушив все контракты, согласившись платить огромные неустойки: "Там, в тихом Болье, у моря, я отдыхала, и когда сухопарые англичанки бегали в запуски, чтобы еще похудеть, я не двигалась с балкона, чтобы прибавить в весе. Голубое море то тихо, то бурно плескалось у самых окон, французы кормили меня салатами, я поправлялась, и полтора месяца пролетели.
Монте-Карло был совсем рядом, и одно время Надежда и Эдмунд Плевицкие повадились было ездить играть… Но Надежде показалось, будто в Эдмунде пробуждается азартный игрок, и, страшась, во что это может вылиться, — игроков, вконец разорившихся и обезумевших от своей страсти, она в Монте-Карло повидала! — она буквально силой увезла Плевицкого назад в Болье и запретила отныне ездить в Монте-Карло. Тогда они серьезно поссорились. Эдмунд впервые в полной мере ощутил унизительность своего положения: муж на содержании богатой супруги. К тому же Надежда ошибалась: азартности в нем не было и в помине.
Но, несмотря на трудности во взаимоотношениях с мужем, отдых на Ривьере укрепил и оздоровил Надежду Плевицкую. Она снова пополнела, фигуре вернулась прежняя приятная округлость. Надежда снова не без удовольствия смотрела на свое отражение в зеркале, и платья сидели хорошо…
На радостях Надежда заказала себе еще несколько убийственнодорогих платьев, одно из которых было расшито мелким жемчугом, а на лифе другого красовались цветы из крохотных драгоценных камней, сверкавшие при малейшем движении. Барышня из ателье, помогавшая Надежде примерять платье, сказала, что к нему не нужно никаких украшений: оно само по себе — украшение. Надежда кивнула ей с улыбкой, а про себя подумала, что все равно украшения наденет. Раз есть на платье вырез — как можно не надеть колье? Раз есть руки — как можно не украсить их браслетами? И не выйдет же она на сцену без своей знаменитой бриллиантовой диадемы в виде кокошника?!
Платья обошлись ей в целое состояние, отдых вкупе с лечением, ваннами и витаминными салатами тоже стоил недешево, и, несмотря на то что впервые в жизни она получала настоящее удовольствие от безделья, Надежда почувствовала, что пора возвращаться в Россию и на сцену: поправить несколько расстроившиеся денежные дела.
Да и по матери она соскучилась…
Мать она даже пыталась забрать с собой в Москву. Акулина Фроловна согласилась — она тоже тосковала по своей Дежке да тревожилась за нее, и первое время в Москве ей даже нравилось: все было в новинку, и электричество, и автомобили, которые она называла "храпунками", не в силах запомнить мудреное слово… Да и храмов в Москве как много, все не обойдешь! Но потом старушка начала томиться в непривычной обстановке, хиреть и плакать.
Плевицкая позже вспоминала с печалью:
"Я понимала, что матери, привыкшей к деревенскому простору, было тесно в городской квартире…
— А как же ты в деревне одна жить зимой будешь? — спрашивала я.
— Там веселее. Там перед окном снежная поляна, кругом лес. Ветер с листьями сухими играет. Подхватит, в кучу соберет. Они на месте покружатся, опять разбегутся, — словно карагоды, танцы водят, а я гляжу в окно. С ними веселее.
Так Акулина Фроловна и уехала в деревню, а я должна была ехать в Петербург".
В Петербурге Надежда Васильевна всегда останавливалась в гостинице "Европейская" — она и нынче считается одной из лучших в городе, только теперь носит название гранд-отель "Европа". Перед концертом она любила стоять у окна и смотреть, как тянется вереница автомобилей и экипажей к дворянскому собранию, где она, Надежда, собиралась петь для избранной публики:
"Я смотрела на публику, которая через несколько минут будет разглядывать меня.
Съезд кончался.
Я медленно иду через Михайловскую улицу из отеля в собрание. В артистическом подъезде, в неосвещенных углах, на лестнице, стоят темные фигуры и суют мне письма — все просьбы, просьбы.
Вот и белое зало собрания. Как я любила его, когда оно сияло хрусталями люстр и приятно шумело толпой. Весь первый ряд всегда был занят гусарами. Царская ложа редко пустовала.
На эстраде я пьянела от песен, от рукоплесканий, и могла ли я думать тогда, что за спиной у каждого из нас стоит призрак ужасный, что надвигается дикая гроза, которая согнет наши спины и выжжет слезами глаза, как огнем"…
Глава 6 ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ
I
Благодаря личному покровительству Государя Плевицкая "вошла в моду" настолько, что сделалась частой гостьей на всевозможных светских мероприятиях: будь то частные вечера или благотворительные утренники. Согласно тем рецептам устроения приятных светских вечеров, которые оставила потомкам Анна Павловна Шерер, хозяйки "угощали" гостей Плевицкой как неким экзотическим блюдом. Заполучить к себе "эту крестьянку" сделалось просто-таки делом чести для многих знатных дам: это так мило — когда на твоем домашнем празднике поет Плевицкая, на концерты которой билетов не достать! А поскольку уговорить ее петь было нелегко, дамы старались даже подружиться с ней. Не откажет же она своей "доброй подруге" в таком "пустячке"?
Надежда недолго пребывала в наивности и быстренько в этих хитростях разобралась. Сначала было обидно: она-то думала, что сама по себе интересна, со своей душой и со своими понятиями о жизни… Но потом поняла: обижаться не на что. Она действительно интересна им "сама по себе", но только про душу они ничего не понимают и понимать не хотят, не признают они в ней души. Она им интересна как "предмет роскоши". Чтобы зазвать ее к себе, блеснуть этим "предметом" перед гостями, эти богатые барыньки соревнуются друг с другом в любезностях, расточаемых перед ней, Дежкой Винниковой! Это должно было бы льстить самолюбию. Но отчего-то не льстило. Все равно было немного обидно. Потому что никто всерьез не принимал ее. Ни ее, ни ее искусство. Она все еще помнила — до смерти не забудет! — то, как сравнил ехидный критик ее пение с "тюрей" или "кислой капустой", используемое сладкоежками-аристократами "для прочистки".
Единственное, что все-таки утешало ее — и, собственно, вполне могло искупить все нанесенные ей обиды, — это покровительство Государя. Он-то был искренен в своих чувствах просто потому, что не мог быть неискренним! Он-то действительно любил и понимал ее песни!
А вслед за Государем и остальные члены царской семьи относились к ней более чем благосклонно.
"…в тот приезд в столицу, в одно из воскресений, я получила приглашение от Великой княгини Ольги Александровны приехать к пяти часам во дворец на Сергиевскую. По воскресеньям к ней приезжали из Царского Села дочери Государя: Великая княгиня устраивала у себя племянницам маленькие развлечения. Когда я приехала, Великие княжны уже были там и пили с приглашенными чай. Там была блестящая гвардейская молодежь, кирасиры, конвойцы. Была Ирина Александровна, похожая на лилию, и круглолицая принцесса Лейхтенбергская Надежда. Великая княгиня Ольга Александровна подвела меня к юным княжнам и усадила за чай. Царевны были прелестны всей свежестью юности и простотой. Ольга Николаевна вспыхивала, как зорька, а у меньшей Царевны, Анастасии, все время шалили глаза.
Во дворце царили простота и уют, которые создавала сама высокая хозяйка, Великая княгиня. Когда я увидела ее впервые, мне казалось, что я ее уже давным-давно знаю, давно люблю и что она издавна мой хороший друг. Каждый ее взгляд — правда, каждое слово — искренность. Она сама простота и скромность. Обаяние ее так же велико, как ее Царственного брата. Великая княгиня старалась сделать так, чтобы все забывали, что она Высочество. Но она оставалась Высочеством, истинным Высочеством.
Я пела, потом начались игры в жмурки, прятки, жгуты — эти милые, всем известные игры. Помню, Великая княжна Анастасия побежала со мной со жгутом, а я от нее, поскользнулась да растянулась на паркете. Царевна помогла мне подняться, наступила на мое платье, оно затрещало да разорвалось. Великая княгиня Ольга Александровна мягко заметила тогда мне, что лучше было бы надеть простое платье, как она и советовала в письме.
После игр Великие княжны отбыли в Царское Село, а мы были приглашены к обеду. На прощание принц Петр Александрович Ольденбургский просил меня спеть его любимую песню и, растроганный, не зная, как меня благодарить, схватил цветы, украшавшие чайную горку с пирогами, и засыпал землей все торты, все сладости. Мне памятен этот день во дворце, эти цветы: в тот день я впервые встретила там того, чью петлицу украсил один из этих цветов, того, кто стал скоро моим женихом"…
II
Его звали Василий Шангин. Отчего-то и в книге своей Плевицкая пишет о нем словно нехотя, словно пытаясь скрыть что-то — скрыть все кроме самого факта своей любви к нему! — известно, что в момент их знакомства было Шангину около тридцати лет, был он поручиком Кирасирского Ее Величества полка (у этих кирасир была едва ли не самая красивая форма в русской армии того времени), заканчивал Николаевскую академию Генерального штаба и уже носил Георгиевский крест: за японскую войну, куда он отправился добровольцем, будучи в ту пору еще студентом университета. После японской Шангин, собственно, и определился с военной карьерой. Оставил университет. Но все равно считался одним из самых интересных и образованных людей в полку, и ко двору его приглашали с удовольствием.
Надежду он просто ослепил.
А она совершенно пленила его.
Шангин был сама аристократическая утонченность.
Плевицкая — сама естественность, сама жизнь, популярный в то время "почвенный стиль" во всей красе.
И вместе они являли красивую и колоритную пару.
Весь двор следил за развитием их романа. Нашлись, конечно, блюстители сословной нравственности, не одобрявшие подобный мезальянс, но Шангин недаром слыл человеком необычным: его действительно мало тревожило мнение окружающих. С той же решимостью, с которой девять лет назад он отправился выполнять свой патриотический долг, он заявил о своем намерении жениться на Плевицкой.
Серьезное препятствие было только одно: Плевицкая уже была замужем. Но в те времена развод уже не считался серьезным нарушением приличий — разводились уже и в высшем свете. А то, что Эдмунд Плевицкий был иноверцем, значительно упрощало задачу.
А пока они стали любовниками, ничуть не скрывали своих отношений и всюду бывали вместе. Единственно, на что не согласился Шангин, — это поселиться в квартире Надежды. Но очень часто оставался там на ночь, и утренние посетители заставали его завтракающим вместе с хозяйкой в весьма интимной домашней обстановке.
Еще одна мечта ее сбылась…
Ей так хотелось любить! И вот — свершилось! Она полюбила! А ведь сколько раз Надежда, выходя из поезда, замирала на верхней ступеньке, вглядываясь в лица встречающих, мечтая увидеть Его! Сколько раз выходила во время остановок поезда из своего купе и прогуливалась по перрону, осыпаемая снегом, едва не сбиваемая с ног зимним ветром, надеясь встретить Его! Ей хотелось, чтобы все было, как в "Анне Карениной", только без грустного финала… Она была уверена, что так оно и должно в ее жизни случиться… Но случилось — лучше! Она была во славе в тот день, когда встретила Шангина, и все вокруг было в цветах, и у него на груди был цветок… И он — лучше Вронского, много лучше… Вронский — просто ничто рядом с ним! И сама Надежда гораздо лучше Анны! Кто знал Анну Каренину до того, как Толстой написал о ней? Да никто! Несколько родственников и знакомых! А ее, Надежду Плевицкую, знает вся Россия! И всю свою великую славу, все, все готова она отдать ему! Какое же это счастье — так любить! Любить — и быть любимой!
Но те прежние фантазии все-таки не отпускали ее, томили, и тогда Надежда сделала для претворения их в жизнь то единственное, что она могла сделать: заказала для себя платье — такое, какое было на Анне Карениной на том балу, где они с Вронским полюбили друг друга, — черное, бархатное, с отделкой из белого венецианского гипюра и с лиловыми анютиными глазками у пояса. Существует ее фотография в этом платье: правда, не очень удачная.
Надежда несколько раз появлялась у своих друзей в этом платье и в обществе Шангина. Они действительно великолепно смотрелись рядом: его великолепная кирасирская форма — и "каренинское" платье Надежды. Правда, "смысл" этого платья понял только Стахович.
Самому же Шангину она ничего не стала объяснять. Она его обожала, но не настолько хорошо знала, чтобы быть уверенной, что он не посмеется над этой ее причудой. Вот Плевицкому она бы могла рассказать все… Он бы не стал смеяться…
Но Плевицкого она не любила больше и платье не для него шила.
К тому же Плевицкий сейчас был в Винникове. Отдыхал после перенесенного недавно воспаления легких. И Акулина Фроловна окружала его нежной заботой.
Когда Надежда вспоминала о матери, ослепительное счастье новой любви омрачалось-таки темным облачком. Мать ее не одобрит. Мать так любит Плевицкого! Так осуждает Надежду за холодность к мужу! А если узнает об ее "измене"… Страшно представить даже, что ждало Надежду, если бы она осмелилась просить у матери благословения на брак с Василием Шангиным! А как без благословения замуж выходить? Мать не благословит — и Бог не благословит!
А Надежде так хотелось родить от Шангина детей… В законном браке, конечно. Их тогда запишут дворянами! Ее сыновья станут офицерами. Или студентами, если захотят. Ее дочери будут настоящими барышнями: учиться в гимназии, а после танцевать на балах!
Нет, не может быть, чтобы матушка не благословила ее. Посердится, конечно… Может, даже и прибьет, как в старые времена. А потом — благословит. Если она увидит Шангина, она его полюбит! Непременно полюбит! Иначе и быть не может! Ведь он во всем лучше Плевицкого, а главное, он — мечта Надежды, ее сбывшаяся мечта!
Не может же так быть, чтобы судьба подразнила сбывшейся мечтою, а потом отняла?!
Во всяком случае, у Надежды Плевицкой до сих пор все мечты сбывались по-настоящему!
"Весной я пела в Ливадии. Я и мои друзья втайне беспокоились, что Государыня не оценит простых русских песен. В десять часов вечера, после обеда, в большом дворцовом зале я ожидала наверху выхода Их Величеств. Тогда в Ливадии гостил брат Государыни. Ровно в десять раскрылись двери и вышел Государь под руку с Государыней. Ее брат повел Ее к приготовленному креслу, а Государь подошел ко мне. Он крепко сжал мою руку и спросил:
— Вы волнуетесь, Надежда Васильевна?
— Волнуюсь, Ваше Величество, — чистосердечно призналась я.
— Не волнуйтесь, здесь все свои. Вот постлали большой ковер, чтобы акустика была лучше. Я уверен, что все будет хорошо. Успокойтесь.
Его трогательная забота сжала мне сердце. Я поняла, что Он желает, чтобы я понравилась Государыне.
Сначала я так волновалась, что в песне "Помню, я еще молодушкой была" даже слова забыла. Заремба мне подсказал. После третьей песни Государыня послала князя Трубецкого осведомиться, есть ли у меня кофе. Все присутствующие знали, что это милость и что я нравлюсь Ее Величеству. В антракте Государыня беседовала со мной, говорила, что грустные песни ей нравятся больше, высказывала сожаление, что Ей раньше не удавалось послушать меня. Государыня была величественна и прекрасна в черном кружевном платье, с гроздью глициний на груди.
Государь подошел ко мне с Ольгой Николаевной. Он пошутил над моим волнением, из-за которого я забыла слова, и похвалил Зарембу за то, что он подсказал. Государь сказал, что Он помнит мои песни и напевает их, а Великая княжна подбирает на рояле мои напевы. Я ответила, что все мои напевы просты, музыкально примитивны. Государь убедительно сказал:
— Да не в музыке дело — они родные.
А на другой день я получила из Ливадии роскошный букет. Тогда же старый князь Голицын принес мне фиалок в старинном серебряном кубке. Как известно, у него была коллекция редких кубков".
III
Шел 1912 год.
Ей исполнилось двадцать восемь лет.
Она была знаменита, богата и абсолютно счастлива.
До сих пор Надежда Плевицкая в душе оставалась все той же отчаянной Дежкой, которая металась от монастыря — к балагану, от деревенского смирения — в кафешантанную безумную жизнь и славу принимала так, как тот кулек с конфетами, который бросили ей когда-то из проезжающей коляски за песню о солдатике. Правда, те конфеты были слаще ее нынешней славы… Но все равно: она оставалась ребенком. С детскими желаниями, главным из которых было похвалиться, отличиться перед своими, перед деревенскими, перед винниковскими: их мнение и впрямь значило для нее больше, чем все аплодисменты московских и петербуржских концертных залов.
Но после знакомства с Шангиным она начала стремительно взрослеть.
От природы талантливая, она впитывала культуру как губка. Но прежде культура была для нее что-то вроде тех украшений с бриллиантами, которых у нее никогда не было и не могло быть, а вот поди ж ты — заработала! Ее просвещали, ей давали читать "умные книжки", и она их читала старательно, и перелистывала последнюю страницу с тем же чувством морального удовлетворения, какое испытывала, когда надевала свои бриллианты. Еще одна книга прочитана — еще одно украшение приобретено! Куплено тяжелым, но не певческим, а читательским трудом…
Теперь же она начала расти над собой. Она тянулась к Шангину, как цветок тянется к солнцу. Ее Василий действительно был на редкость образованным человеком, всесторонне развитым, с острым аналитическим умом… Он много говорил с ней — и она внимательно, жадно слушала. Ей хотелось постигнуть все, что знает он, и не только для того, чтобы "соответствовать", не для того даже, чтобы быть его достойной, но для того, чтобы лучше, глубже понять его! Чтобы все умные мысли и все возвышенные мечты его стали также и ее мыслями и мечтами! Она безумно любила этого человека… Она хотела жить его жизнью…
Она не знала, как мало времени отвел нм Господь на совместное счастье.
Но — словно предчувствовала!
Потому так спешила любить его. Так стремилась понять.
IV
На Бородинских торжествах в Москве Надежда Плевицкая пела так много, что после концерта у нее пошла кровь горлом.
К счастью, это произошло не на сцене, но концертное платье оказалось испорченным, да и сама она напугалась до полусмерти, решив, что вернулась та, прежняя ее болезнь, но теперь она уже наверняка умирает!
К Плевицкой пригласили одного из лучших докторов — специалиста по туберкулезу, — который нашел у нее всего-навсего разрыв сосуда в горле: от перенапряжения. Легкие были чисты, сердечный ритм соответствовал норме, а кровь уже остановилась сама собой — еще до приезда врача, и все, что оставалось специалисту по туберкулезу, это посоветовать Плевицкой отдохнуть, не петь и глотать лед, чтобы вызвать сужение сосудов.
Но певица, убедившись, что смертельная опасность ей не грозит, пренебрегла всеми его советами: уже на следующий день снова пела в концерте, а лед не стала глотать, боясь простудиться и охрипнуть.
Государю об инциденте докладывать не стали, но Он в очередной раз был так очарован пением своей любимицы, что прислал ей в подарок роскошнейшую бриллиантовую брошь…
Плевицкая решила хранить эту брошь до конца своих дней. Но — не сохранила. Не по своей вине…
Тогда, в 1912 году, легко было принимать решения "на всю жизнь" и давать торжественные клятвы.
Тогда ничто еще не предвещало надвигающейся грозы, готовой обрушиться и разрушить, и смести все на своем пути, и унести тысячи и тысячи человеческих жизней…
Если бы Надежда могла знать или хотя бы доверяла предчувствиям, она бы ни на миг не расставалась со своим возлюбленным, все концерты свои забросила бы, забыла бы славу, для него одного бы пела, рук его из своих рук не выпускала, глаз своих от его глаз не отрывала… Но — не знала она, не могла знать! А предчувствиям до конца не верила, потому что всегда была храброй оптимисткой и старалась не поддаваться даже реальным страхам, не то что неосознанным, исподволь закрадывающимся в душу!
И вот она рассталась с Василием Шангиным и отправилась в очередное концертное турне…
"Поездка по Сибири всегда доставляла мне удовольствие. Была я там и зимой, и весной. Что за ширь необъятная. Зимой я любовалась уральскими грозными елями, которые покоились под снегами. На сотни верст ни одной души, ни одного следа — только сверкает алмазами белая могучая даль. Любуешься чистой красотой сибирской зимы и вдруг мелькнет в голове: "Что бы ты делала, если бы очутилась тут одна, да не в поезде, а в снежном поле или в тайге?" Весной я видела в Сибири такую красоту, что не могла от окна оторваться. Экспресс мчался между огромных кустов пионов, по пути расстилались ковры полевых орхидей, ирисов, огоньков. К сожалению, я молча любоваться не умею, все ахаю да охаю, и было, поди, утомительно соседям слушать мои аханья тысячи верст.
Когда я вернулась из Сибири и пела в Царском, помню, как Государь в беседе со мной осведомился:
— Ну, как вас принимали там? Я знаю, сибиряки хлебосольные, и меня они хорошо встречали.
Какое сравнение и какая святая скромность".
Тот концерт в Царском Селе был последним, когда Надежда пела для Николая II. Больше Государя она не видела никогда. Счастье, что мы не можем предвидеть неотвратимо надвигающееся на нас будущее.
Часть II НАДЕЖДИНЫ СКОРБИ
Глава 7 СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
I
Та весна на Невшательском озере была прекраснейшей в ее жизни. Вообще многие вспоминали 1913 год и весну 1914-го как самое лучшее свое время. Наверное, потому, что это были последние мгновения покоя, счастья, довольства перед войной, революцией и всем тем страшным и смутным, что за этим последовало.
Некоторые считают, что именно в 1914-м, а не в 1900 году действительно начался кровавый и безбожный XX век. До 1914-го жили по инерции прошлого века, просвещенного XIX. Так же как XVIII век окончился не в 1799-м, а на десять лет раньше: с началом Великой Французской революции. Талейран говорил, что "те, кто не жил до 1789 года, не жил вообще". А они — те, кто жил до 1914-го, до Первой мировой войны, — также могли бы сказать о нас, что мы не жили вообще…
Предтечей страшного столетия стала гибель "Титаника" — первая по-настоящему серьезная техногенная катастрофа. А в 1914 году все началось… И не прекращается по сей день. Не было прежде столетия, столь щедрого на мировые и локальные войны, всевозможные тирании и репрессии, сопровождающиеся массовыми человеческими жертвоприношениями. И неизвестно, когда этот век, с запозданием начавшийся, выпустит нас из своих удушающих объятий…
Надежда Плевицкая и Василий Шангин собирались в том году пожениться. Развод с Эдмундом Плевицким уже был оформлен. Как и предполагала Надежда, все обошлось без лишних сложностей. Разве что в Винниково она так и не решилась наведаться… Боялась гнева матери. И благословения материнского так до сих пор и не получила. Надеялась получить его потом, когда уже станет женой Шангина, когда под сердцем дитя зашевелится: тогда она приедет в Винниково — донашивать и рожать. И матушка уже не сможет ее оттолкнуть или лишить своей милости. Пожалеет будущего внука. Ведь сколько раз бывало: убегут девка с парнем, обвенчаются "самокруткой", а потом приезжают к родителям благословения просить. Те посердятся для виду… Прибить даже могут… Но — не по-настоящему. Особенно если молодая уже в тягости. А после положенного сержения прощают с радостью да еще и пир закатывают в честь новобрачных!
Надежда надеялась, что и у них так же получится.
И поездка в Швейцарию стала, если можно так выразиться, их "предсвадебным" путешествием — у Надежды от переутомления случился очередной нервный срыв, она боялась потерять голос, ей снова, как и два года назад, необходимы были отдых и лечение.
Только теперь Плевицкий — уже бывший муж — остался в Винникове, в ее новом доме-тереме (прогнать его и оттуда рука не поднималась, и Надежда подумывала даже о том, чтобы оставить этот так полюбившийся ему дом, а себе выстроить новый), а с нею был Шангин: чудесным подарком судьбы была для них обоих эта поездка — последним подарком.
В Шангине действительно воплотилось представление Надежды об идеальном: аристократ, человек образованный и при этом храбрый офицер, успевший проявить себя еще в японскую войну, достаточно решительный для того, чтобы отстаивать свою любовь перед лицом света (для того чтобы жениться на ней, Дежке!), и при этом достаточно деликатный и мягкий, чтобы вызывать в ней некое покровительственное чувство, без которого любовь для Плевицкой была невозможна: все ее любимые мужчины были мягче, нежнее ее. Иногда ей казалось даже, что ее Василий чем-то похож на Государя. Она понимала: грешно, крамольно даже думать так. Особа Царя священна! Но всетаки Шангин действительно иногда напоминал ей обожаемого Государя! Мягкостью обхождения, меланхолической и нежной улыбкой, этим тихим светом, льющимся из глаз.
Она ведь была влюблена в Царя — чуть-чуть, как и все, кто был приближен к Его особе. Личность Царя, впрочем, была окружена священным ореолом Помазанника Божия, и влюбленность в Него ощущалась некоторым подобием святотатства: Государя можно и должно почитать, обожать, можно благоговеть перед Ним, можно даже боготворить Его! А вот быть влюбленной… Надежда Плевицкая изо всех сил старалась удержать свое чувство к Государю в рамках благоговения и верноподданнического обожания.
Но все-таки было в Николае Александровиче нечто, что всегда особенно привлекало ее в мужчинах, можно сказать, притягивало как магнитом. Какая-то внутренняя незащищенность и нежность, внешняя деликатность и мягкость… Какая-то смиренность… Этого и словами не назовешь! И это нечто роднило Царя с ее первым супругом — балетным танцором Плевицким — и еще сильнее — с ее нынешним избранником. Василий Шангин даже внешне был похож на Николая II! Разве что бороды не носил. Последнее (не отсутствие бороды, а внешнее сходство) всегда несколько смущало Надежду. Но вместе с тем притягивало ее еще сильнее, вкупе со всеми другими духовными и интеллектуальными его достоинствами, которых она почитала себя недостойной.
Она любила Шангина! Господи, как же она его любила! А он любил ее.
Будущее представлялось ей в ту весну упоительно-прекрасным. У нее было все — успех, покровительство Государя, богатство. Но это было и прежде, и два года назад, а теперь еще и любовь пришла в ее жизнь!
Казалось, теперь она достигла предела желаемого — "остановись, мгновенье, ты прекрасно!" — и это прекрасное мгновение будет длиться долго-долго, и ничто не может помешать. Никогда она не чувствовала себя так уверенно, так надежно, как весной 1914 года.
II
Надежда не обратила особого внимания на газетные сообщения о том, что 26 июня в Сараеве боснийскими экстремистами были убиты наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд и его молодая жена. Она газет-то не читала, потому что не знала иностранных языков! Слышала, конечно, разговоры, ахала, ужасалась. Особенно принцессу жалела. И возмущал ее террорист, осмелившийся поднять оружие против женщины.
Было утро, она лежала в постели с чашкой шоколада, как вдруг вошел Шангин, бледный, огорченный, и сказал:
— Собирайте свои вещи, завтра необходимо возвращаться в Россию.
И даже тогда она еще не поняла, что эти семь выстрелов в Сараеве разбили вдребезги и ее мирок, и ее счастье, к которому она шла так долго.
Много позже она вспоминала:
"Ах, я ничего не понимала в политике и удивилась, какое отношение имеют мои вещи в убийству чужого принца где-то в Сербии? И не знала я, что надвигается на нас горе великое. Вот оно — грянуло, и содрогнулась земля, и полилась кровь. Слава вам, русские женщины, слава вам, страдалицы! Вы отдали все дорогое отечеству. Россия закипела в жертвенной работе, все сплотилось воедино, никто не спрашивал, — како веруешь, — все были дети матушки-России. А кто же ее не любил? Не стану описывать того, что знает каждый, а я сбросила с себя шелка, наряды, надела серое ситцевое платье и белую косынку. Знаний у меня не было, и понесла я воину-страдальцу одну любовь. В Ковно, куда пришла второочередная 73-я пехотная дивизия, я поступила в Николаевскую общину сиделкой, а обслуживала палату на восемь коек. Дежурство мое было от восьми утра до восьми вечера. К нам поступали тяжелораненые, которые нуждались в немедленной помощи…"
Патриотизму русских крестьян — тех, кого, собственно, гнали в солдаты, на бойню, — могли позавидовать те господа-офицеры и командиры из дворян, кто, собственно, посылал или вел их в бой. И этот патриотизм — не миф. Русские этнографы и особенно путешественники-иностранцы не раз с удивлением убеждались в непоколебимой вере русских крестьян в непобедимость России. Бывалые солдаты пользовались в деревнях большим почетом, а истории о былых походах и сражениях пользовались не меньшим успехом, чем "страшные сказки". Еще в конце XIX века в русских деревнях можно было услышать рассказы, хотя уже несколько мифологизированные, о суворовских походах, и многие популярные песни носили именно патриотический характер. Вера в непобедимость русской армии была надломлена именно многочисленными поражениями Первой мировой… Но воскресла в Великую Отечественную.
Плевицкая была крестьянкой, дочерью солдата, хоть и не случалось ее отцу по-настоящему повоевать. И яростный патриотизм был для нее таким же естественным чувством, как любовь к песне и пристрастие к пышно декорированным шляпам.
Да, на фронт она пошла ради Василия Шангина, чтобы быть рядом с ним, чтобы не маяться в ожидании писем… Но, не будь Шангина, возможно, она — будучи натурой страстной и увлекающейся — все равно оказалась бы на фронте.
Для многих светских дам работа в госпиталях была значительной жертвой — жертвой, которую требовала от них мода, принятая нынче манера поведения. Уж если Государыня заявила, что за все время войны не сошьет ни себе, ни Великим княжнам ни одного нового платья… Уж если Государыня с княжнами работали в госпиталях… И Великая княгиня Елизавета Федоровна… Впрочем, Елизавета Федоровна считалась существом не от мира сего. Она уже много лет носила белые монашеские одежды и только и делала, что хлопотала о сирых и убогих. Примером Елизаветы Федоровны можно было бы пренебречь, но пренебречь примером Государыни и Великих княжон невозможно! Государыня, правда, госпиталя только навещала, но зато старшие из княжон, Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна пребывали в госпитале от рассвета до заката. Татьяна Николаевна даже собственноручно ассистировала при операциях и делала перевязки. Ольга Николаевна была слишком жалостлива и принималась рыдать, стоило раненому хотя бы застонать во время перевязки, поэтому из перевязочной ее удалили в палаты, где она исполняла работу санитарки: даже самую грязную. Что несказанно смущало и раненых, и тех светских дам, которые пришли в госпиталь только для того, чтобы быть подле Великих княжон.
Конечно, не все светские дамы были столь неискренни в своем сочувствии к жертвам войны: время было такое и нравы были такие, что просто подавляющее большинство барышень и барынь даже самого высшего света с раннего детства до поздней старости оставались особами восторженными, с чистыми, готовыми к "подвигу во имя любви" сердцами. Их так воспитывали! На таких примерах! На таких книгах! Цинизм пока еще был моден только в богемных кругах, где поэтесса Гиппиус могла потребовать во время банкета жареного младенца. Аристократки же, весну проводившие в Ницце, а осень — в Баден-Бадене, оставались истово религиозными и искренне помышляли об искоренении пороков и просвещении бедноты. И в сестры милосердия тоже шли, пылая жаром сострадания.
Но, как бы ни были тяжелы военные и больничные будни, сердце иногда уставало сострадать и хотело радоваться, пусть даже радоваться было вовсе нечему, а от фронтовых сводок, которые сюда доходили быстрее, чем в тыл, впору было застрелиться или удавиться. Но не стреляться же и впрямь? Им, молодым, хотелось хоть каких-то развлечений после каждодневной тяжелой и грязной работы, после всей той боли, крови, смерти, которую им приходилось зреть изо дня в день, изо дня в день… Так что боль и смерть сделались для них чем-то привычным. Привычный ужас. Что может быть страшнее привычного ужаса?
И в госпиталях, где работали милые светские барышни, образовывались небольшие "кружки": из сестер милосердия, выздоравливающих офицеров и просто офицеров, приезжавших сюда на денек с фронта… Пили чай. Иногда немного танцевали под патефон, вспоминая блестящие балы безвозвратно ушедших дней. Флиртовали даже… И госпитальные "кружки" эти сделались даже более модны, чем остававшиеся еще в тыловых Москве и Петербурге.
III
Телеграмма, посланная в Ставку с просьбой начислить Надежду Плевицкую в дивизионный лазарет, осталась без отпета. В дивизионных лазаретах сестрам быть воспрещалось. В Первую мировую на передовую женщин еще не пускали. Тогда с разрешения дивизионного начальства Плевицкая, переодевшись в форму санитара — в мужскую форму! — выступила в поход при дивизионном лазарете. Поступок для тех времен поистине невероятный.
IV
Когда душевная боль достигает высшего предела, наступает некое притупление боли, словно бы онемение души. Пока новый удар — сильнее предыдущего — не заставит душу вновь очнуться для боли. Надежде не раз пришлось пережить оба состояния: онемение души от чрезмерности страдания и пробуждение к новой боли. Человек творческий, человек искусства всегда чувствует боль острее, обладая чрезмерно развитым воображением, — сопереживает глубже, всей сущностью, всеми нервами. Пребывание Надежды Плевицкой на фронте было подвигом еще и по причине остроты каждодневного ее страдания и сострадания. Все увиденное и перечувствованное врезалось в сердце и оставалось навсегда живым, ощутимым. Спустя двенадцать лет она могла восстановить каждый миг пережитого во всех подробностях, пережить снова:
"Я остановилась и послушала тишину, и вдруг там, где изнемогал Коротоярский полк, зловещей частой дробью застучали пулеметы. А когда пулеметы смолки, грянуло ура, наше русское ура. Валуйцы пошли в атаку. О, Господи Правый, сколько в этот миг пролито крови. Какую жатву собрала смерть? В околотке, куда я пришла, врачи выбивались из сил, и руки их были в крови. Не было времени мыть. Полковой священник, седой иеромонах, медленно и с удивительным спокойствием резал марлю для бинтов.
— А ты откуда тут взялся? — обратился он ко мне. — И не разберешь, не то ты солдат, не то ты сестра? Это хорошо, что ты пришла. Ты быстрее меня режешь марлю.
И среди крови и стонов иеромонах спокойно стал рассказывать мне, откуда он родом, какой обители и как трудно ему было в походе привыкать к скоромному. Мне показалось, что он умышленно завел такой неподходящий разговор. "А может, он придурковатый?" — мелькнуло у меня, но, встретив взгляд иеромонаха, я поняла, что лучисто-синие глаза его таят мудрость. Руки мои уже не дрожали и уверенно резали марлю, спокойствие передалось от монаха и мне. Позже, через несколько месяцев, когда пробивался окруженный неприятелем полк, этот иеромонах в облачении с крестом шел впереди. Его ранили в обе ноги. Он приказал вести себя под руки. Он пал смертью храбрых".
Перечувствовав столько за стольких, примерив каждую судьбу, каждую беду на себя, Надежда не могла не переродиться. И она перерождалась, постепенно, в муках, избавляясь от старой своей сущности — развеселой, легкомысленной, страстной и беспечной Дежки, превращалась в новую женщину — печальную, серьезную, нежную и отчаянную в своей безграничной отваге.
Когда-то стержнем ее существа было стремление к сценической славе — во что бы то ни стало!
Новым стержнем стала любовь.
Когда она любила Эдмунда Плевицкого, любовь к песне и стремление к славе все же оставались для нее сильнее и важнее любви.
Любовь же к Василию Шангину была подвергнута таким тяжелым испытаниям и такой страшной угрозе — утраты любимого навек! — что Надежда вдруг осознала: ни слава, ни карьера, ни даже само творчество — ничто больше не имеет для нее такого значения, как любовь к Василию. Именно ее любовь к нему, ибо даже если бы он вдруг разлюбил — она любить бы продолжала! Потому что любить его — и жить, и дышать — это теперь для нее было едино насущно, любовь — как дыхание — было тем, что жизнь в ней поддерживало и без чего жизни ей уже не представлялось. Пусть не будет больше песен и сцены — лишь бы был он! Лишь бы поближе к нему… И тогда она стерпит все — и будет чувствовать себя счастливой.
Глава 8 УТРАТЫ
I
Надежда сама удивлялась тому, как легко она выживала в этой кошмарной реальности.
Сколько раз она хворала от переутомления и нервного истощения в те, мирные, годы, когда весь труд ее был — выйти на сцену и петь! Когда дома ждали ее заботливые руки горничной Маши, горячая ванна, вкусный ужин и теплая постель! А ведь как сильно болела. И рвало ее, и кровь горлом шла.
Теперь же выносливости ее могли позавидовать мужчины.
Она терпела все: холод, голод, грязь, всевозможные неудобства.
Однажды она даже обнаружила вшей в своих роскошных волосах. Когда-то — роскошных, теперь — поредевших, истончившихся, грязных. Она заплетала их в косу и укладывала вокруг головы, под фуражку, чтобы не было видно, что она — женщина. Надежда так похудела, что фельдшерская форма буквально болталась на ней. Но впервые в жизни она не переживала из-за своей худобы. Ей было все равно. И волос своих не жалела. Обрезала их наполовину, а вшей керосином потравила и вычесала частым гребнем. Не испытывая при этом ни ужаса, ни особой брезгливости. От керосина волосы еще сильнее испортились. Но Надежда думала: два-три месяца в Винникове, нормальная еда, сон, купание в речке — и все вернется. И красота, и полнота, и блеск волос. Лишь бы выжить в этой бойне. Лишь бы вернуться.
То есть она-то могла вернуться в любой момент. Более того: ей приходилось чуть ли не каждый день отстаивать свое право оставаться здесь, на передовой! Ее все время хотели отослать прочь от опасностей, а она сражалась с ними со всеми, желая только одного: быть там, где Василий. Терпеть все то, что он терпит.
Так что важнее всего на свете было, чтобы Шангин уцелел. Чтобы он вместе с ней вернулся. Они поживут в Винникове, будут купаться в речке, ходить в церковь, гулять в Мороскином лесу. Правда, в Винникове — Плевицкий… Ну и пусть! Эдмунд хороший человек. Возможно, они с Василием даже подружатся. А потом Эдмунд тоже женится, и они будут крестить другу друга детей. В Винникове — мамочка! Она позаботится о них! Согреет, утешит! Там они смогут забыть весь этот кошмар. Может быть, они уже никогда не будут столь беспечно-счастливыми, как до войны, наверняка даже, нельзя быть беспечным, когда пережил столько горя и боли, но все-таки они будут счастливы, будут! Особенно когда родится ребенок. Любовь к ребенку исцелит их души. Надежде было уже тридцать лет. Пора было рожать первенца. А то как бы не опоздать! Впрочем, батюшка с матушкой тоже поздно за родительские труды принялись. Так что успеется. Лишь бы Василий уцелел.
Будущая мирная жизнь — когда-то привычная, обыденная — сияла вдали путеводной звездой. Иной раз казалась недостижимой. Война все чаще демонстрировала Надежде свой оскал — когда звериный, а когда трупный, — и каждый день отмечался новой насечкой на сердце, новым кошмарным воспоминанием, которое не изгладится уже никогда, до самой смерти!
"Утром солнце осветило нагие неуютное убежище, и мы увидели, что спали среди мертвецов. В сарае, в закоулках, около дома, в придорожной канаве, в саду, в поле — кругом лежали павшие воины. Лежали в синих мундирах враги и в серых шинелях наши.
Страшный сон наяву! Да и в страшном сне я не видела столько мертвецов: куда ни глянь, лежат синие и серые бугорки; в лощинах больше. Они ползли туда, быть может уже раненые, от смерти, но смерть настигала их, и теперь в лощинах неподвижные бугорки.
Предо мной лежал русский солдат в опрятной и хорошей шинели. Спокойно лежал. Будто лег отдохнуть. Только череп его, снесенный снарядом, как шапка, был отброшен к плечу, точно чаша, наполненная кровью.
Чаша страдания, чаша жертвы великой.
— Пийте от нея вcu, сия есть кровь Моя, я же за вы и за многия изливаемая.
Тот, Кто сказал это, наверное, ходил между павших и плакал.
Из походного ранца солдата виднеется уголок чистого полотенца, а на нем вышито крестиком "Ваня".
Ах, Ваня, Ваня, кто вышил это ласковое слово? Не жена ли молодая, любящая? Не любящая ли рука матери вязала твои рябые, теплые чулки? Что нынешнюю ночь снилось тем, кто так заботливо собирал тебя в поход?
Холодное солнце дрожит в чаше, наполненной твоей кровью. Я одна над тобой. Как бы обняли тебя, Ваня, любящие руки, провожая в невозвратный путь".
Надежде тоже не суждено было обнять на прощание своего любимого… К счастью, обычный человек не может провидеть свою судьбу, а провидцем Надежда Плевицкая не была. Она была всего лишь певицей… А впрочем, здесь, на фронте, она уже не была даже певицей. Она была всего лишь женщиной, отчаянно влюбленной и ради любимого своего готовой на все.
II
Иногда им удавалось видеться. Редко — но удавалось. Иногда выпадали даже короткие, но такие сладостные мгновения физической близости: иной раз — где-нибудь в сарае, на соломе, или в полуразрушенном особняке, но на вполне приличной кровати, или на полу в курной избе. Сжимая Шангина в объятиях. Надежда забывала обо всем: о холоде, о грязи, об усталости. О смерти, что караулит за порогом их убежища. Существовал только этот данный Богом миг. И — их любовь.
Надежда не уставала благодарить Бога за эту любовь. За то, что все еще остается желанна Василию: несмотря на худобу, огрубевшее от ветра лицо и предательски пахнущие керосином волосы. После Надежда так сокрушалась об одном упущенном свидании, когда после тяжелого боя она уснула, а Василий пришел навестить ее и пожалел, не стал будить:
"Пронизывающий ветер дул в окна, в углу оплывала свеча. Горячий чай в никелевой кружке казался мне драгоценным напитком, а солома, постланная на полу, чудесным пуховиком. После моего первого боевого дня я спала так крепко. И не слыхала я, что поздней ночью был в штабе тот, кто был мне дороже жизни. Не слыхала, что стоял надо мной и сна моего не потревожил. А только после его смерти прочла я в его дневнике запись, помеченную тем днем, той ночью: "Чуть не заплакал над спящим бедным моим Дю, свернувшийся комочек на соломе, среди чужих людей"".
О том, что она — единственная женщина на передовой, что ее подвиг во имя любви к поручику Шангину давно уже стал легендой, передаваемой из уст в уста, что все офицеры завидуют ему из-за того, что у него есть здесь любящая и любимая женщина, — обо всем этом Надежда даже не думала. Она вообще не считала свой поступок подвигом. Подвиг — это то, что совершаешь нехотя, через силу, потому что должен это совершить. А она просто не могла поступить иначе! Она не могла бы жить вдали от него! Она просто сошла бы с ума!
Ведь она начинала сходить с ума даже здесь, если не видела его больше недели.
А вдруг он ранен? Или даже убит? И его друзья лгут ей, будто видели его всего три часа назад!
А даже если и видели — его могли ранить или убить уже сто восемьдесят раз в течение этих трех часов! Или вот сейчас, в этот самый момент, немецкий снаряд или пуля ищет сердце ее любимого… И ее нет рядом с ним, чтобы закрыть его от смерти!
Она сходила с ума, буквально не находила себе места… Ее руки привычно срезали промокшую от крови одежду, промывали раны, накладывали бинты… Но душа ее была не здесь, а с ним.
Она напряженно вслушивалась: не прозвучит ли его голос? И когда слышала: "Дю! Милый мой Дю!" — бежала к нему, летела к нему как на крыльях!
Она всматривалась в любимое лицо, пытаясь определить: не изменился ли он, не омрачилось ли чело предчувствием смерти? И себя поминутно спрашивала: не появилось ли дурных предчувствий? И — увы! — дурные предчувствия не покидали ее… Так же как не покидал ее страх за его жизнь. Страх, ставший уже привычным.
За себя она не боялась. Она видела столько смертей, что уже не боялась собственной смерти. Лишь бы не быть искалеченной, лишь бы не мучиться… И — не остаться в живых, если Василий погибнет!
Надежда молила Бога о том, чтобы Он, если пожелает забрать Василия, не оставлял бы ее горевать, прибрал бы и ее вместе с любимым. Она понимала, что покончить с собой не сможет. Потому что грех это смертный. Если Василия убьют — он в рай пойдет. А если она сама себя убьет — пойдет в ад. И будут обречены они на вечную разлуку… Нет, невозможно. Лучше она свое отстрадает. Если, конечно, Господь не будет так милосерден, чтобы сохранить Василию жизнь. А каждый день на войне убивал в Надежде веру в милосердие Господне…
Она вспоминала:
"Перед нашим отступлением из Восточной Пруссии командир корпуса генерал Епанчин приказал сестрам находиться подальше от фронта. Меня перевели в Эйдкунен в полевой госпиталь, и, когда я ездила в штаб дивизии, постаралась не попадаться на глаза суровому генералу Епанчину.
Меня всегда возил тихий санитар Яков. От Эйдкунена до Амалиенгофа двадцать пять верст. Бывало, едем ночью, в непогоду. Жутко, темно, ни души кругом.
Один дом не могла я миновать спокойно. Было это ночью ни днем, всегда у того дома испытывала глухое волнение: в тех верстах от Эйдкунена стоял тот дом, низкий и мрачный. Как только завижу его, у меня начинало ныть сердце от тоски и неведомого страха. Но как миную дом — все проходит.
Почему, почему же я страшилась того мрачного дома?
Уж наступила ночь. Мы снова тронулись. По дороге темнели холмики в снегу. Метель заметала темные холмики — замерзающих. Мое сердце мучительно билось, точно терзалось в груди.
Я закрывала глаза и видела мертвенно-бледное лицо моего дорогого. Где он, где он? Ведь штаб дивизии давно промчался мимо, а я не видела его с ними.
Я отыскала штаб дивизии в маленьком местечке и там узнала о моем горе. Свершилось самое страшное: упала завеса железная, и свет погас в глазах. Спасая других, он сам погиб у того самого дома, которого я не могла миновать без тяжкой тоски.
Да будет Воля Твоя, да святится Имя Твое…"
Страшные это были дни для Плевицкой — пожалуй, хуже всего, что ей пережить довелось и еще доведется. Узнав о гибели Шангина, она буквально почернела от горя, у нее отнимались ноги. Кто-то из штабных офицеров, пожалев эту странную женщину в мужской форме санитара — а может, когда-то он был ее поклонником и слушателем? — уступил Надежде место в коляске, которая скоро сломалась и осталась среди сугробов, а Надежду и штабных пересадили на телегу. Надежда была в полуобморочном состоянии и забыла в коляске свой маленький чемоданчик, где среди прочего самого необходимого лежала любимая ее брошь в виде кокошника с бриллиантовым орлом, пожалованная ей Государем во время Бородинских торжеств в Москве. Это была ее любимая брошь, с которой она никогда не расставалась, считая ее своим талисманом. И так символично было, что в те дни она потеряла все самое любимое… Потом она вспоминала об этом как о некоем зловещем знамении.
III
Вернувшись в Петербург, Надежда поняла, что не может, ну просто не может ехать к себе домой, в свою роскошно обставленную квартиру на углу Сергиевской и Таврической. При одной мысли о том, чтобы переступить порог и оказаться в комнатах, чьи стены были свидетелями ее счастливых дней, где живет еще отзвук, далекое эхо ее прежнего голоса — и других, навеки смолкших голосов! — при одной мысли об этом Надежду охватывала дрожь. Ей казалось, что она так переменилась за последние месяцы, — все равно что умерла и заново родилась. Только ничего доброго и отрадного в новом рождении ее не было. Прежней Надежды Плевицкой не существовало более. И страшно было встретить в тех стенах ее тень. Тень себя — прежней. Себя — живой.
Сейчас Надежда ощущала себя живым мертвецом, принужденно дергающимся от разрядов гальванического тока: ни мыслей, ни чувств, ни желаний. Ей даже умереть не хотелось более, потому что на какое-то время она разуверилась в существовании загробного мира. Если Божьего милосердия нет — откуда загробному миру взяться? Ничего нет. Ничего… Только страдающая, полумертвая плоть.
Потом вера вернется к ней, но те недели после возвращения с фронта были самыми страшными в ее жизни. Хуже уже ничего не было и не будет.
Возможно, она по-настоящему впадала в безумие. К счастью, иногда этот процесс можно остановить и вернуть человека из сумрачного мира.
Однополчанин и лучший друг Василия Шангина, Ю.П. Апрелев, встречавший Плевицкую на перроне, ужаснулся внешнему виду ее, испугался ее нервического состояния, отвез Надежду к себе домой, вернее — к своей матери, Елене Ивановне, хорошо знавшей и самого покойного Шангина, и историю любви его к народной певице Плевицкой.
Елена Ивановна была писательницей, и история эта показалась ей особенно романтической, как-то не соответствующей времени.
Она приняла Плевицкую, как дочь, она заботливо ухаживала за ней, часами беседовала, утешала. Сидела у ее кровати, дожидаясь, когда Надежда заснет: после всего случившегося она стала бояться темноты и одиночества. Рассказывала ей о тех потрясениях и утратах, которые ей самой приходилось переносить за долгую жизнь. Обещала, что время излечит. Гладила по голове и шептала:
— Надо жить. Нельзя так сдаваться. Все равно надо жить! Подумайте: хотел бы он, чтобы вы так убивались? Он ведь смотрит теперь на вас… И печалится. Хотя бы ради него постарайтесь, прошу вас…
Когда Надежда начала приходить в себя, Елена Ивановна уговорила ее полечиться в клинике доктора Абрамова, для благозвучия называемой "водолечебницей", но на самом деле — дорогой психиатрической клинике. В этой "водолечебнице" не раз "отдыхал" Леонид Андреев, да и другие знаменитости Серебряного века обращались к доктору Абрамову за исцелением истерзанных нервов. Надежда знала о популярности клиники Абрамова в творческой среде и согласилась на лечение.
Популярность доктора Абрамова оказалась действительно заслуженной: ныне неизвестно, какими он пользовался методами, но результат был налицо — Надежда перестала бояться темноты, нормализовался сон, и она больше не принималась плакать безо всякого повода.
Абрамов подлечил ее нервы, но исцелить душу было не в его силах. Впрочем, душа — понятие абстрактное. А в начале XX века многие ученые и вовсе сомневались в наличии у человека такого органа, как "душа".
А кое-кто сомневается и по сей день.
Но Плевицкую тогда спасли только вера ее — детская, наивная неизбывная вера русской крестьянки — да еще жажда творчества, у настоящих талантов практически неугасимая.
Она писала:
"В память моего ушедшего жениха я желала служить миру по силам своим, а в минуты слабости духа я обращалась к Библии и к Святому Евангелию. А там сил источник неиссякаемый — только черпай и пей из родника истины, и тогда незаметно откроются духовные очи и увидишь, чего раньше не замечала, и познаешь, что ты не один, а добрые силы невидимые ведут тебя, и что злоба, зависть и жадность, все те железные оковы, от которых душе человеческой тяжко, сброшены, и легче солнечного луча станет душа. И возрастут у нее крылья быстрые с кладью любовною, и парит она по поднебесью, и видит яркий свет, ярче солнышка.
Моя долюшка — доля счастливая, будто матушка родимая меня учила уму-разуму. Чтобы знала я, как в труде живут, родила меня крестьянка-мать и отец мой пахарь-труженик. Чтобы славу я познала, она мне песни подарила. Чтобы золоту знать цену и каменьям драгоценным, меня и в золото, и в камни она любовно нарядила. Чтобы я всех любить умела, чтоб за жертвенность святую братьям кланялась я земно, показала мне судьбинушка реки красные, кровавые, напоила чашей горьких слез над крестами безымянными, что убогими сиротками по чужой земле разбросаны. Причастила горьким горюшком, умудрила, приголубила ярким светом, ярче солнышка, чтобы знала я да ведала, для чего сюда мы присланы, чтобы душа светилась и слезами омывалась. Вот где радость-то пресветлая, как додумалась, дозналась, для чего сюда мы присланы.
Н.В. Плевицкая. 1910-е гг.
В жизни я знала две радости: радость славы артистической и радость духа, приходящую через страдания. Чтобы понять, какая радость мне дороже, я скажу, что после радостного артистического подъема чувствуется усталость духовная, как бы с похмелья. Аромат этой радости можно сравнить с туберозой. Прекрасен ее аромат, но долго дышать им нельзя, ибо от него болит голова и умертвить может он. А радость духовная — легкая, она тихая и счастливая, как улыбка младенца. Куда ни взглянешь, повсюду светится эта радость, и ты всех любишь, и все прощаешь. Эта радость — дыхание нежных фиалок, дыхание их хочешь пить без конца. Радость первая проходит, но духовная радует до конца дней".
IV
После кошмарных военных будней привыкнуть к мирной жизни в столице было невыносимо трудно. Даже водолечебница Абрамова тут помочь не могла. Здесь кипела светская жизнь.
Здесь жили люди. Толком и не понимавшие, что такое война! Для них война была временным неудобством. Предметом для бесед, несколько отвлекавших от привычной скуки. И поводом давать еще больше благотворительных утренников, балов и концертов!
Да, здесь кипела светская жизнь и царила привычная скука. Там — привычный кошмар. Здесь — привычная скука. Надежда начала опасаться, не сойдет ли она с ума на самом деле. Или, быть может, это они все сошли с ума?
Но ей нужно было общение. И ей приходилось посещать все эти мероприятия. Потому что она должна была вернуться к жизни. И — напомнить о себе!
Ведь ее почти забыли!
Нет, не совсем, конечно, но за время отсутствия на сцене она сделалась чем-то сродни легенде… Зажглись новые звезды, в городе строились все новые и новые кинотеатры! Тумбы, некогда обклеенные афишами "ПОЕТ НАДЕЖДА ПЛЕВИЦКАЯ", теперь оповещали: "Артистка-красавица ВЕРА ХОЛОДНАЯ в новом художественной фильме…"
Если она потеряет свою популярность, свою публику, свои залы — что останется у нее?
Ведь она потеряла все. Любимого, надежду на будущее счастье. Своих еще нерожденных детей.
Но — как она может вернуться? Как?! Как надеть концертное платье, нанести грим, выйти на освещенную сцену и петь… Что петь?! "Ехал на ярмарку ухарь-купец"? "Когда я еще молодушкой была"?! У нее перед глазами еще стоит тот дом. Тот крест… И мертвый солдат с раздробленной головой, и половинка черепа, как кровавая чаша… Треск пулемета… Ради Шангина она готова была отказаться от пения, но теперь — что осталось у нее кроме песен, в которых можно выплакать, выкричать свое горе? Но… Сможет ли она вообще петь? Остался ли у нее ее голос? Сомнения были ужасны, мучительны, невыносимы…
Если она не вспоминала все пережитое и не плакала о Шангине, то принималась думать о своем настоящем положении — и снова плакала… Что будет с ней теперь? Что будет, если она не вернется на сцену? Как жить? Чем жить? Она все еще была богата, утрата драгоценностей была болезненна только потому, что среди них находились подарки Государя… Но что ей это богатство, если не для чего жить? Вернуться в деревню? В свой новый дом? К матери, к Плевицкому? Да, возможно. Но долго она там не проживет. Она не может жить в покое. Ей надо петь.
Ей нужны полные залы. Люди, которые хотят ее слушать, люди, которым она дарит отраду. Люди, которым она нужна!
Плевицкая решила вернуться на сцену. Но первый шаг был невыносимо труден… И цела Надежда Плевицкая теперь редко, только на благотворительных концертах.
Но в тот период жизни вопросы популярности ее даже и не интересовали. Еще не отошла она от потрясения после гибели Шангина. И выступать в многолюдных залах ей все еще не хотелось. Редко, редко появлялась она в обществе, и то по большей части не в светском, а среди творческой интеллигенции, где скорее могли сейчас понять ее чувства и ее муку. Подружилась она с поэтом Николаем Клюевым — он тоже был из крестьян, бравировал своим происхождением. Плевицкая очень ценила его за стихотворение "Солдатские душеньки":
Покойные солдатские душеньки Подымаются с поля убойного, Из-под кустья они малой мошкою, По-над устьем же мглой столбовитою. В Божьих воздухах синью мерещатся, Подают голоса лебединые. Словно с озером, гуси отлетные, Со Святорусской сторонкой прощаются. У заставы великой, предсолнечной, Входят души в обличие плотское. Их встречают там горние воины С грозно-крылым Михайлом архангелом. По три крата лобзают страдателен, Изгоняют из душ боязнь смертную, Опосля их ведут в храм апостольский Отстоять поминальную служебку. Правит службу там Аввакум, пророк, Чтет писание Златоуст Иван. Херувимский лик плещет гласами, Солнце-колокол точит благовест. Опосля того громовник Илья, Со Еремою запрягальником, Снаряжает им поезд огненный. Звездных меринов с колымагами Отвести гостей в преблаженный Рай, Где страдателям уготованы Веси красные, избы новые, Кипарисовым тесом крытые, Пожни сенные, виноград, трава — Пашни вольные, бесплатежные — Все солдатушкам уготовано, Храбрым душенькам облюбовано.Надежда всегда плакала, когда читала это стихотворение, заучила его наизусть, а когда "Солдатские душеньки" положили на музыку, пела на каждом своем концерте. И никогда не умела петь эту песню без слез…
Знакома она была и с Сергеем Есениным, которого ей нарочно представили как новое дарование "из народа". Но Есенин был из породы деревенских щеголей-ухарей, а Надежда таких еще с юности не любила и, в отличие от светских барышень, не видела никакой пикантности в его скверных манерах. Что до стихов — они для нее были слишком сложны и казались совсем даже не деревенскими, в отличие от стихов Клюева.
Вообще же в те месяцы любым светским мероприятиям Надежда предпочитала походы в церковь: там, за молитвой, она получала хоть какое-то утешение своим страданиям, хотя судьба продолжала наносить ей все новые удары — впору было вовсе разувериться в чем бы то ни было!
Она вспоминала: "В то время траурные объявления ежедневно извещали о смерти храбрых: друзей, знакомых, родных. Убит был мой племянник, первенец брата Николая. В часовне Николая Чудотворца, на Литейном, где всегда пылал жаркий костер вос-новых свечей, я служила по нем панихиду. Старенький священник и маленький пономарь-горбун истово молились и пели старческими голосами, клубилось синеватое облако ладана и лилась панихида умиленно, как песня колыбельная над спящим дитятей. В этой часовне я бывала часто, я отдыхала там в напоенной ладаном тишине. Никогда я не была ханжой, но во время всеобщего траура душа ничего не желала, кроме молитв. Вот почему я охотно посещала религиозные собрания и собеседования. Но от городских сплетен крепко запирала двери. Невмоготу было слушать, как люди, не видавшие фронта вблизи, легко передвигали войска, бросали полки туда и сюда, завоевывали Берлин, критиковали все и вся. Даже дамы своими маленькими ручками командовали армиями и одерживали победы за чайным столом. Много говорилось пустого, много сеялось лжи, да не я тому судья: "Отойди от зла и сотвори благо".
V
После гибели племянника Надежда решила все-таки съездить в родное Винниково, навестить родных, поддержать в горе. До того как-то не могла — очень больно вспоминать ей было, как осуждала мать ее развод с Плевицким и любовь ее к Шангину. Суеверной Надежде казалось даже, что оттого, что материнского благословения их с Василием любви не было, и случились все их несчастья, оттого и потеряла она его! И на мать за это гневалась.
Но когда увидела Надежда матушку свою посте долгой разлуки… Все сразу забыто было, все обиды, все подозрения — все вообще. Приткнулась головой к родному плечу и наплакалась — горько и сладко, как в детстве. И если не все горе, то самая острота его, разъедавшая душу, с этими слезами изошла, и даже на душе у Надежды легче стало. О Шангине вообще не говорили мать с дочерью. Не касались этой темы — как открытой раны. Да и без того было о чем поговорить.
Свиделась и с сестрицей Дунечкой, и с братом Николаем — оба жили богато, детей Бог обоим послал здоровых и работящих. У Николая старшего, правда, отнял, но утрату эту приняли с истинно крестьянским и истинно христианским смирением: "Что Бога гневить, — говорит он мне, — старшого на войне убили, а у меня Господь послал, еще растут солдаты, да во какие: любимец матери Федюшка, тихий Ванечка, поменьше, а Фомка-то орел какой, да сероглазый озорник Купрюшка — весь в мать пошел и мордашка веснушчатая, да Андрюшка, да Степка, да Захар — глянь, какие крепыши. А тут и девки, Алеша да Анютка, в подмогу матери растут. Когда еще Бог пошлет, то я не прочь, Параша только бы не серчала".
Для Надежды возня с многочисленными племянниками была лучшим подарком — вот когда она отдыхала душой по-настоящему! А от брата старалась смирению учиться. Запрещала себе сокрушаться об утрате и о том ребенке, которого она так и не родила Шангину… О ребенке, которого у нее, скорее всего, вообще никогда не будет! Эта мысль была еще одним источником неутихающей муки, но сейчас Надежда старалась отрешиться от всего и снова почувствовать себя ребенком, маленькой Дежкой, ровесницей собственных племянников. Будто и не было ничего… Ни славы, ни утрат. Однако полностью отрешиться от тревоги ей не удавалось, появился новый источник для беспокойства: Надежда вдруг осознала, как сильно состарилась ее мать… Ее единственный близкий человек теперь, когда она была в разводе и потеряла Василия! Ведь у брата и сестер — свои семьи. А у нее, Надежды, только мать. Для остальных она все равно будет "пришлая", слишком уж они от нее отвыкли и слишком она — нынешняя — им чужда. Одна мать примет свое дитя всегда и любым: в лавровом венце или с клеймом каторжника, все равно… А Надежда словно предчувствовала, что эта ее встреча с матерью — последняя:
"Мать спокойно готовилась к смертному часу. И собиралась в далекий путь, будто в гости.
— Ты, Дежечка, не горюй, когда я умру, — говорила она, — сама я смерти не боюсь. Так Господом положено, чтобы люди кончались. Я вот с двадцати годов смертное себе приготовила, а ты мне только ходочки купи, чтобы было в чем по мытарствам ходить, когда предстану пред Судией Праведным. А гроб лиловый с про-зументами мне нравится. Да подруг моих одари платками, а мужиков, которые понесут меня, — рубахами, пожалуй. Ну вот и все. А как панинки справить, сама знаешь".
Оставаться рядом с матерью Надежда не могла. Концертировать было необходимо: у Плевицкой почти не осталось денег. Ей еще очень повезло, что импресарио смог организовать для нее ото турне.
В Кисловодске Надежда отдохнула и словно бы отошла от страданий — там, на даче, собиралось веселое, прямо-таки довоенное общество отдыхающих; а может быть, просто сюда война только отголосками доносилась, и казалась далекой далекой, и несколько даже нереальной: будто в другом мире, на другой планете или в другом времени — в прошлом или в будущем, — но не здесь, не сейчас, и не их современники гибнут на полях сражений. В Кисловодске войны не знали и не желали знать, и Надежда Плевицкая, войну узнавшая так близко, что ближе и некуда, с радостью влилась в это общество и тоже теперь ничего знать не желала. Давала концерты, ходила в гости, старалась развлекаться и веселиться, хотя душа ее, казалось, закаменела в горе так, что даже самой теплой радости уже не растопить. Но она старалась изо всех сил. Понимала: чтобы выжить и петь, нужно позабыть свое горе. Нельзя ему позволить взять в полон ее душу, подчинить себе ее жизнь. Достаточно того уже, что смерть взяла Василия. Нельзя дать ей полной победы.
Но смерть взяла реванш, причем выбрала для этого тот момент, когда Надежда меньше всего ожидала… Вернувшись под утро с веселой вечеринки по случаю чьих-то именин, Надежда обнаружила у себя в номере телеграмму, извещавшую ее о смерти матери:
"Я осиротела. Точно пустыней стал мир. Никого. Я одна в нем. Кто мне заменит мать? Нет чище и нет правдивее любви, чем любовь матери. Ее любовь никогда не обманет и никогда не изменит. Много лет прошло с той печальной минуты, а и теперь я не могу писать покойно. Врачи мне не разрешали ехать на похороны и уже телеграфировали, чтобы хоронили без меня, но я все силы собрала и поехала.
При последних минутах матери были Э.М. Плевицкий и Дунечка. Дунечка мне рассказала: когда получили телеграмму, что я не буду на похоронах, все заметили, как нахмурилось лицо усопшей при этом известии. Но, когда пришла другая, что еду, улыбка заиграла на мертвом лице, и мать словно помолодела на своем смертном ложе. Это подтвердил мне и Э.М. Плевицкий.
Вскоре после похорон матери приснился мне сон, такой яркий, что, и пробудясь, я не верила, что это — сон. Будто стою я на колокольне нашей деревенской церкви и далеко видны пашни и поля. И вдруг я увидела, как в воздухе летит в смятении белый голубь, гонимый стаей черных птиц. Голубь метался, и черные птицы его настигали, а я с тоской кричала: "Заклюют, заклюют бедного голубочка ". Голубь метнулся, и пал в когти черной птицы, и повис без дыхания. Тогда я увидела мать, идущую со стороны кладбища. Увидев ее, я крикнула кому-то вниз с колокольни, чтобы мать ко мне не подымалась, что ей трудно по лестнице ходить, а я сама к ней прибегу. И побежала вниз с колокольни. Обыкновенно эта лестница шаткая, но теперь была устлана ковровой дорожкой. Я сбежала вниз и обняла мать. А она держит в руках крылышко белое; подала мне и сказала:
— Вот тебе, Дёжечка, крылышко голубочка, которого вороны заклевали.
Голос матери был печален и нежен.
Я взяла крыло и проснулась.
Тогда я этот сон разгадать не умела и только теперь его, кажется, поняла. Сейчас, когда я дописываю эти строки, под моим окном, в густой шелковице, поет птичка, заливается. Не привет ли это с родимой стороны? Не побывала ли она теплым летичком в лесу Мороскине? И не пела ли пташечка на сиреневом кусту у могилы моей матери? Спасибо, милая певунья. Кланяюсь тебе за песни. У тебя ведь крылья быстрые — куда вздумаешь, летишь.
У меня одно крыло.
Одно крыло, да и то ранено".
Но сила воли и жизнелюбие Надежды Плевицкой были так крепки, что она смогла лететь и с одним крылом.
Глава 9 БЕС ПОЛУДЕННЫЙ
I
Революция застала Надежду в родной деревне Винниково, в новом, богатом доме, в котором она и не жила-то почти в счастливые годы, но теперь хоронила, баюкала свое разбитое сердце. Не было больше Василия, не было матушки. Один только верный, неизменный Плевицкий оставался с ней — скучал, вздыхал, бродил тенью иного, молодого и горячего времени, и, хоть опостылел он давно Надежде, она его все-таки не гнала: во-первых, жалела — куда бы пошел он, бездомный и бедный? — а во-вторых, знала, что искренне горюет он по Акулине Фроловне. Потому что любил искренне — как родную. Да и матушка любила его, и гневалась на "бессовестную Дежку" за то, что она "такого славного" бросила! С Шангиным матушка познакомиться не успела, и брак их не успела благословить, да и вообще: для нее Шангин был дочкиным сожителем, а не женихом. А Плевицкий — все-таки муж венчанный! Акулина Фроловна особенно жалела и уважала его за то смирение, с которым он принял "измену" Надежды. Воспитанная по-старинному, она не понимала их новых нравов. Иногда Надежда принималась вдруг сердиться на Эдмунда: за то, что матушка его больше Шангина жаловала, за то, что он, Плевицкий, чужой человек — инородец даже! — а не она, Дежка, родная дочь, была подле матушки в ее последние дни, в последние часы. В такие краткие мгновения гнева Плевицкий предпочитал уйти, исчезнуть с глаз долой, переждать, пока гнев не перекипит и не сменится уже привычной апатией. Надежде снова становилось все равно — и Плевицкий возвращался, сам самовар запаливал и звал ее чай пить. И она шла.
А потом, по весне, уж посте половодья, пришли вести о "беспорядках" в Петербурге. Будто народ бунтует — война утомила. Винниковские мужики долго не хотели верить: и прежде войны бывали, но такого, чтобы народ — народ! — против Царя взбунтовался, — такого не бывало еще. Было, когда какие-то грамотеи Царя убили и на другого покушались. Так это давно. И не народ то был, а грамотеи! И потом — чего против него бунтовать-то, против нынешнего Царя? Тем более что ходит слух, будто жену свою, немку, Он то ли в монастырь отправил, то ли на родину, в Германию, но в любом случае развелся с ней, с постылой, и собирается жениться, по прадедовскому обычаю, на какой-то русской барышне-боярышне, как это до Петра, в старые времена, заведено было, и которая наверняка сможет родить ему здоровых сыновей. И тогда война сама собой кончится. Так что чего сейчас бунтовать-то?
Надежда знала, что Государь любит свою холодную, надменную супругу и ни за что не разведется с ней, как бы ни требовали того интересы России, — и за то еще больше гневалась на Александру Федоровну, по ее, Надеждиному, мнению, недостойную любви такого человека, но во время бесед всегда молчала: не хотелось разочаровывать мужиков. Но в бунт и она не верила. Нет, быть такого не могло, чтобы кто-то против Государя подняться осмелился: Николай Александрович — Он же ангел во плоти, да и власть царская — только ею Россия и держится. Не верила в бунт. Не верила.
Но в середине апреля, с прорвавшейся сквозь половодье и весенние бури почтой, получила несколько писем и газет и содрогнулась от прочитанного: бунт, как есть бунт! Только не народ, а, как и в прошлый раз: господа-грамотеи да с ними господа-офицеры осмелились против Государя пойти. Предатели, изменники! Надежда кипела гневом.
Первым порывом было ехать в Петербург, самой разобраться в происходящем. Удержал ее благоразумный Плевицкий: он указал Надежде на то, что Царя-то как раз в Петербурге нет. Государыня с детьми, Великие князья — те в Петербурге, а Государь — с войсками, на фронте.
Надежда, как всегда, против воли своей прислушалась к словам мужа — и осталась. Понадеялась, что, может, этот бунт — не против Него, а против нее, против опостылевшей всем царицы! А Он — Он свободен пока, и войско с Ним, и Он вернется в столицу с армией и покарает бунтовщиков.
Надежда решила выждать, посмотреть, что будет, хотя смотреть из такого далека было не очень-то удобно, потому как вести все приходили с запозданием и в искаженном виде. В начале XX века средства коммуникаций были еще несовершенны, и на одном краю громадной империи знать не знали, что там творится на другом краю; и так же в провинции знать не знали, что там происходит в столице! Столичных газет здесь не получали, а курские газеты печатали преимущественно слухи, да еще кое-что доносилось "из уст в уста". Но и то, что все-таки доходило до деревни Винниково, было весьма неутешительно.
Государь отрекается от престола от имени своего и от имени Наследника.
Государь и Государыня арестованы.
К власти приходит какое-то никому не ведомое Временное правительство.
— Что же это за правительство, кому оно нужно, если оно "временное"? — шумят мужики. Они не хотят временного правительства, они хотят постоянного.
Надежда снова — на этот раз совсем уж всерьез, не слушая уговоров Плевицкого, — собирается в путь, но новые слухи повергают ее в ужас и отчаяние.
В Петербурге голод.
Петербург захвачен немцами.
Великие князья арестованы.
Государь, Государыня и дети отправлены в ссылку: уже выехали, и конечный пункт путешествия неизвестен.
Что — правда, что — ложь?
И она опять не едет. Доезжает до Курска — и возвращается назад.
Так как-то — в волнениях, в обсуждении новых жутких слухов — прошло время до осени, а осенью — весть о новом бунте! Теперь якобы уже народ восстал — против Временного правительства. Мужики в деревне Винниково смеются: и впрямь оказалось "временное"! И говорят, что это народ за Царя вступился, что новые бунтовщики Царя хотят освободить. И Надежда слушала, радовалась и верила, всему верила! Она так и не разобралась в тонких различиях между учащимися кадетского корпуса и членами партии кадетов, и знать не знала, что это за большевики такие. И никто в Винникове не знал, и во всей округе тоже. Пройдет восемьдесят лет — и в это сложно будет поверить, потому что все и всё узнают, и масштабность события перевернет жизнь страны на все эти восемьдесят — и неизвестно сколько еще! — лет. Но тогда, в семнадцатом, случалось, что большевики "на местах", то есть в провинции, точно не знали, что там предпринимают большевики в столице, а еще чаще — местные представители революционно настроенной интеллигенции (и НЕинтеллигенции) вовсе не ассоциировали себя с большевиками и даже враждебно относились к ним, одержавшим победу в Петербурге и в Москве. Смутное было время.
Зимой Надежда переехала в Курск, почувствовав, что не в силах дальше выносить деревенскую тоску и неведение: все-таки в городе и людей больше, и пришлых больше — значит, и узнать можно обо всем подробнее и достовернее.
Эдмунд Плевицкий остался в ее доме в Винникове.
Больше они никогда не виделись.
II
Вскоре Курск оказался в руках большевиков, и Надежда, по-прежнему не разбиравшаяся в политике, как-то не сразу поняла, что можно быть за народ, но против царя. Нет, она не была глупой, вовсе нет, и даже наивной не была: просто она жила в своем времени, в своем понимании мира, и для нее понятия "царь" и "народ" были совершенно неразделимы. А когда разобралась, что к чему, было уже поздно — она уже попала в кровавый водоворот, уже схватило ее, закружило, понесло.
Весной и летом 1918 года она — еще в Курске — пела для бойцов Красной армии в театре Пушкинского сада.
Позже сей прискорбный факт будут приводить как доказательство ее изначальной симпатии к новой власти — но осмелюсь предположить, что это не так, и никаким доказательством эти несколько концертов служить не могут. Нет, могут, конечно, но не в этой ситуации, не с ней. Она могла какое-то время симпатизировать красным, потому что они — за народ, но к лету 1918 года даже самый наивный и несведущий человек понял бы, что они — против Царя. А с теми, кто против Царя — против Государя Николая Александровича! — Надежде Плевицкой было не по пути. Но она оказалась в безвыходном положении. Она была в руках красных, на их территории, она имела всероссийскую известность как исполнительница народных песен — Господи, да как же она могла отказаться петь для них? Отказаться — и героически умереть? Во имя чего? У девочки из деревни Винниково не было каких-то особенных высоких понятий о чести, благородстве, достоинстве, героизме. Не говоря уж о том, что ей просто жить хотелось, она любила жизнь, и выжить в любых условиях — когда неурожай, голод, мор, война — для крестьянина всегда считалось большей доблестью, чем смириться и погибнуть.
Она пела для бойцов Красной армии в Курске, а потом шла с Красной армией на юг и на некоторое время осела в веселом городе Одессе, только недавно освобожденном от интервентов.
В Одессе у Надежды случился краткий, но бурный роман с "товарищем Шульгой" — знаменитым "революционным матросом" Черноморского флота, приходившимся заместителем самому Домбровскому, начальнику красного гарнизона Одессы. Время было страшное — в Одессе царило кровавое безумие, настоящее "пирование" новоявленных упырей: как и во всех других городах на территории "коммунистической России", свирепствовала ЧК, но там помимо обычных пыток, расстрелов и повешений (для тех, "на кого пулю жалко тратить". — бывали и такие враги у революции) практиковались такие оригинальные способы казни, как сжигание в топках пароходов (вопреки утверждениям советской пропаганды, впервые опробовали этот практичный способ расправы вовсе не японцы и не на Сергее Лазо со товарищами, хотя, понятно, от этого дальневосточным большевикам легче не становится) и утопление попарно связанных жертв в море — как правило, такими способами казнили морских офицеров, а если, даже связанные вдвоем, они почему-то не тонули, в них с борта корабля летели тяжелые предметы и уж в крайнем случае — пули. При всем при этом Домбровский искренне считал себя "эстетом", поклонником искусств, при нем действовал знаменитый Одесский оперный театр, устраивались эстрадные концерты — в том числе таких дореволюционных знаменитостей, как Иза Кремер (впоследствии ее место в советской эстраде займет Клавдия Шульженко, переняв не только манеру исполнения, но и часть репертуара) и Надежды Плевицкой (а ее место, если уж заговорили об этом, займет Русланова, перенявшая и манеру исполнения, и репертуар почти полностью, за исключением только нескольких "белогвардейских" песен!), работали кинотеатры, в которых шли фильмы преимущественно с участием "королевы экрана" Веры Холодной, — в Одессе было много пленок с ее фильмами, потому что последние пол года жизни она провела именно в этом приморском городе, здесь снимались последние ее ленты, здесь умерла она от "испанки" в феврале 1919 года, незадолго до вступления в Одессу красных, здесь, в часовне на Первом Христианском кладбище, покоилось ее прекрасное тело, тщательно мумифицированное, но так и не отправленное к мужу в Москву, — Домбровский, как и многие очень жестокие люди, был чрезвычайно сентиментален (впоследствии именно сентиментальность с недоумением отмечали в своих палачах жертвы нацистских концлагерей), и он обожал, почти обожествлял Веру Холодную, грустные и лиричные фильмы с ее участием, утешаясь после них игривыми песенками Изы Кремер. А Шульге и тем, кто "попроще", оставалась Плевицкая. Солдатам и матросам — ее песни, будившие в них теплые и светлые воспоминания далекого детства, родных деревень. А самому Шульге — не только песни, но вся она: и тело ее, и, возможно, сердце.
Любила ли Надежда Плевицкая "товарища Шульгу"?
Или отдалась ему от отчаяния и страха, надеясь найти в этом безумном мире по-настоящему сильного "покровителя"?
Или в самом деле "бес полуденный" попутал, и пленилась она его силой, и заговорила в ней вдруг деревенская женщина, мечтающая в мужья получить дюжего мужика, удальца и красавца, на которого опереться можно в трудный момент, а то и вовсе укрыться за его широкой спиной. И до того, и после ее избранниками всегда становились мужчины, снисходившие к ней с более высокой ступени социальной лестницы, — именно так воспринималось это окружающими, хотя на самом деле сама она, Надежда Плевицкая, снисходила к ним ко всем с высоты своего таланта. И все-гаки все они: бывшие — балетный танцор Эдмунд Плевицкий и кавалергард Василий Шангин, и будущие штабс-капитан Юрий Левицкий, полковник Яков Пашкевич, генерал Николай Скоблин и даже адвокат мэтр Френкель — все они являлись людьми более образованными, благовоспитанными, духовно утонченными и даже аристократичными, чем певица из деревушки Винниково. А вот Шульга — Шульта стоял на одной с ней ступени. Он, правда, "ходил в начальниках" но случаю захвата власти революционными народными массами, но зато Плевицкая была всероссийски известной певицей и не так давно пела перед Царем, что для матроса Шульги, сколь бы ни был он революционным и просвещенным, имело огромное значение.
Шульга гордился своей любовницей.
Плевицкая. Хотелось бы сказать "стыдилась", но я не вправе давать оценку тем ее чувствам, о которых сама она молчала всю оставшуюся жизнь.
Роман с Шульгой продолжался недолго — с мая по август 1919 года.
В августе 1919-го к Одессе подошли войска белых из армии Деникина, и красные спешно отступили вместе с Домбровским, Шульгою — и Надеждой Плевицкой.
III
Далее в истории намечается какая-то туманность, недоговоренность, и расставание Плевицкой с Шульгою, и момент знакомства ее с молодым (якобы на несколько лет ее моложе) штабс-капитаном Юрием Левицким (сыном начальника 73-й пехотной дивизии), и переход ее от красных к белым окутаны тайной.
По одной версии, Плевицкая все-таки каким-то поступком или неосторожным словом разочаровала своего любовника и его боевых товарищей — возможно, когда в одном из интервью какой-то маленькой газетке выразила свое возмущение убийством Царя и Его Семьи (хотя тогда на территориях красных знали только о "казни" самого Николая и утверждали, что жена его и дети все еще живы и находятся в некоем "безопасном месте"). Разочарование их было настолько сильным" что певицу приговорили к расстрелу, и в группе других приговоренных гнали в чисто поле, но им пришло спасение в лице (или, вернее, в лицах) отряда белых, отбивших у красных палачей их жертвы. Командовал тем отрядом Юрий Левицкий, давний поклонник таланта Плевицкой, и в благодарность за спасенную жизнь она согласилась обвенчаться с ним в маленькой деревенской церквушке.
Подругой версии, Левицкий, которого Надежда Васильевна знавала ранее, оказался в плену у красных, и Плевицкая, давно мечтавшая перейти на сторону белых, помогла ему бежать и бежала вместе с ним, и венчаны они вовсе не были, просто сказались мужем и женой, когда их привели на допрос в штаб 2-го Корниловского полка.
Третья версия: Плевицкая и Левицкий поженились еще в 1918 году, в стане красных, куда ее муж, бывший офицер, был насильственно мобилизован, или даже вступил сам, что в то время случалось очень часто, и даже командовал некоторое время, но позже отчего-то разочаровался в революционных идеях — в таком случае в эпизоде с Шульгой Надежда Васильевна совершала прелюбодеяние. И, когда летом 1919 года конная разведка деникинцев ворвалась в какую-то деревеньку под Фатежом близ Курска, оба они — Левицкий и Плевицкая, ставшая сестрой милосердия, — были захвачены в плен. Один деникинец — якобы участник событий — рассказывал в 1937 году в парижской газете: "Капитан Калянский крепок был на язык. Увидев красную сестру милосердия, он грубо обругал ее. Сестра закинула гордо голову и сказала: "Да вы знаете, с кем говорите? Я — Надежда Васильевна Плевицкая!" Капитан, не смутившись, с лошади приложился к ручке, велел оказать пленной почет и препроводил ее в штаб батальона".
Есть и четвертая версия — изложенная Владимиром Набоковым "со слов свидетелей" в рассказе "Помощник режиссера" — весьма поэтическая, и при этом наименее достоверная, и наиболее популярная в эмигрантских кругах! Напомню, что Плевицкая в этом рассказе выступает как певица Славская, а генерал Скоблин — как генерал Голубков. Юрий Левицкий и вовсе отсутствует — что прежде всего ставит версию Набокова под сомнение, — и все-таки биограф великой певицы не может ее умолчать:
"Мы видим, как мчатся вскачь призрачные полки призрачных казаков на призрачных лошадях. Затем возникает лощеный генерал Голубков, лениво озирающий поле боя в театральный бинокль. Когда фильмы и мы еще были молоды, нам обычно показывали то, что открывалось взорам, в двух аккуратно сплетенных кружках. Теперь не то. Теперь мы видим, как вялость покидает Голубкова, как он взлетает в седло, мгновение маячит в небе на вздыбленном жеребце и бешено скачет в атаку.
Но вот неожиданный инфракрасный в спектре Искусства: вымещая условный пулеметный рефлекс — привычное "та-та-та" — женский голос запевает вдали. Он близится, близится и, наконец, заполняет собою все. Прекрасное контральто ширится в русских напевах, удачно подобранных музыкальным директором в студийном архиве. Кто это там, во главе инфракрасных? Женщина. Певучая душа вон того, отменно обученного батальона. Идет впереди, топчет люцерну и разливается в песне про Волгу-Волгу. Лощеный и дерзкий джигит Голубков (теперь-то нам ясно, кого это он углядел), невзирая на множество ран, на полном скаку подхватил роскошно бьющуюся добычу и умчал ее вдаль.
Странное дело, но сама жизнь поставила этот убогий сценарий: я лично знал по меньшей мере двух очевидцев события; часовые истории пропустили его, не окликнув".
Набоков повествует роскошным, богатым языком — и в добавок через "кинематографические образы", — а если сказать проще, то была версия о том, что сам генерал Скоблин похитил у отряда красных и привез в стан белых Надежду Плевицкую.
Н.В. Скоблин
Но так или иначе Надежда Васильевна вместе с мужем Юрием Левицким оказалась — на допросе или еще по какой причине — в штабе 2-го Корниловского полка, где ее увидал командир полка Я. А. Пашкевич. Увидал — и воспылал. Плевицкая очень хороша была тогда: другие женщины, пройдя столько дорог и тяжелейших испытаний, блекли и увядали, а она расцвела и поздоровела. Да и соскучился Пашкевич по женскому обществу. А тут — такая женщина, такая знаменитость — "звезда", как сказали бы теперь, — разве он мог устоять? А она? Ох, лукава ты, жизнь, бес полуденный! Что это было? Снова любовь? Снова расчет на "сильного покровителя"? Или мимолетная вспышка страсти, которой Дежка поддалась в отчаянном порыве: раз уж жизнь не удалась, так хоть погулять вволю!
Юрий Левицкий был забыт — вообще в жизни Плевицкой ее второе замужество оказалось самым тусклым и невразумительным эпизодом.
Будущий — третий муж — Николай Владимирович Скоблин, тогда еще бывший полковником, начальником 2-й Корниловской дивизии (то есть Скоблин стоял непосредственно над Пашкевичем), уже находился в поле ее зрения, но был еще очень далек, а возможно, казался недоступным: разница в возрасте с ним у Надежды Васильевны была еще больше, чем с Юрием Левицким, — Скоблин был моложе ее на восемь лет. К тому же он был хорош собой, его окружал ореол боевой славы, и он в ту пору — в свои двадцать шесть лет — так походил на Василия Шангина (не внешне, конечно, а тем самым, неведомым, что неизменно привлекало ее в мужчинах), что Надежде Васильевне могло быть просто страшно приблизиться к нему. А может быть, она даже и не любила еще Скоблина, искренне увлеченная Пашкевичем.
Любовь с Пашкевичем оказалась еще более скоротечной и пылкой — плотским утехам предавались в перерывах между боями, что уж может быть романтичнее! В любой момент его могли убить. И убили в конце концов.
IV
Боевое счастье белым изменило, красные наносили удар за ударом, и лавина отступления катилась от Орла и Царицына на юг, к Новороссийску. В тех последних отчаянных боях Корниловская дивизия во главе с полковниками Н.В. Скоблиным" К.П. Гордеенко, Я.А. Пашкевичем и лихим есаулом Н.В. Милеевым покрыла себя неувядающей славой и это не пустые слова, раз уж слава их жива даже теперь, спустя восемьдесят лет после их поражения! Чудеса героизма проявляли корниловцы в 1919 году, пытаясь хотя бы приостановить отступление, если уж нельзя повернуть его вспять. Но тяжелый жернов истории смял и безжалостно перемолол их. Сухие степи Дона и Кубани усеяны их телами, а оставшиеся в живых садились на корабли в Новороссийске, чтобы отплыть в Крым: туда, где белые армии еще цеплялись за последний клочок родной земли.
Предводительствовал этими армиями легендарный генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель. Имя и деяния этого человека знакомы, я думаю, всем, но напомню вкратце хотя бы основное: барон П.Н. Врангель по праву считался самым выдающимся и самым талантливым полководцем в стане белых, его называли "вождем Божьей милостью". Кавалерийский генерал, в молодости окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Во время Гражданской войны одержал победу в тяжелейших боях под Ставрополем, а потом неизменно побеждал на Северном Кавказе, в сражении на реке Маныч, во главе Кавказской армии овладел Царицыном — как его называли, "красным Верденом". Считался гениальным стратегом, не знающим поражений, действительно умел с легкостью оценивать обстановку и принимать стремительные и на удивление верные решения, и вскоре само появление барона Врангеля давало павшим духом бойцам белой армии надежду на победу — под предводительством Врангеля просто невозможно было проиграть! Огромного роста, статный, стройный, затянутый в черную черкеску, с лихо заломленной папахой, очень энергичный и самоуверенный, Врангель действительно был великолепен и представлял собой идеальный, почти что книжный или театральный образ военачальника. Встав во главе истерзанной, деморализованной бесчисленными поражениями армии Деникина, Петр Николаевич Врангель в течение нескольких недель смог не только дисциплинировать "добровольцев", но и придать им веру в некий благополучный исход всего происходящего. И под его командованием эта самая совсем недавно разбитая армия ворвалась на просторы Северной Таврии, с легкостью сметая на своем пути превосходящие ее силы красных. Корниловцы, оказавшись под начальством Врангеля, тоже воспряли духом и отличились в боях у Перекопа — Скоблин тогда слег с брюшным тифом, и на посту командующего полком его заменил Пашкевич.
Связь свою Пашкевич и Плевицкая не скрывали: когда, незадолго до Перекопа, у позиций 2-го Корниловского полка был устроен концерт Плевицкой, Пашкевич сам вывел ее за руку на импровизированную эстраду — на возвышение надо рвом, в котором стояли корниловцы. Навстречу "боевой паре" грянул военный марш, потом Плевицкая пела, а потом концерт прервали красные, устроив артиллерийский обстрел: несколько снарядов попали в "эстраду", оглушенную и ослепленную Плевицкую Пашкевич подхватил на руки и унес в укрытие.
П.Н. Врангель
В середине июня 1920 года командование Красной армии совершило попытку покончить с армией Врангеля, прорвав расположение белых в районе Большого Токмака и войдя в тыл к противнику; сам по себе ход был весьма мудреным и мог бы увенчаться успехом, если бы не помешала пресловутая военная интуиция Врангеля, подкрепленная действиями его разведки. Конный корпус красного командира Жлобы, с несколькими приданными к нему конными полками и пехотой, четыре дня продвигался на юг и юго-восток к Мелитополю, а Врангель, предупрежденный об их действиях, тем временем совершал еще более оригинальный маневр и также разворачивал на восток Корниловскую дивизию, чтобы 20 июня нанести удар в тыл самому Жлобе. Красные обнаружили корниловцев слишком поздно, и все-таки Жлоба успел направить свои конные полки против корниловских пехотинцев: однако корниловцы смогли отразить напор четырех конных бригад и довершили разгром корпуса Жлобы при поддержке эскадрильи самолетов и бронеавтомобилей. Этот пример окружения пехотой конницы, как редкий и оригинальный пример военного искусства, долго преподавался Французской академией генерального штаба. Но радость победы была недолгой: красные бросали к Большому Токмаку все новые силы, пока принудили корниловцев отступить.
А 15 июля в одном из боев под Большим Токмаком был смертельно ранен полковник Я.А. Пашкевич. Умер он на руках у отчаянно рыдавшей Плевицкой — по воспоминаниям тех корниловцев, которые вообще имели смелость вспоминать впоследствии о ее связи с Пашкевичем, Плевицкая причитала и голосила над ним по-деревенски, чем привела окружающих офицеров в немалое смущение.
Юрий Левицкий пытался проявить благородство и "поддержать ее в горе" — а может быть, надеялся таким путем вернуть себе жену, — но Надежда Васильевна предпочла утешения Скоблина, ставшего к тому времени генерал-майором. Возможно, перед лицом казавшейся неизбежной погибели разница в возрасте перестала казаться ей столь ощутимой. Скоблин действительно напоминал чем-то погибшего Шангина — и, еще не любя тогда его самого, она уже любила в нем тень убитого кавалергарда. И уже не бес полуденный лукавый, не плотская страсть, а какой-то тихий ангел подводил этих двоих друг к другу и благословлял их союз.
К тому же для молодого Скоблина "легендарная Плевицкая" была частицей той яркой довоенной жизни, о которой он мечтал когда-то в стенах юнкерского училища, но которую так и не посчастливилось ему изведать. Он родился в 1893 году, и, когда началась Первая мировая, ему еще и двадцати одного года не исполнилось: даже по тем временам совсем мальчишка, Скоблин был призван на фронт и участвовал в наиболее тяжелых боях; чудом уцелел, чтобы в 1917-м вступить в ударный батальон Добровольческой армии Деникина и поучаствовать еще и в Ледовом походе, и в последующих боях уже Гражданской войны. Четыре элитных полка Добровольческой армии, полностью состоявшие из офицеров, позже были переименованы: в "алексеевцев" (в честь генерала от инфантерии М.В. Алексеева, умершего в 1918 году); в "корниловцев" (в честь Л.Г. Корнилова, погибшего в марте 1918 года под Екатеринодаром); в "марковцев" (в честь генерал-лейтенанта С.Л. Маркова, убитого под станицей Шаблиевской); в "дроздовцев" (в честь М.В. Дроздовского, умершего от ран в Ростове зимой 1918 года). Скоблин отличался отвагой и дерзостью и вскоре возглавил корниловцев. Так что боев в его жизни было более чем достаточно — хватило бы сразу на несколько бравых офицеров. Зато мирной жизни с балами, прогулками, театрами, концертами и красивыми женщинами у него не было вовсе: из гимназического детства — в юнкера, из юнкеров — в герои. Собственно говоря, Плевицкая стала его первой настоящей любовью — до нее у него были женщины, но вот любви-то не случалось, а теперь она не просто украсила, она озарила своим явлением всю его жизнь!
Владимир Набоков так себе это представлял:
"Вскоре мы видим ее сводящей с ума офицерское общество своей полногрудой красой и буйными, бурными песнями. То была Belle Dame с порядочной примесью Merci и с напором, коего недоставало Луизе фон Ленц или Зеленой Леди. Она подсластила горечь отступления белых, начавшегося вскоре за ее появлением в стане генерала Голубкова. Мы видим мрачные промельки воронов, или ворон, или каких там птиц удалось раздобыть, чтобы реяли в сумерках и опускались, кружа, на усеянную телами равнину где-нибудь в округе Вентура. Окоченелая рука солдата белых сжимает медальон с портретом матери. А на развороченной груди павшего рядом красного бойца трепещет его письмо из дома, и та же старушка моргает за его наплывающими на зрителя строками.
А затем привычный контраст — взрывается бурная музыка, и слышится пение, мерно хлопают руки и топают сапоги — перед нами попойка в штабе генерала Голубкова: танцует с кинжалом точеный грузин, сконфуженный самовар перекашивает лица, и Славская, гортанно смеясь, откидывает голову, и в стельку пьяный жирный штабной, разодрав ворот и выпятив сальные губы для животного поцелуя, тянется через стол (крупный план опрокинутого стакана), чтобы обрамить пустоту, ибо подтянутый и совершенно трезвый Голубков ловко выхватывает ее из-за стола, и они стоят перед пьяной оравой, и Голубков произносит холодным и ясным голосом: "Господа, вот моя невеста", — и в наступившем ошеломленном молчании шальная пуля разбивает засиневшее на рассвете стекло, и канонада рукоплесканий приветствует романтическую чету".
Они действительно решили пожениться еще там, в Крыму. Левицкий согласился дать развод Надежде Васильевне, признав наконец свой брачный союз "неудавшимся". Но времени на развод и новое бракосочетание не хватило.
Глава 10 ЛЮБОВНИЦА ГЕНЕРАЛА
I
Борьба русской армии Врангеля с превосходящими силами красных длилась семь месяцев — семь месяцев жесточайших боев и высочайшего героизма, семь месяцев отчаяния и надежды. Позорное поражение в Новороссийске было смыто кровью — своей и чужой — русской кровью. Но это ничего уже не могло изменить, потому что силы были неравны и "большевистская зараза" (иными словами — "чистый пламень мировой революции" — ибо на любое явление можно взглянуть двояко) захватила всю бывшую империю.
К середине октября 1920 года командование Красной армии собрало в Таврии войско, вчетверо превосходящее силы противника, и в новых кровопролитных боях последнее сопротивление белых было сломлено.
Отступление из Крыма стало одной из самых кошмарных страниц Гражданской войны: остатки белых дивизий — отчаявшиеся, обескровленные, измученные — из последних сил сражались у Перекопа и Салькова, на Крымских перешейках, обеспечивая тем самым эвакуацию раненых и гражданского населения.
Эвакуация проводилась спешно. Население — да и армейское командование — было охвачено паникой. Множились рассказы о зверствах красных в уже захваченных ими областях, а потому по трапам кораблей военного и гражданского флота спешили даже те, кто месяцем раньше и не подумал бы бежать из России, у кого не было каких-то особых причин бояться большевиков, даже те, кто некогда сочувствовал революционным идеям. Их мир в одночасье рухнул. Нет, не тогда, когда в далеком Петербурге власть захватили большевики, и не тогда, когда в еще более далеком Екатеринбурге убили их Государя, — только сейчас всеобщая беда докатилась до них и обрушилась с двойной, тройной силой, тем более что они не были к этому готовы. Дворцы, превращенные в лазареты, тысячи раненых, эпидемия тифа. Слухи, слухи. Ежедневные вести об отступлении. Беженцы с севера России, из городов, уже сгоревших в пресловутом "чистом пламени". Здесь это было воспринято особенно болезненно, потому что именно здесь к этому совершенно не были готовы! Крым — бывший царский курорт, куда летом выезжал весь высший свет (Кавказ в те времена считался гиблым местом, и в качестве курорта его начали обживать только при Сталине), — благословенная земля: благоухание кипарисов, щедрое солнце, плеск волн, многообразие цветов и фруктов, цоканье копыт прогулочных лошадей, ленивое стрекотание киноаппаратов, кружевные тени от дамских зонтиков. В этом сонном мире не ждали беды. И до самого конца верили, что "все обойдется". А когда поняли, что не обойдется, впали в отчаяние, которому доселе не было равного. В Евпатории, Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи обезумевшие люди переполняли порты, теряли в давке детей, стариков, супругов, кричали, рыдали, сходили с ума — в буквальном смысле лишались рассудка — и успокаивались только тогда, когда оказывались на борту, отделенные от берега полоской воды.
Писатель Иван Сергеевич Шмелев видел эвакуацию Крыма и описал в своем романе "Няня из Москвы". Сам он тогда не уехал — и это было большой ошибкой его, потому что после прихода красных он потерял единственного, обожаемого сына Сережу, инвалида Германской войны, — его расстреляли, как расстреляли всех бывших офицеров, пожелавших остаться в России и служить народу. Шмелев покинул Россию позже, с разрешения сочувствовавшего его трагедии Луначарского. А многие его знакомые эвакуировались из Крыма именно в ноябре 1920 года. По их рассказам и по своим собственным впечатлениям — со стороны — словами безграмотной няни Дарьи он описал то, что там было… Так точно и ярко, как никто другой не смог бы: "На-ро-ду!.. Вся набережная завалена, узлы, корзины, горой навалено, детишки сверху сидят, налужены. Все с бумажками тычутся, офицера с ног сбились, раненых больше, бумаги смотрят, куда-то посылают. А им кричат: "Выехали все, не оставьте нас на погибель!" Офицера уговаривают-кричат: "Всех заберут, еще пароход будет!" А публика не верит, друг дружку давят, офицерики все кричат, в растяжечку так, успокоить бы: "Спокой-ствие! Спокой-ствие! Все уедут, войска не помешает, она на Севастополе садится". Бабочка одна как убивалась, чернобровенькая, с ребеночком… — "Ох, мамочки мои, да иде ж мой-то, мой-то иде ж?". Казака своего разыскивала, а его вчера еще с лазаретом погрузили, а она в городе не была. Ну, взяли. Да много так, растерялись — не сыщутся. <…> Старушка на глазах закачалась — померла, от сердца. Внучек все кричал: "Бабушка, подыми-ись!" Чего только не видали… Уж темно стало, с парохода свет на нас иликтрический пустили, сверху, из фонаря, — так по глазам и стегануло. И еще дальше корабль стоял, и с него пустили, по городу стегануло, на горы, как усы, туда-сюда. А это, говорили, сторожат, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу и осветили, крестики заблистали, ну чисто днем. Я и заплакала, заплакала-зарыдала… — прощай, моя матушка Россия! Прощайте, святые наши угоднички!.. И нет ее, в темноте сокрылась, — на горы свет ушел".
Остатки русского военного и гражданского флота вряд ли сумели бы вывезти всех, так что беженцам еще относительно повезло, что бывший либеральный политик Петр Бернгардович Струве незадолго до эвакуации белой армии ездил в Париж, где добился от французского президента А. Мильерана сначала признания правительства Врангеля, а затем помощи французского флота при эвакуации гражданского населения. Разумеется, помощь была далеко не бескорыстной и русские заплатили за нее втридорога, но об этом чуть позже…
Сто двадцать шесть больших и малых кораблей отошли от крымских берегов, увозя 145 693 русских, не считая команд, — увозя в полную неизвестность. Никто и нигде не ждал их. Будущего, в сущности, не существовало. А настоящее было ужасно.
Один из участников крымского отступления, Б.Н. Александровский, вспоминал: "Итак, я стою на палубе "Херсона". В памяти остались на всю жизнь те тяжелые, безотрадные и мучительные минуты, когда от моего взора постепенно скрывались в морской дали контуры Крымского полуострова, а на борту "Херсона" я увидел в обстановке неизжитых противоречий людскую кашу из самых разнообразных элементов тогдашнего буржуазного, чиновничьего, военного и интеллигентского общества, постоянно враждовавших между собою и очутившихся теперь у разбитого корыта в одинаковом положении и в одинаковых условиях. Рядом с жандармским полковником сидел на узлах и чемоданах старый земский врач с семьей, которого, может быть, еще вчера этот полковник допрашивал "с пристрастием", в качестве обвиняемого по очередному делу о "потрясении основ". Около есаула Всевеликого войска Донского, еще недавно во главе сотни казаков с нагайками в руках разгонявшего толпу демонстрантов, можно было увидеть в полумраке трюма фигуру недоучившегося "вечного студента", быть может, участника этой демонстрации. Редактор архичерносотенной газетки, еще вчера призывавшей к погромам, пререкался с одесским биржевиком-евреем в битком набитой каюте, где яблоку негде было упасть. Чиновники деникинского Освага, сидя на свернутых в кормовой части палубы корабельных канатах, переругивались с бывшими репортерами эсеровских и меньшевистских газет. А я, представитель младшего поколения дореволюционной московской интеллигенции, сын врача и сам врач, стоял, тесно зажатый в сгрудившейся толпе бывших царских и белых офицеров, то есть той касты, которая во все этапы моей жизни глубоко презиралась мною и всеми моими сверстниками и сотоварищами по происхождению, образованию и воспитанию. <…> Капитаны, штурманы и команды кораблей врангелевского флота едва ли видели когда-либо за всю свою мореходную карьеру переход, подобный тому, который происходил в эти ноябрьские дни в Черном море".
II
Это было поистине кошмарное путешествие.
Половина кораблей была вовсе не приспособлена для перевозки пассажиров. А некоторые корабли из-за повреждений в машинах еще ползли по раскаленной глади моря со скоростью в несколько узлов, то есть почти без скорости, как на приятной морской прогулке… Но ведь это не было приятной прогулкой!
Палубы, каюты, трюмы были забиты людьми, военными и штатскими, обоих полов, всех возрастов, разных национальностей и сословий: как целый срез России со всеми напластованиями. Было эвакуировано: до 15 тысяч казаков, 12 тысяч офицеров, 4–5 тысяч солдат регулярных частей, более 30 тысяч офицеров и чиновников тыловых частей, 10 тысяч юнкеров и до 60 тысяч гражданских лиц, в большинстве своем семей офицеров и чиновников, но были среди них, как писал Иван Сергеевич Шмелев, "и калмыки, и хохлы были, хлеборобы, всякого было звания". Старики, больные, дети, младенцы, беременные, и некоторые в пути рожали — и некоторые в пути рождались! — и много больше умирало. Все — без багажа: брать багаж было нельзя, узлы и чемоданы из рук пассажиров вырывали и швыряли за борт еще в порту.
Среди военных было очень много раненых, среди гражданских — много тифозных больных, бегство пришлось как раз на разгар эпидемии тифа, и многие поднимались на борт, будучи уже зараженными, но не зная о своей болезни. Эпидемия начала было распространяться, но, к счастью, ее задушили в зародыше, временно остановив ВСЕ корабли и переместив больных на один, раненых — еще на два. Таким образом, три корабля были превращены в плавучие лазареты. Среди беженцев оказалось около трехсот врачей и около тысячи медсестер. Благодаря героизму этих людей эпидемия не получила дальнейшего распространения. Но лекарств не было, и больные умирали, умирали и раненые — в основном от заражения крови, вызванного антисанитарией и жарой. Каждый день за борт сбрасывали десятки трупов. Священники, бежавшие вместе со всеми, служили панихиду на палубе.
Но умирали не только от тифа и ран! Убогие запасы продовольствия беженцы съели в первый же день. Воды в перегонных кубах хватило бы едва ли на десятую часть пассажиров, а распределить пытались на всех. Голод и жажда царили на корабле, и страшная теснота, и вонь, и шум, стоны умирающих и вопли детей мешались с руганью и проклятиями в адрес большевиков…
Это был ад. Плавучий ад. Впрочем, нет: это было еще чистилище, но беженцы были уверены, что это именно ад.
За несколько суток пути люди на кораблях дошли до полного безумия. Многим было некуда сесть, и они ехали стоя. Или сидели и спали по очереди, как в тюремной камере. Все были грязны, голодны, терзаемы жаждой, утомлены сверх меры, многих мучили насекомые, бог знает откуда взявшиеся на кораблях и набросившиеся на измученные человеческие тела. То там, то здесь в толпе вспыхивали ссоры, порожденные, как ни странно, вовсе не выяснением, чья теперь очередь присесть, а спорами на политические темы, которые, казалось бы, беженцев в тот момент уже совсем не должны были волновать…
Им еще повезло, что не случилось шторма, которого поврежденные, перегруженные корабли не выдержали бы ни за что! Затонул только миноносец "Живой" — странный контраст между названием и судьбой судна, словно насмешка судьбы…
Плыли несколько суток. Яхта Врангеля "Лукулл" (достойное название!) достигла бухты Золотой Рог гораздо раньше, и он уже пытался договориться с представителями турецких властей, а также с англичанами и французами о том, чтобы беженцев приняли и разместили. Переговоры затягивались… Создавалось ощущение, что не только побежденные в Первой мировой войне турки, но и недавние союзники России — французы и англичане — смакуют поражение некогда могучей русской армии и не торопятся принять решение о помощи. И, когда корабли с беженцами достигли Константинополя, решение еще не было принято и разрешения сойти на берег измученным людям не дали. Не позволили даже перенести в госпитали больных и раненых! Еще несколько дней на адской жаре людей продержали в трюмах и на палубах. Сияло синевой Черное море, лазурью — Мраморное, золотом и бирюзой сияло небо, сверкали на солнце купола мечетей и рогатые полумесяцы… Константинополь был прекрасен и особенно прекрасным казался русским беженцам, жаждавшим наконец сойти на твердую землю и хоть немного отдохнуть перед тем, как задуматься о начале новой своей жизни на чужбине. День за днем ждали они разрешения сойти на землю. А разрешения не было.
Иван Сергеевич Шмелев так это описывал: "У берега и качались. У нас в яме троих закачало, померли. <…> Все приели, стал народ голодать. А сверху сказывали: дух какой на кухнях, говядину все жарют, и котлеты-биштексы, а у матросов французских борщ — ложкой не промешать… и быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прямо катят — от духу не устоять. <…> Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азияты — всего навезли: и хлеб белый, и колбаска, и… Хлебом манят, сардинками — "пиджак, браслет давай!" А на них сверху глядят, голодные. Часы, портсигары, цепочки… — на веревочках опускали, а им хлебец-другой — вытаскивай. Которые и смеялись, с горя: "Во, рыбу-то заграничную как ловим!" Офицера все шинельки променяли, нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали со слезами. Плюют сверху на иродов, а им с гуся вода, давай только. В два дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест: "На, — кричит, — иуда, продаю душу, давай пару папиросок!" Батюшка увидал: "Да что ты делаешь-то, дурной?! Да ты ирода того хуже, Христа на папироску меняешь!" Снял обручальное кольцо, сменял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным. Да разве всего расскажешь. А то слух дошел — войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило: Бога побойтесь, все добро с пароходов себе забрали, и мы союзные вам были!.. А как нам вылезать, попечительши пришли, безначальных девушек в приют звать: все вам, только Евангелие читайте. Набрали пять барышень, увезли… Потом узналось: паскуды оказались, фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышень… в такие дома! Хватились, а паскуды на корабле уплыли".
Яхта "Лукулл" в Босфоре
Наконец позволили выгрузить раненых и больных, а с ними и часть медицинского персонала. Другая часть осталась на кораблях. Добровольно! Так сильно было чувство долга у этих врачей и сестер — добровольно остались они в этом аду, чтобы оказывать помощь в случае необходимости, а необходимость появлялась то и дело. Едва освобожденные, каюты кораблей-лазаретов сразу заполнились новыми больными. Затем пришла весть: гражданских беженцев высадят-таки в Константинополе, а военных отправят на Галлиполийский полуостров и на острова Эгейского моря. И вот тогда беженцы очутились в настоящем аду и поняли, что на кораблях было всего лишь чистилище, ибо там у них оставалась хотя бы надежда. Теперь и надежда умерла. Лишь единицы смогли сносно устроиться в "новой жизни": как правило, те, у кого за границей жили родственники или друзья или сохранились хоть какие-то связи. Как это ни парадоксально, очень часто бывшим воспитанникам или семьям нанимателей помогали английские, французские, немецкие гувернантки и секретари — разумеется, только в тех случаях, когда у бывшей гувернантки или бывшего секретаря сохранились добрые воспоминания о пребывании в России. Лишь единицы из единиц — самые деятельные и отчаянные, самые гибкие и уживчивые и по большей части не аристократы — сумели вернуть себе прежнее благосостояние, да и то лет через десять, а поначалу мучались и они. Но что же тогда говорить о тех, кто не имел ни родственников, ни связей, ни друзей, ни хоть сколько-нибудь полезных навыков, ни способности бороться с невзгодами? А таких было большинство. Многие "господа-офицеры", пройдя войну, сохранили изнеженность и болезненную чувствительность к унижениям, а унизительно теперь было все, унизительно было само их положение! Что же говорить о штатских, по большей части представителях интеллигенции и высшего сословия? О дамах, которые теперь вынуждены были наниматься прислугой, а то и идти на панель, чтобы прокормить детей? О стариках, привыкших к покою, порядку, самоуважению, теперь же никому не нужных и абсолютно беспомощных? Самоубийства среди русских беженцев стали таким распространенным явлением, что хозяева отелей боялись сдавать им комнаты, ибо многие въезжали, чтобы иметь закрытое помещение, где можно свести счеты с жизнью… И, таким образом, покинуть отель, не заплатив! Впрочем, самые слабые дошли до крайности и самоуничтожились в первые же месяцы. А остальные принялись налаживать жизнь. Вернее, это была не жизнь, а так — существование… Питаемое надеждой на то, что хоть когда-нибудь все изменится к лучшему. А пока каждый выживал, как мог.
Появилась в Константинополе русская газета, пестревшая объявлениями от тех, кто разыскивал друзей и близких:
"Разыскиваю Петра Ивановича Доброхотова, штабс-капитана 14-го пехотного Новоторжского полка. Сведений о нем нет со времени первой одесской эвакуации. Просьба писать по адресу".
"Знающих что-либо о судьбе Шуры и Кати Петровых 17 и 19 лет из Новочеркасска срочно просят сообщить их матери по адресу".
"Сотоварищей по второй новороссийской эвакуации и по верхней палубе парохода "Рион" прошу срочно сообщить свои адреса по адресу".
"Шурик, откликнись! Мама и я получили визу в Аргентину. Пиши по адресу".
Из воспоминаний Б.Н. Александровского: "Виза! Какое манящее и многообещающее слово! Оно раньше не было известно почти никому из этой массы выброшенных за борт жизни людей. Теперь его узнали все. Это улыбка судьбы, подающая надежду получившему ее на какую-то лучшую жизнь вне константинопольского ада. Для детей, ежедневно слышащих это волшебное слово, оно что-то вроде сказочной принцессы или доброй феи, которая одарит их щедрыми дарами и игрушками, а маму и папу осыплет благоухающими цветами и вместе со всеми членами семьи укажет им путь прямо в земной рай. Но как получить визу? Как добиться, чтобы какое-нибудь иностранное консульство в Константинополе поставило на паспорте заветный штамп, дающий право на въезд в выбранную просителем страну? Где, как и откуда взять паспорт этой беспаспортной массе оборванных, нищих, голодных людей? Кому они нужны? Какая страна пустит их в свои пределы? Вопросы эти остаются без ответа… Но иностранные разведки не дремлют. Некоторые категории русских "беженцев" представляют для них большой интерес. Кое-кого из них они завлекают в свои сети для "текущей работы" по доставке им точных сведений о настроении, мыслях и чаяниях русской эмигрантской массы. Кое-кто, может быть, пригодится им в будущем для более сложных поручений: ведь обстановка в Восточной Европе неясная. Нельзя дать себя застигнуть врасплох. Нужно держать наготове нити для плетения будущих политических узоров и хитроумных комбинаций".
Во время эвакуации из Крыма, выступая перед группой юнкеров, Главнокомандующий Врангель сказал: "Мы идем на чужбину, идем не как нищие с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, в сознании выполненного до конца долга". Но на деле оказалось, что пришли они именно как нищие, с протянутой рукой. Большинство беженцев существовало в самых ужасных условиях, снимая не комнаты, а углы, а то и вовсе ночуя под открытым небом, в развалинах домов, в шалашах. "Константинопольский" период жизни эмигрантов, эвакуировавшихся в 1919 и 1920 годах, продолжался около 3 лет. И окончился с уходом из Турции войск Антанты. Большинство русских эмигрантов было выслано в 1923 году из страны и перебралось в Болгарию, Югославию, Грецию, Чехословакию и во Францию.
III
Константинопольский ад пришлось пройти тем беженцам, которые изначально были признаны "гражданскими", и тем из военных, которые по какой-либо причине к ним примкнули.
Что касается военных, оставшихся на кораблях — со своими командирами: Кутеповым, Скоблиным, Туркулом, — их ждало другое "чистилище" — галлиполийское, или скорее галлиполийский ад: у душ чистилища всегда остается надежда на спасение; в аду же проклятые обречены на вечное страдание в почти безнадежном ожидании Страшного суда. "Долина роз и смерти" — так называли они Галлиполи: свое временное прибежище, военный лагерь разгромленной армии, где они провели, наверное, самое худшее, самое тяжелое время.
В России — даже в период жесточайших боев и позорного отступления — всегда оставалась надежда. Наивная, отчаянная надежда.
Потом эта надежда воскресла вновь — когда они оказались в Европе: в Париже, в Берлине, в Праге. Вернувшись к цивилизованной жизни, они словно бы возвратились к самим себе — прежним.
Но в период "галлиполийского сидения" те, старые надежды, были мертвы и растоптаны, а новые еще не родились. Возможно, высокую смертность в галлиполийском лагере можно объяснить не только недоеданием, холодом и скученностью в брезентовых палатках, эпидемиями и отсутствием даже самых необходимых лекарств. Возможно, если бы оставалась надежда, все это можно было бы вытерпеть, пережить, но без нее терялась воля к жизни. А тридцать процентов смертей в галлиполийский период были и вовсе "добровольными" — самоубийствами. Среди гражданских беженцев в Константинополе процент самоубийств был гораздо ниже — за счет того, наверное, что у них была хотя бы цель: выжить во что бы то ни стало если не ради себя, то ради тех близких, которые зависели от них сейчас или с которыми они надеялись еще свидеться на этом свете. А военным разгромленной армии выжить было мало. Им хотелось вернуть былую славу и честь. Им хотелось сражаться и победить. Или умереть — все равно. Они завидовали тем, кто погиб еще в России, не изведав позора отступления. Да, именно так: живые завидовали мертвым.
Те хотя бы не успели осознать безнадежности полного поражения.
Те умирали, надеясь, что смертью своей приближают час победы.
Вся горечь этого поражения досталась уцелевшим: им пришлось "испить чашу сию" и за себя, и за тех, чьи кости устилали бескрайние просторы далекой, любимой России — чья смерть казалась теперь почти бессмысленной.
По распоряжению англо-французского командования на Ближнем Востоке основная часть русской армии расположилась на Галлиполийском полуострове, казачьи части на острове Лемнос, остальные численно незначительные контингенты в окрестностях Константинополя и на островах Мраморного моря, моряки военного флота были отправлены в Бизерту. Основой, костяком, ядром разбитой армии как были, так и остались те "псы войны", сплоченные кровью и пройденными дорогами, за три года успевшие повоевать и в Добровольческой армии Корнилова, и в южной армии Деникина, и в армии Врангеля. Они потерпели поражение и отступили — но не сдались. Они надеялись когда-нибудь еще повоевать — и, возможно, вернуть утраченные позиции. Представители французского и английского командования, занимавшиеся делами русских беженцев, поддерживали их в этом намерении и старались сохранить врангелевские дивизии для планируемой в то время войны с Советской Россией. Из воспоминаний Б.И. Александровского: "Англия, оказывавшая мощную финансовую и материальную поддержку Деникину, окончательно отказалась к тому времени от дальнейшей помощи белым армиям, по-видимому, считая ее совершенно бесполезной. Франция, наоборот, официально заявила, что берет под своё покровительство русских "беженцев" и что делает это якобы из чувства "гуманности", о чем французские власти неоднократно оповещали население эмигрантских лагерей. "Гуманность" эта была, впрочем, довольно своеобразной: французское правительство распорядилось выдать своим новым подопечным — "беженцам" — оставшиеся от Дарданелльской операции 1915 года старые палатки, залежавшиеся банки мясных консервов и превратившуюся чуть ли не в камень фасоль, а в виде платы за все это забрала угнанные Врангелем боевые корабли Черноморского флота и целиком весь торговый флот, сосредоточенный к моменту эвакуации по приказу Врангеля в портах Черного моря. (Впоследствии часть этих кораблей была возвращена Францией Советскому Союзу.) В те же руки попало все ценное имущество, которым были нагружены эти корабли. Не нужно быть экономистом и статистиком, чтобы понять, что "гуманности" в этом бизнесе очень мало".
Стоял теплый ноябрь 1920 года, когда 30 000 офицеров и солдат врангелевской армии — алексеевцев, дроздовцев, корниловцев, марковцев — вместе со штабами, интендантствами, госпиталями и прочими вспомогательными учреждениями высадились на пустынном европейском берегу Дарданелльского пролива, около маленького городка Галлиполи. В это же время на столь же пустынные берега острова Лемнос были выгружены 15 000 донских казаков. Военный флот Врангеля в составе одного линейного корабля, одного крейсера, шести миноносцев и ряда вспомогательных судов получил приказ идти в тунисский порт Гизерту, где корабли разоружили, а личный состав вместе с воспитанниками морского корпуса списали на берег. Морякам повезло чуть больше, чем сухопутным войскам: им предложили работу во французском флоте всего через несколько месяцев! А для сухопутных начались "галлиполийское и лемносское сидения" — так называли военные годы, проведенные в лагерях в Турции. Борис Александровский вспоминал: "В первые же дни после высадки разбитой белой армии в Галлиполи и на Лемносе находившийся в Константинополе Врангель отдал свой первый зарубежный приказ. Ему нужно было как-то сохранить свое лицо и вдохнуть в приунывших после крымской катастрофы подчиненных какую-то надежду. В высокопарных выражениях приказ упоминал об историческом предопределении расселения белой армии на землях около Древней Византии с ее храмом тысячелетней древности — Святой Софии; на тех самых землях, где покоятся кости воинов Олега, запорожских сечевиков, некрасовских беженцев-казаков, русских чинов болгарской армии. В описываемое время он старался прежде всего сохранить военные кадры, не допустить их растворения в массе "гражданских беженцев". Сам он на это уже не был способен: авторитет его среди белого офицерства был поколеблен. Нужны были новые люди. Нужен был, с его точки зрения, человек, который смог бы восстановить нарушенный порядок в разгромленном белом воинстве, с сильно разболтанной дисциплиной, собрать это воинство в кулак для будущих военных авантюр. Выбор его пал на генерала А.П. Кутепова, одного из высших военачальников руководимой им в Крыму армии. Формально Врангель продолжал возглавлять военные контингенты разбитой армии вплоть до своей смерти, последовавшей в Брюсселе в 1928 году. В свою очередь, эти контингенты продолжали считать его главнокомандующим тоже формально и тоже до этой даты. Но истинным выразителем дум и чаяний белого офицерства и его душою уже в ту пору сделался Кутепов, к которому после смерти Врангеля перешло автоматически командование этой призрачной армией".
Генерал Кутепов решительно взялся за обустройство лагерной жизни. Сам он расположился со своим штабом непосредственно в городке на Галлиполи. Для размещения многочисленных штабных отделов и подотделов были сняты частные помещения. Там же в городе расположились вывезенные вместе с остатками разбитой армии шесть юнкерских училищ всех родов оружия, технический полк, три офицерские школы, железнодорожный батальон, госпитали, хозяйственные и подсобные учреждения. К тому моменту казна Врангеля еще не опустела и военные могли существовать более-менее сносно. Впрочем, для основной массы эвакуированных на Галлиполийский полуостров военных французское командование отвело пустынную долину в нескольких километрах от города, где в первые же дни после высадки вырос целый палаточный город. Борис Александровский писал: "Странное было время! На турецкой территории с преобладающим греческим населением хозяйничали победители — англичане и французы. Территория Галлиполийского полуострова оказалась подчиненной французам. В городе был расквартирован полк чернокожих сенегальских стрелков, а в бухте стоял французский контрминоносец с наведенными на русский "беженский" лагерь жерлами орудий. На всякий случай. Так спокойнее. Кто их знает, этих "беженцев", что у них на уме! Ведь они как-то ухитрились протащить с собой на пароходах и выгрузить на сушу некоторое количество винтовок, пулеметов и патронов. С ними надо быть начеку. Ближний Восток — классическое место для всякого рода политических сюрпризов и авантюр".
Остатки армии Врангеля были сведены в корпус, получивший название: "1-й армейский корпус русской армии".
Дивизии — Корниловская, Марковская, Дроздовская и Алексеевская — превратились в полки, сохранив те же названия. Все вместе они составили 1-ю пехотную дивизию. Кавалерия — исключая донских казаков, поселенных, как выше было сказано, на острове Лемнос, — была сведена в "1-ю кавалерийскую дивизию". Правда, своих лошадей они оставили в Крыму, везти их через море не было никакой возможности, для людей-то места не хватало… Но все равно они числились кавалеристами, соблюдали традиции, сохраняли знамена. Артиллеристы были сведены в "артиллерийскую бригаду 1-го армейского корпуса". Артиллерии тоже не было… Но остались знамена и знаки отличия, Вообще за традиции военные эмигранты держались крепко, понимая, что это все, что осталось им, все, на что они еще могут опереться. Дорогие традиции… Никому не нужные — и совершенно необходимые! Чтобы выжить. Чтобы сохранить остатки достоинства, без которого этим людям жизнь не представлялась возможной. Кутепов и его приближенные делали все, чтобы подчиненные не заскучали от лагерного безделья и не позабыли о том, что они — элита армии, "господа-офицеры"!
Как некогда на кораблях, теперь и в Галлиполи каждодневно рождались новые слухи, имевшие целью утешить и успокоить, внушить надежду… Возможно, эти слухи сочинялись и распространялись приближенными Кутепова, понимавшими, что их подчиненные ничем, кроме надежды, жить не могут. И они старались всячески поддержать эту надежду, придумывая все новые утешительные басни:
"Франция признала армию. Через два месяца десант. Армия покатится к Москве как снежный ком. В три месяца с большевиками будет покончено".
"Президент Вильсон официально заявил, что он оставляет большевикам еще только шесть недель жизни".
"Англия согласилась на военную диктатуру. Кутепов уже назначен диктатором. Его будущая резиденция — Московский Кремль".
"Каждый месяц галлиполийского сидения приравнен к году службы. Уже заготовлен приказ о производстве в следующие чины всех господ офицеров".
"Франция предлагает нам пометную службу охраны новой французской границы на Рейне. Установлены высокие оклады. Отправка — через две недели".
Каждому новому слуху верили с отчаянием последней надежды. Потом разуверивались — чтобы снова уверовать в очередную выдумку! Надо же людям во что-то верить даже в пустынном Галлиполи, который русские переименовали в "голое поле".
Кутепов старался не дать военным заскучать по-настоящему. Каждое утро в лагере трубили побудку, каждый день были военные тренировки и марши, за неотданное воинское приветствие по-прежнему полагалась гауптвахта. Кутепов не зря заставлял военных маршировать и соблюдать традиции: к концу "галлиполийскою сидения" из обитателей лагеря было создано сплоченное сообщество, будущий РОВС — Российский Общевоинский Союз. Официальное рождение РОВСа относится к 1924 году. Именно тогда в точности определились его организационная структура, права и обязанности членов, устав и прочие подробности юридического и организационного порядка. Но зародился он еще в Галлиполи, и идея создания подобного сообщества военных беженцев принадлежит именно Кутепову. Но, поскольку в лагере жили по большей части люди образованные и утонченные, Кутепов старался обеспечить еще и организацию досуга, всевозможные развлечения: футбол, самодеятельный театр, лагерная газета, для которой, кстати, писал Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой, тоже переживший "галлиполийское сидение", и концерты, в том числе и Надежды Плевицкой.
IV
Да простит мне читатель столь долгий экскурс в историю — но о жизни Надежды Плевицкой периода отступления из Крыма не известно практически ничего: кроме того, естественно, что жила она так же и тем же, что и все остальные беженцы, так же томилась на переполненных кораблях, с тем же мрачным отчаянием ждала решения своей судьбы. Узнавая о них, мы узнаем и о ней.
Кроме того, в событиях отступления и "галлиполийского сидения" — корни всех грядущих событий, непосредственной участницей и даже главной героиней которых стала русская певица Надежда Васильевна Плевицкая.
Итак, в период отступления и "сидения" Плевицкая была вместе со всем народом — да просится мне перефразирование Ахматовой — "там, где народ ее, к несчастью, был". Правда, она-то была с другой частью народа — с той, что "под чуждым сводом" и вроде бы "под защитой чуждых крыл", но своды эти и крылья не давали подлинной защиты, и смею предположить, что в тот период — в начале двадцатых — эмигранты в Галлиполи были гораздо несчастнее тех, кто остался в России и кому чашу своего горя еще только предстояло испить в конце тридцатых.
Впрочем, природа души Надежды Плевицкой — Дежки Винниковой — была такова, что даже после тяжелейших потрясений она возрождалась к жизни и радости гораздо быстрее других людей.
Сломить ее было практически невозможно.
Во время отступления она была рядом со Скоблиным — правда, на том же корабле плыл и Юрий Левицкий, но Надежда уже давно привыкла к своему сложному положению "двоемужницы": формально она еще оставалась супругой Левицкого, но все окружающие давно уже считали ее женой генерала Скоблина. Женою невенчанной… Сама Надежда, в силу своего воспитания, даже после всех пережитых приключений, даже после всех тех объятий, в которых ей довелось за последние годы перебывать, все равно женой его себя не считала и положением своим при нем тяготилась.
Но наконец развод с Левицким состоялся, и в июне 1921 года последовало венчание со Скоблиным в галлиполийской церкви — посаженным отцом был сам генерал Кутепов, а адъютант полка, капитан Копецкий, встречая вернувшуюся из церкви чету у скромно накрытого стола, сказал:
— Приняли мы вас, Надежда Васильевна, в нашу полковую среду.
С тех пор корниловцы стали называть Плевицкую "мать-командирша".
Надежда Васильевна была настоящей "матерью-командиршей" корниловцев и исполняла для бесприютных этих людей все, что могла бы сделать для них мать: готовила, лечила, утешала — и стирала, стирала, стирала.
Ее боготворили — и при этом все до единого завидовали Скоблнну! Так осенью и зимой 1914 года завидовали однополчане поручику Шангину: тому, что у него была его "Дю". А Скоблину завидовали даже те, кто прибыл в галлиполийский лагерь с женами: изо всех офицерских жен одна Плевицкая не только с легкостью, без жалоб переносила тяготы лагерной жизни, но изо всех сил старалась облегчить ее окружающим. Она очень жалела их, этих аристократов, таких благородных, гордых, мужественных и отважных, но совершенно неприспособленных для мучительного повседневного быта, страдавших от отсутствия элементарного комфорта.
В полном составе галлиполийский лагерь просуществовал примерно год. Сначала его покинули те, кто, согласно разрешению французского командования, принял статус гражданских беженцев и присоединился к своим семьям в Константинополе или же просто попытался начать новую жизнь уже гражданских, а не военных. Они рассеялись по Турции и Греции, а некоторые уехали в Бразилию, трудиться на кофейных плантациях, но судьба именно этих беженцев сложилась наименее удачно — почти все они от скверного климата и непосильного труда погибли, другие же успели найти себе место в новой жизни прежде, чем в эту самую новую жизнь хлынула лавина военных беженцев после упразднения галлиполийского лагеря, так что поступили они все-таки дальновидно. Кутепов предал всех "отступников" анафеме, но удержать был бессилен. Он был главным в лагере, но над ним все-таки стояло французское командование.
Всего лишь раз в Галлиполи приехал Врангель. Для солдат и офицеров он уже давно не был настоящим командиром, поскольку место вождя прочно занял Кутепов. Врангель остался не более чем символом борьбы с большевизмом. Но Кутепов постарался сделать все, чтобы Врангель остался доволен, и по форме встреча была организована так, как если бы в Галлиполи принимали царя: на приветствие Врангеля "Здорово, орлы!" — военные, после традиционного "Здравия желаем, ваше высокопревосходительство", трижды прокричали "Ура!" — издревле такая почесть оказывалась только царям. Врангель прослезился от восторга и умиления. Старания Кутепова не пропали даром — вернувшись в Константинопль, Врангель с утроенной силой принялся хлопотать о своих бывших подчиненных. Он уже не надеялся на турок, французов и англичан и обратился к югославскому и болгарскому правительствам с просьбой принять и расселить в обеих странах офицеров и солдат разгромленной в Крыму белой армии. Он взывал к благодарности братьев-славян, напоминал им о понесенных Россией жертвах в борьбе за освобождение их от турецкого ига. Старания Врангеля увенчались успехом, хотя вряд ли причиной были сентиментальные чувства — политике вообще чужды сентименты. Югославия согласилась принять на постоянную пограничную службу на положение рядовых под командой югославских офицеров несколько тысяч врангелевских офицеров и солдат, находившихся в Галлиполи, и в июне 1921 года в Югославию отправилась вся кавалерийская дивизия во главе с генералом Барбовичем. А в конце августа того же года Кутепов объявил в приказе о предстоящей отправке дроздовцев и алексеевцев в Болгарию, и еще несколько тысяч человек покинули лагерь вместе со штабами, интендантскими, медицинскими и подсобными учреждениями. В декабре 1921 года последняя часть "1-го армейского корпуса" во главе с самим Кутеповым и его штабом, интендантством и госпиталями погрузилась на пароходы и отбыла в Варну. Одновременно туда же были переведены донские казаки с острова Лемнос.
Так перестал существовать галлиполийский лагерь.
Галлиполийские изгнанники оказались рассеяны по Балканам. К 1923, 1924 годам подавляющее большинство офицеров и солдат разгромленных армий Деникина, Врангеля, Юденича, Миллера, Колчака, Каппеля и прочих перешло на положение чернорабочих и осело преимущественно на Балканах, в Польше, Германии, Эстонии, Финляндии, Румынии и на Дальнем Востоке.
Но труды Кутепова не пропали даром, и среди военных эмигрантов, разбросанных теперь по всей Европе и половине Азии, уже давали всходы семена будущего РОВСа.
V
Юрий Левицкий из Галлиполи отбыл куда-то в Югославию или в Сербию — ни Плевицкая, ни Скоблин точно не знали. Этого своего мужа Плевицкая тоже никогда больше не увидит — как и Эдмунда Плевицкого. Видимо, это было частью ее судьбы, предрешенной где-то на небесах: если уж расставаться с мужьями — то уж навеки, а не так, как другие разведенные супруги, которые время от времени встречаются в гостях у общих знакомых, приветливо раскланиваются и даже забегают друг к другу в гости — попить кофе, посоветоваться. А может быть, это стало знамением времени. И с Николаем Скоблиным она тоже расстанется в одну страшную ночь — навсегда. Только вот его женой она до конца останется. И поэтому, наверное, его одного можно считать ее настоящим мужем! Вместе с частью корниловцев Скоблин и Плевицкая перебрались в Болгарию.
Что ждало их всех, переживших революцию, отступление, ужасы эвакуации, тяготы "галлиполийского сидения"? Ничего хорошего в общем-то, но к тому моменту они к этому притерпелись и уже не ждали ничего хорошего от своей новой жизни.
Впрочем, немногие "галлиполийские сидельцы" согласились остаться и прожить на Балканах. Родился лозунг "Лицом к Европе", нашедший самый искренний отклик в душах изгнанников, и они понемногу начали перемещаться в сторону "цивилизации". Кое-кто уехал искать счастья в Америку — и, кстати, преуспел там, несмотря на Великую депрессию, потому что Америка всегда была страной эмигрантов и никто из "перемещенных лиц" не оставался там чужаком так долго, как в старой Европе, в Америке легче было адаптироваться, "органически слиться" с остальными. Но Америка в качестве "новой родины" была по-настоящему хороша только для тех, кто действительно хотел начать новую жизнь, позабыть все утраты и неудачи и во что бы то ни стало победить свою злую судьбу. Большинство же предпочло Францию по целой совокупности причин: во-первых, потому, что Франция более других стран изъявляла готовность и даже желание принять и устроить на своей территории остатки разбитой русской армии; во-вторых, потому, что (исходя, возможно, из предыдущей причины) во Франции было больше всего русских; в-третьих, потому, что большинство русских хорошо владело именно французским языком — вторым по популярности был немецкий, и в Германию тоже ехали, но с меньшей охотой, ибо памятны были еще кровопролитные сражения Первой мировой, и многие винили немцев в том, что случилось в России (действительно — эти тогда еще голословные обвинения на самом деле имели под собой серьезную материальную и документальную основу), да и к тому же после поражения в войне Германия была сотрясаема народными волнениями, что, естественно, отталкивало русских эмигрантов, намучившихся в своем ненадежном послереволюционном существовании. Но главной причиной все-таки оставалась первая — Франция готова была принять и обеспечить работой.
Другой эмигрант, Борис Прянишников, писал об этом: "Обескровленная в мировой войне, Франция остро нуждалась в рабочих руках на своих заводах, фабриках и шахтах. Она охотно принимала к себе белых офицеров и солдат, нашедших временный приют на Балканах. Потянулись во Францию тысячи офицеров, солдат и казаков. Рассеялись они по всему лику Франции. Многие осели в Париже и его окрестностях. Тяжело трудились, не жалуясь на тяготы жизни в чужой стране. Генералы, командовавшие в России армиями и корпусами, полковники, командовавшие полками, сели за руль такси. Три тысячи офицеров стали шоферами такси. Металлургия Эльзас-Лотарингии, шахты Деказевилля, автомобильные заводы "Ситроэн" и "Рено" в Париже, множество больших и малых предприятий по всей стране дали работу бездомным изгнанникам, борцам за свободу и честь России".
А один французский сахарозаводчик не постеснялся сказать в интервью:
— Русские белые эмигранты на наших заводах — это дар Божий, упавший к нам с небес.
В середине двадцатых годов перемещение бывших врангелевских офицеров и солдат велось по детально разработанному плану. В столицы Балканских государств присылались заявки на определенное количество рабочих из русских эмигрантов, исходившие от владельцев частных предприятий, перечислялись необходимые профессии, которым, впрочем, заказчики готовы были бывших "господ-офицеров" обучить. Заявки визировались министерством иностранных дел Франции. Желающим предлагался контракт на шесть месяцев, и эти шесть месяцев подписавший обязан был отработать под угрозой высылки из страны. Если же шесть месяцев будут отработаны, можно было остаться во Франции и искать себе уже работу по вкусу.
VI
У русской эмиграции в Европе были две столицы: Париж и Берлин. Русский Париж и русский Берлин. Вполне сравнимо с Петербургом и Москвой в покинутой России: тоже две столицы — новая и старая, официальная и историческая.
Париж, конечно, соответствовал Петербургу и стал центром культурной, светской и политической жизни русских эмигрантов — насколько возможна была сейчас для них, изгнанников, культурная, светская и политическая жизнь. Но так или иначе именно в Париже обосновались большинство уцелевших Романовых, и те из эмигрантов, кто заблаговременно перевел капиталы за границу и теперь мог жить в вполне сносных условиях, пусть даже и не сравнимых с их жизнью в царской России. Также большинство писателей, поэтов, актеров избрали для себя местом жительства город, куда до революции ездили "черпать вдохновение" в прогулках по Монмартру. Ни в одном городе мира не было столько русских ресторанов, сколько появилось их после революции в Париже.
Русский Париж был еще и столицей эмигрантской культуры. Сюда перебрались все… Театры, оперные труппы Агренева, Славянского и Царетели. Духовная академия. Писатели Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Иван Шмелев, Борис Зайцев и многие, многие другие, царившие на литературном Олимпе в России, творили теперь здесь, создавали литературные кружки… Художники Коровин и Бенуа, знаменитый иллюстратор Билибин… Русский балет Дягилева, все еще не знающий себе равных, танцовщики Нижинский и Фокин, балерины Анна Павлова и Карсавина… Академическая группа с известными всему миру учеными. Популярные толстые журналы едва ли не в полном составе редакции, знаменитые критики Ходасевич и Адамович. Книжные издательства. Большие ежедневные газеты: "Последние новости" и "Возрождение" с десятками тысяч читателей. Создавались новые газеты и журналы, некоторые выживали, некоторые погибали, будучи невостребованными. Но, в общем, культурная жизнь кипела.
И политическая тоже.
Центральный штаб РОВСа расположился именно в Париже — на улице Колизе.
Борис Прянишников сам — монархист, член РОВСа, относившийся к белой эмиграции в целом с искренним сочувствием, и со столь же искренней ненавистью ко всем, кто хоть немного сочувствовал большевистским идеям — в своих мемуарах о работе в РОВСе, написанных еще в начале сороковых годов во Франции и опубликованных в США в 1968 году, восторженно писал: "Париж — город-светоч, столица державы-победительницы в Первой мировой войне, заплатившей за победу многими сотнями тысяч своих сынов. Город, воплотивший в себе великую французскую культуру, влиятельный в мире политический центр. В ранние двадцатые годы стал Париж столицей русского Зарубежья. Дореволюционная Россия предстала здесь во всем своем былом, но ущербном величии. Тут поселились Великие князья Дома Романовых, уцелевшие в вихрях великой русской смуты. Заседал возглавленный М.Н. Гирсом Совет послов, представленный известными во всем мире русскими дипломатами. Жили бывшие царские министры, сенаторы, члены Государственного совета, депутаты Государственной думы, деятели безвременно скончавшегося Временного демократического правительства, проигравшего Россию партии Ленина. Глубоко переживали эмигранты трагедию России, обвал многовековой монархии, гибель едва народившейся, хилой русской демократии. Кипели в политических страстях остатки разбитых большевиками политических партий — монархисты, кадеты, октябристы, социалисты-революционеры, меньшевики и иные. Бывшие сановники и генералы писали мемуары, обличая противников и соперников, укоряя в ошибках единомышленников и понося инакомысливших. С трагизмом в голосе все спрашивали: как все это могло случиться? Кто же виноват? Множество новых организаций — политических, общественных, культурных, научных, профессиональных, благотворительных и иных — возникло в русском Зарубежье. Самые важные были в Париже. Не дремали и ленинцы, обеспокоенные мощью и влиянием многочисленных эмигрантов. В их толщу они протолкнули свои организации, и первый из них был построенный на тоске по России Союз возвращения на родину. Русское Зарубежье — Россия в миниатюре, бережно и благоговейно хранившая все лучшее от России царской, хранительница ее культуры и духовных ценностей. У этой зарубежной России была своя безоружная, но крепко спаянная армия — Русский Общевоинский Союз, объединивший в своих рядах десятки тысяч белых воинов. В Париже и в провинции жили чины РОВСа крепко спаянными группами. Тосковали по покинутой родине, мечтали о свержении власти большевиков, жаждали борьбы с ними. Жили сперва беспочвенными надеждами на весенние походы. С каждым годом все больше и больше таяли эти надежды. Нужно было искать иные пути и способы борьбы".
Место Москвы для русской эмиграции занял Берлин — несмотря на волнения, сотрясавшие Германию на протяжении всей первой половины XX века и приведшие к захвату власти нацистами и Второй мировой войне, Берлин казался гораздо более спокойным, уютным и даже каким-то провинциальным — по сравнению с роскошным Парижем — так же как провинциальной казалась великая Москва по сравнению с блистательным чугунно-кружевным Петербургом. В Берлине селились те, кто изначально враждебно относился к монархистам, приветствовал Февральскую революцию — даже те, кто в Февральской революции участвовал, — но после октябрьского переворота бежал из страха быть ненароком раздавленным жерновами истории. Таким образом, "русский Берлин" стал столицей внутриэмигрантской оппозиции. Когда в Германии начались первые волнения, в которых уже опытные в вопросе революций русские эмигранты почувствовали дыхание надвигающейся грозы, многие из "бывших" поспешили перебраться во Францию — и были не так уж и не правы.
Глава 11 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
I
Сначала жили Надежда Васильевна с Николаем Владимировичем в Болгарии, в тихом, красивом городке Горно-Паничерове. Плевицкая пела в полковом театре. Потом стала ездить с концертами по всей Болгарии — имела успех, для нее неожиданный, потому что она думала, что только русские могут понимать и ценить ее песни. Скоблин старался сопровождать ее во всех поездках, и частые отлучки его раздражали корниловцев: соратники считали, что генерал преступно пренебрегает своими обязанностями в угоду жениным желаниям. Но для Николая Владимировича карьера Надежды сейчас имела куда более весомое значение, нежели бесконечные и бессмысленные сборы и смотры полка: человек практического склада, он ясно осознавал бесповоротность крушения империи, понимал, что "игры в солдатики" никого из них не спасут и не прокормят, что надо искать свое место в этой новой жизни, исходя из нового своего положения, сколь бы несправедливым оно ни казалось. Своего места он пока не видел, но прежняя слава Плевицкой еще не была позабыта, а значит, они могли надеяться на воскрешение этой славы: если, конечно, он поддержит Надюшу сейчас. Она была так мало уверена в себе, в своих силах! Ей казалось, что все для нее кончилось, что ни былого таланта, ни былого голоса у нее уже нет. Она считала себя безнадежно состарившейся. И устаревшей — как певица, актриса. Несколько неудач — и она могла отчаяться, отступить, и на этот раз — бесповоротно. Скоблин достаточно узнал ее характер — если уж Надежда принимала решение, то следовала ему до конца, вопреки даже очевидной логике. И потому он считал более важным поддержать сейчас ее — пусть даже жертвуя уважением соратников и будущей карьерой своей в белой армии (в РОВС армия преобразуется только в 1924 году), тем более что собственная карьера казалась ему теперь иллюзорной, если не невозможной, тогда как карьера Надежды уже состоялась, ей оставалось только напомнить о себе.
Скоблин попросил у командира корпуса отпуск, и на зимний сезон 1922–1923 годов супруги покинули Болгарию. Турне по городам Прибалтики и Полыни показало, что Плевицкую не только не забыли — ее возвращения ждали! Концерты имели оглушительный успех везде, где только были русские слушатели. В Праге, где русская колония была особенно многочисленна, Плевицкую, как в прежние времена, встречали бурными аплодисментами и дождем цветов. Она была так счастлива и словно помолодела — успех окрылял ее, она и держаться на сцене, и петь стала свободнее. Правда, выходила она теперь не в сарафане и кокошнике, а в строгом черном платье, с зачесанными назад тронутыми сединой волосами — и все-таки она была прекрасна, когда пела, выговаривала свои песни, разводя руками, поигрывая плечами — как в юности, как будто и не было черного, кровавого кошмара. Впрочем, кошмар неизменно напоминал о себе отсутствием главного слушателя: Он покоился в Ганиной яме вместе со всей семьей своей, вместе со старшей дочерью, когда-то подбиравшей на фортепьяно мелодии песен Плевицкой, вместе с младшей, шалуньей, с которой Надежда Васильевна когда-то играла в "жгуты".
После Праги Плевицкая решилась ехать в Берлин, и 29 марта 1923 года пела в зале имени Бетховена — в одном из лучших и самых больших залов, — и он был полон, ни одного свободного места, и очереди за билетами стояли, как прежде. В Берлине она впервые пела свою самую знаменитую эмигрантского периода песню:
Замело тебя снегом, Россия, Запуржило седою пургой, И холодные ветры степные Панихиды поют над тобой.И тогда, и впоследствии песня эта вызывала тоскливые слезы и жаркие овации.
Дав в Берлине еще несколько концертов, Плевицкая поехала дальше: 12 и 16 мая она пела в Брюсселе, 28 мая снова вернулась в Берлин, 5 июня выступала в Белграде, и этот белградский концерт стал новым триумфом, еще раз проехалась по городам Болгарии и Сербии, полгода длилась "балканская часть" ее турне, до февраля 1924 года. К тому моменту у нее уже был свой импресарио — Ю. Боркон, устроивший для нее новые концерты в Берлине, в зале Блютнера. Берлинская русская колония уговаривала ее остаться. В эмигрантском журнале "Руль" появилась восторженная статья музыкального критика Легато.
Там же, в Берлине, в 1924 году, Надежда Васильевна познакомилась с Марком Яковлевичем Эйтингтоном — богатым "русским евреем", женатым на бывшей артистке Малого театра. Эйтингтон с женой пришел в гримуборную Плевицкой, преподнес великолепный букет и золотой браслет в полированной плоской коробочке, восхищался и звал в гости. Плевицкой он понравился — показался очень "душевным", и она приняла приглашение. Жил Эйтингтон на Раухштрассе в роскошно обставленной квартире, буквально набитой русским антиквариатом. Скоблину сначала не понравилось это знакомство: ему казалось, что общение с богатым торговцем унижает его достоинство, но впоследствии, когда Надежда Васильевна по-настоящему подружилась с Марком Эйтингтоном, а Николай Владимирович волей-неволей ближе узнал его, он стал как-то лучше и мягче к нему относиться; а может быть, время и эмигрантский опыт изменили понятия о достоинстве. Но в любом случае Марк Эйтингтон был человеком образованным, умным, тонко чувствующим красоту всего: женщин, вещей, музыки, литературы, и для Плевицкой он оказался знакомством не только приятным, но и полезным. Впоследствии он не раз поддерживал ее материально. Жизнь есть жизнь, а жизнь в эмиграции особенно трудна и не располагает к сентиментам: даже самые напряженные гастроли и самые удачные концерты не давали уже прежних баснословных гонораров.
Далее жизненный путь Плевицкой возможно проследить преимущественно по афишам и анонсам концертов в эмигрантских газетах.
После второго с воет явления в Берлине и нового успеха Надежда Васильевна почувствовала в себе достаточно сил, чтобы отправиться покорять Париж. Пела в зале Гаво 15 и 24 марта, в театре Виктора Гюго — 2 и 5 апреля, перед самой изысканной аудиторией, перед теми "бывшими", кто еще не рас терял былого величия и богатства, кто мог себе позволить домик под Парижем, виллу в Ницце и фамильные драгоценности (у большинства если какие драгоценности и оставались при приезде в Париж, в очень скором времени были проданы и прожиты, а если что-то и не было продано, то все равно не надевалось: к поношенному платью не наденешь бриллианты). В Париже Плевицкая впервые решилась спеть песню собственного сочинения к сожалению, текст ее не сохранился, известно лишь, что это было что-то тоскливо-патриотическое, в духе времени, а последние слова: "И будет Россия опять!" — вызвали у публики такую восторженную радость, что песню заставляли повторять еще несколько раз.
После Парижа Скоблины вернулись в Болгарию, где Николая Владимировича ждал строгий выговор за опоздание из отпуска. Но для него это уже не имело ровно никакого значения: теперь он ясно видел свое будущее — их с Надей будущее — тогда как большинство его соратников все еще прозябали в неизвестности.
1 мая 1924 года Скоблины навсегда покинули Болгарию.
Сначала они вернулись во Францию: 6 июня — концерт в парижском зале Гаво с участием модного тогда квартета Кедриных. В артистическую, навестить Плевицкую, зашла Великая княгиня Ксения Александровна, сестра погибшего Государя. Сначала женщины обнялись, как старые подруги, но потом, с соблюдением правил придворного этикета, Надежда Васильевна представила Великой княгине своего мужа. Великая княгиня еще помнила роман Плевицкой с Шадриным — о нем в свое время много говорили — и знала о гибели Василия Алексеевича.
Скоблина она приняла милостиво, что привело его в совершеннейший восторг: прежде он только мечтать мог о том, чтобы быть представленным Великой княгине!
После Парижа Плевицкая отправилась в свое первое американское турне: эта поездка принесла ей прибыль, в несколько раз превышавшую прибыль от европейских концертов. Ей предлагали остаться в Америке, но она не решилась: все-таки основная часть эмиграции сосредоточилась в Европе, а Надежде Васильевне хотелось жить хотя бы "среди своих", раз уж из России пришлось уехать. Скоблин поддержал ее в этом решении: несмотря на появившееся безразличие к "игре в солдатики", с РОВСом порывать он еще не собирался. Кстати, в том первом американском турне приключился первый "политический курьез" — Плевицкая дала концерт в пользу советских беспризорников. Газетчики в Америке и в Европе выразили недоумение: как же так? Жена белого генерала поет в пользу советских беспризорников?! Но Плевицкая легкомысленно ответила, что, как певица, стоит вне политики, а детей очень жалеет, потому что у нее в России три сестры остались и брат, и у каждого дети — мал мала меньше — и неизвестно, что сталось с ними, ведь в России, как пишут те же газеты, голод и мор.
Кстати, здесь она несколько покривила душой: по свидетельству ее внучатой племянницы, Ирины Ракши, опубликовавшей в 1993 году мемуары Плевицкой со своим предисловием, до начала 30-х годов Надежда Васильевна посылала в Киев своей сестре Марии (той самой тихой хромоножке Маше, которая вышла замуж за фельдшера) подарки: вещи, как она считала, необходимые в бедствующей России, и по новым российским понятиям — убийственно-роскошные. "Убийственно" — и в прямом, и в переносном смыслах слова. Иметь родственников за границей в те времена было опасно, носить иностранные вещи — еще опаснее, это могло вызвать завистливый гнев соседей, продать эти вещи — еще опаснее, потому что это называлось бы спекуляцией, и в результате Дежкины подарки Маша закапывала в огороде, где они и гнили, дожидаясь так и ненаступивших "лучших времен".
II
Вернувшись во Францию, Скоблины поселились сначала на старой ферме в департаменте Вар — сняли они эту ферму пополам с полковником Гордиенко, но потом с ним поссорились, полковник уехал, а на его место поселился брат Николая Владимировича, Феодосий, тоже офицер-корниловец.
Владимир Набоков писал: "Я почти не сомневаюсь, что ее пленение не было только игрою случая. Случайности на студию не допускаются. И еще менее сомневаюсь я в том, что, когда начался великий исход и они, подобно многим иным, потянулись через Секердже к Мотц-штрассе и рю Вожирар, генерал с женою уже трудились на пару, общая была у них песня и общий шифр. Став, что было вполне естественно, деятельным членом С.Б.Б. ("Союза Белых Бойцов"), он непрестанно разъезжал, организуя военные курсы для русских юношей, устраивая благотворительные вечера, подыскивая для бездомных барки, улаживая местные разногласия, — и все это самым непритязательным образом. Я полагаю, что какая-то польза от него была — от этого Б.Б. Но, на беду для его духовного здравия, он не мог обособиться от монархических группировок, не сознавая того, что сознавала эмигрантская интеллигенция: невыносимой пошлости, зауряд-гитлеризма этих потешных, но противных сообществ. Когда благонамеренные американцы спрашивают, знаком ли мне обаятельный полковник такой-то или величавый князь де Вышибальски, у меня не хватает духу открыть им прискорбную правду. Хотя, разумеется, состояли в Б.Б. и личности иного разбора. Я говорю о тех искателях приключений, что, служа общему делу, переходили границу где-нибудь в оглушенном снегом еловом бору и, побродив по родной стороне в обличьях, некогда употреблявшихся, странно сказать, эсерами, мирно возвращались, доставляя в маленькое парижское cafe под вывеской Esh-Bubliki или в крошечную — без вывески — берлинскую Kneipe разные полезные разности, какие шпионы обыкновенно доставляют своим хозяевам. С течением времени иные из них завязли в хитросплетениях иноземных разведок и забавно подскакивали, когда к ним подходили сзади и хлопали по плечу. Другие хаживали за кордон для собственного удовольствия. Один или двое, возможно, и вправду верили, что каким-то таинственным образом готовят воскрешение священного, пусть отчасти и затхлого прошлого".
Осенью 1925 года Надежда Васильевна пела на вечере галлиполийцев в Париже, устроенном Великой княгиней Анастасией Николаевной, супругой Великого князя Николая Николаевича Романова.
Потом концерты в Доме артиста, основанном знаменитым тенором Дмитрием Смирновым.
29 декабря — концерт в зале Гаво в пользу учащейся русской молодежи.
И снова поездка в Америку.
В начале января 1926 года русский Нью-Йорк уже ждал Плевицкую — и первый ее концерт состоялся на сцене оперного театра в Манхэттене, и зал был переполнен. После турне по крупнейшим городам снова Нью-Йорк, концерт в Эоллиан Холле 12 марта. А 16 марта в "Новом русском слове" появляется восторженная рецензия, подписанная А. Ступенковым: "Пела та, которая шаг за шагом прошла с нами весь наш крестный путь изгнания с его лишениями и печалями". И снова курьез: в просоветской газете "Русский голос" появился анонс, приглашающий сочувствующих посетить концерт "рабоче-крестьянской певицы" Надежды Васильевны Плевицкой. "Новое русское слово" тут же откликнулось статьей, напрямую обращенной к Плевицкой — "Глупость или измена?". Но на вопросы интервьюеров Надежда Васильевна по-прежнему отвечала: "Я артистка, я пою для всех. Я вне политики". Скоблин поддержал ее — а что еще оставалось ему делать? Принести публичные извинения? Наденька и так переживала все происходящее. Она нуждалась в его поддержке больше, чем эти журналисты с их претензиями. Все, что он мог сделать, — это запретить всякие интервью. Гастроли продолжались, а журналисты упоенно раздували курьез до размеров скандала. И в Европе это было уже воспринято как "происшествие"! В эмигрантской среде было так мало настоящих происшествий.
Когда 9 февраля 1927 года Врангель подписал приказ об освобождении Скоблина от командования корниловцами, многие сочли, что причина этому — то, что Плевицкая "сочувствует большевикам", что и открылось во время ее американских гастролей. На самом деле Скоблин сам письменно просил об освобождении от должности — ему сложно было совмещать службу, которую он считал уже утратившей всякий реальный смысл, с бесконечными поездками. А отпускать Наденьку одну особенно после нью-йоркского курьеза — ему не хотелось.
В Париж Скоблины вернулись в мае 1927 года. Потом снова отправились в турне по городам Франции, в Прибалтику. Материальное положение было отчаянное, и Надежда Васильевна не могла позволить себе даже краткосрочный отдых, тем более что ей не хотелось, чтобы генерал Скоблин унизился до работы таксиста или официанта, а то и шафера или разнорабочего. Более интеллектуального труда Франция русским эмигрантам предложить не могла. И не ради интеллектуального груда она их впустила на свою землю!
После смерти Врангеля от скоротечной чахотки 25 апреля 1928 года Скоблин, соскучившись по однополчанам, вернулся в ряды РОВСа. Председателем РОВСа тогда стал Кутепов, сам — бывший командир корниловцев, помнивший и чтивший былые заслуги Николая Владимировича. По его представлению 8 июля 1928 года Великий князь Николай Николаевич подписал приказ о возвращении Скоблина на пост командира корниловцев.
В отличие от других генералов РОВСа, Скоблин никогда нигде не работал, поскольку "состоял при жене". Действительно, своими заработками Надежда Васильевна обеспечила ему возможность спокойно заниматься политикой. В том масштабе, в каком политика была ему доступна.
Плевицкая очень любила своего молодого мужа. Детей им Бог все не посылал, она консультировалась по этому вопросу у врачей, ее обследовали, каких-то отклонений, препятствующих беременности, не обнаружили. Но время шло, детей не было, и "Коленька" оставался для нее не только самым любимым и близким человеком, но по-настоящему единственным. Она на все готова была, лишь бы ему было хорошо в этом неуютном мире.
Естественно, что Скоблину завидовали. Говорили, что он находится "под каблуком" властной супруги, тем более что та на восемь лет его старше. Прозвали даже "генералом Плевицким". И, разумеется, все это не могло быть совершенно безболезненно для него. Он должен был как-то самоутвердиться. И самоутвердился. Десятью годами позже — что и погубило их обоих: и его, и Надежду Васильевну.
А пока жили относительно спокойно.
Талант Плевицкой был признан не только слушателями, для которых она была не просто певица, но память о прошлом, уже сокрытом золотой дымкой времени. Признавали ее и те, кто стоял неизмеримо выше ее на лестнице музыкального искусства. Сергей Васильевич Рахманинов ценил ее, любил ее слушать, иногда даже аккомпанировал во время концертов, а в 1926 году оранжировал для хора и оркестра три песни из ее репертуара, составившие его 41-й опус.
В 1924 году Надежда Васильевно познакомилась с молодым русским писателем Иваном Лукашом, и вместе они создали первую книгу ее мемуаров: Плевицкая вспоминала, а Лукаш записывал, стараясь сохранять все особенности ее весьма колоритной речи.
Были у Плевицкой новые печали: один за другим умирали старые эмигранты, так и не сжившиеся с изгнанием. В Берлине Надежде Васильевне пришлось присутствовать на похоронах бывшего военного министра Сухомлинова — скромные были похороны. Как коротка людская слава! И почести — тщета, суета сует. Кончилась старая Россия — и позабыли всесильного министра Сухомлинова. А умер — похоронили скромно, почти бедно, и мало кто пришел почтить его ко гробу.
Зато другая встреча в том же Берлине порадовала Плевицкую: подошел к ней после концерта бывший ее раненый из ковенского госпиталя — тот самый офицер, страдавший от тяжких болей, которому она пела все ночи напролет, чтобы успокоить, утешить. Он выздоровел, женился, у него уже дети были, и в эмиграции неплохо устроился, а ведь считался безнадежным, у него был перебит позвоночник. Но вот случилось доброе чудо: выжил, поднялся, уберегся в огненной буре Гражданской войны. Как же счастлива была Надежда Васильевна встрече с ним! Побольше бы ей таких встреч.
III
Скоблин вернулся в РОВС, к родным своим корниловцам, только когда Надежда Васильевна определилась со своим местом на эмигрантской — и, в сущности, на мировой — эстраде, потому что слушали ее не только эмигранты, "на Плевицкую" ходили французы, немцы, американцы (американцы — особенно, не так уж велика была русская диаспора в США в те годы, но в Нью-Йорке и Филадельфии Надежду Васильевну всегда ждали полные залы и громадные сборы); она снова вошла в моду, только теперь иначе, чем в России в ту пору, когда интеллигенция интересовалась ее "почвенным стилем", а остальные ходили на Плевицкую, потому что она была любимой певицей Царя. Нет, для новых слушателей основную ценность представляла не манера исполнения, не те мини-спектакли, которые она устраивала на сцене во время каждой песни, но ее голос в своей чистоте и могуществе: появились хорошие патефоны, появились качественные пластинки и меломаны нового поколения. Многие слушали Плевицкую, даже ни разу не побывав на ее концерте и не зная толком, кто она такая. Русская певица. Но голос, голос! В общем, Надежда Васильевна в ту пору устроилась в музыкальном мире удобно, с комфортом, никто ее не теснил, потому что соперников не было, и положение ее казалось вполне надежным, потому что до старости, когда голос претерпит некие возрастные изменения, было еще очень далеко.
Она была спокойна теперь за свое будущее, и Скоблин тоже успокоился, и мог вернуться к "играм в солдатики" — хотя теперь деятельность РОВСа была далеко не такой уж иллюзорной, как в те времена, когда он еще звался Русской армией под командованием Врангеля, когда Скоблин покинул соратников ради концертных турне своей жены. Нет, теперь, когда большинство "солдатиков" нашли себе новое место в новом мире — пусть и не соответствующее их былому положению, возможностям и запросам — и они уже не жили в лагере, не выбегали каждое утро на построение, не маршировали по плацу и не носили оружия, теперь, когда они чинно собирались на рю де Карм или — позже — рю Колизе, или в региональных отделениях РОВСа, пили кофе во время бесед и уже не отдавали честь, а раскланивались друг с другом, снимая шляпы, — теперь-то перед ними открылось поле для некоей реальной деятельности по борьбе с большевизмом.
Нет, конечно, о "весеннем походе" речь уже не шла.
Но были другие походы — менее грандиозные и кровопролитные, но все-таки хоть в малой форме осуществлявшие великую цель борьбы с большевизмом. Диверсионная работа в СССР, участие в испанской войне — на стороне франкистов, а позже в финской — на стороне финнов, естественно, что угодно, где угодно, как угодно и с кем угодно, лишь бы против "большевиков". Некоторые стороны этой борьбы — в основном участие в войне в Испании и в Финляндии — освещались печатным органом РОВСа, журналом "Часовой". С диверсионными акциями на территории СССР было сложнее: их необходимо было проводить втайне от французов, заинтересованных в мирных отношениях с Советской Россией, — заинтересованных в них куда больше, чем в любви и признательности того "некоторого количества бывших россиян", коим являлась белая эмиграция. Тем более что любви и признательности как таковой и не было.
Из воспоминаний Бориса Александровского:
"Как общее правило, белые русские эмигранты во все годы своего пребывания за рубежом относились резко отрицательно к стране, в которой жили. Это отрицательное отношение имело очень обширный диапазон, начиная с простого ворчания и кончая бешеной злобой ко всему, что носило на себе печать данной страны и данного народа. Повсюду, где бы эмигранты ни оседали на постоянное жительство, они, как правило, замыкались в своем узком кругу, чуждаясь коренного населения и не смешиваясь с ним. Французские газеты, засылавшие время от времени своих репортеров в гущу "русского Парижа", неизменно приходили к одному и тому же выводу: "Русские абсолютно не поддаются никакой ассимиляции и никакому "офранцуживанию". Они живут замкнутым кланом. Значительная их часть, прожив долгие годы во Франции, даже не говорит по-французски и с трудом понимает французскую речь".
Но даже не любя французов и с некоторым снисходительным презрением относясь ко всему здесь — даже к пресловутому "героизму", проявленному французами в минувшей войне, — русские все равно ждали от них всесторонней поддержки и помощи. И оскорблялись, если эта помощь — особенно в случаях столкновения с представителями новой российской власти — была не столь уж всесторонней.
Как это было, когда в 1930 году при загадочных обстоятельствах исчез председатель РОВСа генерал Кутепов..
Исчезновение Кутепова (ибо "похищение" все-таки так и осталось версией) стало одним из самых значительных событий в истории русского Зарубежья и по сей день — одна из загадок истории: сродни "железной маске" — об этом много писали, выдвигали всевозможные версии, но к истине никто не приблизился до сих пор.
В то время многие советские газеты писали об этом событии как об "инсценировке" с целью "опорочить" советскую разведку. Просоветские французские газеты намекали на возможность бегства Кутепова — тем более что непосредственно перед исчезновением в его распоряжение поступила значительная сумма денег. Но Кутепов был известен как образцовый семьянин, он обожал свою жену и маленького сына. Да и потом. Кутепов был фанатиком. Если раньше он еще мог сбежать тайком от жены и близкого окружения, чтобы отправиться в СССР во главе какой-нибудь особенно серьезно подготовленной диверсионной группы, то теперь, после получения весьма значительных средств, он мог воплотить в жизнь многие давние свои планы и развернуть диверсионную работу так широко и серьезно, как ему давно мечталось: тем более что в успех начатого дела он верил и в последние перед исчезновением дни пребывал в приподнятом, бодром настроении, даже активизировал деятельность РОВСа в связи с предстоящими "серьезными операциями".
Разумеется, все это быстро стало известно представителям советской разведки. И никак не могло им понравиться.
Но имели ли они в самом деле отношение к его исчезновению?
Элизабет Порецки, вдова бывшего тайного агента СССР Игнация Рейсса, убитого группой Эфрона, вспоминала:
"Русская белая эмиграция делилась на несколько группировок, и хотя у них была общая цель — борьба с коммунизмом в России, — они беспрестанно враждовали между собой, плели интриги, доносили друг на друга французской полиции. В такой среде было легко вести вербовочную работу — ведь эмигранты были неимущими, оторваны от корней, деморализованы, они расходились даже в своих оценках того, что происходило в Советском Союзе. Все они одобряли ликвидацию Сталиным революции, но не обольщались насчет своего будущего — монархисты не питали иллюзий в отношении того, что Сталин возведет на трон нового Романова, а царские офицеры не могли помышлять о восстановлении их прежнего статуса. И в той, и в другой группировке у Советов давно действовали агенты, причем главные усилия сосредоточивались на объединении кадетов. Разномастные эти группы сливались в Союзе возвращения русских эмигрантов, располагавшемся в доме 12 по улице Бюси. Эта организация загадочным образом процветала. Некоторые из ее членов, те же длиннобородые православные священники с тяжелыми крестами на груди, должно быть, недоумевали: откуда берутся деньги, если репатриированных или хотевших вернуться русских раз-два и обчелся? Советам нужны были маститые эмигранты, например, православные священники, дабы придать организации респектабельный глянец. Были, правда, и такие, кто не отличался чрезмерным любопытством, так как их не привлекали к активной деятельности. Советы искали молодых людей, которые могли бы проникать во французские круги посредством своих связей с женщинами; выслеживать коммунистов, подозреваемых в антисоветских настроениях; совершать взломы квартир, где, по данным Советов, были улики, которые могли быть использованы против них; людей, готовых убивать".
А кое-кто — позже, в 1937 году, — заговорил о том, что Скоблин и Плевицкая были не только причастны, но являлись самыми что ни на есть организаторами и исполнителями, и даже принялись вспоминать: где они тогда были, что делали, как реагировали на случившееся?
Глава 12 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ
I
Утром в субботу 25 января Александр Павлович Кутепов был занят очередными делами канцелярии на рю де Карм. На понедельник 27 января он назначил два доклада — утром и днем. Еще в понедельник же днем на рю де Карм было назначено некое свидание — известно только, что этой встрече Кутепов придавал большое значение. С кем намечалось свидание — осталось неизвестным..
В этот роковой день Кутепов вышел в 10 часов 30 минут утра из своей квартиры в доме № 26 на рю Русселе. Жене сказал, что будет на панихиде по генералу Каульбарсу в церкви Союза галлиполийцев, помещавшейся в доме № 81 на рю Мадемуазель. До начала панихиды у Кутепова было около часа свободного времени, которое он мог уделять для встречи с хорошо известным ему человеком. Панихида после литургии началась в 11 часов 30 минут. К этому моменту, как было положено, генерал Трепьев ожидал Кутепова у входа в храм. Но пунктуальный Кутепов не пришел. Панихиду отслужили без него. Репьев и его помощники были удивлены. Только подумали, что какое-то неотложное дело помешало Кутепову прийти в церковь. Не вернулся он и домой. В 3 часа обеспокоенная семья подняла тревогу. Ни в собрании галлиполийцев, ни у кого из добрых знакомых Кутепова не было. Сообщили в полицию. Префектура полиции начала поиски. К 11 часам полиция убедилась в исчезновении генерала. Подозревая возможность похищения и увоза Кутепова за границу, власти по телеграфу известили пограничные пункты, порты и аэропорты. Фотографии генерала были разосланы пограничным и полицейским властям.
А.П. Кутепов
Путь от своей квартиры до галлиполийской церкви Кутепов обычно проделывал пешком. Выходя из дома, он поворачивал направо по рю Русселе. Дойдя до ближайшей поперечной рю де Севр, он поворачивал направо и по этой улице доходил до рю Мадемуазель. И в это воскресенье он шел обычным путем, но, повернув на рю де Севр, он вышел на бульвар Инвалидов. На рю Русселе первым его увидел знакомый торговец красками. Проходя мимо кинематографа "Севр-палас", Кутепов поздоровался с его хозяином Леоном Сирочкиным. За несколько минут до 11 часов белый офицер видел Кутепова на углу рю де Севр и бульвара Инвалидов. 30 января, на пятый день после похищения, сотрудник газеты "Эко де Пари" Жан Деляж узнал сенсационную новость от директора католической клиники Св. Иоанна, расположенной на углу улиц Мишле и Удино. Уборщик клиники Огюст Стеймец якобы оказался случайным свидетелем похищения. Стеймец рассказал Деляжу, как утром 26 января, около 11 часов, он вытряхивал коврик через окно, выходящее на рю Русселе. Он увидел стоявший на рю Русселе большой серо-зеленый автомобиль, повернутый в сторону рю Удино, параллельной рю де Севр. Неподалеку, на рю Удино, против рю Русселе стоял красный автомобиль такси, повернутый в сторону бульвара Инвалидов. Тут же на углу стоял полицейский. Рядом с серо-зеленым автомобилем стояли два дюжих человека в желтых пальто. В это время со стороны бульвара Инвалидов по рю Удино шел господин среднего роста с небольшой черной бородкой, одетый в черное пальто. Повернув с рю Удино на рю Русселе, господин подошел к серо-зеленому автомобилю. Оба человека, стоявшие рядом, схватили господина и втолкнули в автомобиль. Полицейский, спокойно наблюдавший за происходившим, сел рядом с шофером, и автомобиль, выехав на рю Удино, помчался к бульвару Инвалидов. Свои показания Стеймец подтвердил полиции. Полиция сообщила, что на углу улиц Удино и Русселе никогда не было полицейского поста. Было странно, почему Кутепов, вышедший из дома в половине одиннадцатого, вдруг решил вернуться через полчаса и притом с противоположной стороны рю Русселе. Было странно и то, что не нашлось свидетелей в домах на рю Русселе, где личность генерала была достаточно известна.
Обе ежедневные русские газеты, "Возрождение" и "Последние новости", были переполнены сообщениями об этом событии. Поддерживавшее Кутепова "Возрождение" требовало от властей немедленно произвести обыски в советском полпредстве на рю де Гренель. Неописуемое волнение охватило чинов РОВСа. Они были готовы двинуться на рю де Гренель, чтобы разгромить полпредство. Но начальство, возложив надежды на французское правительство, приказало воздержаться от самочинных выступлений.
Возмущаясь разбоем советской агентуры в Париже, французские газеты требовали от правительства принятия крайних мер. Обращаясь к премьер-министру, Андре Пиеронно писал в "Эко де Пари": "Интересы и честь страны требуют от Тардье, чтобы он порвал с советской властью". Эмиль Дюре в "Ордр" призывал: "Андре Тардье, порвите с Довгалевским!" В "Либерте" Камиль Эмар писал: "Нужно изгнать разбойников из норы. Нужно произвести в ней обыск. Пусть власти действуют немедленно".
В палате депутатов представители правых и умеренных партий были глубоко возмущены деяниями ОГПУ и требовали разрыва отношений с СССР. Депутат от Парижа Луи Дюма внес запрос министру внутренних дел. Он требовал обеспечения свободы и безопасности иностранцам, нашедшим политическое убежище на французской земле.
Но в понимании премьера Андре Тардье высшие интересы Франции нуждались в обратном — сохранении и укреплении отношений с СССР. Лишь для видимости и успокоения взволнованной общественности на словах были приняты меры к розыску виновников похищения. Официальное расследование было поручено Фо-Па-Биде, комиссару по особым делам префектуры полиции.
Борис Прянишников вспоминал:
"В горестные дни исчезновения любимого мужа Лидию Давыдовну Кутепову почти ежедневно навещала Надежда Плевицкая. Приходила к ней, чтобы поплакать вместе. Чтобы облегчить горе. И узнать, нет ли чего-либо нового, ей и ее мужу интересно. Бывал и Скоблин.
Они утешали Кутепову и говорили, что ее муж жив.
— Как, где он, что с ним? — со слезами на глазах спрашивала Кутепова.
— Я видела сон, ему хорошо. Я верю снам, они сбываются. Вы еще встретитесь с ним, — ласково и участливо утешала Плевицкая. Близкие к Лидии Давыдовне люди восхищались чутким и отзывчивым сердцем Надежды Васильевны".
II
Когда стало ясно, что Кутепов исчез бесследно, по-видимому, погиб, и вообще на его возвращение надеяться не приходится, был избран новый председатель РОВСа — генерал Евгений Карлович Миллер.
Миллер родился в Двинске 25 сентября 1867 года. В 1884 году он окончил Николаевский кадетский корпус, в 1886 году — Николаевское кавалерийское училище. Начал службу в лейб-гвардии Гусарском Его Величества полку. В 1892 году окончил по первому разряду Николаевскую академию Генерального штаба. В 1898 году он был назначен военным атташе в Бельгии и в Голландии. Затем, с 1901 по 1907 год, Миллер занимал пост военного атташе в Италии. В 1908–1909 годах отбывал строевой стаж, командуя 7-м Белорусским гусарским полком, 6 декабря 1909 года был произведен в генерал-майоры. В 1910 году занимал должность 2-го генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба, в его ведении находились все русские военные атташе в странах Европы. С 1910 по 1912 год был начальником Николаевского кавалерийского училища. В ноябре 1912 года Е.К. Миллер принял пост начальника штаба Московского военного округа. После объявления мобилизации летом 1914 года Московский округ сформировал 5-ю армию во главе с генералом Плеве и его начальником штаба Е.К. Миллером. В 1915 году Миллер был произведен в чин генерал-лейтенанта. В январе 1917 года он был назначен командиром 26-го армейского корпуса в 9-й армии генерала Лечицкого. В дни развала армии, 7 апреля, был ранен взбунтовавшимися солдатами из прибывшего на фронт пополнения. В августе 1917 года Миллер был назначен представителем Ставки Верховного главнокомандующего при итальянской главной квартире. Здесь его застала революция. После заключения Лениным Брестского мирного договора с Германией западные союзники оказались в затруднительном положении. Они стремились к свержению советской власти, и при их участии летом 1918 года в Архангельске было образовано правительство Н.В. Чайковского. В августе в Архангельске высадились союзные войска — англичане, американцы и французы — под общим командованием английского генерала Пуля. Правительство Чайковского вызвало Миллера в Архангельск для принятия должности военного губернатора Северной области. В феврале 1920 года Миллеру пришлось оставить и Архангельск… И вот в 1929 году Кутепов назначил Миллера первым заместителем председателя РОВСа.
Борис Прянишников писал о нем: "Миллер принадлежал к тем служилым людям старой России, у которых личное было всегда на заднем плане. Воспитание, полученное в семье и школе, определило его жизненный путь. Смысл жизни — не служба ради карьеры, но служение отечеству, готовность в любой момент принести себя в жертву ради блага страны. Идеальный офицер Генерального штаба, Миллер был совершенно лишен честолюбия. Волевой, тактичный, доступный для подчиненных, скупой на слова, исключительно трудоспособный и энергичный, он жил для России и ее армии. Он был прекрасным семьянином, но строго отделял дела служебные от дел семейных. Его жена, Наталья Николаевна, говорила, что деловая жизнь ее мужа была для нее закрытой: "Бывало, придет домой. Я спрашиваю его: какие были новые знакомства, встречи, разговоры? Он отвечает: "Сейчас, сейчас". — Да, да, знаю, сейчас будешь рассказывать меню обеда". Только меню обеда он мне и рассказывал. Ни одного слова о делах". Миллер был человеком долга. Возглавил Белое движение на севере России не в силу личных амбиций, но по зову долга перед родиной, также по зову долга стал председателем РОВСа после похищения Кутепова".
Е.Ж. Миллер
В годовщину исчезновения Кутепова в концертном зале Гаво РОВС устроил собрание памяти генерала. Выступал Миллер, снова упрекая французское правительство в бездеятельности и потворстве большевикам: "Нам пришлось вкусить всю горечь сознания, что пока не изменится картина взаимоотношений западноевропейских государств с той властью, которая была заинтересована в исчезновении генерала Кутепова, до тех пор нельзя рассчитывать на выявление преступников и привлечение их к ответственности". Его слова были встречены аплодисментами всех присутствующих, но далеко не все из них были искренни в своем восторге. Не все легко приняли Миллера в качестве нового главы РОВСа.
Борис Александровский: "Надо сказать, что возглавление им РОВСа вызвало некоторое замешательство в кругах белого офицерства. Кутепов был плоть от плоти и кровь от крови тех кругов офицерства, которое "сделало" Гражданскую войну. Его популярность среди офицеров врангелевской армии, задававших тон всему РОВСу, была колоссальна. Он был выразителем дум и чаяний преимущественно белоофицерской молодежи, да и сам он не был стар: Гражданскую войну он начал в возрасте 35 лет. Миллер, наоборот, принадлежал к кругам старого кадрового генералитета. Его Северная белая армия была малочисленна, а ее существование — кратковременно. На юге России о ней знали очень мало. Удельный вес старых офицеров в РОВСе был невысок. Для них Миллер был, конечно, вполне "свой" и не чета "выскочке" Кутепову. Потоп в РОВСе задавала "молодежь", а не "старики". Этой "молодежи" пришлось смириться и выжидать дальнейшего развертывания событий".
В числе "молодежи" был и Николай Скоблин. Кутепов ему покровительствовал, и сам Скоблин был боевым генералом, не чета "старику" Миллеру. Позже говорили, что Скоблин сам метил на место председателя РОВСа, считая себя бесспорно более достойным и даже "следующим по списку", что уже тогда, в 1931 году, он начал продумывать свой план.
О Миллере известно наверняка, что диверсионная работа на территории СССР в период его председательствования в РОВСе велась еще более активно, чем при Кутепове. Миллер произносил меньше лозунгов и речей, но его тихая подрывная деятельность и особенно его сотрудничество с Германией привлекли серьезное внимание советской разведки. Возможно, об устранении Кутепова даже пожалели… Также возможно, что личное знакомство Миллера с четой Скоблиных произошло не случайно, а по приказу разведки.
III
Когда именно Надежда Васильевна и ее молодой генерал начали работать на разведку — неизвестно. Известно только, что длилось это много лет. Известны их конспиративные имена: "Фермерша" и "Фермер". И один бесспорный факт, в сущности, подтверждающий это мнение лучше всяких документов: похищение нового главы РОВСа генерала Евгения Карловича Миллера генералом Николаем Скоблиным, осуществленное им при помощи и поддержке супруги, известной в эмигрантских кругах певицы Надежды Плевицкой.
Большинство русских эмигрантов жили бедно, практически на грани нищеты — как, например, семья Марины Цветаевой, едва ли не все годы, проведенные в Медоне, пригороде Парижа, жившая под страхом, что квартирные хозяева попросту выставят их на улицу за неуплату. Но даже те, кто не бедствовал, редко могли себе позволить излишества вроде автомобиля или собственного дома. Плевицкая и Скоблин — могли. И, возможно, в основе их благосостояния лежали не только гонорары Надежды Васильевны за удачные концерты в США, а также во время последнего турне по городам Прибалтики и Финляндии, но и деньги, выплачиваемые советской разведкой им обоим как агентам. А разведка не скупилась.
Дом они купили в городке Озуар-ля-Феррьер, в сорока километрах от Парижа, где жило всего несколько русских семей. Покупка была совершена в конце мая 1930 года. И в бюро Д.М. Шнейдера, торговца недвижимым имуществом, Скоблины прибыли в темно-сером автомобиле марки "Ситроен" 1925 года. Невиданная роскошь для русских эмигрантов! Осмотрев выставленный на продажу дом № 345 на авеню Марешаль Пэтен, Скоблин практически мгновенно принял решение. Немного поторговавшись, они со Шнейдером сошлись на 82 тысячах франков. 7 июня был подписан договор. Скоблин внес десять тысяч наличными и обязался выплачивать остальное по девять тысяч в год.
В 1934 году в Озуар началась постройка Свято-Троицкой церкви для окормления небольшой русской колонии. Скоблины щедро жертвовали на церковь, что никого не удивило: Надежда Васильевна славилась своей истовой религиозностью. Разумеется, она часто посещала службы. Первым настоятелем прихода и ее духовником был о. Александр Чекан, в прошлом офицер-артиллерист… По прихоти судьбы зять генерала Миллера.
Видно, не так уж религиозна была Надежда Васильевна, как ей хотелось казаться… Ибо отнюдь не откровенна была она на исповеди. Не во всех тайных грехах каялась. Не во всех недобрых помыслах.
Ибо большая часть недобрых помыслов ее была направлена на тестя духовника, на генерала Евгения Карловича Миллера, часто бывавшего в их доме в Озуар…
Иногда он приезжал с женой.
Чаще — один.
Шептались, что Миллер влюблен в Плевицкую.
В открытую говорить об этом не смели: Миллера уважали, да и не соперник он был для молодого и бравого Скоблина!
Надежда Васильевна была гостеприимной хозяйкой. Щедро, по-русски угощала. В небольшом дворике росли три русские березки, так остро напоминавшие о покинутой родине. Солнечным днем усаживались в их тени. Миллер удобно устраивался в шезлонге под ярко-желтым, похожим на подсолнух зонтом, ярко сиявшим в зелени сада. Плевицкая и Скоблин садились по сторонам от него. Вспоминали былое. Мечтали о славном будущем России. Обсуждали текущие дела РОВСа. Разнежившись, Миллер иной раз выбалтывал больше, чем следовало знать Скоблину при его положении в организации… Но, впрочем, Скоблин ни разу открыто не злоупотребил его доверием.
Миллер также с удовольствием принимал Скоблина и Плевицкую у себя дома. Они были хорошо знакомы с его семьей…
Как-то раз, вечером 27 февраля 1935 года, Скоблины возвращались из Парижа от генерала Миллера домой. В Венсенском лесу на их автомобиль налетел быстро мчавшийся грузовик. "Ситроен" Скоблиных был разбит вдребезги, но супруги каким-то чудом практически не пострадали: у Надежды Васильевны врачи констатировали нервный шок и ушибы, у Скоблина быта сломана правая ключица. Лечили их по высшему разряду, у каждого из супругов была отдельная палата, они быстро поправились и 17 марта покинули клинику За восемнадцатидневное пребывание в клинике Скоблины заплатили 4156 франков, присовокупив щедрый гонорар для хирурга, оперировавшего генералу ключицу. Потом это им припомнят: что в расходах они не стеснялись, хотя еще и не получили компенсации от страховой компании… Выписавшись из клиники, Скоблин несколько раз являлся к своему лечащему врачу, профессору Жирмунскому, для перевязок. В мае он посетил доктора в последний раз, приехав в клинику на новеньком "Пежо". Это им тоже припомнят… Потом, на суде.
Часть III ГРЕХИ ПЛЕВИЦКОЙ
Глава 13 РАЗВЕДКА В ДЕЙСТВИИ
I
Двадцать второго сентября 1937 года, в девять часов утра генерал Евгений Карлович Миллер вышел из своей квартиры в Булонь-сюр-Сен — он выглядел таким же спокойным и благодушным, как обычно, и никто из близких не заметил ничего необычного, тревожащего ни в поведении его, ни в том, как он с ними прощался. Уже на пороге Евгений Карлович сказал, что заедет на Восточный вокзал, чтобы купить билеты для невестки своей, Ольги Васильевны, собиравшейся с дочерью в Белград. В распорядок делового дня генерал не имел привычки посвящать своих близких — и в этот раз ничего не сказал жене и сыну. Больше они его не видели.
Генерал Миллер явился в штаб РОВСа (улица Колизе, дом 29) в половине одиннадцатого утра. Закрылся в своем кабинете и в течение полутора часов разбирал бумаги по текущим делам. В начале первого закрыл кабинет и зашел к начальникуканцелярии РОВСа генералу Павлу Кусонскому, чтобы сообщить о том, что у него на 12.30 назначена встреча, посте которой он намерен вернуться на службу.
Генерал Миллер оставил генералу Кусонскому запечатанный конверт с запиской, которую следовало прочитать в том случае, если он — Миллер — не вернется.
Со времени похищения генерала Кутепова Миллер сделал это своим правилом и всегда оставлял записку, если отправлялся на встречу, о которой по какой-либо причине не хотел отчитываться перед подчиненными. Об этом его правиле кроме доверенного лица — начальника штаба — никто не знал. Впрочем, подобные встречи — с людьми, не заслуживающими, по мнению Миллера, полного доверия, — были крайне редки. А генерал Кусонский считал это правило своего начальника обыкновенным чудачеством, но отношения своего, разумеется, не выказывал. В этот раз, как и всегда, он в присутствии Миллера с надлежащей серьезностью спрятал записку в потайной ящик своего стола.
Генерал Миллер с женой в день похищения. У машины — Скоблин
Стоял приятный солнечный день, и генерал Миллер оставил в канцелярии свое габардиновое пальто. А также портфель и бумажник, в котором лежали железнодорожные билеты и немного денег. Правда, бумаги со стола убрал — он всегда так делал, если случалось покидать кабинет больше чем на час.
В штаб РОВСа генерал Миллер больше не вернулся.
Не вернулся он и домой.
Его вообще больше никто из близких ему людей никогда не видел.
Потом этот день — 22.09.37 — разбирали и исследовали буквально по минутам. Прежде всего — французская полиция. Чуть позже, еще раз — в суде. А еще позже, уже по результатам суда, пытались реконструировать эмигрантские писатели Владимир Бурцев и Борис Прянишников, по-своему оригинально Владимир Набоков, а также специалист по "шпионским тайнам" Леонид Млечин.
Леонид Млечин: "В тот день с самого утра Скоблин и Плевицкая начали устраивать свое алиби. Они поехали в русское кафе на рю Лоншан, где пробыли полчаса, до половины одиннадцатого. Из кафе Скоблин отвез жену в модный магазин "Каролина" на авеню Виктора Гюго и оставил ее там, обещав вернуться за ней часа через полтора — после встречи с Миллером.
Посетители кафе и магазина должны были в будущем подтвердить, что все утро Скоблин и Плевицкая провели вместе с ними. Из "Каролины" они собирались поехать на Северный вокзал, чтобы проводить свою знакомую Н.Л. Корнилову-Шаперои, дочь покойного генерала Лавра Георгиевича Корнилова, уезжавшую в Брюссель.
Но, пока Надежда Васильевна примеряла платья, Николай Владимирович сел в свой автомобиль и уехал.
С генералом Миллером они встретились на углу улиц Раффе и Жасмен. Здесь Скоблина и Миллера ждал еще один господин. Скоблин оставил свой автомобиль, и они втроем, разговаривая, пошли по улице Раффе к калитке дома на Монморанси, который был снят в 1936 году советским полпредом Владимиром Потемкиным за тридцать тысяч франков в год. В этом доме находилась школа для детей советских сотрудников, работавших в Париже. Но в сентябре каникулы еще не закончились, и школа пустовала. Здание сторожила одна безграмотная женщина.
Позднее следствие обратило внимание на то, что место для похищения генерала Миллера было выбрано очень удачно. Советский дом находился на окраине Парижа, возле Булонского леса, в пустынном месте, где редко можно было встретить прохожего — особенно в обеденные часы.
Следствие найдет свидетеля последних минут свободной жизни генерала Миллера. Это был бывший офицер Добровольческой армии, который 22 сентября находился на террасе дома всего в нескольких десятках метров от советской виллы на бульваре Монморанси. Оттуда офицер прекрасно видел, как у самого входа в советский дом стояли хорошо известные ему генералы Миллер и Скоблин, а между ними — спиной к нему — находился какой-то человек плотного сложения. Скоблин в чем-то убеждал Миллера и показывал ему на калитку советского дома. Он, по-видимому, предлагал генералу войти в дом, но Миллер колебался.
Что произошло потом, свидетель не видел, так как в это время его позвали с террасы внутрь дома. Он не придал никакого значения виденной им сцене. Только на другой день, прочитав в газетах о похищении Миллера и исчезновении Скоблина, он понял, чему был свидетелем.
Генерала Миллера втолкнули в дом, где находились оперативники Главного управления государственной безопасности, и все было кончено. Ему дали хлороформ, уже в бессознательном состоянии заткнули рот и связали руки и ноги.
Через несколько минут к дому подкатил большой новый восьмицилиндровый грузовик компании "Форд", приобретенный советским полпредством. В грузовик погрузили большой ящик, который несли вчетвером.
Передав Миллера оперативной группке НКВД, Скоблин освободился и на машине поехал за Плевицкой, но опоздал. В "Каролину" он прибыл через пять минут после того, как Надежда Васильевна, боясь опоздать, сама уехала на вокзал.
Скоблин поспешил за ней, но догнал ее только на перроне. Н.Л. Корниловой-Шаперон Николай Скоблин сказал, что они с Надюшей приехали вместе, но ему пришлось отогнать машину на стоянку и что-то исправить в моторе.
Позднее следствие назначит экспертизу — мотор купленной на деньги НКВД машины работал идеально.
С вокзала Скоблин и Плевицкая направились в Галлиполийское собрание — пить чай. Затем Скоблин завез жену в гостиницу "Пакс", а сам вместе с полковником Трошиным и капитаном Григулем, своим бывшим адъютантом, решил объехать квартиры Деникина и Миллера, чтобы поблагодарить обе семьи за участие в прошедшем накануне банкете корниловцев, где главную скрипку, естественно, играл сам Скоблин.
Банкет был посвящен двадцатилетию корниловского полка и прошел весьма торжественно. Газета "Возрождение" дала отчет о банкете:
"Заключительную речь произнес командир корниловского полка генерал Скоблин, в прошлом начальник корниловской бригады, а потом и дивизии. Генерал Скоблин состоит в полку с первого дня его основания. Он один из совершенно ничтожного количества уцелевших героев-основоположников. В его обстоятельной и сдержанной речи были исключительно глубокие места. Глубокое волнение охватывало зал, склонялись головы, на глазах многих видны были слезы. На вечере, как всегда, пленительно пела Н.В. Плевицкая".
Не застав — по причине ему одному прекрасно известной — генерала Миллера, Скоблин как ни в чем не бывало попросил его жену передать генералу благодарность преданных Белому делу офицеров-корниловцев.
Ближе к вечеру Скоблин и Плевицкая отправились к себе в Озуар-ле-Феррьер, чтобы накормить кота и собак. Но вечер еще не был закончен. Им не хотелось сидеть дома, и они снова поехали в Париж.
Плевицкая осталась ночевать в гостинице "Пакс", где они частенько проводили ночь, а Скоблин еще раз заехал в Галлиполийское собрание и потом только отправился в гостиницу".
II
Миллер не вернулся, как обещал, в штаб РОВСа, не вернулся и домой к ужину, а когда время ужина прошло, супруга генерала, Наталья Николаевна, принялась обзванивать знакомых, пытаясь выяснить, кто последним виделся с Евгением Карловичем. Позвонила она и генералу Кусонскому. Тот сразу же вспомнил про запечатанный конверт и вернулся в штаб РОВСа, где прочел наконец записку генерала Миллера:
"У меня сегодня в 12.30 свидание с ген. Скоблиным на углу улиц Жасмен и Раффе. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером, военным атташе в Балканских странах Шторманом и с Вернером, чиновником здешнего германского посольства.
Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку.
22 сентября 1937 года.
Ген. — лейт. Миллер".
Потрясенный, недоумевающий Кусонский позвонил адмиралу Кедрову, заместителю Миллера по РОВСу и сообщил обо всем случившемся. Кедров решил, что следует немедленно, невзирая на поздний час, направить кого-нибудь домой к Скоблиным, чтобы расспросить обо всем лично Николая Владимировича: он заявил, будто опасается, что Миллер мог попасть в автомобильную катастрофу и лежит теперь где-нибудь раненый, не имея возможности подать вестей о себе, а Скоблин, дескать, знает хотя бы, в каком направлении уехал Миллер. Более страшных предположений пока не высказывалось — ровсовцы боялись даже заглазно оскорбить своего соратника. Кусонский попросил офицера Асмолова, жившего прямо при штабе РОВСа, на улице Колизе, съездить в Озуар-ле-Феррьер. Около полуночи Асмолов добрался до дома Скоблиных, но, естественно, никого там не застал и вернулся на улицу Колизе, где уже собрались руководители РОВСа. Один из них, полковник Мацылев, вспомнил, что Скоблин и Плевицкая останавливаются в отеле "Пакс", если им случается задержаться в Париже до поздней ночи.
Мацылев не знал о записке, не знал, что Скоблин фактически является главным и пока единственным подозреваемым в соучастии исчезновению генерала Миллера — пока еще не похищению, а исчезновению — не знал и о том, для чего начальство так активно разыскивает генерала Скоблина. Приехав в отель "Пакс", он деликатно разбудил Николая Владимировича и сообщил об исчезновении Миллера. Скоблин оделся и поехал с Мацылевым на улицу Колизе, выказывая горячую готовность принять участие в поисках исчезнувшего Миллера. Он совершенно не ожидал, что именно его будут расспрашивать о местонахождении генерала. Он сделал вид, что не знает, не понимает, о чем его спрашивают. Тогда Кусонский и Кедров предъявили ему записку Миллера и предложили немедленно отправиться вместе с ними в комиссариат полиции.
Понимая, что ему ни в коем случае нельзя оказаться в полиции — оттуда вырваться он уже вряд ли сможет, — Скоблин решил бежать прямо сейчас. Что и проделал — чрезвычайно дерзко и хладнокровно. Наверное, благородные "господа-офицеры" Кусонский и Кедров просто не ожидали, что бывший соратник может вот так просто взять и удрать тайком, подобно мелкому воришке. Они не очень внимательно следили за передвижениями генерала Скоблина по комнатам штаба РОВСа, и ему удалось уйти через лестницу черного хода. Кедров и Кусонский не гнались за ним, стреляя из пистолетов. Они вообще не пытались его преследовать и найти, нет: обнаружив исчезновение генерала Скоблина, они некоторое время просто ждали, надеясь, что он одумается и вернется! Ведь сложившаяся ситуация представляла угрозу для его офицерской чести. Но Скоблин уже давно перешагнул через все эти условности.
Н.В. Скоблин в миграции
И сейчас главным для него было спрятаться и переждать.
Вряд ли уже тогда Скоблин собирался бежать из Парижа и вообще из Франции, бросив жену на произвол судьбы. Наверняка Скоблин хотел просто затаиться на некоторое время и проследить, как будут развиваться события. К тому же он вполне мог надеяться, что Плевицкую не тронут. Ведь непосредственного участия в похищении Миллера она не принимала.
Остаток ночи Скоблин бродил по парижским улицам, а на рассвете отправился к полковнику Воробьеву — своему дальнему родственнику, — надеясь занять у него денег: свой бумажник он оставил в отеле "Паке". Воробьева дома не оказалось. Тогда Скоблин решил рискнуть — обратился к своему однополчанину Кривошееву, державшему теперь книжный магазин. Было еще только шесть часов утра, и Скоблин надеялся, что весть об исчезновении Миллера и о его собственной причастности к этому исчезновению еще не стала достоянием всего "русского Парижа". Кривошеев был нездоров и никого не принимал, но его супруга одолжила-таки генералу Скобли-ну двести франков и дала ему напиться. Она была несколько удивлена состоянием старого знакомого, но не посмела задать ему какой-либо вопрос.
Больше генерала Скоблина никто из знакомых уже не видел.
Он просто исчез — вслед за Миллером.
III
Что касается судьбы генерала Миллера, то теперь, спустя шестьдесят лет после его исчезновения, осталась только одна версия, которую никто пока не сумел опровергнуть.
Грузовик советского полпредства доставил его в Гавр, где в порту разгружалось судно "Мария Ульянова", которое доставило 5522 тюка с бараньими кожами на общую сумму в девять миллионов франков. Невыгруженными оставались еще около шестисот тюков, когда капитан получил по радио приказ немедленно прекратить разгрузку, принять на борт дипломатический груз и готовиться к отплытию. С грузовика на борт корабля восемь человек на руках перенесли какой-то огромный ящик. Таможенникам были предъявлены документы, из которых следовало, что в ящике находится "дипломатическая переписка советского полномочного представительства во Французской республике". Как известно, дипломатическая переписка таможенному досмотру не подлежит. На самом деле в этом ящике, по мнению большинства исследователей, находился генерал Евгений Карлович Миллер, связанный и одурманенный хлороформом.
Ближайший путь из Гавра в Ленинград — через Кильский канал, но советский корабль пошел старым судоходным путем, огибая Данию, как предполагали французские судебные эксперты, с целью избежать возможного обыска во время прохождения в немецких территориальных водах.
Корабль шел без остановок, и 29 сентября "Мария Ульянова" была уже в порту Ленинграда.
Оставшиеся тюки с кожами были перегружены на другое судно и переправлены теперь уже в Бордо.
IV
Не дождавшись возвращения Скоблина, Кедров снова послал Мацылева в отель "Паке". Крайне смущенный возложенной на него миссией, Мацылев разбудил Плевицкую и вежливо, осторожно спросил:
— Николай Владимирович не вернулся?
И тут у Плевицкой, по-видимому, просто не выдержали нервы.
Сказалось ли напряжение последних месяцев, ставших в их с Николаем жизни очередным переломным периодом, или пережитый трудный день, когда она не могла не волноваться за Скоблина, или просто Надежда Васильевна поняла, что заранее подготовленный план рухнул, что события вышли из-под контроля.
Во всяком случае, реагировала она неожиданно бурно. И неадекватно ситуации: ведь ей-то об исчезновении Миллера еще ничего не говорили, и, несмотря на ночную отлучку мужа, у нее не было причин так уж остро переживать за него. Однако она вдруг набросилась на полковника Мацылева и принялась истерически вскрикивать:
— Где мой муж? Где он?! Он ведь ушел с вами! Что вы с ним сделали? В чем вы его подозреваете? Отвечайте! Он способен застрелиться, если задета его честь!
Полковник Мацылев был поражен ее реакцией, о чем немедленно сообщил Кедрову.
Наверное, именно тогда ее и начали подозревать в соучастии.
Не добившись ничего от Мацылева, Плевицкая вернулась к себе в Озуар-ле-Феррьер. Собрала все наличные деньги и потом весь день металась по Парижу в поисках то ли мужа, то ли контактов с агентами НКВД.
Не нашла ни того, ни другого.
Скоблина уже спрятали.
А позаботиться о ней по какой-то причине не захотели.
Или не смогли.
Навестив Плевицкую и не добившись хоть сколько-нибудь связных ответов на свои вопросы, Кусонский и Мацылев направились в полицейский комиссариат на углу рю де Ла Помп и авеню Анри Мартен, где сообщили полусонным, недоумевающим полицейским о безвестном исчезновении генерала Миллера и обо всех существующих на данный момент уликах и подозрениях.
После съездили в гараж на рю Лоншан — автомобиль Скоблина (№ 1988 ОУ5) остался на месте, служитель гаража сказал, что хозяин не появлялся.
Часы показывали 3 часа 15 минут.
Так началось "дело Плевицкой".
В тот же день — 23 сентября 1937 года — во всех эмигрантских и даже французских газетах появилась заметка:
"Загадочное исчезновение генерала Е.К. Миллера.
Глава РОВСа в среду в 12 ч. 30 м. дня покинул управление на рю Колизе и с тех пор не появлялся".
V
На следующий же день Надежду Васильевну допрашивали прямо в ее номере в отеле "Пакс" полицейские инспекторы Брентен и Альберти — они пытались выяснить, что Скоблин и Плевицкая делали в день исчезновения Миллера, заставляли припомнить все до малейших подробностей, до минуты — вопросы французских полицейских и ответы Плевицкой переводил Мацылев. Она сразу же уточнила, что в роковой для Миллера час она с мужем завтракала в русском ресторане Сердечного, в доме № 64 на рю Лоншан. Затем Скоблин отвез ее в модный дом "Каролина", где она заказывала платья. Тем временем муж ожидал ее на улице, в автомобиле. Закончив примерки в "Каролине", они отправились на Северный вокзал провожать друзей, уезжавших в Брюссель.
Неудовлетворенные эти ми показателями, Брентен и Альберти повезли Надежду Васильевну к комиссару судебной полиции Андре Рошу.
И Рош тоже допросил Плевицкую, заставив повторять все сначала и в тех же подробностях. Она уже успокоилась достаточно для того, чтобы твердо и уверенно отмечать время тех или иных событий: они со Скоблиным вышли из отеля "Накс" в 12 часов; в 12 часов 20 минут Скоблин пришел в гараж в доме № 125 на рю Лоншан и взял свой автомобиль; в 12 часов 25 минут они приехали в ресторан Сердечного и, перекусив, вышли из него в 12 часов 50 минут; приехали в модный дом в 12 часов 55 минут; вышли из него в 13 часов 35 минут и в 14 часов прибыли на Северный вокзал.
Рош немедленно проверил показания Плевицкой.
Хозяин отеля "Паке" господин Буайе показал, что Скоблины вышли из своего номера (№ 5) в 11 часов.
Служащий гаража сказал, что Скоблин взял свою машину в 11 часов 20 минут.
Официант из ресторана Сердечного Зерньен, официантка Новак, судомойка Леонард утверждали, что Скоблины появились 22 сентября около 11 часов 25 минут. Вопреки обыкновению, они не заняли мест за столиком, а присели к стойке бара и заказали два бутерброда с икрой. Было видно, что они торопятся. В 11 часов 50 минут они покинули ресторан.
Владелец модного дома "Каролина" господин Эпштейн показал, что Плевицкая появилась одна, без мужа, в 11 часов 55 минут. Она сказала, что муж ожидает ее на улице в автомобиле. Эпштейн предложил ей пригласить хорошо знакомого ему Скоблина в магазин, но Плевицкая отказалась, мотивируя отказ тем, что зашла всего на несколько минут. Однако Плевицкая покинула "Каролину" только в 13.30, заказав платьев на 2700 франков и оставив Эпштейну 900 франков в качестве задатка.
Пять минут спустя после ее ухода в "Каролине" появился Скоблин.
Исходя из совокупности показаний, полицейские постановили, что на вокзал Скоблины, скорее всего, прибыли раздельно: сначала — Плевицкая на такси, спустя пять минут — Скоблин на своей машине.
Таким образом, между 11 часами 55 минутами и 13 часами 35 минутами обнаружились 1 час 40 минут — время, вполне достаточное для доставки генерала Миллера в руки "немцев" (или к кому там отвез его генерал Скоблин).
Сличив показания Плевицкой с показаниями свидетелей, полиция убедилась в наличии тщательно подготовленного Скоблиными алиби.
К подготовке алиби Скоблин, по-видимому, приступил в понедельник 20 сентября. В этот день он уговорил дочь генерала Корнилова — Наталью Лавровну Шапрон, приезжавшую в Париж на празднование двадцатилетия полка, — вернуться в Брюссель 22 сентября поездом, отходившим в 14 часов 15 минут, чтобы своим присутствием на вокзале в момент исчезновения Миллера отвести от себя любые подозрения.
После допроса Надежда Васильевна в "Пакс" вернуться не решилась: долго бродила по улицам, плакала, потом, все еще в слезах, посетила своего семейного врача — русского доктора Чекунова. Рассказала ему об исчезновении генерала Миллера и своего мужа. О допросе в полиции. Спросила совета. Но, недослушав его утешений, принялась снова рыдать и кричать, а потом упала в обморок. Супруга Чекунова позвонила Леониду Райгородскому — другу Скоблиных. И на своем автомобиле отвезла Надежду Васильевну к нему.
VI
Ночь с 23 на 24 сентября Надежда Васильевна провела у Райгородских: помимо личной дружбы со Скоблиными Райгородский еще и состоял в родственных отношениях с покровителем Плевицкой Эйтингтоном. Марк Эйтингтон и Леонид Райгородский были женаты на сестрах.
Всю ночь Надежда Васильевна не спала. Металась по комнате. Плакала. Причитала: "Пропал Коленька! Пропал!"
Если верить Борису Прянишникову, досконально изучившему дело Плевицкой, "утром 24 сентября Райгородский усадил Плевицкую в свой автомобиль. Подъехали к церкви Отёй. Остановились. Плевицкая вышла из автомобиля. К ней подошли двое неизвестных. Завязался вполголоса короткий разговор. Под конец Райгородский услышал мужской голос:
— Не волнуйтесь, Надежда Васильевна. Все будет хорошо. А Россия вам этого не забудет.
Узнав из газет об исчезновении генералов, далекий от политики Райгородский не на шутку испугался. Не желая быть втянутым в это дело, о свидании у церкви в Отёй он полиции не сообщил и отвез Плевицкую в собрание Общества галлиполийцев".
(О свидании с советскими агентами Райгородский рассказал своему доброму знакомому, сотруднику газеты "Последние новости" Андрею Седых, взяв с него предварительно слово о сохранении тайны. В октябре 1976 года А. Седых, уже редактор "Нового русского слова", поделился с автором тайной Райгородского, к тому времени уже покойного.)
В Обществе галлиполийцев Надежду Васильевну встретил капитан Григуль, бывший адъютант Скоблина. Он уже знал, что его генерал замешан в похищении главы РОВСа. Он уже пытался найти Плевицкую накануне, заходил к ней домой, но никого не застал.
— Где же вы были вчера? — спросил Григуль.
— Целый день бродила по улицам. Я не знала, что думать, искала мужа, а где его искать — сама не понимала, — нервно отвечала Плевицкая. — Я была как безумная! На каждом углу казалось, что вот я его сейчас увижу Когда больше сил не было, пошла к доктору Ч. Это было уже перед вечером. Звонила, звонила, никто не отвечал. Тогда я опять пошла бродить по улицам. Что же вы еще хотите от меня? Я искала, с кем посоветоваться, я хотела, чтобы меня успокоили. Я не могла оставаться одна!
Надежда Васильевна была очень бледна, глаза ее лихорадочно блестели, голос срывался, она то и дело принималась истерически всхлипывать, словно хотела бы плакать, да слез не было. Она была испугана. До смерти испугана, потому что не понимала сложившейся ситуации и не знала, что же ей теперь делать.
Плевицкая проговорила с капитаном Григулем довольно долго. Все жаловалась ему на свой испуг, на абсолютное непонимание ситуации, все пыталась что-то выспросить, что-то узнать, цеплялась за его рукав. Но Григуль почти ничего не знал. И уж точно — знал гораздо меньше, чем сама Плевицкая!
Ее арестовали прямо там же, в Галлиполийском собрании, в присутствии бывшего адъютанта ее мужа.
По одной из версий, он сам позвонил в полицию чуть ли не по ее просьбе.
При аресте у нее изъяли семь с половиной тысяч франков, пятьдесят долларов и пятьдесят фунтов стерлингов. Сумма по тем временам весьма немалая, и в полиции ее присовокупили к делу как вещественное доказательство того, что Надежда Плевицкая собиралась покинуть Париж, чтобы присоединиться к своему мужу.
Согласно материалам, собранным Прянишниковым, Плевицкая попросила Григуля сопровождать ее в полицейский участок: она очень волновалась и хотела, чтобы рядом с ней находился близкий человек. Отказаться Григуль не посмел.
Борис Прянишников: "Полицейские не возражали. К Григулю присоединились сестра Скоблина и ее муж, полковник Воробьев. Плевицкая умоляла, чтобы ее сопровождала и дочь Григуля, Любовь, ученица коммерческой школы. Узнав, что Люба может быть отличной переводчицей, полицейские охотно согласились.
Но Люба была нужна Плевицкой не только как переводчица. Во время допроса, когда следователи то подходили к телефону, то рылись в бумагах, то выходили в соседнюю комнату, Плевицкая улучила удобный момент и сказала девушке:
— Слушай, Люба, моя сумка полна вещей, едва-едва закрывается. Можешь ли ты переложить к себе кое-что?
Ничего не подозревая, юная Люба положила в свою сумку фотографии Плевицкой с надписью на одной из них "Любимому до гроба мужу", ключ от номера отеля "Пакс" и красновато-коричневый бумажник с небольшой записной книжкой "Ажанда". Взяла и позабыла. И лишь собираясь 27 сентября на международную выставку, Люба обнаружила эти предметы и рассказала отцу о происшествии в кабинете следователя.
Обеспокоенный Григуль рассмотрел их. Узнал не раз виданную записную книжку Скоблина. Отправился в комиссариат и вручил вещи следственным властям".
Борис Александровский degjvbyfk: "Известие об этом аресте поразило всю эмиграцию как удар грома. Как?! Арестована Плевицкая, заставлявшая плакать и рыдать зарубежных россиян своим исполнением песен "Ехал на ярмарку ухарь-купец" или "Замело тебя снегом, Россия"! Та самая Плевицкая, которая в качестве жены начальника Корниловской дивизии генерала Скоблина была неизменной участницей чуть ли не всех банкетов, собраний и праздников, справлявшихся под сводами "гарнизонного" Галлиполийского собрания, и сама участница Гражданской войны и галлиполийской эпопеи!"
VII
Потом, уже во время суда, многие, очень многие недоумевали: как же так, как это могло случиться, ведь Скоблнны были такими патриотами, такими ярыми монархистами, как же они решились на измену Белому движению, на сотрудничество с ненавистным коммунистическим строем?! Тем, кто хоть сколько-нибудь знал их обоих, трудно было поверить в это. Тем же, кто знал Надежду Плевицкую и Николая Скоблина до двух революций, поверить было не только трудно, но вовсе невозможно.
Княгиня Лидия Леонидовна Васильчикова вспоминала, как они с Надеждой Плевицкой работали во время войны в госпитале в Ковне, как поражала тогда всех Плевицкая своей кротостью и трудолюбием и с каким благоговением говорила о Государе: "Он — мой хозяин и батюшка!" Как раз в то время Государь, еще — у власти, еще — живой, был настолько "немоден" в кругах "просвещенных", что трепетное отношение к Нему Плевицкой вызывало у окружающих саркастическую усмешку: чего, дескать, еще можно ожидать от этой вульгарной крестьянки? Ведь крестьяне всегда были привержены монархической идее, и революцию "делали" не крестьяне, и позже не раз бунтовали против новой власти, а если кто из них и оказался втянут в водоворот исторических событий, то только потому, что "просвещенные" сумели-таки "открыть им глаза". Плевицкая была крестьянкой. И слишком хорошо знала Государя, чтобы речи "просвещенных" могли произвести на нее хоть какое-то впечатление.
Директор банка, в котором Скоблин и Плевицкая держали свои деньги, потрясенно говорил французскому журналисту:
"Они боготворили Царскую Семью. Более убежденных и, как я уверен, более искренних монархистов трудно встретить. Поэтому для меня работа Скоблиных на большевиков представляется совершенно невозможной".
Многие просто не верили в виновность Скоблиных. Не могли, не смели поверить.
Большинство же не только злорадно поверили, но и готовы были просто растерзать за "измену", крича о том, что монархизм и патриотизм Скоблиных был фальшью.
Но если задуматься.
Кому, кому они должны были хранить верность?
Да, они были монархистами.
Но их Государь был гнусно предан и убит.
Как могла относиться Плевицкая, лично знавшая покойного Государя и Его Семью, боготворившая Его, как боготворили крестьяне Царя своего. Помазанника Божьего, и обожавшая этого человека, как обожали Его все, кому выпало счастье пойти в "ближний круг" и таким образом подпасть под обаяние личности Николая Александровича, — да что там, знакомство с Государем было в жизни Плевицкой событием, по важности равным ее собственному рождению и смерти, и я уверяю: это не преувеличение! Как она могла относиться к своему нынешнему окружению? Ко всем им, когда-то Его предавшим, и особенно к тем из них, кто, в отличие от нее, имел возможность остаться с Ним и претерпеть до конца, по не остался, а теперь, в эмиграции, со слезами на глазах они вспоминали. Так же как вспоминала она.
Ах, как же ликовали они, нынешние монархисты, после Февральской революции, после свержения Государя! После подписания Им отречения, к которому Его склонили, угрожая разлукой с нежно любимой Им Семьей, — теперь-то об этом позорном факте знали все, и Плевицкая тоже!
Большинство нынешних эмигрантов, бывших "господ-офицеров", и были именно теми, кто после Февральской революции носил на груди красный бант. Ибо тех, кто тогда осмелился не принять "новых веяний" и сохранил верность монархии, уже давно не было в живых.
Как Плевицкая могла относиться к ним ко всем после этого? Она, во время революции вовсе не понимавшая происходящего, но теперь так много узнавшая обо всем, что творилось тогда. Узнавшая больше, чем могло выдержать сердце!
Как могла относиться она к "другу семьи" Скоблиных — славному Лавру Корнилову, в 1917 году лично руководившему арестом Государыни в Царском Селе?
Кому она, крестьянка, столь высоко вознесшаяся когда-то, могла хранить теперь верность?
Может быть, кому-то из нынешних претендентов на престол? Великому князю Николаю Николаевичу, который некогда лично "коленопреклоненно умолял" Государя об отречении и с самых первых дней после отречения безуспешно пытавшемуся захватить власть в свои руки?! Или Великому князю Кириллу Владимировичу, чьи личные взаимоотношения с покойным Государем можно назвать в лучшем случае "прохладными", ввиду чего он даже с некоторым злорадством воспринял февральские события и все, что за этим последовало (хотя к чести его следует сказать, что он сделал все возможное, чтобы установить порядок в столице и спасти династию в критический момент, и не его вина в том, что все попытки такого рода изначально были обречены на провал), а теперь боролся с дядей за опустевший, залитый кровью трон!
Что касается патриотизма.
Возможно, именно патриотизм толкнул Скоблиных на "измену" — на сотрудничество с НКВД.
Ведь патриотизм — это верность Родине, а не группе сограждан, волей судьбы заброшенных на чужбину.
А интересы Родины, истинные национальные интересы России и русских в той политической ситуации представляли, увы, вот эти самые идейные враги, грубые и жестокие большевики с обагренными кровью руками, а вовсе не утонченные, тоскующие о великом прошлом России "господа-офицеры" с руками относительно чистыми.
Великое прошлое России! Как они любили поговорить о нем! И мы сейчас тоже любим, потому что живем в такое время, когда есть великое прошлое и есть надежда на какое-то будущее, но настоящего нет! И они тоже считали, что есть прошлое и какие-то надежды в будущем, но нет настоящего. Хотя их настоящее для нас давно уже стало великим прошлым.
Прошлое — прошло. Прошлое — невозвратно. Неизменимо. А будущее еще можно изменить. В настоящем.
В настоящем эмиграция блюла только собственные интересы. Сейчас принято романтизировать белоэмигрантов, представлять их страдальцами за Россию. Были среди них страдальцы за Россию. Были. Не могло не быть. Но в большинстве своем эмигранты страдали только за самих себя и за то, что потеряли они вместе с Россией.
Эмиграция так сильно ненавидела победивший строй и так мало любила свой народ, что уповала на Гитлера в надежде на месть и "восстановление исторической справедливости". Они надеялись вернуться на Родину вместе с немецкими войсками, вместе с чужеземными захватчиками — и кое-кто сделал это впоследствии. Об их сотрудничестве с представителями фашистской Германии уже писалось выше.
"Господа-офицеры" были за будущее России под гусеницами немецких танков.
Ну а большевики. Вернее, представители нового режима. Они были против немцев. Против вторжения. А значит — просто за Россию. Пусть даже под новым именем-аббревиатурой "РСФСР".
Того, что представители нового режима тоже ведут переговоры с гитлеровской Германией о возможном союзничестве, Скоблин не мог знать. Но даже если бы знал — что это могло изменить? Коммунисты хотели объединиться с Гитлером против всего остального мира. Эмигранты хотели объединиться с Гитлером против России. С точки зрения общечеловеческой морали и гуманизма отвратительным и неприемлемым выглядит и то, и другое. С позиции соблюдения национальных интересов России действия Сталина — как ни противно нам ныне это осознавать — были благоразумны. Хотя и несколько наивны. Впрочем, нам, нынешним, судить их легко.
VIII
Я не пытаюсь оправдать Скоблина и Плевицкую.
Ничем нельзя оправдать предательство и убийство друга семьи: именно убийство — организовывая похищение Миллера, они не могли не понимать, что обрекают этого славного человека на смерть, и даже более — на страшные страдания и унижения, ожидавшие его во внутренней тюрьме на Лубянке.
Но отчего-то никто никогда — ни тогда, во время процесса ни после, когда писались мемуары, ни теперь, когда одна за другой вскрываются тайны истории и заполняются "белые пятна". — никто никогда не пытался объяснить, почему эти двое, патриоты и монархисты, согласились сотрудничать с НКВД.
Нынче многие приводят в качестве аргумента деньги: продались, дескать, за несколько платьев и новый автомобиль. Но деньги бесспорным аргументом сделались только в наше время, а в те времена люди были другие, действительно другие, только деньги не могли толкнуть их на предательство. Да, да, разумеется" деньги были аргументом во все времена, но не главным аргументом.
Иуда предал Христа не за тридцать сребреников — он предал Его, потому что сомневался.
А Скоблины предали Миллера и РОВС (да простится мне такая аналогия!) не ради тех денег, которые им платили, но потому, что они не сомневались в верности своих действий. Потому что считали, что поступают так в интересах своей Родины.
Наверняка генерал Скоблин когда-то мечтал въехать в Россию на белом коне, но понимал, что теперь это возможно только при одном условии: если путь белому коню будет прокладывать немецкий танк. А такое положение дел его совершенно не устраивало. Он еще помнил последнее обращение к войскам покойного Государя. Он понимал, что объединиться с немцами сейчас — это и есть самое страшное предательство! И он готов был служить России — пусть этой, новой, красной России, — но все равно она оставалась его Родиной, его несчастной, покинутой Родиной. Служить в армии. Заниматься делом, для которого он был рожден. А не тратить годы на расследование внутренних ровсовских интриг!
Но чтобы служить Родине, чтобы вернуться домой когда-нибудь (они надеялись — в недалеком будущем), нужно было заслужить ее доверие уже сейчас. Здесь. Причем поступком бесчеловечным и несовместимым с честью русского офицера. И Скоблин на это решился. Как он оправдывал себя в своих собственных глазах? Наверное, говорил себе, что это деяние — на благо России. А благо России — превыше всего.
Был ли Скоблин самонадеян — или просто наивен? — надеясь, что ему действительно позволят служить народу, а не расстреляют сразу же, как только он пересечет границу СССР?
Скорее наивен. Люди Серебряного века вообще были наивными — и по сравнению с нами, нынешними, и по сравнению со своими современниками, шагнувшими из Серебряного в революционный век.
Да и "железный занавес" существовал не только для тех, кто жил здесь, но и для тех, кто перебрался туда. Железный занавес был непроницаемой завесой между "здесь" и "там", не пропуская лишних сведений как из-за границы в СССР, так и из СССР за границу, и в результате там знали, конечно, о каких-то расстрелах, о каких-то процессах, но не понимали, не могли постигнуть масштабов и жестокой абсурдности происходящего.
К тому же имена тех, кого судили и расстреливали, были известны эмигрантам лучше, чем имена тех, кто судил и расстреливал.
Те, кого судили и расстреливали, и были, собственно, их давними, заклятыми врагами. Теми, кто разрушил их Россию. Теми, с кем они воевали.
Те же, кто судил и расстреливал, были им неизвестны, были для них людьми новыми. И в эмиграции на этих новых возлагались даже какие-то надежды.
Как бы это ни казалось странно нам, нынешним, но за границей в то время еще не могли понять, что многоголовая красная гидра пожирает сама себя. Им казалось, что на самом деле к власти пришли более разумные, трезвомыслящие люди и теперь они вершат закон, устанавливают порядок, справедливо наказывают тех, кто был виновен в кошмарах революции. Про ГУЛАГ тогда еще, естественно, не знали. Даже не догадывались. И не могли понять, что прежний жестокий режим перерождается во что-то еще более кошмарное, вовсе не постижимое человеческому разуму. Нет, они тогда искренне верили в неизбежную эволюцию коммунистического режима, что этот новый строй обретет человеческое лицо, что все ужасы революции и Гражданской войны забудутся, когда будут казнены те, кто их творил!
В эмигрантских газетах освещались наиболее крупные процессы тридцатых-сороковых годов, но симпатии журналистов (и читателей) были вовсе не на стороне репрессированных.
Отношение к этому вопросу изменилось только после войны. Когда русские прошли по Европе. Когда узнали больше. Когда благодаря гитлеровским лагерям смерти даже русские эмигранты поняли, что могут быть вещи пострашнее подвала Ипатьевского дома, шахты под Алапаевском и массовых расстрелов в Крыму.
Но генерала Миллера похитили в сентябре 1937 года. Того самого страшного 37-го. Самого "урожайного" на аресты и расстрелы.
В 1937 году во Франции никто еще не знал, что на самом деле происходит в СССР.
И генерал Николай Скоблин верил, что ему позволят служить в советской армии и он еще принесет пользу русскому народу.
И певица Надежда Плевицкая верила, что в России ее встретят с распростертыми объятиями, что там вновь будут концертные залы, полные восторженных слушателей.
Он хотел служить в России.
Она хотела в России петь.
Вот и все.
IX
Предположения о том, что Плевицкая была завербована ЧК еще в годы Гражданской войны, а позже сама завербовала Скоблина, — абсурд.
Версия по поводу давней связи ее с НКВД через Марка Эйтингтона — по меньшей мере несостоятельна. Эйтингтон не имел ни малейшего отношения к истории похищения генерала Миллера. Он действительно помогал Плевицкой деньгами, финансировал издание ее книг и оплачивал ее концертные костюмы, но все это — из самой чистой и искренней симпатии. Она не была его любовницей. Он просто любил ее песни. У Марка Эйтингтона не было связи с НКВД. Его брат, Наум Эйтингтон, живший в Германии, действительно торговал — в качестве посредника — советскими мехами, но для этого было вовсе не обязательно состоять на службе в "органах"! Что касается бегства всего семейства Эйтингтонов в Палестину незадолго до похищения генерала Миллера. Видеть какую-то связь между этими событиями может только человек, не имеющий ни малейшего представления о политической обстановке в Европе того времени. Шел 1937 год. А Эйтингтоны были евреями. Достаточно разумными для того, чтобы пожертвовать своей благоустроенной жизнью в Европе ради жизни в жаркой Палестине — ради жизни! Другие понадеялись, что все обойдется. И закончили жизнь в газовых камерах Аушвица.
Но и попытки современных авторов (в том числе Ирины Ракши, приходящейся внучатой племянницей Плевицкой) обелить певицу и представить ее жертвой некоего недоразумения или даже гнусного заговора тоже выглядели наивно даже тогда, когда не вышла еще на свет Божий расписка, в которой великая певица обязалась выполнять все поручения НКВД. Еще французское расследование четко и ясно доказало виновность Плевицкой.
То, что Плевицкая и Скоблин помогали агентам НКВД похитить и вывезти в СССР генерала Миллера, является фактом бесспорным.
Спорными могут считаться только причины, толкнувшие их на совершение этого преступления.
Глава 14 ДО КОНЦА НЕ СДАВАТЬСЯ
I
Надежде Плевицкой предъявили обвинение "в соучастии в похищении генерала Миллера и насилии над ним".
Твердых доказательств того, что Миллера похитили по требованию НКВД, тогда у суда еще не было.
Но французы решили, что не имеет значение, кому были выгодны похищение и вероятная гибель Миллера — русским, немцам, испанским фашистам (была и такая версия) шли даже самим эмигрантам. Главное — человек был увезен обманом, против воли. И совершили это преступление иностранцы на территории Франции. Более того, подсудимая была знаменитой певицей. "Звездой", как сказали бы сейчас.
Предстоял показательный процесс.
Чтобы другим неповадно было.
II
Из здания судебной полиции на набережной Орфевр Надежду Плевицкую перевезли в женскую тюрьму Птит Рокетт.
Она плакала, почти все время плакала. Ей давали успокоительное, но успокоительное не помогало.
— Где вы провели четверг? — спрашивал ее следователь г-н Марша. — Что вы делали? С кем встречались? Видели ли мужа?
— Если бы я его увидела, я бы вцепилась в него, не отпустила бы от себя, на эшафот вместе с ним пошла, что бы он ни сделал!.. Но не нашла его. Не нашла моего Николая. Я знаю, генерал Миллер исчез, это несчастье. Но, поймите, муж — мой муж! — бросил меня. Покинул!
— Где же вы были весь день? Где вы его искали?
— Я сама не знаю. Я как безумная была. Ходила, брала такси, в Булонский лес, в Сен-Клу, сама не знаю куда. Я Парижа не знаю, улиц не помню. Всегда муж возил меня в автомобиле. В каждой машине мерещилось мне: не он ли? Галлюцинации какие-то были. Я даже думала, не у Миллера ли он.
На допросе присутствовали: адвокат Плевицкой, мэтр Филоненко, представитель семьи Миллера, мэтр Рибе, адвокат Н.А. Стрельников, гражданские истцы Н.Н. Миллер и КК. Миллер — жена и сын исчезнувшего генерала.
Мэтр Рибе спросил:
— Если вы думали, что ваш муж мог быть в доме генерала Миллера, почему же вы не поехали туда?
— Я по-французски не говорю, на какой улице была тогда, не знала. Ну, как я могла знать, как туда ехать? А потом, я боялась. Может быть, он не там.
— Почему вы не позвонили по телефону?
— Не умею говорить. Не могу. Вообще я растерялась.
Прянишников: "Марша вынул записную книжку Скоблина.
При виде этой нежданно появившейся книжки Плевицкая смутилась. Впившись в нее глазами, с тревогой ожидала вопроса.
Наряду с пустяковыми записями на страничке с датой 22 сентября рукой Скоблина было записано: "Передать Е.К. о свидании в 12 ч. 30 м. — 12 час. поговорим". На этой же страничке таинственные знаки: "3 П 6 7 гри".
— Что это значит? — впившись глазами в Плевицкую, спросил Марша.
— Ничего не знаю, ничего не понимаю, — отвечала, тяжело дыша, взволнованная Плевицкая.
— Итак, — продолжал следователь, — все ясно. Ваш муж заманил генерала Миллера на свидание. Он — виновник. А вы — сообщница.
— На какие деньги жили вы и ваш муж?
— Я давала концерты, хорошо зарабатывала, особенно в турне по Прибалтике, в Финляндии, на Балканах.
— Но мы знаем, что вы жили выше ваших средств.
— Нет, нет. А когда нам не хватало денег, мой друг Эйтингтон выручал нас. Он богатый человек, присылал нам деньги из Берлина. А сколько, точно не помню. Это знал мой муж, он вел наши денежные дела.
Марша перелистывал книжку Скоблина. На одной из страничек было записано:
"Особо секретным денежным письмом. Шифр: пользоваться Евангелием от Иоанна, глава XI. Числитель обозначает стих, знаменатель — букву. При химическом способе: двухпроцентный раствор серной кислоты. Писать между строк белым пером. Проявлять утюгом. Письмо зашифровывается: милостивый государь без многоуважаемый".
Один за другим побывали в кабинете Марша генералы Шатилов и Кусонский, адмирал Кедров, полковники Мацылев и Трошин, капитан Григуль, лейтенант Павлов, редактор газеты "Возрождение" Ю.Ф. Семенов — не только те, кто имел непосредственное отношение к делу о похищении Миллера, но даже те, кто просто знал Скоблина и Плевицкую, — господин Марша хотел составить для себя полную и ясную картину всего происходившего в эмигрантских кругах в течение последних месяцев, а заодно понять, какой была эта супружеская пара: Скоблин и Плевицкая — какими их видели друзья близкие, знакомые дальние.
Все — близкие и дальние — в один голос утверждали, что, если и был Скоблин агентом советской (или какой другой) разведки, то о его деятельности Плевицкая знала все, а если он действительно был причастен к похищению генерала Миллера, то, значит, и Плевицкая должна была знать о его планах и даже принимать участие. Вспомнились сразу все сплетни о неограниченном влиянии, которое Надежда Васильевна якобы имела на своего молодого мужа, о его подчиненной роли в семье, и даже обидное прозвище — Генерал Плевицкий — вновь всплыло во время допросов.
Н.В. Плевицкая на суде
Надежда Васильевна, разумеется, отрицала все. Она уже несколько пришла в себя после первого потрясения, старалась выглядеть элегантной, тщательно одевалась и красилась перед каждым допросом. Отвечала на вопросы следователя очень осторожно, тщательно взвешивая каждое слово, и только по-русски, хотя близкие знакомые и тогда, и потом утверждали, что французским Плевицкая владела неплохо.
Переводили ее ответы на французский язык, а ей — вопросы следователя на русский присяжные переводчики Н. Цацкин и М. Блюменфельд.
Вначале Плевицкая держалась за тщательно продуманное алиби, но 1 марта господину Марша удалось как-то поколебать ее позицию, и она сказала:
— Пока я была в модном доме "Каролина", возможно, мой муж мог отлучиться. Но если он и уезжал, то я все равно не знаю куда.
— Если ваш муж нагнал вас тотчас по выходе из модного магазина, то вы должны были перейти улицу, чтобы сесть в автомобиль? — вмешался со своим вопросом мэтр Рибе.
— Когда я вышла, мужа не было. На Северный вокзал я поехала в такси одна. Минут через десять на своей машине приехал мой муж.
— Вы раньше говорили, что в моторе была неисправность! И что это было причиной задержки выезда от "Каролины"! — взорвался Рибе. — Неправда! Вы знали, где был ваш муж и что он делал! Вы ему помогали! Вы — соучастница преступления!
— Нет, нет, клянусь! Я ничего не знаю, ничего! — испугалась Плевицкая и поспешила разрыдаться".
III
Плевицкая попросила о встрече — причем о встрече наедине — с женой генерала Миллера, Натальей Николаевной. Следователь согласился, надеясь, что в разговоре с бывшей приятельницей Плевицкая будет откровеннее. Наталья Николаевна, обезумевшая от горя и тревоги за мужа, тоже готова была на все, лишь бы узнать о нем хоть что-то, лишь бы хоть как-то разобраться в произошедшем. Г-н Марша отвел им десять минут.
— При такой дружбе, какая была между нами, как вы могли, зная, что я потеряла мужа, не заехать ко мне, не позвонить? — спрашивала Наталья Николаевна.
— Почему не заехала, не позвонила? Да это все равно что спрашивать меня, почему я не бросилась в Сену! — плакала Плевицкая. — Вы же знаете, как я вас любила. И Евгения Карловича. Разве я могла это сделать?.. Разве мог Николай Владимирович?.. Да я бы первая донесла. Вы верите мне? — она умоляюще взглянула на госпожу Миллер.
Та молчала, не в силах отвечать.
Она не верила. Конечно, она не верила!
— Наталья Николаевна, неужели вы думаете, что я способна на предательство? Ведь я так любила Евгения Карловича. Он такой милый, хороший. Помогите мне выйти из тюрьмы. На свободе я разыщу Колю и узнаю, что случилось с Евгением Карловичем. Сделайте так, чтобы меня выпустили. — сказала Плевицкая, схватив Наталью Николаевну за руки и сжав их.
— Что же вы намерены предпринять, если вас выпустят? — изумленно спросила госпожа Миллер.
— Я поеду в Россию, куда, как говорят, бежал мой муж.
— Да я и думаю, что он там, — усмехнулась госпожа Миллер.
— Я в этом уверена! — пылко воскликнула Плевицкая и принялась целовать руки Натальи Николаевны, которые все еще сжимала в своих.
— Как вы там его найдете?
— Я знаю, как найти. У него там два брата. Помогите мне, и я найду наших мужей!
— Даже если вы его найдете, вы ничего не узнаете, — устало вздохнула госпожа Миллер, высвобождая руки. — Потому что его расстреляют, если он что-то скажет. И вас заодно.
— Нет, он скажет. Я велю ему, и он ответит, а я дам вам знать, где находится Евгений Карлович.
— Это невозможно.
— Вы мне не верите! — заплакала Плевицкая. — Я не пала так низко, как вы думаете! Пусть меня накажет Бог, если я лгу вам. Знаете что, я готова ехать в Россию в сопровождении французского инспектора.
Десять минут истекли. В кабинет вошел Марша.
— Я еще хочу остаться вдвоем! — умоляюще сказала Плевицкая, чуть ли не силой удерживая рядом с собой госпожу Миллер. — Я тоже несчастна, ничего не знаю о муже. О, я его ненавижу! Он меня обманул и предал, как предал других. Я в тюрьме, а он счастлив в России. Вы — такая чистая и благородная! Я вас всегда любила, вами восхищалась! Помогите мне уехать! Клянусь, я разыщу наших мужей.
Наталья Николаевна, тоже вся в слезах, с трудом вырвала рукав своего платья из судорожно сжатых пальцев Плевицкой.
— Довольно, — сказал Марша. — Будем продолжать.
Как она могла так бессовестно обманывать свою недавнюю приятельницу?! Все, кто узнал об этом разговоре, были возмущены наглым поведением Плевицкой. Они не понимали, что такое поведение для нее просто естественно. Она не была бы "той самой легендарной Плевицкой", если бы не имела смелости и наглости добиваться желаемого любой ценой. Если бы у Дежки Винниковой был только голос и только талант, она никогда не смогла бы вырваться из родной деревеньки под Курском и добраться до самого Санкт-Петербурга, до Государева дворца в Царском Селе. Нет, у Дежки Винниковой — Надежды Плевицкой — был еще и характер. Прежде всего — характер. И впридачу к нему — чудесный голос и актерский талант.
Уже написан в далекой Атланте, штат Джорджия, один из самых знаменитых романов XX века, но имя американок Маргарет Митчелл и Скарлетт О’Хара пока еще не гремит по всему миру, и Надежда Плевицкая так и не прочтет никогда "Унесенные ветром". Впрочем, она вообще мало читала. Не любила книг. В тюрьме ей и подавно не до того было. А жаль.
В Скарлетт она узнала бы себя:
"Бог простит меня за то, что я это делаю, а не простит — так ничего не поделаешь!"
И еще:
"Зачем забивать голову себе тем, чего уже не вернешь, — надо думать о том, что еще можно изменить!"
Сейчас Плевицкая хотела вырваться на свободу и уйти от наказания — любой ценой.
Но она переоценила себя и недооценила Наталью Николаевну: госпожа Миллер была не настолько наивна, чтобы поверить ей, хотя, впрочем, достаточно наивна и порядочна, чтобы до конца своих дней переживать не только из-за предательства Скоблина и гибели мужа, но и из-за поведения Плевицкой во время той их последней встречи. Больше наедине с Надеждой Васильевной госпожа Миллер уже не оставалась.
Борис Прянишников: "После бегства Скоблина и ареста Плевицкой следственные власти опечатали их дом в Озуар-ла-Феррьер. Затем полиция произвела несколько обысков с изъятием огромного количества документов. Но среди бумаг не оказалось данных о средствах и расходах Скоблиных. Допрошенная Плевицкая сказала, что счетная книга, которую вел Скоблин, должна находиться в их доме.
В три часа дня 14 октября у дома с желтыми ставнями остановился автомобиль. Два полицейских в штатском и Плевицкая вышли из автомобиля. Осунувшаяся и постаревшая в тюрьме, она с грустью взирала на свое былое хозяйство. Дорожки в дворике были засыпаны осенней листвой, на грядках небольшого огорода поникла красная ботва, соломенная шторка на одном из окон оборвалась и косо висела на ржавом гвоздике. Прошло так мало времени с той поры, когда здесь припеваючи жили Скоблины, но уже следы заброшенности виднелись в садике, на стенах дома, на открытых воротах опустевшего гаража. Не подозревая о судьбе хозяев, по дворику мирно разгуливали петух и две курицы. Вдруг с радостным мяуканьем к Плевицкой бросились ее любимые кошки. Лаская их, Плевицкая тихо плакала, вспоминая счастливые дни, прожитые здесь с любимым Коленькой.
Еще несколько минут, и к дому подкатили автомобили, из которых вышли прибывшие из МЭЛЭН судебный следователь Лапорт и из Парижа защитник Плевицкой, мэтр М.М. Филоненко, и представитель гражданского иска, мэтр А.Н. Стрельников. В присутствии Плевицкой начался обыск.
Бесчисленное количество писем, секретные доклады, список соединений Красной армии, донесения о деятельности русских эмигрантских организаций и политических деятелей, списки чинов РОВСа с адресами по округам Парижа, записки о гарнизоне Варшавы и вооружении польской армии, отчет о работе большевистских агентов в среде эмиграции во Франции за июнь-сентябрь 1934 года, графики агентурной сети, донесения о деятельности управительных органов РОВСа, список начальников групп 1-го армейского корпуса в районе Парижа, переписка с генералом Добровольским, смета расходов по отправке в СССР белого эмиссара и многое, многое другое неопровержимо свидетельствовало о наличии в доме Скоблиных крупного осведомительного центра.
Часть документов проливала свет на подлинные отношения Скоблина к генералу Миллеру. Так, на секретном докладе о намерениях Германии после освобождения от пут Версальского договора рукой Скоблина было написано карандашом: "Старцу Миллеру не показывать". (…)
По поручению следователя Марша эксперт-счетовод Феврие тщательно обследовал найденную в Озуар приходно-расходную книгу Скоблиных. Записи показали, что расходы значительно превышали доходы, и источника дополнительных доходов Феврие установить не смог. Велик был разрыв между доходами-расходами: за 1936 и 1937 годы доходы выразились в 45 тысяч франков, а только за первые шесть месяцев 1937 года Скоблимы истратили 56 тысяч. Также не были сбалансированы доходы и расходы за 1931–1935 годы. Их никак не покрывали и 60 тысяч, полученные Скобл иными в виде компенсации за автомобильную катастрофу в Венсенском лесу.
Вывод Феврие: Скоблины жили выше средств, доходы от концертов Плевицкой никак не покрывали всех их расходов".
IV
Защитник Плевицкой, Максимилиан Максимилианович Филоненко, попытался поставить под сомнение достоверность записки, оставленной Миллером, и даже нашел свидетеля, уверявшего, будто это почерк вовсе не Миллера, и подпись тоже не его — целью была дискредитация оставшихся начальников РОВСа, которым при определенном раскладе исчезновение Миллера могло быть даже выгодно. Но эта попытка провалилась. Была проведена графологическая экспертиза, установившая подлинность записки.
Филоненко выдвигал гипотезу о похищении Миллера своими же подчиненными, желавшими сменить направление деятельности РОВСа, и эта гипотеза была проверена — и "отклонена целиком, ибо, по сложности событий, макиавеллизму и законченности выполнения, похищение генерала Миллера может быть делом рук тайной, прекрасно организованной и дисциплинированной ассоциации, обладающей мощными финансовыми средствами".
Плевицкая говорила, будто не знала, зачем вызывали Скоблина в РОВС той ночью, будто не слышала разговора его с полковником Мацылевым об исчезновении генерала Миллера.
— Но, когда полковник Мацылев вернулся без вашего мужа, почему у вас возникла мысль, что его в чем-то заподозрили?
Разве вы не говорили того, что, заподозренный, ваш муж мог не вынести оскорбления, покончить с собой?
— Нет, я этого не говорила! Я не думала, что моего мужа могли в чем-то подозревать.
— Когда вы узнали об исчезновении генерала Миллера?
— Узнала от полковника Мацылева тогда, когда он приехал ночью спрашивать, не вернулся ли Николай Владимирович.
— Вспомните точно, что вы тогда сказали. Какими были ваши первые слова?
— Ну, как я могу вспомнить?.. Я страшно испугалась, начала спрашивать: "Где мой муж? Что вы сделали с ним?" Потом, когда полковник Мацылев сказал, что с ним приехали адмирал Кедров и генерал Кусонский и они ждут на улице, я высунулась в окно и крикнула, что Николай Владимирович, может быть, у Миллера или в Галлиполийском собрании. А они мне сказали: "Когда Николай Владимирович вернется, пошлите его в полицейский комиссариат. Мы все сейчас туда едем".
— Считаете ли вы вашего мужа виновным в похищении генерала Миллера?
— Не знаю. Раз он мог бросить меня, значит, правда случилось что-то невероятное. Я не могу допустить, что он виноват, считала его порядочным, честным человеком. Нет, невозможно допустить. Но записка генерала Миллера и то, что он меня бросил, — против него.
— Умоляем вас, скажите правду!
— Не знаю. Я правду говорю. Я ничего, ровно ничего не знала.
V
Следствие по делу Плевицкой продолжалось больше года и пришло к следующим выводам:
"Скоблин на французской территории, совместно с сообщниками, оставшимися неразысканными, совершил 22 сентября 1937 года покушение на личную свободу генерала Миллера; учинил грубое насилие над генералом Миллером; сделал это с заранее обдуманным намерением; воспользовался для своих целей завлечением генерала Миллера в западню.
Надежда Винникова, по сцене Плевицкая, а по мужу Скоблина, на французской территории 22 сентября 1937 года и в последующие дни проявила себя участницей названных выше преступлений, совершенных Скоблиным и его неизвестными сообщниками, оказав им солидную помощь в подготовке, облегчении и осуществлении задуманного дела.
Дознание выявило следующие обстоятельства.
22 сентября около 12 часов 15 минут генерал Миллер покинул свой кабинет на улице Колизе, сообщив начальнику канцелярии генералу П.А. Кусонскому, что уходит на свидание, назначенное в 12 часов 30 минут, и не вернется к завтраку; перед уходом он вручил генералу Кусонскому запечатанный конверт, сказав: "Не думайте, будто я сошел с ума, но на этот раз оставляю вам этот конверт, который прошу вскрыть, если вы меня больше не увидите".
В половине одиннадцатого вечера генерал Кусонский вскрыл конверт и нашел в нем записку. В полночь Кусонский послал за Скоблиным. На вопрос, не знает ли он, куда исчез генерал Миллер, Скоблин ответил, что не видел его в течение всего дня. Тогда ему предъявили записку, оставленную Миллером. Скоблин смутился и, улучив момент, когда собеседники удалились в другую комнату, чтобы обсудить положение, бежал.
Кусонскому ночью 22 сентября Скоблин сказал, что в день исчезновения генерала Миллера он был вместе с женой между четвертью первого и половиной четвертого дня. Жена Скоблина, со своей стороны, подтвердила его алиби. Она уверяла, будто завтракала с мужем в ресторане Сердечного около четверти первого, а затем в сопровождении Скоблина посетила модный дом "Каролина" на авеню Виктора Гюго и съездила на Северный вокзал, чтобы вместе с мужем, командиром Корниловского полка, проводить госпожу Корнилову-Шаперон, дочь генерала Лавра Георгиевича Корнилова.
Дознание установило, что супруги действительно завтракали в ресторане Сердечного, но покинули ресторан в двадцать минут двенадцатого. Жена Скоблина одна явилась в модный дом "Каролина" примерно без четверти двенадцать и ушла оттуда тоже одна примерно без десяти два.
Хозяин "Каролины" господин Эпштейн показал:
— Мадам Плевицкая заказала два платья стоимостью 2700 франков и заплатила вперед 900 франков. Она провела у нас два часа до без двадцати два! Уходя, спросила, который час. Несколько раз напоминала нам, что муж с машиной ждет ее на улице, но сама не спешила. Когда я предложил пригласить генерала к нам в салон, она ответила уклончиво. Я несколько раз посмотрел в окно, но не увидел ни ее мужа, ни автомобиля.
Это приводит дознание к заключению, что похищение генерала Миллера произошло во время пребывания Плевицкой в магазине. Настойчивость, с которой жена Скоблина убеждала хозяина магазина, будто муж ждет ее на улице, ее отказ предложить ему подождать в магазине, ложь, при помощи которой она объяснила на перроне Северного вокзала опоздание мужа, свидетельствуют, что между супругами существовал сговор, предшествовавший преступлению.
Следует добавить, что, будучи на семь лет старше мужа, Скоблина-Плевицкая, по общему отзыву, имела огромное влияние на него. Она была в курсе всех действий мужа, принимала деятельное участие во всех его начинаниях, получала на свое имя шифрованные письма и документы политического значения, причем в некоторых документах указывалось даже, что содержание их не должно сообщаться мужу. Некоторые свидетели прямо называют ее злым гением Скоблина.
Экспертиза домашних счетов супругов Скоблиных показала, что они жили значительно шире своих средств, что должны были существовать другие, скрытые ими, тайные доходы".
VI
Алиби Скоблиных было продумано хорошо. Очень хорошо. Если бы не записка Миллера, Скоблиных не заподозрили бы вообще, а если бы даже начали проверять, то неделю-две спустя, когда уже никто не смог бы вспомнить точного времени встреч с Плевицкой и Скоблиным и тех многочисленных "неувязок" в рассказе Плевицкой, которые ее и погубили.
VII
В конце августа следователь г-н Марша передал материалы следствия в камеру для предания суду. Изучив дело, 9 сентября камера постановила предать суду присяжных виновников похищения генерала Миллера: генерала Скоблина, ввиду его безвестного отсутствия, заочно; его жену — Надежду Васильевну Плевицкую — как соучастницу.
5 декабря 1938 года в переполненном зале величественного Дворца правосудия начался процесс Плевицкой.
Вот как описывает это свидетель тех дней, Борис Прянишников:
"В час дня раздался звон гонга:
— Суд идет!
Все встали. Вошли председатель суда Дельгорг и два заседателя, заняли свои места.
Председатель Дельгорг обратился с краткой речью к присяжным. Он сказал, что дело сбежавшего Скоблина будет разбираться заочно, после вердикта по делу его жены. Через переводчика Дельгорг объяснил Плевицкой, что она обвиняется как соучастница в преступлении ее мужа. Плевицкая молча выслушала, кивнула головой и опустилась на скамью.
Член суда Вильм огласил обвинительный акт, начинавшийся словами:
"26 января 1930 года генерал Кутепов, председатель Русского общевоинского союза, ассоциации с центром в Париже, 29, рю дю Колизе, исчез при таинственных обстоятельствах. Бывший русский офицер стал жертвой похищения; все поиски обнаружить его след остались безрезультатны; виновники не были раскрыты.
22 сентября 1937 года, в свою очередь, исчез его преемник, председатель РОВСа генерал Миллер".
Описав события 22 сентября, мэтр Вильм указал на уличающие Плевицкую факты, на влияние, которое она оказывала на мужа, на записную книжку Скоблина, которую она пыталась утаить, на продуманное заранее алиби. Назвав ее злым гением Скоблина, всегда во всех делах сопровождавшую его, он закончил словами:
"Полное согласие проявлялось между обоими обвиняемыми как в повседневной совместной жизни, так и в действиях, которыми были отмечены подготовка и проведение покушения, жертвой которого стал генерал Миллер"".
VIII
Был ли еще жив в то время генерал Миллер?
И что стало с генералом Скоблиным?
Вряд ли его расстреляли "свои же", то есть чекисты, как считали многие в эмиграции. Скоблин, напротив, был им дорог и нужен. Для показательного процесса. Для разоблачений, которые он мог сделать. Лубянка действительно планировала использовать показания генерала Скоблина в пропагандистских целях по разоблачению РОВСа. Но ни процесса, ни показаний, ни новых убийств белоэмигрантских деятелей — ничего не было. Никакого следа. Николай Скоблин просто исчез.
Существует версия, что "товарищи" помогли ему перебраться в Испанию, откуда он должен был плыть в СССР, но случилось непредвиденное: генерал Николай Владимирович Скоблин погиб при бомбардировке Барселоны германской авиацией.
Существует и другая версия — что Скоблин бежал куда-то в Южную Америку, где и прожил под чужим именем долгую, нелегкую, но счастливую жизнь. Якобы уже в пятидесятых годах его встретил и опознал кто-то из бывших соратников. Эта версия вызывает больше сомнений. Николай Владимирович работал на советскую разведку в надежде на возвращение — для него бегство за океан не имело никакого смысла, — а в противном случае не имело смысла соучастие в похищении Миллера.
IX
Похищение генерала Миллера, исчезновение Скоблина, арест и процесс Плевицкой — французские журналисты получили обильную пищу для всевозможных инсинуаций: правые и умеренные газеты указывали на НКВД как виновника исчезновения Миллера, левые — "Юманите" и "Попюлер" — на гитлеровских агентов, активно действовавших в среде русской эмиграции.
Советские газеты не могли обойти молчанием столь значительное событие — тем более что обвиняли советскую внешнюю разведку, а из-за гибели Николая Скоблина показательный процесс над эмигрантами, вошедшими в соглашение с гитлеровскими фашистами, отменялся. Скоблии мог бы стать главным "героем" этого процесса, но он погиб, и советские товарищи с легкостью от него отказались. 30 сентября 1937 года в "Правде": "Все отчетливее выясняются связи Скоблина с гитлеровским гестапо и звериная злоба и ненависть, которую питал Скоблин к Советскому Союзу. Ряд газет приводит заявление директора одного из парижских банков, который сообщил, что Скоблин располагал крупными средствами и часто менял в банке иностранную валюту. Из заявления банкира вытекает, что источником средств Скоблина явилась гитлеровская Германия".
Зато эмигрантские и французские газеты писали, будто Плевицкая едва ли не с детских лет была агентом НКВД и втянула в эту авантюру мужа — мягкого, деликатного, во всем подчиняющегося своей "старшей подруге".
Те немногие, кто достаточно близко знал генерала Скоблина, понимали абсурдность этих обвинений. Он не был мягким. Он никогда никому не подчинялся. И подавно не подчинялся он своей жене. В семье он был властным и даже резким. Мог накричать. Именно по причине того, что она была старше обожаемого "Коленьки" на семь лет, Плевицкая так трепетала перед ним и соглашалась на все, что стоило ему пожелать: она панически боялась быть брошенной. Ведь у нее не было детей. У нее, кроме "Коленьки", вообще никого не было.
Во время суда многие свидетели называли ее "злым гением" генерала Скоблина.
Но она могла быть "злым гением" для него только в том смысле, что действительно живо интересовалась любым его начинанием и поддерживала всегда и во всем, причем поддерживала не только на словах, но и в реальной деятельности. Ее отчаянная, безграничная любовь, ее поддержка и попустительство — вот и все "зло", причиненное ею Николаю Скоблину.
X
Плевицкая продолжала утверждать, что на большевиков не работала, что муж ее в свои дела не посвящал, и вообще — ничего она не знает, не помнит, не понимает.
Ей очень хотелось жить. Причем жить — на свободе. Она не постеснялась в попытке обмануть Наталью Николаевну Миллер — свою давнюю приятельницу — и что же удивляться, что она лгала французскому суду? Все преступники всегда стараются лгать в суде, чтобы хоть как-то облегчить свою участь. Плевицкая давала какие-то показания, на следующий день меняла их, уверяя, что ее просто не поняли или что она не поняла вопроса. Разыгрывала карту своей "простонародности" и якобы незнания французского языка. И при этом не могла подолгу следить за ходом суда, откровенно скучала, изящно позировала фотографам, кокетливо переговаривалась с охранявшими ее жандармами, в перерывах посылала их за вином и круассанами, а уже через полчаса, стоило судье или кому-то из свидетелей произнести имя ее мужа, Плевицкая билась в великолепной, театральной истерике, или красиво заламывала руки, изящно роняя с плеч котиковую шубку, или вдруг принималась причитать по-бабьи, как причитали на Руси по умершим. Чувствовала ли она тогда, что Скоблина нет в живых? В любом случае, при всей своей любви к Николаю Скоблину, некогда любви жертвенной и покорной, теперь, на суде, его оправдать Плевицкая даже и не пыталась. Она защищала только себя.
И в этом, возможно, была ее ошибка.
В ней не хотели видеть жертву мужских интриг. Если бы она защищала Скоблина, возможно, к ней отнеслись бы милостивее. Французский суд вообще милосердно относится к женщинам, которых на преступление толкнули их мужья. Конечно, Плевицкая это знала, но повела игру грубо и неуклюже.
Ее поведение было изначально неверным.
И не могло не вызвать негатива как со стороны французского суда, так и со стороны присутствующих эмигрантов.
"Вот я сижу в этом зале. — писала Нина Берберова, и слушаю вранье Надежды Плевицкой, жены генерала Скоблина, похитившего председателя Общевоинского союза генерала Миллера. Она одета монашкой, она подпирает щеку кулаком и объясняет переводчику, что "охти мне, трудненько нонче да заприпомнить, что-то говорили об этом деле, только где уж мне, бабе, было понять-то их, образованных, грамотеев".
На самом деле она вполне сносно говорит по-французски, но она играет роль, и адвокат её тоже играет роль, когда старается вызволить ее. А где же сам Скоблин? Говорят, он давно расстрелян в России. И от этого ужас и скука, как два камня, ложатся на меня.
В перерыве бегу вниз, в кафе. Репортер коммунистической газеты уверяет двух молодых адвокаток, что генерала Миллера вообще никто не похищал, что он просто сбежал от старой жены с молодой любовницей. Старый русский журналист повторяет в десятый раз:
— Во что она превратилась, Боже мой! Я помню ее в кокошнике, в сарафане, с бусами. Чаровница!.. "Как полосыньку я жала, золоты снопы вязала"".
Схожими были впечатления и других, менее агрессивно настроенных лиц, присутствовавших на суде, — а в зале присутствовал весь цвет эмиграции: генерал Деникин; писатели Владимир Бурцев, Борис Прянишников и Марк Алданов; и бывший сотрудник советского полпредства в Париже Григорий Беседовский, "старейший невозвращенец", как его называли; и бывший министр юстиции Временного правительства П.Н. Переверзев — на почетном месте за креслами суда, — и многие, многие другие, также сохранившие для нас (в письменном виде) воспоминания, впечатления. Этот громкий, скандальный процесс привлек внимание всех: поклонников таланта Плевицкой, друзей генерала Скоблина, членов РОВСа, просто врагов советской власти, а также тех, кто тайно советской власти сочувствовал и мечтал вернуться. Но больше все-таки было врагов. Плевицкая стояла под перекрестным огнем ненавидящих взглядов. Если бы не барьер, если бы не охрана, ее бы попросту линчевали, так велика была ненависть русской эмиграции к "изменнице". Ненависть, замешанная на давней трепетной любви.
Юлия Финикова: "Какие трепетные воспоминания связаны с этим именем, с этим образом!.. Залитые огнями концертные залы. Блестящие мундиры, декольтированные дамы. Бриллианты, цветы, овации. Государь. Разливается безбрежная, захватывает до слез, кружит до мучительного трепета, до сладостной боли русская народная песня. Широкая, глубокая, простая, правдивая.
Суд присяжных в Париже: за окнами — дождь, проливной, безнадежный. Толпа русских людей. Притихшие, угнетенные — они пришли увидеть эпилог драмы, ранившей их сердца. Пришли узнать правду. Страшную, мучительную.
Все глаза обращены на скамью подсудимых.
Да, это она. Похудевшая, бледная, с выступающими скулами, с запавшими щеками, вся в черном. Туго стянуты черной повязкой темные волосы, руки в черных перчатках смиренно сложены. Поникшая поза, размеренные жесты.
Как не вяжется этот облик с той Плевицкой, которую мы видели на допросах! Там была растрепанная, кричащая, рыдающая, то умоляющая, то кидающаяся из стороны в сторону. Обезумевшая от страха баба.
А тут невольно напрашивается мысль, что этот неожиданный облик, этот "темный лик" женщины-вамп создан опытной актрисой, привыкшей владеть зрительным залом.
Не учла она лишь одного: что рампы с ее огнями нет. Что нарочитость, неискренность, расчет при дневном тусклом свете режут глаз.
Невольно кажется, что она избегает, не смеет смотреть в толпу понятных, близких ей русских людей, что чувствует она их враждебность — свое одиночество. Все против одной! Одна — против всех".
П.Н. Переверзев: "Впечатление она производила скорее неблагоприятное, впечатление холодной решимости защищаться во что бы то ни стало, без всякого волнения и гнева, строго следя за собой, заранее подготовляя эффект своих слов и жестов.
Если все останется до конца в пределах фактов, приведенных в обвинительном акте, то будет ли обвинена или оправдана Н. Плевицкая, мы все равно не узнаем, кто и с какой целью похитил и, по всей вероятности, лишил жизни ген. Миллера.
Собственно говоря, в деле есть только весьма легкие косвенные улики виновности Плевицкой в гибели ген. Миллера; даже это и не улики, а скорее предположения, и предположения сомнительные, которые нельзя толковать непременно во вред обвиняемой. Несомненным остается только желание Плевицкой спасти мужа от преследования судебных властей. Судя по тому, как Плевицкая решилась защищаться, она ничего не раскроет в этом процессе, что могло бы дать хоть малое удовлетворение глубокому чувству гнева и скорби, охватившему при вести о похищении ген. Миллера всех русских".
В коридорах и в буфете во время перерывов заседания суда много говорили о похищении Кутепова, хотя связь между этими двумя похищениями — Кутепова и Миллера — обнаружить не удалось. Но о Кутепове все равно говорили, и иногда казалось, что рядом с Плевицкой на скамье подсудимых незримо и немо присутствуют те неизвестные виновники исчезновения Кутепова.
XI
Плевицкая не только плакала и билась в истериках. Она еще и защищалась. Отчаянно. Яростно. Порой неумело и грубо, но — защищалась.
Председатель суда Дельгорг допрашивал ее очень подробно — и перед аудиторией суда постепенно предстала вся ее жизнь: от деревушки Винниково до Царского Села, от Галлиполи до виллы в Озуар-ля-Феррьер.
Дельгорг называл ее умной, властной женщиной, имеющей неограниченное влияние на мужа. Когда переводчик перевел слова Дельгорга, Надежда Васильевна вдруг усмехнулась грустно и зло:
— Скажите ему спасибо, что сделал меня министром. Но министром я никогда не была. Влияния на мужа не имела.
— Вы ничего не знали о подготовке покушения на генерала Миллера?
— Клянусь, не знала ничего.
— Эксперты установили, что вы и ваш муж жили не по средствам. Значит, деньги поступали к вам из неких тайных источников?
— Никогда счетами не занималась. Считать я толком не умела. Все хозяйственные дела вел муж.
— Вы получали деньги от господина Эйтингтона. Кто он такой? — как-то излишне выразительно, вкрадчиво спросил Дельгорг.
— Очень хороший друг, ученый психиатр, — спокойно ответила Плевицкая. — А его жена — бывшая артистка Московского Художественного театра.
— Вы были в интимных отношениях с Эйтингтоном? — спросил Дельгорг уже напрямую.
Плевицкая вздрогнула, вспыхнула, но ответила так же спокойно:
— Я никогда не продавалась. Подарки получала от обоих. А если мой муж одалживал у него деньги, то я этого не знаю.
— Как же так? Вы ведь сами говорили на следствии, что Эйтингтон одевал вас с ног до головы?
— Нет. Так я сказала случайно. Подарки от мадам Эйтингтон получали и другие, например Жаров с женой.
— Русских нравов я не знаю, — торжествующе улыбнулся Дельгорг, — но все-таки странно, что жену русского генерала одевал человек со стороны.
В зале засмеялись. Надежда Васильевна резко поднялась и медленно, очень четко произнесла, глядя в глаза председателю суда:
— Своей женской чести я не марала и никогда не получала дары ни за какие интимные дела. Кто знает Эйтингтона, никогда не поверит, что тут были какие-то пикантные происшествия.
Она постарела за время процесса, но по-прежнему была элегантна. Вся в черном: изящное платье с гофрированными оборками (из того самого модного дома "Каролина", где она впоследствии пыталась приобрести себе алиби), крупная брошь-камея на груди, бархатная шляпка с маленькими полями, неизменные лайковые перчатки, котиковая шубка, небрежно переброшенная через руку, или через деревянный барьер, за которым сидела подсудимая.
XII
В качестве свидетеля предстал Леонид Райгородский. Он рассказал, как в ночь с 23 на 24 сентября он приютил Плевицкую в своей квартире.
— Где сейчас ваш шурин, господин Эйтингтон?
— Он проживает в Палестине.
— Верно ли, что он с ног до головы одевал Плевицкую и давал Скоблиным большие деньги? — вопрос мэтра Рибэ.
— Марк Эйтингтон — богатый, независимый человек. Помогал ли он Плевицкой деньгами, я не знаю. Через меня эти деньги не проходили. Но Эйтингтон помогал многим. Его отец основал госпиталь в Лейпциге, там его именем названа улица. После смерти он оставил сыновьям 20 миллионов марок. Марк Эйтингтон — почтенный человек, уважаемый ученый, ученик Фрейда, друг принцессы Марии Бонапарт. Он чист как снег.
— А не он ли сбывал в Лондоне и Берлине советскую пушнину?
— Это не он, а его брат. В такой торговле нет ничего предосудительного, но к ней Марк не имел отношения.
В суд вызвали генерала Кусонского, начальника канцелярии РОВСа, и председатель суда укорял его с нескрываемым недовольством:
— Как боевой русский генерал, вы совершили ряд стратегических ошибок! Ваш начальник ушел на тайное свидание. Неужели записка, переданная с такими словами, не встревожила вас? Но есть другая ошибка, более серьезная: записка Миллера раскрыла вам Скоблина. Доказательство его лжи было в ваших руках. Если бы вы проявили больше сообразительности и проворства, то Скоблин сидел бы тут, рядом с женой! Ошибка, непростительная для доблестного генерала!
Затем вступили и защитники Плевицкой:
— Зачем вы задержали адмирала Кедрова? Не для того ли, чтобы дать Скобли ну возможность бежать?
— Прошло четырнадцать месяцев, и всех подробностей припомнить не могу, — угрюмо ответил Кусонский.
— Стратегическая ошибка! — усмехнулся председатель Дельгорг.
9 декабря, на пятый день процесса, свидетельствовал генерал Шатилов.
— Считаете ли вы чету Скоблиных виновными? — спросил Дельгорг.
— В этом нет никаких сомнений. Плевицкая знала все, что делал ее муж, она была его злым гением. Ее влияние сказывалось решительно во всем: и в политике, и в полковых делах. Скоблин был прирожденным интриганом, он разжигал недовольство против генерала Миллера, обвиняя его в бездеятельности. Несомненно, он и в этом деле выполнял волю жены. Они оба — агенты ГПУ.
— Как относился генерал Миллер к Франции? — спросил А.Н. Стрельников.
— О, он любил Францию как вторую родину. Но в 1934 году он хотел уйти на покой с поста председателя РОВСа, но генералы убедили его остаться.
— После похищения генерала Кутепова Плевицкая ежедневно посещала мадам Кутепову и была в курсе расследования этого дела. Что вы можете сказать по этому поводу? — вступил мэтр Рибэ.
— Да, она не покидала мадам Кутепову.
— Бывала она одна у мадам Кутеповой? — спросил Шваб.
— Нет, не одна. Бывали и другие дамы. А Плевицкую я заставал там каждый раз, когда приходил к генеральше.
Плевицкая, выслушав переводчика, повернулась к присяжным и сказала:
— Нет, это не так, о похищении генерала Кутепова мы узнали в Озуар, за обедом. Никогда я не была дружна с Лидией Давыдовной Кутеповой и бывала у нее редко.
— Бывали редко до похищения, а после похищения вы не выходили из квартиры, — возразил ей Шатилов.
— Там, на лестнице, я впервые встретила этого типа, — возмущенно заявила Плевицкая, указав на Шатилова, — когда я уходила, Лидия Давыдовна ругала его последними словами. Я тогда не знала, кто он такой, и спросила мужа. Он мне сказал: Шатилов. Я и подумала, до чего ж несимпатичный! А Кутепова сама звала, чтобы я приходила чаще.
Слова Плевицкой перевели, и сидевшие в зале французы смеялись, слушая перепалку двух знаменитых русских, оказавшихся по две стороны судебного барьера.
Кстати, Плевицкая почему-то солгала: Озуар-ла-Феррьер они со Скоблиным купили через полгода после похищения Кутепова. Впрочем, возможно, она что-то спутала или подзабыла как раз в тот момент, взволнованная обвинениями Шатилова.
Когда у барьера появился генерал А.И. Деникин, по залу прошел взволнованный ропот, художники, рисовавшие "персонажей" процесса, быстрее заскрипели карандашами, а те из фотографов, которым было разрешено снимать, торопливо защелкали камерами: всем хотелось запечатлеть легендарного генерала.
— Знали ли вы Скоблина? — спросил председатель Дельгорг.
— Знал его по Добровольческой армии, которой я командовал.
— Знали ли вы его в Париже?
— Изредка встречался с ним на собраниях воинских организаций.
— Знали ли вы Плевицкую?
— Нет, даже не бывал на ее концертах. Незадолго до похищения генерала Миллера Скоблин познакомил меня с нею на банкете корниловцев.
— Был ли у вас с визитом Скоблин 22 сентября? — спросил прокурор Флаш.
— Скоблин, полковник Трошин и капитан Григуль приезжали благодарить меня за участие в банкете корниловцев. В это время генерал Миллер был уже похищен.
— Не предлагал ли вам Скоблин съездить в его автомобиле в Брюссель на праздник корниловцев?
— Он предлагал поездку автомобилем два раза и раньше. А это было его третье предложение.
— Почему вы отказались?
— Я всегда, вернее, с 1927 года, подозревал его в большевизанстве.
— Вы опасались его или ее?
— Не доверял обоим.
Не меньшее оживление в зале вызвало появление Г.З. Беседовского — "старейшего невозвращенца", бывшего советника советского полпредства, сбежавшего в 1929 году прямо через забор посольства.
— Знали ли вы Плевицкую?
— В полпредстве о Плевицкой я ничего не знал. В полпредстве аппаратом ГПУ во Франции ведал чекист Янович, официально занимавший должность архивариуса. От него я случайно узнал, что деятельность белых организаций освещается изнутри. Главный осведомитель — близкий к Кутепову человек. Его фамилию Янович не назвал. Сказал только, что это генерал, женатый на певице. Тогда я не знал ни генералов, ни певиц.
— Куда девался Янович? — спросил мэтр Рибе.
— В 1937 году расстрелян Ежовым.
— Вы бежали, спасая жизнь свою, жены и детей. Когда вы ринулись к выходу, то на вас навели револьверы? — продолжал Рибэ.
— Ну, это в порядке вещей.
— Но ведь это происходило в Париже!
— Вы знаете, что полпредство пользуется правами экстерриториальности. На рю де Гренель имеются подземные ходы и глубокие погреба. Я их сам осматривал.
— Но не доходили до конца?
— О нет, что вы! — испугался Беседовский.
В зале опять раздался смех. Парижане от души потешались над "русскими тайнами".
Следом выступал адмирал Кедров, временно заступивший на место похищенного Миллера.
— Скоблин привел генерала Миллера на свидание, толкнул в ворота виллы на бульваре Монморанси, — заявил адмирал. Там генерала Миллера убили, уложили тело в ящик и увезли на советском пароходе в Россию.
Странно, что он даже не понимал бессмысленности подобного заявления.
НКВД во все времена активно практиковал насильственное устранение неугодных — вспомнить хотя бы убийство Игнатия Рейсса (Игнатия Станиславовича Порецкого), в 1937 году публично порвавшего со сталинским режимом и даже обратившегося к Сталину с "открытым письмом". Это письмо и стоило Рейссу жизни; в убийстве участвовали его давняя подруга Гертруда Шильдбах (причем клок ее волос был обнаружен зажатым в руке мертвого Рейсса) и Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой. И не его одного устранили таким путем: знаменитый "укол зонтиком" — тоже ведь советское изобретение, если вдруг кто-то этого не знает. И совершенно незачем организовывать похищение. Заманить и похитить взрослого человека — сложно. Убить, просто убить — гораздо проще. И уж подавно: зачем вывозить из страны труп? Зачем ради трупа прерывать разгрузку корабля?
Миллер нужен был на Лубянке живым.
И вывезен был именно живым.
И именно поэтому преступление Скоблиных выглядит особенно мерзким.
XIII
Эмиграция также обвиняла французское правительство в преступном попустительстве, и даже в том, что "полиция фактически парализовала расследование дела о похищении генерала Миллера, чтобы не испортить отношения с Советским Союзом".
Говорили, будто полицейский комиссар Шовино был уволен за рапорты, в которых он явно указывал на участие советских агентов в похищении генерала Миллера. Будто бы некий министерский начальник сказал комиссару Шовино: "Черт знает, какой рапорт вы мне написали! Так можно испортить наши отношения с советским полпредством. Министр вне себя от гнева".
Адвокат Рибе, нанятый РОВСом, требовал, чтобы в суд вызвали министра внутренних дел г-на Дормуа в качестве свидетеля!
— Я утверждаю, — говорил Рибе, — что 23 сентября 1937 года, когда газеты сообщили об исчезновении генерала Миллера, советский полпред Потемкин был приглашен к председателю совета министров. Глава правительства посоветовал Потемкину передать по радио на коротких волнах приказ "Марии Ульяновой" немедленно вернуться во Францию. Но некоторое время спустя министр внутренних дел Дормуа доложил главе правительства, что грузовик, на котором, как можно полагать, привезли Миллера, прибыл в Гавр слишком рано — в два часа дня, и, следовательно, этот след нельзя считать серьезным. Правительство отказалось поэтому от мысли вернуть советский пароход с помощью миноносца. И только к вечеру того дня выяснилось, что грузовик прибыл в Гавр не в два часа, а между гремя и четырьмя часами! Но тогда уже было поздно действовать. Почему это произошло? Из вполне достоверного источника мне известно: по выходе из кабинета главы правительства советский полпред Потемкин посетил своего друга Венсана Ориоля, министра юстиции. В результате этого визита Дормуа передал по телефону те сведения, о которых я говорил. Вот почему допрос господина Дормуа я считаю необходимым для выяснения дела! — победно заключил Рибе и язвительно добавил:
— В полиции работают люди сообразительные. Они понимают волю министра с полуслова. Иначе невозможно объяснить непростительные промахи, совершенные полицией при расследовании этого дела.
Начальник полиции г-н Монданель возмущенно опровергнул "домыслы" адвоката, напомнив, что совсем недавно в ходе расследования убийства Игнатия Рейсса была арестована секретарь советского торгпредства Лидия Грозовская, на самом деле являвшаяся агентом НКВД.
Но адвоката Рибе это не убедило.
Рибе вообще был зол, агрессивен и самоуверен. Он не скрывал своей ненависти к обвиняемой.
— С 1927 года супруги Скоблины стали советскими агентами, получая за предательство свои тридцать сребреников! Может, и больше. Плевицкая сознательно участвовала в шпионской деятельности Скоблина и даже руководила им. Вот, господа присяжные, моральный портрет этой женщины с глазами, временами полными слез, сознающей свою ужасную ответственность, но играющей комедию простодушной наивности и старающейся отвечать с непонимающим видом на все неприятные вопросы: "Я ничего не знаю, я ничего не понимаю!" — передразнил он Надежду Васильевну, а потом обратился к ней театрально и громко:
— Плевицкая! Сегодня уже нужно платить! Еще есть время сказать правду. Что вы сделали с генералом Миллером? Не видите ли вы его, как и генерала Кутепова, живым в ваших снах? Говорите!
Плевицкая молчала.
А что она могла сказать? Что адвокат Рибе ошибается? Что они работают на НКВД не десять лет, а чуть больше года? Что к похищению Кутепова никакого отношения они не имеют?
— Как тягостно это молчание! — величественно произнес адвокат и обратился к присяжным: — Так будем же уважать страдания русских эмигрантов, восхищаться их верой, их идеалами! И все это предала эта женщина! Над всем этим она надсмеялась! И если даже мы должны сдерживать наш гнев, то все равно мы можем выразить ей все наше презрение, ибо это предательство, платное предательство. Соучастница преступления, предавшая дружбу, в момент похищения и, возможно, убийства она занималась подбором новых нарядов для себя. Судите ее, господа присяжные, без ненависти, конечно, но и без пощады. Да совершится французское правосудие!
Другой адвокат, Стрельников, нанятый семьей Миллер, тоже попросил позволения обратиться к присяжным:
— Я хочу напомнить вам, что русская эмиграция во Франции представляет собой остатки союзной армии, нашедшие убежище на союзной территории. Я хотел бы, чтобы, когда вы останетесь в совещательной комнате, чтобы вынести ваш вердикт, вы не забыли, что вы должны дать понять вашим вердиктом исполнителям и вдохновителям этого преступления, что оно не останется безнаказанным, так как справедливость и равенство всегда существовали во Франции, и что подобные преступления не могут совершаться безнаказанно.
XIV
14 декабря наступил последний день процесса.
Почти четыре часа слушали последнюю речь М.М. Филоненко, снова пытавшегося доказать непричастность Плевицкой к похищению и снова ставившего под сомнение все улики, включая записку Миллера. На этот раз Филоненко совершил дерзкую — хотя и несколько запоздалую — попытку "переориентировать" обвинение и буквально напал на сидящего в зале Кусонского:
— Его показания противоречивы. Он лгал, это очевидно! А почему? Кусонский устранил Скоблина, а его жену посадил на скамью подсудимых! В воскресенье я посетил Плевицкую в тюрьме. Монахиня, от души полюбившая эту женщину, сказала, что все монахини и заключенные будут сегодня молиться об ее оправдании!
Плевицкая тихо плакала все время, пока он говорил, а когда председатель суда г-н Дельгорг предоставил ей последнее слово, она встала, тяжело опираясь на барьер, и, все еще задыхаясь от слез, сказала:
— Да, я сирота! Нет у меня свидетелей. Только Бог, Он знает. Я никогда в жизни моей не делала никому зла. Кроме любви к мужу, нет у меня ничего. Пусть меня за это судят.
В 14 часов 15 минут г-н Дельгорг поставил перед присяжными семь вопросов:
Был ли 22 сентября 1937 года на французской территории похищен и лишен свободы человек?
— Длилось ли лишение свободы больше одного месяца?
— Была ли госпожа Плевицкая сообщницей в этом преступлении?
— Было ли совершено 22 сентября 1937 года на французской территории насилие над генералом Миллером?
— Если было, то с обдуманным ли заранее намерением?
— Если было, то не с завлечением ли в западню?
— Была ли Плевицкая сообщницей преступников?
В 16 часов 30 минут присяжные удалились для совещания. Был объявлен перерыв. Плевицкой предложили уйти, отдохнуть в предназначенной для этого комнате, но она отказалась и настаивать почему-то не стали, и так она сидела за барьером, уронив голову на сложенные руки, впервые не посылала охранников за вином и круассанами, на вопросы не отвечала, только молча качала головой.
В 17.00 присяжные пригласили в совещательную комнату г-д Дельгорга, Флаша и защитников Плевицкой. Надежда Васильевна встрепенулась. Через десять минут защитники вернулись в зал суда — растерянные, опечаленные. Ни один из них не подошел к подзащитной. Плевицкая заметалась, несколько раз вскакивала и вновь садилась, потом уткнулась лицом в ладони — но не плакала, слишком волновалась, не было у нее слез.
В 17 часов 18 минут присяжные вернулись.
На все вопросы был дан ответ — "ДА". Большинством голосов — одиннадцать против одного. Были учтены смягчающие вину обстоятельства.
Плевицкая пошатнулась, побледнела еще сильнее, хотя казалось — дальше бледнеть уже некуда, она и так была как мертвая. А сейчас лицо как-то окаменело и сделалось вдруг жестоким и властным. Она с ненавистью оглядела присяжных, зал суда. И, словно лишившись сил, рухнула на скамью.
Прокурор Флаш попросил дать ему слово и выступил с возражением против смягчающих обстоятельств.
— Я требую, чтобы применили максимальную меру наказания. Приговор должен быть примерным. Пусть те, кто толкнул эту женщину на злодеяние в нашей стране, знают, что рука французского правосудия умеет карать беспощадно!
Защитники вновь просили проявить милосердие к убитой горем женщине — Плевицкая сидела на скамье, даже головы не подняла.
Присяжные и члены суда еще раз удалились в совещательную комнату, чтобы вернуться в 17.50 и объявить приговор: двадцать лет каторжных работ и запрещение проживать во Франции в течение последующих десяти лет.
Приговор был неслыханно суровый для французского суда тех времен. Действительно — примерный процесс и примерное наказание. Чтоб неповадно было иностранцам совершать преступления на гостеприимной французской земле!
Плевицкая, вставшая для того, чтобы выслушать слова судьи, молча запрокинула голову и застыла, глядя в потолок, словно взывая к невидимым небесам, к незримому Богу.
В эмигрантском журнале "Русские записки" писалось в декабре 1939 года:
"Судоговорение в процессе Плевицкой и закончивший его неожиданно суровый приговор выросли в большое событие в жизни русской эмиграции. Обывателю приходится на нем остановиться — не столько в связи с судьбой, постигшей подсудимую, и со степенью ее ответственности, сколько в связи с тем, что было названо "климатом" зала суда.
Впечатление присутствовавших на процессе — о личности подсудимой по временам как бы вовсе забывали. Находись на скамье подсудимых сам Скоблин, его жена могла бы сойти на роль свидетельницы — или, в худшем случае, соучастницы; самая возможность предания ее суду — а на суде возможность ее обвинения — подвергалась сомнению и была предметом оживленных споров.
Судили, в сущности, тех, кто стоял за Плевицкой, — и шансы осуждения довольно равномерно распределились между двумя противоположными направлениями. Выбор был поставлен резко обеими сторонами: советская власть или русская эмиграция?
Роль парижских агентов советской власти, особенно после буквального повторения трагедии с генералом Кутеповым, представлялась как бы априори — бесспорной не только для русской эмиграции в целом, у которой нет другого мнения.
Но в пользу этого предположения творили объективные факты, представшие в ярком освещении перед присяжными. Во-первых, бегство Скоблина в связи с запиской, оставленной генералом Миллером, подлинность которой так неудачно оспаривала противная сторона. Не менее трудно было оспаривать искусственность алиби, которое пыталась отстоять для своего мужа Плевицкая: тут на нее легла главная тень.
Плевицкая платила тут за тех, кто по том или иным причинам остался вне пределов досягаемости суда. И защита Плевицкой оказалась делом чрезвычайно трудным. Принуждены же были ведь и защитники признать допустимость гипотезы о советской причастности к делу, лишив себя тем самым возможности защищать сколько-нибудь ясно и убедительно противоположную позицию.
Но Плевицкая пострадала и за другое обстоятельство к удивлению, особенно подчеркнутое той же защитой. Она была "иностранка", на нее пала ответственность за преступление, совершенное при участии эмигранта во Франции, — и преступление не первое.
— Надо положить этому конец, — внушал присяжным прокурор.
Для него это было яснее, чем всякие другие гипотезы относительно виновников преступления. Надо показать пример!
Надо, к сожалению, признать, что и неудачная позиция, выбранная защитой, и самый состав вызванных свидетелей давали присяжным обильные иллюстрации этого тезиса. Достоинство эмиграции было поддержано частью этих свидетелей, но не всеми".
XV
Скоблина судили заочно — 26 июля 1939 года, в Сенском суде присяжных.
Публика собралась к 13.00, но из-за непредвиденных задержек ждать пришлось до 19.00. Пустующая скамья подсудимых неизбежно притягивала взоры всех присутствующих. Кого судили? Беглеца? Мертвеца? Даже председатель суда, г-н Лемле, появившись в зале, невольно бросил взгляд в сторону скамьи подсудимых. И поморщился, словно только сейчас вспомнив обстоятельства процесса. Секретарь суда торопливо зачитал выдержки из обвинительного акта и приговора по делу Плевицкой, председатель, быстро переглянувшись с судьями, огласил приговор, по которому генерал Скоблин признавался виновным в похищении генерала Миллера, ему присуждали пожизненную каторгу, и, помимо того, на него — совместно с его супругой — была возложена уплата судебных издержек по процессу.
По утверждению Бориса Прянишникова, судоговорение по делу Скоблина длилось две минуты семнадцать секунд.
Глава 15 ФИНАЛ ТРАГЕДИИ
I
Для пятидесятичетырехлетней Плевицкой двадцать лет тюрьмы означали пожизненное заключение.
О десятилетнем изгнании она могла уже не тревожиться.
Вот уж когда она билась в самой настоящей истерике! Теряла сознание. К ней вызывали врача. Придя в себя, она снова принималась кричать, биться. После бессонной ночи, проведенной в камере тюрьмы Петит Рокет, Надежда Васильевна вызвала к себе Филоненко. Она пыталась держаться спокойно и величественно — как, по её мнению, полагалось бы держаться невинноосужденной, — но в голосе ее слышались истерические нотки, а потом она вновь сорвалась на вопли и рыдания:
— Что же это, мэтр? Может быть, я ослышалась? Не поняла? И вправду десять лет каторги? Так ведь я ж погибла, голубчики! Меня зарезали, родные вы мои. Еще позавчера вы меня успокаивали. А раньше, до суда, уверяли, что против меня нет никаких улик и дело до суда не дойдет. А потом суд присяжных. И двадцать лет! Так это — смерть! Лучше бы меня казнили. Вы молчите? Нужно что-то делать! Подать на аппеляцию! Немедленно!
— Увы, на решение присяжных аппеляции не может быть. Их решение окончательное.
— Подадим на кассацию!
— Поводов к кассации, увы, нет.
— Так, значит, надо умирать? — Плевицкая уже почти кричала, в комнату для свидании заглянула одна на православных монахинь, наблюдавших заключенную, прижала палец к губам, призывая к тишине, а то свидание прервут, но Надежда Васильевна даже не заметила ее, продолжая кричать:
— Нет, не допущу, не могу этого допустить! Я жить хочу! Жить! Слышите? Я хочу жить, жить, жить! Надо писать в газетах, призвать общественное мнение, идти к министру, к президенту республики!
Голос ее сорвался, и она снова лишилась чувств.
Филоненко позвал надзирательниц.
Потом он вспоминал, как, когда он уже шел по коридору, под каменными сводами французской тюрьмы еще носилось эхо могучего голоса Плевицкой: "жить, жить, жить!"
II
Филоненко был уверен, что ничего не может сделать для своей подзащитной, но Надежда Васильевна, немного придя в себя, решила бороться.
Она совершила неожиданный и дерзкий поступок: написала известному адвокату, мэтру И.Л. Френкелю, с просьбой принять на себя ее защиту.
Френкель был озадачен — он-то думал, что с делом Плевицкой-Скоблина уже покончено. Но — почти против воли — заинтересовался. Дело проиграно, а обвиняемая все не сдается! И если бы ему удалось что-нибудь сделать для нее. Нет, это действительно было интересно и даже в некотором смысле перспективно, если правильно повернуть. Дело громкое, скандальное. Правда, Френкель был знаком со всей этой историей только по газетам, но когда-то ему довелось слышать "курского соловья", и она произвела на него большое впечатление! Плевицкая была очень интересной женщиной, и мэтру Френкелю показалось занятным защищать ее теперь, когда приговор уже был произнесен. К тому же ему понравилась ее дерзость. Или — наивность? В ее-то положении обращаться к такому знаменитому и дорогому адвокату! Дерзость или наивность, или, возможно, она действительно невиновна?..
Френкель обратился к Филоненко и Швабу — прежним защитникам Плевицкой, — и они дали согласие на его участие в уже законченном деле, и даже передали какие-то материалы.
На следующий же день мэтр Френкель поехал к своей новой подзащитной.
Надежда Васильевна вышла к нему в сопровождении все той же старушки-монашенки, взявшейся опекать ее. Она заметно осунулась, глаза лихорадочно горели, но Френкель заметил, что Плевицкая очень тщательно причесалась и сделала макияж: легкий, почти незаметный — немного румян на скулы и подбородок, пудра, губная помада — для того, чтобы придать свежести увядшему без света лицу.
— Голубчик мой, а я уже думала, что вы не придете, — с несколько натужным кокетством произнесла Надежда Васильевна, улыбаясь и подавая адвокату руку для поцелуя так, словно она не была заключенной, просительницей:
— Никто меня не хочет больше знать. Столько друзей было. И вдруг — никого! Одна, одна, словно в могиле.
— Надежда Васильевна, только вчера получил ваше письмо и вот, видите, тотчас же пришел вас повидать, — галантно, почти игриво, в тон ей ответил Френкель, склоняясь к ее руке.
— Спасибо, добрая душа, что не оставили меня. Люди меня загубили, оклеветали, замарали. А я, вот вам крест святой, никому никакого лиха не делала. Всю жизнь людей песнями тешила. Но вы меня спасете, родненький, я это чувствую. Сам Господь послал вас ко мне, чтобы меня из ада вызволить.
— Сделаю все, что только возможно. Ваше дело знаю только по газетам. Суд состоялся, приговор вынесен. Остается только просить о помиловании. Есть еще один способ — пересмотр процесса. Но это возможно только по личному распоряжению министра юстиции. Кроме того, для пересмотра нужны новые факты, ранее суду неизвестные. Иначе говоря, нужны сенсационные разоблачения.
Плевицкая молчала, кусала губы, глядя на кончики своих туфель.
— Используем все, что только можно, — вздохнул Френкель. — Начнем с кассации. Повод хоть и слабый, но имеется: один из присяжных не назвал своей профессии.
— Миленький мой! — вскинулась Плевицкая. — Делайте все, что хотите! Только спасите меня. Я еще жить хочу!
И, грациозно опустившись на колени, она схватила руку Френкеля и прижала к своей щеке. Мэтр Френкель был настолько смущен ее последней выходкой, что поспешил распрощаться.
Впрочем, несмотря на возраст, худобу и поблекшее лицо. Надежда Васильевна явно произвела впечатление на мэтра Френкеля: он посещал ее даже чаще, чем нужно было для дела, разговаривал подолгу, а потом и подарки начал приносить. Сначала съедобное: фрукты, конфеты, пирожные, паштеты, сыры, пряное мясо, и все это — в изящных упаковках, из самых дорогих магазинов! Давал взятку охране, чтобы они позволили ему передать Надежде Васильевне запрещенные сигареты. А позже к гостинцам добавились пудра, губная помада, всякие мелочи, милые женскому сердцу, без которых жизнь Плевицкой в тюрьме была бы вовсе беспросветной. Он тратил на нее чуть ли не столько же, сколько мог бы получить, если бы дело было выиграно. Кое-кто считал, что мэтр Френкель влюбился в русскую певицу. Она действительно многих пленяла — своей восторженностью, эмоциональностью, видимой наивностью. И даже сейчас, в тюрьме, лишенная привычной ей роскоши, блеска, ореола славы, измученная долгим заключением, покинутая мужем, отвергнутая всеми, с клеймом предательницы — даже сейчас она продолжала кокетничать, обольщать и умудрялась не выглядеть при этом жалкой, как выглядела бы на ее месте любая другая женщина. Впрочем, на то Плевицкая и была актрисой! У нее был свой, особый подход к мужчинам. Она никогда не была красива — соблазнительна была, но не красива, но она умела очаровывать, как и многие некрасивые и умные женщины: красивым слишком легко дается внимание мужчин — зато некрасивые пристальнее изучают пути, ведущие к сердцу мужчины. То, что для красивых — данность, для некрасивых — сложная наука. Можно утратить красоту и природное очарование, но природный ум и умение прельщать остаются. Надежда Васильевна смотрела на Френкеля так доверчиво. Так восхищалась им. Как когда-то восхищалась и доверчиво смотрела на генерала Миллера во время их долгих чаепитий в саду.
III
Через шесть месяцев кассационная палата отклонила просьбу Плевицкой.
Френкель вынужден был лично сообщить Надежде Васильевне о своей неудаче. Он боялся, что эта весть просто убьет неуравновешенную, эмоциональную женщину, но Плевицкая выслушала его относительно спокойно. И заявила, что будет бороться дальше. Френкель решился начать дело о пересмотре и привлек к защите еще одного знаменитого адвоката — Луи Саффана, председателя Союза французских адвокатов и генерального секретаря Всемирного союза правозащитников. Теперь он мог надеяться только на силу своего авторитета, но в этом ему требовалась серьезная поддержка. Чем могло привлечь это дело Саффана — непонятно. Возможно, он взялся защищать Плевицкую из уважения к мэтру Френкелю.
Когда Саффан с яркой ленточкой ордена Почетного легиона в петлице появился перед Плевицкой, она обрадовалась несказанно, даже руками всплеснула и заговорила нараспев:
— Дорогие мои, большие французы, Богом клянусь, я невиновна! Меня оклеветали русские, друзья немцев. Им досадно было, что я немцев ненавижу и думаю только о благе Франции и моей дорогой России. Они продали свои души немцам. А моя душа чиста, такая, как ее Господь Бог сотворил. Я люблю мою родину Россию и вторую родину — Францию. Зверей-немцев терпеть не могу, чего они ни мне, ни мужу простить не могут. Но вы, добрые французы, меня спасете, не дадите погибнуть. Слезно вас прошу.
Перед Саффаном она тоже упала на колени и припала губами к его руке.
Мэтр Френкель смущенно отвернулся. При всей своей симпатии к Плевицкон этого он понять не мог!
IV
Саффан и Френкель были на приеме у министра юстиции Маршандо, представили ему меморандум, но министр ответил, что рассчитывать можно лить на смягчение кары. Адвокаты оставили у него просьбу о помиловании, хотя понимали, что, при гаком отношении к делу самого Маршандо, о помиловании речи идти не может, да и на пересмотр дела надеяться особенно не приходится. И действительно — через две недели комиссия единодушно отклонила просьбу о пересмотре дела.
Френкелю снова пришлось нести Плевицкой весть о неудаче, но теперь уже — об окончательной неудаче, постигшей их обоих: больше надежд не оставалось, певицу ждала каторжная тюрьма.
Услышав об этом, Надежда Васильевна впала в черное, беспросветное отчаяние. Снова начались истерики, ни одного свидания не проходило без криков и слез, и даже ночью её мучали кошмары, она страшно кричала, будила людей и в соседних камерах, а днем она ходила ко всему безразличная, с помутившимся взором, непричесанная, в мятых платьях, начала сутулиться. Она совершенно перестала следить за собой, больше не пудрилась и не красила губы. Мэтр Френкель, продолжавший навещать ее, с болью и ужасом наблюдал, как Плевицкая стареет, опускается, разрушается на глазах. Он продолжал привозить ей изысканные маленькие подарки. Но теперь Плевицкая не скрывала своего равнодушия.
Она стала больше вспоминать о муже, говорила о нем со всеми, кто готов был ее выслушать и кто хоть немного понимал по-русски. Надежда Васильевна уверовала вдруг в то, что Скоблин жив и делает все возможное для ее спасения. Снова и снова вспоминала ту их последнюю ночь в отеле "Пакс":
— Он был так нежен со мной, — говорила она мэтру Френкелю, полузакрыв глаза, со странной, почти безумной улыбкой на губах. — Он был так ласков, словно предчувствовал, что мы в последний раз вместе. Вдруг этот резкий стук в дверь. И все пропало.
Плевицкая больше не кокетничала с адвокатом. Правда, один раз попросила, чтобы мэтр Френкель еще немного похлопотал за нее, использовал бы свои связи и авторитет: ей не хотелось ехать в каторжную тюрьму, она хотела, чтобы ее оставили в Птит Рокетт, где она уже привыкла, прижилась, где рядом с ней были заботливые православные монахини. Каторжной тюрьмы с суровыми порядками она боялась. Говорила:
— Отберут у меня мои платья. Остригут, переоденут в арестантскую одёжу, дадут толстые грубые чулки, деревянные сабо. О, это меня убьет!
Мэтр Френкель рад был бы исполнить хотя бы эту ее просьбу, но остаться в тюрьме Птит Рокетт арестантке, осужденной на двадцать лет каторги, было заведомо невозможно.
Очередной отказ Надежда Васильевна восприняла на удивление спокойно. И весной 1939 года спокойно отбыла в Ренн — к месту предстоящего заключения.
Она перегорела. Сил бороться у нее уже не было. Она смирилась. Нет, не смирилась: она просто сломалась. Поняла, что погибла. Все кончилось — песни, успех, слава, богатство, любовь. Нет больше Коленьки. Все друзья отвернулись. Надежда на возвращение в Россию канула в вечность — вместе с надеждой на освобождение. Впереди — годы, годы, годы заключения. И — смерть.
Владимир Набоков: "Мелькают последние кадры — Славская в тюрьме. Смиренно вяжет в углу. Пишет, обливаясь слезами, письма к госпоже Федченко, в них говорится, что теперь они — сестры, потому что мужья обеих схвачены большевиками. Просит разрешить ей губную помаду. Рыдает и молится в объятиях юной русской монашенки, которая пришла поведать о бывшем ей видении, открывшем невиновность генерала Голубкова. Причитает, требуя вернуть Новый Завет, который полиция держит у себя, — держит главным образом подалее от экспертов, так славно начавших расшифровывать кое-какие заметки, нацарапанные на полях Евангелия от Иоанна".
Через француженку, отбывшую срок наказания, она передала последний привет мэтру Френкелю — небольшую записку со словами благодарности.
"Она очень печальна и одинока, — рассказывала бывшая заключенная. — Целыми днями молится и подпевает церковному хору. Если бы знала по-французски, то взяли бы ее в певчие. А так ей приходится работать. Она нам рассказывала, будто была настоящей певицей и пела русскому царю. Но никто ей не верит, хотя ее все очень любят".
V
Пока Плевицкая медленно угасала в стенах каторжной тюрьмы, а вне этих стен происходили события мирового масштаба.
Началась Вторая мировая война.
РОВС переживал краткий период процветания, ибо "…бытовая обстановка военного времени, продовольственные, квартирные, трудовые и служебные ограничения и ряд других обстоятельств, связанных с войной, вызвали необходимость для значительной части русских эмигрантов во Франции получения различных справок: об участии в войне 1914–1918 годов, о наличии офицерского чина, о наградах, прохождении военной службы в старой армии и т. д. Французское правительство в официозном порядке считалось с этими справками и признавало их юридическую силу. В канцелярию РОВСа бросились тысячи эмигрантов, никогда не состоявших в РОВСе. Захиревшая канцелярия ожила. В ее прихожей, комнатах и на лестнице ежедневно толпились сотни людей. Защелкали пишущие машинки, штат канцелярии временно был увеличен в несколько раз. За каждую выдаваемую письменную справку канцелярия взимала 20 франков. Дела ее пошли недурно" (Б.Н. Александровский).
Но летом 1940 года немцы оккупировали всю Северную Францию и торжественным маршем прошли под Триумфальной аркой в Париже.
И на рю Колизе воцарились запустение и тревожная тишина…
Лозунг РОВСа, сохранявшийся еще с деникинских времен: "Великая, единая, неделимая Россия" — не мог понравиться оккупационным властям, которые признавали только одну "великую и неделимую": Германию.
Правда, первые два месяца РОВС еще как-то существовал.
Пока 22 июня 1941 года немецкие войска не перешли границу Союза Советских Социалистических Республик…
Именно в этот же день — 22 июня 1941 года — но всей территории русского эмигрантского рассеяния гестапо была проведена массовая карательная акция, в ходе которой оказались арестованы те русские, которые показались немцам хоть сколько-нибудь подозрительными, то есть возможными тайными агентами советской разведки. Сотни русских эмигрантов были арестованы и казнены или отправлены в концентрационные лагеря. Тысячи напуганных ринулись на юг Франции, на территорию, официально контролировавшуюся "правительством Виши", хотя и там немцы были полноправными хозяевами. Тогда же, летом 1941 года, большинство русских эмигрантских организаций были запрещены, а место многочисленных газет и журналов, выходивших на русском языке, занял профашистский "Парижский вестник".
РОВС прекратил свое существование.
VI
Генерал Кусонский быстро забыл свое заявление "о недопустимости дальнейшего занятия мною каких-либо должностей в РОВСе". На место исчезнувшего Миллера пришел генерал Архангельский, а Кусонский, "потрясенный трагедией", спешно переехал из Парижа в Брюссель. Где стал начальником канцелярии РОВСа… До лета 1940 года, до вступления немцев в Брюссель и Париж… Брюссельская канцелярия РОВСа закрылась сразу же — "временно прекратила деятельность". Кусонскому оставался еще год жизни…
22 июня 1941 года в ходе вышеозначенной акции гестапо в Брюсселе было арестовано 33 человека. Большинство бывшие офицеры. Одним из них был генерал Кусонский.
Сначала их допрашивали в здании гестапо на Рон Пуан до л’Авеню Луиз, после, ничего толком не добившись, посадили в крытые грузовики и отправили тех, кто уже не мог двигаться после допросов, в концентрационный лагерь, а тех, кто еще держался на ногах, — в замок Брендонь, где теперь располагалась каторжная тюрьма. Кусонский оказался среди тех, кто на ногах держался, а потому ближайшие два месяца ему пришлось вместе с другими узниками с утра до ночи грудиться на земляных работах. Ему было уже шестьдесят лет, к физическому груду он был непривычен, но "лентяев" отправляли в концлагерь, поэтому он из последних сил орудовал лопатой… К счастью, у него в тюрьме появился друг: молодой офицер Колоколов, сочувствовавший знаменитому в эмигрантских кругах генералу и помогавший ему в отсутствие надзирателей справляться с дневной нормой. Но — уже к несчастью — именно известность Кусонского, его благородное происхождение, изысканные манеры и речь, не изменявшие ему даже в тюрьме, вызывали бешеную ненависть немцев из охраны. Пожилой, ослабевший от непосильного труда аристократ подвергался ежедневным избиениям… Особенно усердствовал некий лейтенант Штраус, бивший Кусонского по лицу всякий раз, когда оказывался рядом: его забавляло возмущенное, оскорбленное выражение, невольно появлявшееся на лице узника после удара, и то, что Кусонский все равно пытался не терять чувства собственного достоинства… Даже тогда, когда это было уже вовсе невозможно. Именно этот лейтенант Штраус 26 августа 1941 года, при очередной "встрече" с Кусонским, направлявшимся вместе с другими узниками к месту работ, неожиданно впал в такую ярость, что сбил генерала с ног и на глазах у сотен потрясенных людей буквально затоптал его сапогами.
За всем творящимся кошмаром история с похищением генерала Миллера и сама преступная Надежда Плевицкая были забыты — на много-много лет вперед…
VII
По многочисленным свидетельствам других арестанток, в тюрьме Плевицкая была тиха и покорна. Безропотно исполняла все, что от нее требовали. Никогда ни на что не жаловалась. Все время тихо напевала что-то. В хор ей действительно очень хотелось поступить — ей это напомнило бы юность, монастырский хор, в котором она пела, ради которого чуть клобук черный не надела, — но даже этой последней радости она была лишена.
"Далеко меня занесла лукавая жизнь.
А как оглянусь в золотистый дым лет прошедших, так и вижу себя скорой на ногу Дёжкой в узеньком затрапезном платьишке, что по румяной зорьке гоняется в коноплях за пострелятами-воробьями.
Вижу, как носится Дёжка-игрунья в горячем волнении карагодов, — от солнца, от пляски льют вишневый блеск шелка полушалок, паневы да кички кипят огненной пеной.
И вижу, как плавно ступает по монастырскому двору, что красным кирпичом в елочку вымощен, тоненькая, словно березка, тихая монастырка Надежда, и строгий плат до бровей.
С обрыва видна дальняя даль: синеют леса святорусские, дым деревень, пески, проселки-дороги, хлеба. Вот облака-паруса осветило кротким румянцем — зоря, моя зорюшка, нежная, алая, свет тишайший над Русью.
Поднять бы к ней руки, запеть, позвать бы дальнюю даль.
Недруг поплыл гул, бархатистый, дрожащий, отдался в ушах щекоткой и звоном: Чудо-Колокол к Ранней ударил. Аминь".
Аминь.
Надежда Плевицкая умерла 5 октября 1940 года — после двух лет заключения, через четыре месяца после захвата немцами Франции.
О ее смерти разное говорят.
Борис Прянишников утверждает, что Плевицкая предчувствовала свою смерть и якобы повинилась во всем содеянном духовнику и комиссару Белену: Прянишников досконально изучил дело Плевицкой, говорил со многими свидетелями, и вряд ли он стал бы что-либо утверждать, не опираясь при этом на факты. Другое дело — насколько эти факты были проверенными, насколько они действительно были фактами, а не досужим вымыслом все тех же свидетелей. Прянишников представляет происходившее так:
"Был ясный майский день. Полицейский комиссар Белен, сидя в своем кабинете в здании Сюртэ Насиональ, занимался текущими делами. В дверь постучали.
— Войдите.
— Я — духовник мадам Плевицкой, — сказал вошедший русский священник.
— Несколько раз в год я навещаю ее в тюрьме и стараюсь облегчить ее душевные страдания. Она очень больна. Конец ее близок. Она знает об этом. Прежде чем предстать перед Богом, она очень просит вас повидать ее. Вы — единственный полицейский, кому она доверяет. Прошу вас побывать у нее, и пусть она спокойно закончит свои земные дни. Очень прошу вас сделать это поскорее.
На следующее утро Белен, инспектор Баску и переводчик сели в поезд и выехали в Ренн. Это было в судьбоносный день 10 мая 1940 года, когда армии Гитлера начали свой неудержимый победный марш по полям Голландии, Бельгии и Франции.
Выйдя на вокзале в Ренн, Белен и его спутники вошли в расположенное вблизи громадное серое здание каторжной тюрьмы. Директор тюрьмы разрешил Белену свидание с Плевицкой.
Исхудавшая, постаревшая на двадцать лет, вся в морщинах, Плевицкая несколько часов подряд рассказывала о своей жизни, начиная с детства и кончая днем похищения Миллера.
— Я люблю генерала Скоблина. Он моя самая большая любовь. Жизнь мою отдала бы за него. Три года не вижу его, умираю от тоски по нему. Его нет, нет, нет, ничего не знаю о нём, и это убивает меня. Я скоро умру. Не знаю, где он находится, как, поклявшись, сказала вашим судьям. Но вам одному, миленький мой, хочу открыться, чтобы вы знали, что я утаивала от суда до сих пор.
Мой дорогой муж, генерал Скоблин, был очень честолюбив. Вы знаете, был он властным человеком. Его власть на себе знаю.
Чуть что, спрашивала о его делах, так он сразу начинал орать на меня. И я была ему покорна, никогда не перечила.
Верьте мне, крест святой, верно служил он генералу Кутепову. Несколько лет верен он был и генералу Миллеру. А потом, как пришел Гитлер к власти в 1933 году, так с Колей приключились перемены. Стал он тогда насмехаться над Миллером и захотел занять его место, возглавив РОВС. А врагом Миллера стал он в 1936 году. Тогда правительство Народного фронта захотело подружиться с СССР. Наперекор Миллеру Коля мой ратовал за союз белых русских с немецкими вождями, он-то надеялся, что силой восстановят царский строй в России. Тогда же он рассказывал о встречах и разговорах с советскими деятелями. И идеям СССР стал сочувствовать. Ну тут я и поняла, что Коля изменил генералу Миллеру. А Коля жил на деньги от моих концертов. Я купила ему автомобиль и дом в Озуар-ля-Феррьер. Когда исчез генерал Миллер, в тот страшный день 22 сентября 1937 года, были мы вместе в Париже. Чудилось мне, что муж мой в опасности. Не спалось ему сперва, едва забылся к 11 часам. А потом, вздрогнув, словно душил его кошмар, весь в поту, он пробудился. Я нежно обняла его, приласкала. Он плакал, говоря: "Прости меня, Надюша, я несчастный человек. Я — предатель". И стал мне рассказывать: "Я обманул Миллера, сказав, что везу его на политическое свидание. Я отвез его в Сен-Клу, в указанный мне дом, а там он попал в руки врагов. Миллер спокойно сидел в моей машине. Мы въехали в Сен-Клу, вошли в указанную мне виллу. Нас приняли трое мужчин, хорошо говоривших по-русски и по-немецки. Генерала Миллера провели в соседнюю комнату а я остался в передней. Прошло минут десять, мне предложили уйти. Я спросил: "Могу я повидать генерала Миллера?" Меня ввели в небольшой салон. Миллер лежал на диване. Он не шевелился. "Что вы с ним сделали?" — спросил я. "Он спит, ваше превосходительство, мы сделали ему укол", — ответил по-французски один из этой тройки".
— Я рассказала вам всю правду. И больше я ничего не знаю, — закончила Плевицкая свое длинное, обильно политое слезами повествование.
Белен хотел верить ей, ведь они перила в Бога! Но сомнения не покидали Белена. Он хотел проверить "исповедь" Плевицкой. Но стремительное наступление немецких армий, нежданный обвал Франции и ее капитуляция не позволили Белену обследовать таинственную виллу в Сен-Клу, где трагически оборвалась жизнь генерала Миллера".
VIII
Сейчас уже доступна информация о том, что генерал Миллер был привезен на Лубянку, многократно допрашиваем, был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и расстрелян во внутренней тюрьме НКВД 11 мая 1939 года.
Генерал Скоблин добрался до Мадрида, где погиб во время бомбардировки.
IX
Никому точно не известно и то, как и от чего умерла Надежда Васильевна Плевицкая.
Точнее, кому-то, конечно, известно, но не нам, потому чти сюда в девяностые из тех страшных, воистину роковых сороковых годов дошло очень немногое. Или — слишком многое.
Три разных версии смерти русской певицы Надежды Плевицкой. Только одна из этих версий — правдивая. Две — вымысел: подобный тому, что сопровождает жизнь и особенно смерть всех знаменитых людей.
Версия первая — официальная: Плевицкая тихо умерла в тюрьме. От тоски, незаметно точившей ее все время после отъезда из России, но особенно навалившейся после суда, после страшных обвинений, после предательства любимого. Певчие птицы редко приживаются в клетке. Чтобы пойманный соловей выжил, нужны особый уход и забота. А какой уж уход и забота во французской каторжной тюрьме, где и по-русски-то никто не говорил! Вот и зачахла русская соловушка. Не вынесла неволи и безнадежности.
Памятник Надежде Плевицкой в с. Винниково. Скульптор В.М. Клыков
Версия вторая — детективная: Плевицкая была отравлена по приказу НКВД. Потому что действительно была тайным агентом. Потому что много, а главное — многих, знала. Захватившие Францию фашисты не могли в конце концов не заинтересоваться делом "советской разведчицы". Как разведчицей, Плевицкой мог заняться абвер; а как "коммунисткой" — даже гестапо. А допросов, проведенных со свойственной немцам изощренностью, она бы просто не выдержала — и без того уже раздавленная скандальным процессом и предательством "товарищей", измученная тюремным заключением.
О том, чтобы устроить ей побег, речи, разумеется, не шло: разоблаченная и развенчанная в кругах русской эмиграции, Плевицкая уже не представляла никакой ценности для НКВД, тем более что главную свою функцию они со Скоблиным успешно исполнили, — хлопотать о свободе для нее теперь не имело смысла. Да "товарищи" и не пытались ей никогда помочь. Но оставить ее в живых тоже не могли. Это было бы неразумно и опасно. Плевицкая была тем "следом", по которому немцы могли бы выйти на других советских агентов. "Товарищи" предпочитали не оставлять следов. И Плевицкой поднесли яд.
В пользу этой версии говорят два факта.
Во-первых, смерть Плевицкой была достаточно неожиданной: по словам надзирателей, "она плохо чувствовала себя последние месяцы", но не настолько плохо, чтобы быть помещенной в тюремную больницу, и скончалась в своей камере. Можно, конечно, говорить о невнимании тюремного начальства, но Надежда Плевицкая все-таки была знаменитостью, хоть и иностранкой, ее процесс привлек к себе всеобщее внимание, и о ее смерти в женской каторжной тюрьме писали многие французские газеты. Вряд ли тюремные власти позволили бы себе такую халатность и проигнорировали бы её жалобы, ежели бы таковые были. Наверняка ее бы поместили в больницу. Таков был порядок. А в большинстве дошедших до нас отчетов говорится о том, что Плевицкая умерла не в тюремной больнице, а в своей камере — причем именно скоропостижно и неожиданно для всех. Заснула и не проснулась. Так умирают от старости, но ей было пятьдесят шесть лет, и она была физически очень здоровой женщиной.
И второй факт, приводимый в воспоминаниях о ней и тоже говорящий в пользу версии с отравлением: через две недели после кончины немцы эксгумировали тело Плевицкой, провели вскрытие, сделали какие-то анализы и захоронили ее уже в другом месте. Правда, результаты этих анализов неизвестны. Если вообще была эксгумация и было вскрытие.
Потому что есть еще и третья версия смерти Плевицкой.
Трагическая.
Более трагическая, чем все, что случилось с ней в жизни.
"В 1940 году немцы вошли во Францию, захватили каторжную тюрьму, в которой содержали Надежду Васильевну. В яркий солнечный день ее вывели во двор, привязали к двум танкам и разорвали. Служить советской госбезопасности всегда было небезопасно".
Так писал в своей книге "КАК ЭТО БЫЛО" Гелий Рябов, известный писатель-детективщик и кинодраматург, глубоко сведущий во всем, что связано с историей становления советской милиции и КГБ, а также с историей революции, эмиграции, советской разведки. До сих пор популярны сериалы "Рожденная революцией" и "Государственная граница" и недавний, страшный в своей правдивости фильм "Конь белый", о Колчаке и об Анне Тимиревой, — это все Гелий Рябов.
И это именно он (если вдруг кто-то не знает, хотя я сомневаюсь, что хоть кто-то может этого не знать!) спустя шестьдесят лет после убийства в подвале Ипатьевского дома отыскал останки последнего Государя Российского и Его Семьи. Сделал то, что не смог когда-то сделать Николай Алексеевич Соколов.
Я не нашла никаких подтверждений — ровно как и опровержений — его версии гибели Надежды Плевицкой. Но если Рябов выдвинул эту версию, значит, у него были достаточные на то основания. И какие-то иные источники, недоступные мне. Сомневаться в его словах не приходится вовсе.
Остается только надеяться.
Надеяться на то, что на самом деле это было не так. Потому что так — слишком страшно. Слишком жестоко. Она не заслужила такой смерти. Никто не заслужил такой смерти.
Но в любом случае в общем-то не столь уж важно, как именно умерла Надежда Плевицкая.
Важно то, что смерть была для нее не ужасом неизбежным, каким обычно является смерть для людей, а долгожданным избавлением от страданий и позора.
И вечно юная, страстная, несчастная, мятущаяся Дежкина душа покинула измученное тело и отлетела прочь, на крыльях песни, в дальнюю даль — к облакам стыдливо-румяным, к дивным цветам Мороскина леса, к монастырскому Чудо-Колоколу, звонящему к Ранней.
Аминь.
ПЛЕВИЦКАЯ (ВИННИКОВА) НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, НАРОДНАЯ ПЕВИЦА
Основные даты жизни
Родилась в селе Винниково Курской губернии 17 сентября 1884 года.
1897 год — окончила трехгодичную сельскую школу.
1898 год — поступила послушницей в Девичий монастырь в Курске.
1900 год — сбежала из монастыря и поступила в балаган.
С 1900 по 1901 год — прислуга в семье Гладковых.
С 1901 по 1909 год — поет в труппах Липкина, Штейна и Манкевича.
1904 год — бракосочетание с Эдмундом Плевицким.
С 1909 года — сольные концерты.
1914 год — развод с Эдмундом Плевицким, помолвка с Василием Шангиным.
1915 год — гибель Василия Шангина.
1918 год — бракосочетание с Юрием Левицким.
1920 год — развод с Юрием Левицким.
1921 год — бракосочетание с Николаем Скоблиным.
С 1922 года — заграничные турне Плевицкой, возрождение ее популярности.
1927 год — книга воспоминаний "Дежкин карагод".
1929 год — вторая книга воспоминаний "Мой путь с песней".
22 сентября 1937 года — исчезновение генерала Е.К. Миллера.
23 сентября 1937 года — исчезновение Николая Скоблина.
24 сентября 1937 года — арест Надежды Плевицкой.
14 декабря 1937 года — французский суд признает Надежду Плевицкую виновной и выносит приговор.
Умерла 5 октября 1940 года во Франции, в каторжной тюрьме в Ренне.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Александровский Б.Н. Из пережитого в чужих краях. М., 1969.
Арцыбашев М.Л. Записки писателя (в сборнике "Литература Русского Зарубежья", том II). М., 1991.
Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991.
Кугель А. Театральные портреты. Петроград, 1923.
Мейснер Д. Миражи и действительность. М., 1966.
Мельник (урожденная Боткина) Т.Е. Воспоминания о Царской Семье и ее жизни до и после революции. М., 1993.
Млечин Л. Алиби для великой певицы (в сборнике "Супершпионки двадцатого века"). М., 1997.
Мосолов АЛ. При дворе последнего Российского Императора. М., 1993.
Набоков Владимир. "Помощник режиссера" (в переводе С. Ильинского) Киносценарии № 2 за 1994 год.
Нестьев И.В. "Звезды русской эстрады: Панина, Вяльцева, Плевицкая". М., 1970.
Плевицкая Н.В. Дежкин карагод. Мой путь с песней. М., 1993.
Прянишников Б. Незримая паутина. Нью-Йорк, 1968.
Рябов Г. КАК ЭТО БЫЛО. Романовы: сокрытие тел, поиск, последствия. М., 1998.
Чарская Л.А. Записки институтки. М., 1993.
Чарская Л.А. Лесовичка (в сборнике "Волшебная сказка"). М., 1994.
Шмелев И.С. Лето Господне. М., 1991.
Энгель Ю.Д. Глазами современника. М., 1970.
Научно-популярное издание
Человек-загадка
Прокофьева Елена Владимировна
ПЛЕВИЦКАЯ
Между искусством и разведкой
Редактор М.К. Залесская
Корректор Л.Г. Сафарян
Верстка И.В. Резникова
Художественное оформление ЕЛ. Забелина
ООО "Издательство "Вече"
Адрес фактического местонахождения:
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1. Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.
Почтовый адрес:
129337, г. Москва, а/я 63.
Юридический адрес:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.
E-mail: veche@veche.ru http: //
Подписано в печать 20.05.2014. Формат 84*108 '/32. Гарнитура "PeterburgC". Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 7. Тираж 10 000 экз. Заказ № 8847.
ООО "Имидж Принт"
300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129.
Отпечатано в ООО "Тульская типография".
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.






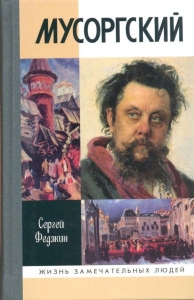

Комментарии к книге «Плевицкая. Между искусством и разведкой», Елена Владимировна Прокофьева
Всего 0 комментариев