Домбровская-Кожухова Екатерина "ВОЗДЫХАНИЕ ОКОВАННЫХ. РУССКАЯ САГА"
Размышления у кануна. Вместо предисловия
«О чесом бо помолимся, якоже подобает, не веемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными»
Рим. 8:26
Эта книга родилась из подстрочника эпитафий к поименным записям в семейной церковной поминальной книжке — помяннике. Название книги «Воздыхание окованных» — было взято из Псалтири, где это словосочетание встречается в 78, 101 и ряде других псалмов. По святоотеческим толкованиям эти псалмы есть слезные воздыхания согрешившего и отступившего от Бога народа, попавшего во вражеский плен и испытывающего едва ли не самые тяжкие муки, лицезрея поругание своего Отечества, — святого дара Небесного Отца и его святынь, и узнавания везде и во всем следов своей собственной в том повинности. И «Господь с небесе на землю призре. Услышати воздыхание окованных, разрешити сыны умерщвленных».
Окованными можно назвать вообще всех людей, все человечество: и давно ушедших из этого мира, и нас, еще томящихся здесь под гнетом нашей греховной наследственности, переданной нам от падших и изгнанных из «Рая сладости» прародителей Адама и Евы, от всей череды последовавших за ними поколений, наследственности нами самими, увы, преумноженной. Отсюда и воздыхания, — слово, в устах святого апостола Павла являющееся синонимом молитвы: «О чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными».
Воздыхания окованных — это и молитва замещения: поминовение не только имен усопших, но и молитва от имени тех, кто давно уже не может сам за себя помолиться, с упованием на помощь препоручивших это нам, еще живущим здесь.
Однако чтобы из глубин сердца молиться о ком-то, в том числе и о дальних, и тем более от лица живших задолго до тебя, нужно хранить хотя бы крупицы живой памяти о них, какое-то подлинное тепло, живое чувство, осязание тех людей, научиться знать их духовно, сочувствуя чаяниям и скорбям давно отшедшей жизни, насколько это вообще возможно для человека — постигать тайну личности и дух жизни другого. А главное — научиться сострадать грешнику, такому же грешнику, как и мы сами, поскольку это сострадание — есть одно из главных критериев подлинного христианства.
Но «невозможное человекам возможно Богу»: всякий человек оставляет какой-то свой след в жизни, и Милосердный Господь, даруя некоторым потомкам особенно острую сердечную проницательность, способность духовно погружаться в стихию былого, сближаться с прошлым и созерцать в духе сокровенное других сердец, заботится о том, чтобы эта живая нить памяти не исчезала бесследно. Вот почему хранение памяти — не самоцель, но прежде всего средство единение поколений в любви, сострадании и взаимопомощи, благодаря чему могут — и должны! — преодолеваться и «река времен», уносящая «все дела людей», и даже преграды смерти, подготавливая наши души к инобытию в Блаженной Вечности вместе с теми, кто был до нас и кто соберется во время оно в Церкви Торжествующей.
* * *
Таким хранителем семейной памяти многих поколений нашей семьи и особым избранником Божиим была моя бабушка — Екатерина Александровна Домбровская, урожденная Микулина. Ей выпала доля прожить жизнь в катастрофические времена русской истории (1886–1965), и потому тот факт, что это Божие задание она выполнила и память сердца, и память вещественную пронесла через эти горькие и искусительные годы, и успела передать ее из уст в уста, — есть один из главных, но не единственный ее жизненный подвиг. Бабушкиными глазами довелось и мне вглядываться в былое, сближаясь с теми, кто был за сто, двести, а то и более лет до меня; в ней самой переживать, проживать и постигать прошлое как свою собственную жизнь. Между нами был особенный тайный канал связи. Я любила бабушку, она любила меня, но не только меня, но и своих усопших, а в них — их любовью — она любила бывших и еще раньше — задолго до нее… По глубинному току, проходившему сквозь наши сердца струились не гераклитовы воды времен, в которые нельзя войти дважды, но живые воды любви, которая не умирает.
То, что по милости Божией, мне были подарены двадцать лет жизни рядом с бабушкой, я считают чудом и неким указанием. «Молитва всему научит», — говорили святые отцы, но ничуть не умаляя молитвы, все же особо чтили великую силу непосредственного духовного преемства, которое сохранялось в старчестве, рожденном в свою очередь от апостольства, а то — от Самого Господа Иисуса Христа, рекшего апостолам: «Якоже посла мя отец, и аз посылаю вы. И сие рек, дуну, и глагола им: примите Дух Свят».
Ученики старцев всегда мечтали унаследовать «молитву старца», понимая под этим выражением некое сокровенно-таинственное средоточие благодатной молитвенной силы и духовной связи своего наставника с Богом, которая могла быть передана (или перелита) в ученика и усвоена им ради сохранения непрерывности духовной традиции. Символом этой связи была милоть святого пророка Илии, переданная своему духовному сыну — будущему пророку Елисею при чудесном восхождении Илии на огненной колеснице на небо.
Отзвуком сакральной тайны преемства было и часто встречающееся в «духовных» (завещательных грамотах) русских князей выражение «от свечи к свече». Завещанное наследство передавалось как огонь, который нельзя было погашать и заново разжигать на новом витке жизни, потому что это был тот огонь, в котором хранилась нечто не подлежащее обновлению, но только благоговейному охранению (не потому ли благочестивые русские люди так любили донести после Утрени Великой Пятницы (Служба 12 Евангелий) горящую свечу в свои дома, чтобы освятить этим Евангельским духовным огнем свои жилища, свою бренную, но не бесполезную жизнь?).
Духовные законы всегда преломлялся в жизни обыденной, — это факт, и это тоже закон иерархического священия жизни, — от недосягаемых Божественных вершин до самого последнего и убогого уголка, где дышит дух, где нередко об этом освящении мало что понимают, но зато несомненно его чувствуют, пока это чувство погружено в веру и любовь. Когда же вера оскудевает от высыхания любви и милости, обряд хранят лишь как обряд, как пустую форму, но, быть может, стенки этой пустой формы все еще хранят тонкое благоухание жившего в ней когда-то Духа?
* * *
Бабушка моя была последней и единственной хранительницей огня нашей родовой памяти, хотя кое-кто еще из немногочисленной старинной родни еще жил в ее годы. Но семейное первенство или даже главенство хоть и негласно, но единодушно было отдано бабушке. Память у нее была изумительная — острая, подробная, необычайно ёмкая, да еще к тому же, как она сама признавалась, невероятно обострившаяся к старости. Бабушка последние пятнадцать лет жизни страдала тяжелой болезнью сердца, но чудесным образом этот тяжелый недуг, приковавший ее на годы к замкнутой в четырех стенах жизни, совсем не коснулся ее чудесной памяти, ее сердца душевного до самых последних дней жизни. В этом была какая-то тайна: Господь сохранил бабушке память, сберегавшую не только множество сведений обо всех, кто был в семейном помяннике, а он был совсем не мал, но и живые оттенки давно уже отзвучавших событий и чувств, и подробностей. А передать ей эту память, отдать на хранение было больше некому, кроме как мне. И я иногда думаю: может и я-то получила билет в этот мир, чтобы для чего-то (для чего?) воспринять от бабушки то, что знала и помнила она, хотя ни она, ни я не могли себе представить, в какую даль отодвинется очень скоро все то, что при жизни бабушки казалось еще таким близким, понятным, родным и вечным.
…Это был ее собственный мир, к которому она сама безраздельно принадлежала, который она успела вобрать в себя и напитаться им к своему тридцатилетию, когда в 1917 году тот мир рухнул. И вот еще через три десятка лет появился, наконец, благодарный слушатель, близкий маленький человек, с которым она могла, не таясь, как пушкинский Пимен на старости лет «сызнова пожить» и заново прожить уже давно прожитое.
Не могу сказать с определенностью, от бабушки ли мне передалось это мистическое сердечное притяжение к прошлому, к давно ушедшим людям, или это изначально было присуще именно моему строю души, приложенному к моему от Бога жизненному заданию, но склоняюсь к компромиссу: у бабушки была живая любовь и печалование об ушедшем, а у меня — пригодная для впитывания этих чувств почва. Хотя надо заметить, что бабушка была при всем при том аристократически сдержанным, и весьма прикровенным, замкнутым по характеру и, конечно, воспитанию человеком. Но разве от дитя что-нибудь скроешь? Очень хорошо помню, много лучше слов помню свои ощущения от наших с бабушкой собеседований, потому что, несомненно, слышала я и чувствовала не только то, что бабушка рассказывала, но и то невысказанное, что без звуков дышало за ее словами.
…И я полюбила тех, кого помнила и любила она, хотя никто меня к этому отнюдь не подталкивал. Сейчас я с удивлением начинаю понимать, что бабушка была со мной даже слишком осторожна, тактична и даже скрытна — она ничего не спешила мне внушить и уж тем более навязать. О! Будь я на ее месте теперь — я бы так не сумела. Боюсь, что усердствовала бы передать свою любовь, убедить хранить, и так далее… А бабушка не назидала в общепринятом смысле этого слова. В ней не было даже тени стремления к малейшему вторжению в сферу другой личности, чему я все не устаю поражаться. Большинство учителей, проповедников, наставников и родителей в наше время однозначно верят в неоспоримую эффективность зажигательно-убедительных слов и ярких методов воспитания. Все вокруг страшно «усиливаются» в своих взаимодействиях с другими человеками и тем более с детьми (людей равнодушных я здесь в виду не имею). У бабушки этих усилий не было вообще. Можно, наверное, было бы говорить о ее некой отстраненности, даже чуть-чуть — холодке. И я не раз впоследствии об этом сетовала: «почему ты меня о том-то не предупредила, к тому не подготовила, то-то во мне не усмотрела»… Она просто жила рядом и вместе со мной, делала для меня все, что могла и сверх того, трогательно заботилась, берегла, тревожась, крестила меня перед каждым выходом из дома, но меня самое, душу мою, личность и характер она словно полностью предала Богу. И не из каких-то любимых ее педагогических принципов, не из мысли, ею принятой, а, наверное, в силу живой органичной традиции, сохранившейся в семье от очень давних времен.
Вот и сейчас в огромной старинной семейной переписке двух веков, которую сохранила в своем архиве бабушка, я не могу усмотреть никаких следов личностной активности старших в отношении младших, того, что называлось в просторечье «залазить в душу».
В добрых православных семьях в прежней православной России бережно-целомудренное отношение к душам детей было вполне естественным и закономерным проявлением настоящего православного духа. Революция вторглась в русскую жизнь победоносным шествием духа агрессии и насилия, причем далеко не только физического, но прежде всего и душевного насилия над святыней свободного духа человека. И доныне мне кажется, что этот дух грубого напора, дух неблагоговения перед свободой личности другого, никуда не улетучился и, а достиг, напротив, своего апогея (с политическими аспектами прошу мою мысль не сближать).
После революции старинные семьи, еще хранившие черты старинного православного уклада, превратились в редкие островки в бушующем море совершенно чуждых стихий и родители оказались вынужденными бороться за души детей, усиливаться ограждать их, наставлять и укреплять, готовя к жизни, как к грядущему решительному бою. Впрочем, я здесь не утверждаю, но ставлю знак вопроса или многоточие, а так же предлагаю на размышление тот факт, что в последние два десятилетия церковного возрождения, православные семьи каких только средств не употребляли, чтобы вырастить свое потомство в духе православной традиции, но у подавляющего большинства, увы, мало что из этого получилось. Большинство детей к возрасту юности пускались во все тяжкие, а возвращались немногие, да и то с немалыми ранами, полученными в миру.
Погружение в прошлое, в интимную жизнь старинных русских семей приоткрывает немного завесу и над такими тончайшими тайнами человеческой жизни, о которых мы знаем еще очень и очень мало.
…То была не просто давно ушедшая и теперь подзабытая, но совершенно «другая жизнь и берег дальний», — как у Пушкина. Все было иным: люди, глаза, мимика, чувства, речь, отношения людей друг к другу, ритм жизни, все черты древнего уклада. Сердца другие, — словно те, бывшие задолго до нас, из иной муки были заквашены. Как это теперь представить? Ну, попробуем сравнить выпеченные в электронных печках-автоматах современные «хлебобулочные изделия», к которым не прикасались добрые человеческие руки, не живил их ни сладкий воздух родины, ни ее чистые воды со позабытым старинным вкусом белого московского калача… Ничего не получится: калач этот надо, обжигаясь, в руках побросать, подышать его духом, да весело пригубить. Как пробовал, к слову, — ибо эта картинка как живая теперь встает перед глазами, просясь на бумагу, — замечательный русский художник Константин Коровин, в молодости своей друживший с веселым молодым врачом и жизнелюбом Антоном Чеховым, нередко приглашавшим эту вечно голодную художническую братию из Училища живописи и ваяния, что на Мясницкой, прогуляться весенним солнечным деньком в Сокольники, а там, на воздусях угощал ее белыми калачиками с духовитой московской колбасой и огненным чайком из самовара…
А так, по нашему слову от скудеющей на вкус настоящих московских калачей памяти, разве сможем мы что-то живое воскресить, если не найдет наше слово никакого пристанища в сердце «нового человека», а в спецхранах его памяти никаких сродных клеток, способных к отклику, тоже не обрящется?
Обнадеживает одно: по счастливому стечению обстоятельств (за которым невозможно не усмотреть промышления Божия) несмотря на трагические перипетии XX века чудом уцелели в семейном архиве породнившихся давным-давно семей Стечкиных-Жуковских и Микулиных живые следы этой давно ушедшей и совсем забытой теперь жизни: семейная переписка нескольких поколений, воспоминания, дневники, и другие реликвии.
Благодаря этим свидетельствам читатель не найдет в этой книге вымысла, да и к чему он, если подлинные судьбы героев, сопряженные со многими историческими коллизиями, испытаниями и невероятными стечениями обстоятельств, несомненно причудливее, драматичнее и много поучительнее любых человеческих фантазий. Вот это-то поучение и хотел бы автор высветить в узорах судеб дорогих ему людей. Тем более, что отсюда, от нас виднее — перед глазами последняя страница, где можно подсмотреть бывшие тогда сокрытыми до времени наброски ответов на решавшиеся предками жизненные задачи. Не оценок ради, — какие могут тут быть оценки — прерогатива Божия! — но ради познания путей Промысла Божия в судьбах человеческих, насколько это вообще может быть доступно немощной человеческой проницательности.
Теперь вот и сам автор пытается дорешить свою собственную жизненную задачу, действуя большей частью, как и те, кто были прежде, почти вслепую (такова высочайшая и мучительная цена свободы выбора, которой одарил нас Бог). Вот и ты, дорогой читатель, будь готов к тому, что, возможно, со временем придет кто-то, кто просмотрев и твои дневники и письма, так же возжелает извлечь из твоей жизни некое поучение. Найдет ли что извлечь и каким оно будет, — Бог весть…
…Я приходила к ней, брала в руки первую попавшую мне на глаза фотокарточку, и слово за слово мы с ней улетали мысленно из нашей замоскворецкой квартиры в какие-то волшебные дали…
Сердце в будущем живет; Настоящее уныло: Всё мгновенно, всё пройдет; Что пройдет, то будет мило.Бабушка никаких полновесных характеристик никому из живших в тех неоглядных временных далях, не давала — так, легкие, воздушные, лаконичные штрихи… А вышло, что я полюбила тех, чьи эскизные портреты набрасывала мне бабушка, даже возможно, сильнее и безогляднее, чем любила их она. Парадокс? Думаю, нет. И тут была неотменимая логика некоего духовного закона. Конечно, я улавливала иногда в ее рассказах о ком-то иронические ноты, замечала и легкие тени критичности (тени и только тени!), но когда, спустя годы моего взросления, моего собственного обретения веры и погружения в церковность, эти ноты и тени стали для меня нравственно и психологически тяжелеть, обретать глубину и перспективу и наполняться красками нередко очень горькой реальности, я ничуть ни в ком не разочаровалась и не перестала никого любить. Скажу больше: тут-то они и стали ко мне приближаться, как будто старинный фотограф, воспользовавшись каким-то сверхсильным zoom-ом, враз превратил размытые и выцветшие лики прошлого в пронзительно близкий крупный план.
У меня всегда глаза были на затылке, правда, об этом никто кроме меня даже и не догадывался, но неотступное влечение к сближению с кем-то и чем-то для всех давно из этого мира растаявшим, сопутствовало мне всю жизнь и по сию пору все так же и даже еще теснее сопутствует. Сейчас я даже ретивее чем прежде, встреваю в ожесточенные споры, чтобы защитить того или иного известного, а то и весьма знаменитого покойника, которого нещадно критикуют (и что любопытно, очень возможно, даже вполне справедливо критикуют) или за неправильный образ жизни, или за маловерие, или за несоответствующие понятиям нравственного богословия мысли и чувства. Так уж устроен человек, что едва только он попробует прикоснуться к краю Христовой ризы, так первым делом он стремглав бросается наводить порядок в окружающем мире, — разоблачать открывшиеся ему в этом молниеносном проблеске света уродства и несоответствия земной жизни и Истины. Но поскольку, как водится, своего бревна в глазу он еще видеть не умеет (и не мог еще успеть тому научиться), то вооружившись топором (а другие духовные инструменты ему тоже еще совсем не по плечу), он смело принимается очищать от соринок чужие глаза, в том числе и тех, кто давно уже не может от таких операций уклоняться по причине своего жительства в мире ином.
Эта исступленно-холодная и немилосердная справедливость живых неофитов к усопшей части своей нации, — всегда вызывала у меня яростный протест (хотя к себе-то неофиты при этом всегда настойчиво требуют снисхождения, а то и ласки). И я бросалась на верные головомойки в заведомо проигранных сраженьях, проигранных потому, что мне ведь важно было не опровергнуть выдвинутые против очередной хрестоматийной знаменитости обвинения, а вытащить из-под жестоких ударов его беззащитную душу.
Права ли я была, приняв роль защиты давно усопших «преступников» (больших ли малых — разве важно? Все мы перед Богом преступники)? Вопрос этот имеет самое прямое отношение к тому, о чем пойдет речь в моем «Подстрочнике». Это ведь помянник, а в помянниках, как известно нам даже из Евангелий — я говорю о родословиях Господа Иисуса Христа, — люди разные встречаются. О ком-то легче и радостнее вспоминать, молиться и другим рассказывать, а о ком-то — вроде бы все по-другому должно быть, то есть очень трудно, через силу, но… почему-то иначе не получается… Вот тайна, вот чудо Божие: как начнешь поминать «о упокоении» чью-то душу, от которой, быть может, раньше при жизни ее ты и потерпел немало, так все тягостное как-то растаивает, а остается только сострадание, а то и нежное даже какое-то чувство, с которым должны были бы мы любить и терпеть немощи и ошибки наших ближних при жизни. Ну, а уж коли с нежностью поминаешь кого, так разве останешься безучастным, когда услышишь жестокие и безлюбовные суды над жизнью давно усопшего человека?
…Почему-то видится мне в такие минуты тот белый спеленатый «младенческой» образ души Богоматери, которую бережно принимает в Свои длани Христос на иконах Успения Пресвятой Богородицы, и хочется мне также и мои немощные руки протянуть к той обвиняемой потомками с немилосердием душе, чтобы принять ее на себя как раненую и страдавшую на этой земле, как оплаканную кем-то ее любившим или, напротив, вовсе никем не оплаканную, чтобы ходатайствовать за нее перед Богом, и тоже плакать и просить… Как просишь и о собственном помиловании, и даже жарче…
В самом начале своего возвращения в Церковь (а я свое воцерковление всегда воспринимала именно как возвращение), листая церковный календарь, я впервые увидела и в мгновение ока со всей очевидностью приняла на веру, что мне не случайно выпало родиться в канун празднования иконе Божией Матери «Взыскание погибших», что это определенно знамение, имеющее свой тайный смысл. А то, что на мой день рождения пришлась память святых, имена которых совпадали с именами троих моих детей, что крестила меня бабушка по странному стечению обстоятельств именно в том храме, где и хранилась московская святыня — чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших», и перед Ней буквально, — это все только подтвердило очевидность и не случайность всех удивительных совпадений, о которых как всегда строго и определенно сказал в свое время святитель Московский Филарет: «Пенять на случай — покойный ответ для людей, которые труд рассуждать почитают излишним, и боятся, чтобы не узнать чего необыкновенного, или чтобы не встретиться с Провидением».
Часть I. ГЛУБОКИЕ ВОДЫ
Глава 1. Несгораемый шкаф
«Пенять на случай — покойный ответ для людей, которые труд рассуждать почитают излишним, и боятся, чтобы не узнать чего необыкновенного, или чтобы не встретиться с Провидением».
Свт. Филарет Московский. Сочинения. Т.3., с. 3.
Крестины
Крестины в 45-м.
Бабушку мою, Екатерину Александровну Домбровскую, урожденную Микулину, а по матери — родом Жуковскую, помню, сколько помню и себя: с первых месяцев жизни. А жизнь совместная наша — моя и ее — началась в Москве в 1945 году.
…В конце 1944 года мама и бабушка вернулись в Москву — мама из фронтового госпиталя, где всю войну служила хирургической сестрой под началом знаменитого Бурденко, а бабушка — из Орехова, владимирской деревни, где когда-то была усадьба наших предков Жуковских. Бабушка там провела всю войну вместе с сестрой Верой Александровной, с которой они вдвоем в двадцатые годы создали музей памяти своего дяди — Николая Егоровича Жуковского, родоначальника русской авиации. Несмотря на уже преклонный возраст, бабушка в начале войны вновь вернулась в Орехово, чтобы кормить с огорода в военное время семьи сына и дочери, оставшихся родных и всех, кого Бог пошлет…
Но вот война сдвинулась к долгожданному концу, и наконец-то бабушка с мамой вернулись домой — на Большую Полянку в бабушкину квартиру, полученную взамен того, что осталось после уплотнений от квартиры Николая Егоровича в Мыльниковом переулке. Перед войной там также решили устроить музей памяти прадеда.
Квартиру нашу, в которой некому было жить во время войны, обокрали подчистую. Оставили за неподъемностью только огромный стальной несгораемый шкаф с бумагами семейного архива и тоже весьма старый, бывалый рояль Беккер (он же Шрёдер), приобретенный еще у поставщика Двора Его Императорского Величества на Итальянской улице в Сант-Петербурге, стоявший теперь по колено в воде, натёкшей из лопнувших зимой батарей. Он смотрелся посреди пустой квартиры как брошенный чеховский Фирс и еще чем-то пронзительно напоминал очень старого, но бесконечно верного, потерявшего хозяев пса.
Много лет спустя, вспоминая бабушкины рассказы о том времени, вдруг догадалась: прозорливые воры, сами того не ведая, оставили только то, что действительно нужно было новорожденному в приданое (мама-то моя вернулась до времени с фронта, потому что ей подоспело совсем другое время — родить).
Доказательство под рукой: то, о чем я теперь пишу, что хочу рассказать, оно ведь вышло из того самого несгораемого шкафа, из бесценного семейного архива, из материализовавшейся в нем памяти, которая в этом шкафу десятки лет сберегалась, припрятывалась, пылилась, перепутывалась и даже прирастала процентами для того лишь, чтобы в один прекрасный день придти в те руки, для которых оно и было предназначено. Но этого никто не знал. Хранили, потому что не могли не хранить.
* * *
…Итак, была середина февраля 1945 года — вьюжного, метельного, ветряного — канун праздника иконе Божией Матери «Взыскание погибших», когда впервые закричала первая и, увы, оставшаяся единственной бабушкина внучка. Или — по-старинному — внука. Говорили, что так громко и заливисто подавала голос эта внука, что акушерки на радостях возвестили, что дитя «будет певицей». Но, вот уж и сроки все вышли, а может ли то дитя хотя бы нынче сказать: «пою Богу моему дондеже есмь»?
Вот так и начали мы жить втроем. Отопление в доме не работало, стояли холода, и вода на полу хрустела. Но не в правилах бабушки было унывать и опускать руки. Она устроила нам отличное житье на кухне, сняв с камфорок газовой плиты распылители, чтобы согреваться хоть этими высоко пламенеющими языками огня. Каким-то необъяснимым образом эти пламенные, устремленные в запредельную высь — к небесной своей родине языки огня отпечатались на сетчатке младенческой памяти. Может быть (допускаю, что вовсе не каждый читатель мне поверит), это не в первые два месяца жизни во мне запечатлелось, а несколько позже, потому что и весной, в мае, ставя поближе к плите корытце для купанья, газ вновь жгли прежним манером на полную мощность, чтоб не так холодно было купать дитя.
К тому времени я все-таки уже была постарше на несколько месяцев, а потому и языки огня, и даже то самое бедное жестяное советское корытце с радужно играющими в воде бликами, сумела прихватить глазом. Все это ведь было явлением неземной красоты.
Интерес к несгораемому шкафу и архиву проявился у меня, конечно, много позднее, а вот рояль не заметить было невозможно. Он сам громко заявлял о себе, вызывая пронзительное сострадание к своей горемычной судьбине. Он надсадно и гулко взрыдывал по ночам своими лопающимися струнами, а затем стрелял громко, резко, сухо, трескавшейся от сырости декой… Потом его изо всех сил старались как-то подлечивать, задабривать, чтобы можно было мне начать на нем заниматься. И бедный «Шрёдер» еще долго служил, изо всех сил перемогаясь, несмотря на раненые легкие-деки, в основном держа строй до самого моего поступления в музыкальное училище, то есть еще целых 13 лет.
…А время тогда еще не так летело, как нынче. Дни были полновесные, длинные, просторные (с таким временем можно было пожить вдоволь). И вот, когда мне было уже около десяти дней, состоялось мое первое путешествие по столь дорогой мне во всю мою остальную жизнь Москве. Тогда еще не «старой», а просто Москве, — вечной, прекрасной, единственной в мире и отнюдь не намеревавшейся превращаться в старуху. Бабушка Катя, несмотря на февральскую метель, закутав меня, во что только ни нашлось в старинном сундуке на кухне, — а сундук был тоже очень внушительный и весьма достойный предмет в квартире, опущенный мною в самой первой описи только потому, что он сразу был превращен в лежанку для мамы и бабушки (понятно, что именно по этой причине я его здесь не ставлю на равных с роялем и несгораемым шкафом), — так вот, закутав меня, бабушка решительно понесла меня на руках через Малый и Большой Каменный мост «в город». Так у нас всегда дома выражались, хотя жили-то мы совсем близко от Кремля, в самом начале Замоскворечья.
Оба моста были продувные, от реки несло лютым холодом, а по асфальту — поземкой, но под мостом уже чернели полыньи, натопленные всегда врывающимися в Москву под Сретение оттепелями с опьяняющим весенним солнцем, с тетками с подснежниками и фиалками на углу Тверской и Охотного, с нежными волнениями крови и невольными и невинными и столь чреватыми в будущем ожиданиями счастья, жизни, любви…
Потом теток начали изводить, чтобы цветы в лесах не перевелись. Но перевелись и тетки, и цветы, и даже та наша любимая вечная Москва, в один не прекрасный миг ставшая «старой» и постепенно вытравляемой, выметаемой и выжигаемой вон наглой, бездушной и всесильной рукодельной «молодухой». Но до тех времен было еще далеко…
А тем временем бабушка быстро шла на Никитскую, в сторону Консерватории, словно прочерчивая будущие пути моей жизни, и, сама того не ведая, становясь исполнителем Божией прориси.
Там, у Никитских ворот прошло потом и мое детство, и отрочество, и юность, начавшиеся утренниками — концертами для детей по воскресеньям, кажется, после полудня, в Большом Зале Консерватории, куда стала водить меня мама с пяти лет или даже раньше. Как и те языки огня, так и очарование Большого Зала навсегда поразило мое сердце, и я сейчас скажу, почему. Но подлинной правдой это не будет. Маленькие дети так (как огонь и зал) запоминают отнюдь не материализованную реальность мира и его вещей, но их духовные субстанции, сущности, нечто невыразимое на земном языке, которое в понятиях иного мира, иного духовного измерения могут совсем даже не обозначать ни огня, как такового, ни зала, а вовсе другое…
Если б ребенок мог тогда перевести на слова свои духовные ощущения, он бы сказал. А теперь приходится говорить о широких, беломраморных, достойных человека, медленно поднимающих его в праздничную высоту, лестницах Зала. О его гулком акустическом просторе и «растворении воздухов», о его тепло-золотистом, как солнце Адриатики, бархате кресел, о его портретах — почему-то особенно любимых Мусоргского и Чайковского (хотя любимыми были и Бетховен, и Моцарт, и Бах, и даже Гендель). Кто бы мог тогда подумать что-то недолжное о красноте носа несчастного страдальца Мусоргского — музыка его вовсе не выдавала предательски его немощей, а вся сияла и звонила миру мощью русской силой и широты. Чайковскому было отдано тогда сердце за «Детский альбом», а вот Мусоргскому — за «Хованщину» и «Рассвет на Москва-реке», который человеку, имевшему счастье родиться почти напротив Кремля и въяве встречать эти рассветы с Каменного моста, не мог не сообщать в одну единицу времени всю русскую историю, начиная с «Повести временных лет», с Татищева, Карамзина, Соловьева и Ключевского разом, все русские картины и виды вместе, и в необозримых объемах — все о сокровенной тайне, о душе и о стыдливой в своем могуществе красоте Родины.
Уже потом, в отрочестве мне приходилось (в охотку!) бегать этими свежими, розовыми майскими московскими утрами — в полшестого и раньше — на ту же Никитскую, в Мерзляковский, чтобы успеть перед надвигающимся экзаменом, до начала занятий порепетировать в зале училища на концертном рояле.
Может ли что-нибудь сравниться с этими московскими рассветами — от Востока, по-за Кремлем возникающими и потом озаряющими и покрывающими всю Москву своей девичьей нетронутой красотой — розоватым прозрачным воздухом?
* * *
Кто сказал, что дети не любят слышать о страданиях? Кто сказал, что их надо от всего горького и скорбного оберегать? От познания пороков — да. Но боль другого человека нормальные, не загубленные духовно дети чувствуют намного сильнее и при том принципиально иначе (впрочем, как и все остальное), чем взрослые. Наверное, этот закон вне возрастной: воспитывает человека боль.
…С раннего моего детства мы с мамой любили вместе читать биографии художников (ведь мама была художник, это только на фронте она была хирургической медсестрой, а до фронта она училась у художественном училище, закончила же Строгановку уже после моего рождения — после войны), композиторов, их письма. И мне это было очень любо. Потому, что они, выплеснувшие в мир несказанные и сладко-мучительные для меня звуки, к которым бесчисленными нитями было повязано как Гулливер лилипутами мое сердце, звуками, выражавшими то, что не сводимо к слову (как личность несводима к природе человека), то, что слышат и чувствуют — не в музыке, а вообще в мире только дети, да и то не все, — они, давно скончавшие свой век, не люди, мне казалось, — но полубоги, становились мне тогда в мои пять-шесть лет настолько близкими, что я могла бы даже сквозь их парадные портреты в Большом Зале угадать следы их детских оспинок.
А болезни их душ я тогда еще не умела опознавать, как не опознавала и отражений этих недугов и страстей в музыке. Восприятие страданий другого было чистым, не подозрительным, безоговорочным. И даже много позднее это первоначальное детское отношение долго сохранялось: когда музыковедческая братия ловко пригвождала «к страстям» композиторов написанную ими музыку, я не уставала за них обижаться, хотя и не знала, что не от них же все-таки была нисшедшей эта музыка, они только «аранжировали ее».
…Неужели сиротливый и больной опавший лес, стоящий поздней осенью нагим, отражает какие-то несовершенства Творения?! И мне не хотелось никогда, чтобы кто-то клеветал на музыку. Человек — это одно. А творение его — другое. У великих и благословенных человеческих творений всегда есть подлинный Автор. Человек же только со-автор — специальная редчайшей породы дерева трость: слушающее и записывающее устройство.
«Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви: язык мой трость книжника- скорописца».
Вот тут-то и подумаешь, что не записать им было самой большой загвоздкой, а — услышать сердцем это «слово благо», этот тишайший Небесный голос. Но все это, конечно, имеет место только в том случае, если музыка рождается правильным, законным, божественным путем, то есть действительно бьет из неземных источников. Вот и Святослав Теофилович Рихтер отвечал, когда его вопрошали о творчестве и его фортепьянных интерпретациях, отвечал строго и четко, предупреждая инсинуации, что он никакой не творец и не интерпретатор, а только исполнитель того, что написано композитором. За этими словами стоит гораздо больше, чем простая житейская скромность. Рихтер знал, что такое есть — услышать композитора, познать записанное в его предельное глубине, полноте, избытке, в его прикровенной сути.
Иными словами, еще одно человеческое ухо (исполнителя) должно включаться в эту чудесную цепь. И оно слушает, это гениальное ухо — сердце скорописца: как сердце скорописца слушает Небесного Автора…
* * *
Спасибо моей матери, научившей меня благодаря этим погружениям в превратности художнических судеб (чем не прообраз житий?) жаждать и стремиться к познанию человека в максимально доступной его глубине, — к молитвенному с ним общению. Ведь познание — это соединение с познаваемым, как сказал кто-то из древних. Но такое познание-соединение возможно только в любви. А истинная любовь — это уже молитва, любовью рожденная, и любовь преумножающая.
Или еще проще: ты можешь и не быть высоким молитвенником, но в искреннем сердечном сострадании, или даже только готовности к нему, тебе открывается и путь познания-соединения: и с тем, кто живет на одной с тобой горизонтали — во времени, и с тем, кто живет на одной с тобой вертикали — в Вечности. Ведь искреннее, чистое, не лицемерно-вежливое сострадание — разве не есть уже хотя бы полмолитвы? Оно ведь не что иное, как разделенная не в помыслах ума, а испытываемая в ощущениях чужая боль. А способность носить чужую боль — это единственный путь к Единству, которое на самом деле и есть путь к Церкви (конечно, если сердце человека пребывает во Христе и живет он ради Христа).
Все это всем, казалось бы, доподлинно известно, однако мир погибает от жестокости, холода, эгоизма и безразличия. Как тот евангельский богач, не умевший и не хотевший (и не бывший уже даже способным!) отозваться сердцем хоть на миг на боль нищего Лазаря.
…Музыка меня доподлинно мучила уже в самом раннем детстве, но все-таки не так жестоко и безысходно, как природа, как окружающий мир, вечно томивший своими бессловесными вопрошаниями, призывами и предупреждениями. Что ему было надо от меня, этому лучу солнца, вдруг пробившемуся сквозь безнадежно унылую предсмертную тоску неба? Отчего из-за него начинали трепетать предсердия, словно что-то (или некто) в этом луче и что-то в области сердца в тайне от человека умело общались друг с другом на им одним только понятном языке…
И плывущие куда-то в легких бездонных небесах облака, их бесстрастие, их бесцельно-созерцательное передвижение… И тайная магия чужих — не моих — пространств… Почему я не могу вот сейчас же, в эту секунду, в единицу времени оказаться и там, и — там, и вдруг очутиться, как свой, среди других людей, в другом городе, в их недосягаемом и желанном для меня (подлинном) мире тепла и уюта… И там, среди «проносящихся» ночью — мимо поезда — огоньков украинских хат, в этих, чуть различимых в лунном тумане балок и лощин, куда секунду назад сползал банями и сараями хутор, успевший навеки завлечь своей чудесной тайной к себе мое сердце…
И вообще, почему для меня была так вожделенна так притягательна чужая жизнь? Почему я жаждала, но не имела права туда проникнуть и сразу единым мигом прожить и познать всю эту другую человеческую жизнь?!
А мне хотелось быть везде…
Ну, а музыка все эти невнятные и настойчивые вопрошания переводила на язык человеческого сердца, несколько все упорядочивала в земных измерениях, снисходя к немощи человеческой, разрешала их, как разрешается доминанта в тонику, даже насыщала чем-то сродным жаждущее сердце, говоря ему что-то от имени облаков, вод и далей и других жизней. Думаю, это была самая настоящая «обратная связь» человека и Творения и, дерзну сказать, человека — как творения — и его Творца.
Все это возрастало в детском сердце до избыточных масштабов, до какого-то исполинского звучания…
Быть может, этот мысленный оркестр играл что-то из Брамса… Что-то яркое, волнующее, пылкое и всеохватное, и, тем не менее, по воле Великого Дирижера сохраняющееся в должных рамках неизменной и неоспоримой сдержанности, гармонии, и устойчивости красоты.
* * *
Итак, близился к концу февраль 1945 года, уже наворачивали мартовские холода, но мы с бабушкой пешим ходом спешили из Замоскворечья, мимо Консерватории (о рояле и Консерватории я уже рассказала) — в Брюсов переулок…
Там был и поныне есть древний храм Воскресения Словущего что на Успенском Вражке. Почему-то именно в этом святом храме бабушка и вознамерилась окрестить меня с именем святой Великомученицы Екатерины…
Екатерин в нашем роду было к тому времени всего две: моя бабушка и моя прапрабабушка Екатерина Осиповна Микулина — в девичестве Гортензия де Либан, дочь французского виконта Жозефа де Либана, бежавшего в Россию в начале XIX века, и здесь оставившего потомство, о котором мне достоверно известно совсем немного: о моей прапрабабушке Гортензии и о ее брате Александре.
От прабабушки Гортензии (Екатерины) остался у меня ее аттестат с отличием, старинный, с сургучной печатью, полученный ею в городе Казани в 1852 году по случаю окончания Института благородных девиц, а также несколько старинных французских книжек из ее библиотеки, и дагерротип, где она снята с маленьким сыном Сашей (моим прадедом) на коленях. Это было уже примерно в 1862 году. Жить Екатерине Осиповне оставалось совсем немного. Сашеньке было 3 года, его братьям Иосифу и Дмитрию немногим больше, когда Екатерина Осиповна скончалась. Осталась еще самая маленькая сестра Манечка, — Мария Александровна Микулина. Мне она доводилась прабабушкой, — и я еще ее застала, и даже пожила рядом с ней в детстве в родовом гнезде Орехове А после смерти тети Мани долго занималась по оставшимся от нее замечательным старинным нотам и музыкальным учебникам.
Тетя Маня была великолепная музыкантша, учительница музыки, преподававшая в Туле, Бердянске, и, кажется, в районе Нового Афона — во всяком случае, она там некоторое время жила. Тетя Маня училась в Московской Консерватории у Сергея Васильевича Рахманинова, а перед тем — в Мариинском Училище благородных девиц, что на Софийской набережной в Москве, куда в свое время и меня — не зная того, что идет по стопам тети Мани — своей двоюродной бабушки, повела меня мама 1 сентября в первый класс школы номер 19.
Никто у нас действительно не помнил, что именно в этом прекрасно сохранившемся особняке XIX века было раньше Мариинское Училище, и что именно там воспитывалась с детских лет сиротка Маня Микулина. Узнала я об этом много лет спустя, да и то случайно, когда перечитывала старинную семейную переписку XIX века, и на конвертах, адресованных маленькой Мане, увидела адрес Института: и Софийскую набережную, и номер дома. Навела справки, и все подтвердилось…
Совпадение это меня тогда очень озадачило. Как жаль, думала я, что в детские годы, учась в школе в этом удивительном и прекрасно сохранившемся здании, я не знала, что лет шестьдесят до меня там долгие годы жила и училась милая, осиротевшая в таком раннем возрасте, Манечка — моя прабабушка. Сироткой так и оставшаяся. Я помнила ее уже очень пожилой, чуть ли не под 80 лет. Высокой, худощавой и прямой, с поистине институтской выправкой, в какой-то странной одежде. Она носила выцветшую или застиранную до бела толстовку (или это была гимнастерка?), старый дореволюционный, судя по медной пряжке с орлами, военный широкий кожаный ремень. Длинную до башмаков узкую, тоже выгоревшую до бела, юбку. Грубые башмаки или сапоги. Она, конечно, никогда не была военным человеком, и к властям никакого отношения не имела. Это был зрак ее бедности и ее мужества, ее отреченного одинокого жития и терпения.
У тети Мани никогда не было своей семьи. Всю жизнь она действительно преподавала музыку где-то в провинции. Всей ее «семьей» был большой черный кот, который всегда сидел на ее высоком плече, сверкая зеленым глазом. Тетя Маня была молчалива, а я слишком мала, чтобы суметь с ней сблизиться. Я и боялась ее, и жалела. Мне казалось, что с ней была связана какая-то тайна. И к этой тайне меня нестерпимо влекло. К тому же у тети Мани были какие-то необычайно интересные предметы: старинная латунная складная лупа, цейсовский бинокль, и эти Юргенсоновские ноты… Но она не разрешала, а бабушка не пускала меня в ее крохотную комнатку под лестницей Ореховского дома. Сейчас, спустя столько лет вспоминая ее, я жалею ее еще больше, и недоумеваю, почему она держалась как-то особняком?
…К тому времени, когда я узнала, что пришла в то же учебное заведение, которое закончила моя прабабушка, уже и мои собственные дети окончили эту же школу № 19 (правда, переехавшую в другое здание). Но здесь уже преемственность была несколько формальной, скорее юридической — школа сохранила свой номер, даже некоторых прежних учителей, свой архив, но уже все в ней было новое… Но я-то помню ее такой, как она была и при мне, и при тете Мане: высокие потолки, великолепные паркеты, всегда начищенные и очень скользкие — не раз приходилось мне растянуться на бегу в широких школьных коридорах, похожих на актовые залы. Все там было строго и чинно. И учительница моя первая — Мария Петровна, — была строга, пряма, и выдержана, как и тетя Маня. У нее были чисто и просто уложенные седые волосы, тонкое золотое пенсне, классическая белая блузка. Это была настоящая дореволюционная русская учительница — образованная, строгая, никогда не фамильярная с девочками (тогда еще девочки учились отдельно). В ней было подлинное высокое достоинство педагога: не неприступность, не сухость, не злобность, которой так часто в наши времена подменяет педагогика подлинную святую воспитательную строгость. И мне так хотелось бы думать, что и Марья Петровна, как и тетя Маня, тоже была выпускницей этого училища, и что ей было, наверное, отрадно было до конца дней трудиться в этих родных стенах. Ведь прежние институтки на всю жизнь сохраняли привязанность к дому своего детства, отрочества и юности. И вот чудо! Совсем недавно мне случайно попались на глаза фотографии 1912 года из альбома, посвященного Мариинскому училищу и там я увидела лицо своей первой учительницы — Марии Петровны. Значит она преподавала еще тогда в Училище, а когда оно превратилось в школу — Мария Петровна не ушла. К моменту моего прихода в первый класс ей было примерно под 70 лет…
Кстати, и музыка моя началась здесь же, на Софийке: внизу в подвальном этаже бывшего Мариинского училища располагалась и музыкальная школа, в которую меня привели очень рано. Там были пережиты первые страхи перед первым выступлением на детском концерте, первые волнения и переживания неудач, первая забитость от не любившей и подавлявшей меня учительницы (но я-то ее обожала!), первые надежды на то, что все-таки музыка и мне раскроет свои любящие объятия…
Но впрочем, надо ли забегать вперед? О тете Мане, Марии Александровне Микулиной, еще будет рассказ в свое время, а пока — продолжение о крестинах…
На фото — воспитанницы Мариинского женского училища. Мария Петровна — пятая справа
…Прапрабабушка Гортензия стала Екатериной, приняв Православие перед венчанием с моим прапрадедом статским советником, дворянином — из Рюриковичей, потомком князей Микулинских-Тверских, о чем свидетельствовали записи в древней Бархатной книге, Александром Федоровичем Микулиным.
Отчего именно это имя было выбрано для девицы Гортензии, я не знаю. Других Екатерин в нашем роду не было. Мою бабушку назвали в честь ее бабушки Екатерины-Гортензии. Так же и меня: бабушку мою все очень уважали и любили, и, наверное, надеялись, что внучка, повторив ее имя, будет на нее похожа и колею не испортит…
Вот уж более сорока лет, как нет на этом свете моей крестной, моей бабушки, моей воспитательницы, и вообще никого из моих старших родственников здесь уже нет. И мне теперь не у кого спросить не только о том, как и почему выбиралось мне имя, но еще и об очень и очень многом. Например, почему же бабушка не пошла крестить меня поближе — ведь было так холодно, скажем, на Якиманку, в храм св. мученика Иоанна Воина… В те годы настоятелем храма был хорошо знакомый нашей семье еще по Ставрову замечательный батюшка — протоиерей Александр Воскресенский. Не пошла бабушка почему-то и на Ордынку — совсем рядом! — в храм Всех Скорбящих Радости. Но пошла она через Каменные мосты к Никитской, в Брюсов переулок именно в эту церковь — Воскресения Словущего.
Не потому ли, что примерно в то время в Воскресенском храме проводились реставрационные работы и, возможно, или сама бабушка участвовала в них, или ее хорошие знакомые там трудились? Понятно, что в те годы крестины должны были пройти тихо, под шумок, а это можно было обеспечить только там, где были близкие люди.
Или так: этот храм еще называли тогда «театральным»: там пела Нежданова, там служил известный и очень чтимый в Москве протоиерей Николай Бажанов — настоятель этой церкви, окормлявший знаменитых московских театральных старух: А. А Яблочкину, Е. Д. Турчанинову, В. Н. Рыжову — его даже называли театральным священником. А бабушка еще хранила — со времен Николая Егоровича, близкого друга Гликерии Николаевны Федотовой, — старые театральные связи. Многие театральные небожители Брюсова переулка были добрыми знакомыми и друзьями нашей семьи, во всяком случае, в лице Александра Александровича Микулина — бабушкиного любимого младшего брата, конструктора, академика и большого театрала.
Почему именно этот храм был выбран для крестин, бабушка никогда мне потом не говорила, а я и не спрашивала. И про крестины-то знала лишь по брошенным вскользь репликам моей мамы, что вот, мол, какая молодец бабушка была… А еще по маленькому старинному золотому крестику, который, увы, был не на мне, а лежал в маминой шкатулке. А шкатулкой этой я могла играть каждый день: там были разные пуговицы, крестик, какие-то совсем непонятные вещицы, одно-два колечка, разрозненные бисеринки и дешевые разноцветные бусы, которые привез отец для мамы из Германии (отец был неосознанным нестяжателем). Все это было предметом моего ненасытного ежедневного любопытства и любви. Особенно большие пуговицы. О крестике я спрашивала: что он такое, зачем. А мать, со свойственной ей во всю жизнь блаженно-детской простотой отвечала: «Это твой крестильный крестик». А что я знала о крестинах? Ничего. Не знала и о крестике, что его можно и должно носить на груди. Так он и продолжал жить в шкатулке, а потом, когда я уже училась в школе, крестик как-то незаметно исчез. И я не помню, чтобы его очень разыскивали. Кто-то взял, — говорила мама. Так я и осталась без крестика вплоть до 1980 года, когда, будучи в командировке на Псковщине, купила в Псково-Печерском монастыре свой первый «сознательный» крест, чтобы носить его, не снимая, всегда. После этого события, жизнь моя понеслась стремительнее. Стали умножаться скорби, а вместе с ними — и потребность переосмысления жизни. Иначе было бы не устоять…
* * *
Однажды, сколько-то лет спустя, листая церковный календарь, я словно в первый раз увидела в нем день своего рождения. Я просто перечитывала имена святых, чья память праздновалась в тот день. Эти святые имена мне давно уже были хорошо известны, но мне все что-то еще хотелось найти. Какие-нибудь подробности, знаки, и тайные мне указания… И — нашла: удивительное совпадение, которое до того момента почему-то ни разу не бросилось мне в глаза, — имен святого Благоверного князя Георгия Всеволодовича Владимирского и преподобного Кирилла Новоезерского — с именами моих сыновей — Георгия и Кирилла. Впервые тогда почувствовалась полная прозрачность собственной (и вообще человеческой) жизни и ее управляемость, предсказуемость, зависимость ото вне, словно это и не моя собственная была жизнь, а я лишь была ее хорошим или, скорее, весьма плохим исполнителем.
С ужасом вспомнилось и давно забытое мною собственное бездумное легкомыслие, когда после рождения второго сына Кирилла, на удивленные возгласы знакомых (тогда и второго ребенка родить было для многих в диковинку), с легкостью бросала в шутку: «…А Мефодий в уме!», мол, если будет третий, тогда еще более диковинным именем назову (а в те годы и имя Кирилл еще считалось редким). И вот чудо, вот урок безумному человеческому бесстрашию: спустя тридцать лет, в 2000 году, когда Церковь прославила Собор новомучеников и исповедников Российских, появилось в календаре того самого дня, причем следом за святыми Георгием и Кириллом, новое святое имя: священномученик Мефодий, епископ Петропавловский.
А от этих первых поразивших меня «совпадений» потянулась ниточка и к другим. Вспомнила и свое рождение в канун празднования иконе «Взыскание погибших», и крестины — теперь я уже не сомневалась, что бабушка — сознательно или бессознательно — по какому-то внутреннему от Бога наущению, а внешне, возможно, по каким-то сугубо частным земным мотивам, понесла крестить меня именно в тот храм, где хранилась (и по сей день сияет миру) эта возлюбленная москвичами чудотворная святыня — икона Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». Позже мне уже часто встречались на перепутьях жизни упоминания этого чудотворного образа Богоматери. Нашла я упоминания и в семейном архиве, в перипетиях судеб моих предков и родных, о чем свидетельствовали воспоминания, записи, документы. Эта икона, наряду с Казанской, считавшейся покровительницей рода, была особо чтимой иконой в нескольких поколениях нашей семьи.
«Взыскание погибших»… Какое чудное имя пожаловала Царица Небесная Своей древней иконе, просиявшей еще в VI веке в Византии спасением от вечной погибели раскаявшегося грешника — инока Феофила, а затем более чем через тысячу лет явленной в России, где Пресвятая Богородица спасала тех, кто, молясь пред Ее образом, призывал Ее в самых крайних, безнадежных обстоятельствах — в неизлечимых болезнях, потеряв путь в бездорожиях жизни…
К Ней прибегали отпетые пьяницы, измученные матери с мольбами о заблудших детях, всеми оставленные сироты. А в народе почитание этой святыни связывали также и с поминовением усопших, нуждавшихся в сугубом предстательстве и заступлении Матери Божией. Наш Московский образ «Взыскания погибших» из давно разрушенной Христорождественской церкви в Палашах, откуда потом икону перенесли в храм Воскресения Словущего что на Успенском Вражке, прославился чудесной помощью одному благочестивому вдовцу-москвичу, дошедшему до края нужды и уже не имевшему возможностей устроить судьбу своих детей-сирот… На полях этой иконы были написаны образы небесных покровителей прежнего владельца: святой мученик Мамант, апостол Филипп, святая праведная Анна, святитель Николай, преподобномученица Параскева и великомученица Екатерина.
Не случайно и то, что самая первая в Москве церковь в честь иконы «Взыскание погибших» была освящена в 1835 году при Александровском сиротском училище.
И все же особую благодатную силу Свою явила Матерь Божия чрез свою икону «Взыскание погибших» в XX веке, когда в адских безднах атеизма, без веры и надежды на Жизнь Вечную начали погибать сотни и тысячи людей. Вот тут-то Пречистая Матерь Божия и пришла на помощь погибающим. Она призывала их к покаянию, Сама становясь их верной Наставницей, Заступницей, и Путеводительницей ко спасению…
* * *
«Пенять на случай — покойный ответ для людей, которые труд рассуждать почитают излишним, и боятся, чтобы не узнать чего необыкновенного, или чтобы не встретиться с Провидением».
Можно ли было, встретившись однажды с действием Промысла Божия в своей или в чьей-то иной судьбе не принять в сердце эти удивительные совпадения и знаки, не пересмотреть в их свете заново и свою жизнь, и те скорбные пути в никуда, по которым уходили от Бога в начале XX века и в даже еще раньше — в XIX веке бывшие до нас, лишившие Небесных опор не только себя самих, но и своих потомков, много пострадавших под тяжким наследством богоотступничества; не задуматься о своем изначальном предназначении, о путях истинных и ложных; не увидеть в последствиях — причин: нашего мало — или полуверия, которым жестоко болела Россия в позапрошлом веке.
Вот так постепенно и стали проступать, казалось, бесследно стертые следы Божественной канвы, которую ткет Промысл Божий перед приходом в мир каждого человека. Эти следы вели в глубины и собственного существования, и в древнейшие истоки рода, в сокрытые в сумраке тысячелетий корни огромного древа, на котором каждому листу был дан свой рисунок, свой чертеж. Это было странное и удивительное древо: эти непохожие друг на друга узоры листьев каким-то непостижимым образом оказывались связанными и сплетенными с рисунками других листьев, а все вместе — со стволом, и, перетекая сквозь него, уходили затем в корни, в начало, в глубины земли-питательницы, и даже еще глубже.
«Без знания истории, — писал В.О. Ключевский, — мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем пришли в мир…».
Но разве классическую историю фактов, событий и поступков имел в виду русский историк? Или разумел он нечто большее, — мистическое, сакральное, сущность жизни как непрерывного потока, а человечество, как единые воды, единую реку со множеством притоков и рукавов, старых и новых русел, где-то переполненных живой влагой, а где-то иссохших. Всматриваясь в эти воды можно было найти и следы своего пути-русла, и то, когда и отчего это русло изменило свой исконный путь и начало мелеть и высыхать. И можно было даже, пока не поздно, попытаться что-то исправить… в настоящем. Но в прошлом? Мог ли бы кто-нибудь исправить прошлое: улетевшее слово, недобрую мысль, недолжное чувство, поступок, цепь малодушных измен своему от Бога данному призванию, потерянные впустую, а значит, и во грех, дни, месяцы, годы, — все это, содеянное не только нами, но и бывшими до нас, давно ушедшими, — разве можно было увидев все это в зеркале вод, приостановить, исправить, вылечить?
«Запомни, веточки очищают корни», — сказал как-то однажды моей дочери-подростку наш духовник, свидетельствуя о том, что закон духовный, в отличие от уставов земных, обратную силу имеет. Как просто! Ведь каждую весну мы столько лет вновь и вновь убеждались в правоте этих слов в саду, где с завидным постоянством вскипала по весне резвая и здоровая зелень на обрезанных по осени кустах. Тут-то и становилось понятным и то, какой ценой обновлялась жизнь, и кто должен был стать этими веточками, готовыми предать себя в любящие Руки под очистительный нож. И Кем был Сам Великий Садовник…
Кормящий ландшафт
Пока бабушка была в силах, все мое детство мы каждый год уже в апреле уезжали с ней в деревню Орехово — наше старинное родовое гнездо, и жили там до поздней осени. И Большая Полянка, и Замоскворечье, и Орехово были и навсегда остались нашей родиной, нашим «кормящим ландшафтом» на этой земле, как сказал бы Лев Николаевич Гумилев, замечательный русский ученый, открывший законы возникновения, развития и угасания этносов. В основу этого учения был положен постулат о «привязанности» этноса к природной среде его обитания, к своему «кормящему ландшафту» — закон неразрывной, кровной, смертной связи человека (и рода, и этноса, к которому он принадлежал) и места его рождения и жизнедеятельности. Родная природная среда кормила, воспитывала и формировала неповторимый облик этноса (частью которого был род), неповторимые черты и особенности поведения, передававшиеся по наследству, от стариков и матерей — к детям. Жесткая связь народа с кормящим ландшафтом, выработка традиций и стереотипов поведения, необходимых для благополучного существования именно на этом месте, рождение в этом народе людей творческих, концентрирующих и выражающих его неповторимый, отличный от соседей облик — по Гумилеву — это и есть Родина. Сочетание этих координат — родной земли, бережно хранимых живых традиций, цветение и плодоношение их в деятельности творческих личностей, выражающих душу этого места и этого народа, и превращает Родину в Отечество.
Русский былинный эпос сохранил множество сказаний о том, как мертвого богатыря спасала и возвращала к жизни своими магическими соками и энергией родная земля. И о том, как разлука и отлучение от родной почвы неминуемо приводили к истаиванию в человеке его самобытности и его творческих сил. Память, конечно, могла поддерживать и довольно долго в человеке духовную связь с родиной, поскольку человек был все-таки на ней рожден и ею вскормлен. Но вот уже его дети и внуки — следующие поколения странников — одной памятью, чтением и рассказами о своем «кормящем ландшафте» насытить свою душу уже были не в состоянии. Начинал действовать неумолимый закон связанности человека (рода и этноса) со своим родным кормильцем-ландшафтом, вне которого и человек, и род, и этнос начинали терять свою самобытность, свое лицо, свою неповторимую и единственную ипостась на этой земле, свое самостоянье. Ту самую «любовь к отческим гробам» и «любовь к родному пепелищу», о которой еще задолго до Гумилева сказал Пушкин, утверждавший, что «На них основано от века / По воле Бога самого / Самостоянье человека / Залог величия его».
А вслед за утратой «самостоянья» — живой связи со своим «кормильцем», вступала в действие новая и неотвратимая напасть — обрыв «сигнальной наследственности» — передающихся по наследству преимущественно от старших к младшим, от матери к детям — путем подражания — традиционных особенностей поведения. Не «я так хочу», но переданных от старших, от старины устойчивых условных поведенческих рефлексов и реакций на мир.
Феномен «сигнальной наследственности» или, проще, негенетической преемственности был впервые открыт генетиком М. Лобашевым, пронаблюдавшим и описавшим процесс заимствования потомством жизненно важных навыков от старшего поколения. Это открытие широко использовал в разработке своей теории этноса и Л.Н. Гумилев. По его мнению, кормящий ландшафт и сигнальная наследственность и были теми условиями, при помощи которых формировались неповторимые и устойчивые во временах лики этносов. А в отрыве от родной земли, от семейственных и родовых связей и этносу и даже отдельному человеку сохранить свою самобытность, свое лицо, сотворенное и запечатленное в традициях поведения, в непосредственных реакциях и восприятиях мира, преемственно передавамых «из рода в род», было невозможно.
Теряли лицо, а затем самих себя и свою жизнь многие, пребывавшие ранее в пространствах истории этносы. Они растворялись в других «водах» и «течениях» духовно и метафизически, а вслед за тем неминуемо утрачивали и свою землю, как физическую реальность, превращаясь в этносы-бомжи, чтобы вслед за тем прекратить и свое собственное самостоятельное существование на земле.
* * *
После кончины бабушки и ее сестры — Веры Александровны Жуковской связь с Ореховым — родовым нашим гнездом довольно скоро прервалась — превращенное в музей и зажившее своей новой жизнью под управлением чиновников «от культуры», оно, казалось бы, уже не нуждалось в нас. Но мы-то не могли жить без него! Такая пронзительная любовь к родине была всегда особенностью нашего рода. Помню, последние предсмертные годы бабушки, когда из-за тяжелой болезни она не могла выходить из дома, нередко из уст ее я слышала не жалобу, — ее мужественная душа не знала ни ропота, ни жалоб! — а какой-то стон и боль: «Только бы одним глазом, хоть на минуточку увидеть Орехово!». И бабушкиной боли вторило мое сердце: ведь все свое детство я прожила почти безвыездно в Орехове и то, что чувствовала она, то чувствовала и я.
…Уже в середине марта, по погоде мы с бабушкой начинали собираться в Орехово. Вечерами, засыпая, я слушала приглушенные разговоры о том, как и на чем перевезти в Орехово шифоньерку, что взять из продуктов, надо ли купить Катюшку новые ботиночки… А потом появлялся под нашими окнами старая послевоенная кряхтящая и пышущая бензиновыми парами полуторка, на которую погружался немногий скарб, ибо семья жила крайне скудно — ни знаменитое и почитаемое имя дедушки Жуковского, ни Сталинские премии дядюшки Микулина — все это в материальном отношении никак не касалось бабушкиной семьи, а потому на семь-восемь месяцев жизни в Орехове приходилось везти чуть ли не все московское имущество. А потом вместе с ним же возвращаться на зиму в Москву.
Мы с бабушкой устраивались в кабине. Я — у нее на руках в предвкушении наслаждения дорогой. Но она тогда была не быстрой — часов шесть, а то и семь. И я засыпала… Когда же миновав знаменитые и страшные — «с волками!» — Оболенские леса, наш грузовичок приближался к ореховским «Сосенкам» — чудесному чистейшему и благоуханному приусадебному лесу и начиналось обсуждение, как ехать, напрямки или в объезд, и цел ли мост через овраг, и не раскисла ли дорога, — у меня замирало сердце, как будто меня ждала встреча с чем-то или кем-то невыразимо прекрасным и самым дорогим. Оно и сейчас так же замирает…
Что за магия была в нашем доме? Во-первых, запахи… Кто усомнится, что это были именно старинные запахи! Они не могли выветриться за какие-то двадцать с небольшим лет. Это были свои родные для дома запахи — живые струи былой отшедшей жизни: пахли страницы книг, дышал хлебом старинный буфет, как когда-то после войны благоухали дивным запахом только испеченного хлеба даже совсем пустые затертые от времени толстенные доски полок московских булочных. А потом этот запах вместе со старыми булочными исчез совсем и уже вновь никогда не появлялся. Неужели так изменился состав хлеба?! Или люди? Или жизнь?
Особенные запахи жили во флигеле, где были какие-то заброшенные чуланчики с паутиной и вечно жужжащими пленницами-мухами. Какой-то неизъяснимый запах жил в почти пустом флакончике от одеколона, который стоял на тумбочке у кровати прапрабабушки Анны Николаевны Жуковской. То, что в нем оставалось на донышке, загустело и затвердело и совсем не излучало запаха духов. Что-то горьковатое, щемящее, какой-то слабый привкус мускуса поражал чуткие детские ноздри, проникая до самых глубин сердца. И старые мастерски засушенные букеты из колосьев, ковыля и каких-то неузнаваемых растений в старинных фарфоровых вазах, и этот флакончик от духов, которым последний раз наверное, пользовалась моя прапрабабуля еще до Первой Мировой войны, и опустевшие старинные шкатулки со множеством отделений и остатками муаровой подкладки, где так хотелось найти случайно забытую пуговицу или монетку, или обрывок письма, оставшегося от тех времен, и картина, простреленная пулей, с которой была связана давнишняя семейная история, и древняя икона в позолоченном окладе на бабушкином прикроватном столике, — все в глубокой тишине говорило со мной, и моя детская душа становилась, как у Тютчева, живым элизиумом теней… Она не могла примириться с тем, что в доме никого, кроме нас с бабушкой нет, что живая жизнь этого дома ушла безвозвратно и что это непоправимо.
Как же так, — мучилась душа, — дом есть, остались какие-то вещи, такие знакомые, хранящие семейные запахи, а людей, которых невозможно отделить от стен этого дома — нет! И душа моя неустанно искала хотя бы какие-то их не смытые годами следы…
Детский глаз видит мир зорко и близко, крупным планом. Стебелек цветка, огромные старые кусты смородины — не помню ягод, может, они уже и выродились к тем годам эти кусты, но какой чудный, крепкий смородиновый дух шел от листьев! Старое крыльцо с гранитными замшелыми камнями ступенек и боковин, а в камне выбоинки, обросшие мхом. А в выбоинках — вода, прозрачная, то ли после вчерашнего шумного ливня, то ли роса. А в сенях — прадедовский токарный станок. Все мужчины в семье имели золотые руки и по старинной дворянской традиции обязательно с детства обучались ремеслам. А на бывшей крокетной площадке, заросшей травой, после покоса становились видны следы давным-давно сделанных разметок, оставшихся от тех времен, когда здесь играли в крокет и в городки. И так было каждый год: я все искала и искала следы ушедшей ореховской жизни, к которой я без сомнения была причастна всем своим сердцем, всем существом и всей своей природой, — а вдруг найдется среди этих следов записочка, оставленная кем-то для меня?
…Старинный деревянный дом, запущенный и буйно заросший лопухами, крапивой и лесными цветами сумрачный парк, аллеи под сводами вековечных лип, пропускающих на эти заросли лишь редкие солнечные блики, беззаботно играющие в пятнашки в соответствии с волнениями ветра в кронах… Давным-давно опустевший парк, таинственный и невообразимо печальный, всегда о чем-то своем молчащий или тихо оплакивающий ему одному уже только известные и дорогие утраты. Всегда темная и влажная от недостатка солнца, покрытая зеленоватым мхом земля.
Таким я помню этот парк.
…Со временем сердце стало смиряться с тем, что родины нашей для нас нет, нет отчего гнезда, очага, вокруг которого всегда собиралась семья, который грел и хранил одиноких стариков-потомков и единственное малое дитя в трудные и голодные годы. А вместе с тем пришел ко мне часто повторяющийся сон…
Наконец-то все устроилось, и мы, наконец-то можем возвратиться в Орехово. Знакомый путь, столетние березы, старый темный заросший парк с высоченными старинными липами и одинокими скамейками, на которых давно уже никто не сидел, цветник у пруда с еле заметными когда-то песчаными дорожками, — все как прежде сокровенное, древнее, хранящее как эти затянутые ряской пруды, старинные тайны даже прежних хозяев усадьбы еще времен Екатерины II… И вдруг — совсем рядом, чуть ли не наседающие на наш милый старинный дом страшные беспросветно-унылые серые хрущевские постройки, какие-то бетонные свинарники, асфальт, грязь, какие-то незнакомые бесцеремонно хозяйничающие люди, мертвечина…
Этот сон повторялся точь в точь несколько раз и был он для меня очень страшным сном. Видно, пришло время в сердце своем похоронить и навсегда упокоить Орехово и всю память об ореховской жизни. Но шли годы, все дальше и дальше удаляя меня от родных ореховских аллей, а рана в сердце так и не могла затянуться. Может быть, потому, что «похоронив» Орехово мы его не «отпели»?
На фото: Дом и пруд в имении Орехово. Вид со стороны цветника.
..Первые десять лет моей жизни — вплоть до своей тяжелой болезни бабушка была на ногах: и со мной много занималась, и в реставрационные командировки выезжала, она ведь была замечательным, известным реставратором древнерусской живописи — фресок и икон. Иногда она уезжала и надолго. Зато потом привозила чемодан винограду, а то и чемодан денег, — правда, совсем обесцененных — это было очень раннее мое воспоминание. А запомнилось, наверное, по изумлению и радости мамы и соседей.
В те послевоенные годы бабушка работала в Третьяковке в реставрационных мастерских. Она каждый день ходила по своим делам, благо все было рядом, — Полянка, Старомонетный и Малый Толмачевский переулки, — а я, держа ее за руку, повсюду пребывала вместе с ней, важничая и ощущая себя то ли помощником бабушки, то ли ее проекцией…
…И вот, как обычно, по утру, почти каждый день выходили мы с бабушкой на тихую и пустынную Большую Полянку, отправляясь в поход по Бабьегородскому и Голутвинским переулкам, по Спасоналивковскому — мимо бывшего Подворья Пантелеймонова Афонского монастыря, где жил в начале ХХ века преподобный старец Аристоклий, мимо церкви святителя Григория Неокессарийского, где в двадцатые годы ХХ века в доме, принадлежавшем храму, тихо и прикровенно доживали монахини закрытого еще в 20-е годы Аносино-Борисоглебского монастыря.
Только много лет спустя, прочитав впервые об этом монастыре и его насельницах, и затем еще много раз ненасытимо перечитав эти сладостные страницы и вдоволь надышавшись воздухом той прежней монастырской жизни, могла я горько подосадовать, что, живя с матушками на одной улице, мне так и не довелось встретить их в раннем моем детстве хотя бы под сводами колокольни храма святителя Григория Неокессарийского, где был пробит сквозной проход для пешеходов. Хотя, кто знает, может быть, мы все-таки и встречались?
Древние ветхие врата этого храма как магнит притягивали мое внимание. Мне казалось, что за ними живет что-то совершенно необычайное, может быть даже немного страшное. Мой дух замирал, и я искала хоть какое-нибудь крохотное отверстие, чтобы заглянуть внутрь. Увы, храм был закрыт, изуродован, а потом, словно в издевку его превратили в место скупки и продажи «русского света» — древних наших икон.
На обочинах тротуаров, помню, еще сохранялись каменные тумбы, к которым раньше извозчики привязывали лошадей. Дома шли по Полянке низкие, осевшие — эдакие Стародумы — с вросшими в землю окошками, превратившимися из первых этажей в подвалы. Из князи в грязи. Как же это, думала я, умудряется жизнь насыпать за годы — за одно-другое столетие столько земли, что дома погребает? Зачем так вообще засыпается землею жизнь? Засыпается, и все уходит ниже, ниже… И мне все думалось, как бы откопать эти домишки, да посмотреть, каким был тот тротуар, по которому ходили еще в прежние, стародавние времена…
Всегда притягивали мое внимание чугунные оградки сквериков, низенькие и старинные, по всей видимости, настоящего Каслинского литья, — никто, уверена, не думал о том, что они вот остались от той, прежней, еще не погибшей России. А я почему-то всегда именно об этом и думала, проходя мимо.
Были у нас в Замоскворечье и голубятни. В переулках можно было идти босиком по чистому белому песку — не закованному в гранит исподнему девичьему бельишку Москва-реки, заросшему местами утоптанной травой, гусиной лапкой и подорожником.
…Путь наш с бабушкой лежал в сторону Голутвинских переулков, потому что там была корова, где бабушка брала для меня молоко. Удивительно: но сейчас, написав эти строки, я мгновенно вспоминаю его вкус. Тому, что совсем недалеко от Кремля — по ту сторону реки жила корова, ничуть удивляться не стоит. В Замоскворечье еще очень много оставалось настоящих нетронутых «поленовских двориков». А потому для меня этот поленовский шедевр всегда был и остался еще и документально точным снимком с натуры (хотя дворик-то у Поленова Арбатский…) — с наших Замоскворецких мест…
Вот деревянные крышки глубоко врытых в землю мусорных ящиков, — их в прежние времена даже на московские карты наносили, — такой был порядок. Вот и у Поленова видим ящик на первом плане. И у нас такие были. Вокруг песочек, чистота, за ящиком — метелка. Никаких тебе запахов. Тем не менее, когда я норовила туда к задним стенам примыкавших к скверикам домов отъехать со своей лопаткой и ведерком, бабушка меня из этих отдаленных и сугубо привлекательных мест тут же вытаскивала. Негоже ребенку играть у помоек, даже таких ухоженных и аккуратных.
Был у нас с бабушкой любимый скверик: по соседству с Морозовской детской больницей — между Полянкой и Малой Якиманкой, а точнее по соседству с Иверской общиной сестер милосердия. Мы с бабушкой там всегда делали «привал»…
Я мгновенно выкликиваю эту картинку из памяти… Солнечный майский или июньский московский день, пустой скверик, только бабушка с какой-то женщиной на скамейке, да я, да, может, еще один ребенок в высохшей и почти пустой песочнице… И все я там исследую: почву, землю, ольховые сережки, состав песка, какие-то мелкие в нем камушки и кусочки попадавшихся еще в то время «чертовых пальцев»…
Что за обаяние такое таинственное было у этих старых замоскворецких сквериков, что я до сих пор их так помню? Помню опять же запахи какие-то особенные — так пахли старые книги в ореховских книжных шкафах, запахи московской земли и песка, нагретого на солнце, или после дождя… Даже руки после копания в такой земле долго пахли земляным пьянящим духом… Я всегда с наслаждением принюхивалась к своим рукам после копания в земле: вся кожа до локтей благоухала этим хлебных духом московской земли. Чем не самый, что ни на есть кормящий ландшафт?..
Особенно пьянили запахи весной, когда все просыхало, ликовало солнышком, когда начинали поливать из шлангов дворы и все выходили на первые субботники, после чего дворы стояли такими убранными, свежекрашенными, праздничными — аккурат к куличам, к Пасхе!
Пасху помню как-то больше на май: пустынные улицы, фигурки бабулек в белых ситцевых платочках с пасхальной снедью тоже в платочки завязанной, ярко зеленые точки распускающейся листвы на сквозных еще весенних деревьях, особенную чистоту и порядок всего мира и предпасхальную тишину в доме: няня Агаша, перед уходом в церковь ставила тесто на куличи, и не то, что бегать, ходить-то по дому мне не разрешали…
А за неделю-две бывал на Москва-реке ледоход. И если это приходилось на воскресенье, то мама начинала начищать и наглаживать мне, как в гости, мою нехитрую одежонку, чтобы идти на Каменный мост смотреть, как идет лед… И не одни мы там были: много народу приходило, как на салют, смотреть на вспучившуюся реку, на серые грязные льдины… И это тоже были наши праздники, и наша родная московская жизнь, и наш родной кормящий ландшафт, и люди на мосту были тоже все родные…
* * *
Со временем я узнала, что тот наш любимый с бабушкой скверик примыкал почти вплотную к двум храмам — во имя Иверской иконы Божией Матери, который когда-то находился, как и вся Община, под покровительством Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны, — и к Благовещенской церкви, построенной еще в 1493 году. В ней имелся придел святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны. В честь святых родителей Богородицы и получили давным-давно свое название улицы Большая и Малая Якиманка. Иконостас в этой церкви был творением великого Баженова и слыл шедевром. Храм начали губить в уже в 1932 году, но не догубили, а отдали его в 1933 году под кузнечно-прессовый цех. Павел Корин в 1966 году пытался заступиться за остатки изуродованного храма, но это его не спасло. Родная сестра Павла Дмитриевича жила в одном с нами дворе на Большой Полянке с сыном Митей, названным в честь деда. Они были дружны с моей бабушкой и мамой, а Митю я даже считала (про себя) своим старшим братом (за неимением такового в реальности).
В 1965 году было решено прорубить окно на Ленинский проспект — с Полянки на Якиманку в промежутке меж двух храмов, где, кстати, и находился вблизи храмов и старинной застройки наш с бабушкой скверик. Его тоже уничтожили, остаток «суши» перед проезжей частью закрыли гранитом, отполировали так, что ноги разъезжались, и водрузили пятник Георгию Димитрову — с кулаком. Прорубив окно, пустили лавину машин на недавно тихую, помнящую еще Антон Павловича Чехова и типографию Свято-Пантелеймонова Афонского монастыря Якиманку, а самоё Якиманку — такое нежное, материнское семейственно-теплое название улицы, — переименовали в Димитрова тож. С кулаком …
А в ночь на 4 ноября 1969 года остатки храма Благовещения с престолом свв. Иоакима и Анны взорвали под предлогом, что он будет мешать движению по правительственной трассе, хотя храм даже и не выходил на проезжую часть…
Храм Иверской общины чудом сохранился, в ее зданиях поместилась Морозовская детская больница. Но в каком был чудовищном запустении этот прекрасный храм, какое смертельное уныние царило во дворах когда-то любовно отстроенного святого места: темнота, сырость, осклизлость вечно мокрых от влажности заплесневелых стен, жуткие запахи жизнедеятельности больничной лаборатории, грязь, одичание, умирание — этот скорбный ряд эпитетов можно было бы продолжать еще и еще… И это тоже было раннее и памятное мое детское воспоминание от этого изуродованного святого места — ощущение даже не страха, а неизъяснимого ужаса…
Вместе с уничтожением Благовещенской церкви с престолом в честь святых родителей Богородицы было довершено уничтожение следов очень высокого духовного патриаршего замысла — воспеть Похвалу Божией Матери по всему движению этих старинных улиц-ручьев — Якиманки и Полянки, в сторону Кремля с его духовным центром — Успенским Собором. Святые родители Богоматери, ее преславное Рождество, Благовещение, а вблизи и другие Богородичные храмы в честь Ея святых икон…
Наша родная Полянка — тоже была не просто Полянка. И улица наша, и мост через Обводной канал назывались прежде Космодемьяновскими в честь храма свв. бессребреников Космы и Дамиана, который находился чуть дальше Благовещенского храма, если двигаться в сторону Москва-реки. Главный престол храма был сооружен в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В нем тоже был создан изумительный по красоте пятиярусный резной иконостас. За его возведением наблюдал сам Святейший Патриарх Адриан. Сохранилось известие о его посещении храма 4 сентября 1692 года. Когда церковь в 1930 году закрыли, иконостас сразу начали беззастенчиво грабить. Соперничали две мощные организации — ОГПУ и Антиквариат. Одни хотели продать этот резной шедевр вместе с древними иконами за границу, а ОГПУ вожделело золота иконостаса, для чего он и был дотла сожжен, а золото выплавлено. В 1933 году церковь была полностью разобрана…
Увы, не довелось мне в детстве увидеть эти уничтоженные Богородичные храмы, но я знала от родных, что окна нашей квартиры выходили прямо на то место, где раньше стоял чудный храм Рождества Богоматери, а на месте нашего нового (1940 года постройки) дома раньше располагались дома церковного причта Космодемьянского храма.
Одно только выпало мне счастье — подышать тогда еще живым воздухом благодати, хоть и не в самих храмах, но хотя бы на их святых местах, среди старинной застройки, на живой земле, еще не закованной в асфальт, среди многих еще тихо доживавших там верующих людей. Это уж потом наши места превратили в одно сплошное «эльдорадо», а тогда мы чувствовали свою связь со старой Москвой. Верило сердце, что и святые поруганных храмов, и Сама Матерь Божия не оставили своих когда-то освященных и намоленных мест и несчастных, заблудших овец стада Христова, верилось, что святые все-таки тихо участвовали и в наших запутанных жизнях….
Случайно или нет, но моя мать отошла ко Господу в день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана — в ночь с 14 июля нового стиля, или 1-го июля по старому на 15-ое — на Праздник Положения Ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне.
…В Бродниковом переулке — совсем от нас близко, был небольшой Полянский рынок. Стояли телеги, возки; на длинных деревянных рядах не часто, свободно выстраивались крынки, и крыночки, и стаканчики с румяной ряженкой, от бочек головокружительно пахло настоящей квашеной капустой, деревенскими бочковыми огурцами. Были и еще какие-то кисловатые запахи коней, одежды, сена, — это был хорошо знакомый мне с первых месяцев жизни запах деревни. Еще в 70-ые годы, когда я много ездила по России — командировки были как минимум раз в месяц, а то и два, — я еще слышала этот запах в деревнях. Но уже после перерыва в середине 90-х попав в деревню — одну, другую, я этого родного мне запаха не услышала. Исчезла скотина, исчезли хлева, исчезли настоящие русские печи, замененные какими-то новоделами, исчезла глиняная и чугунная посуда, — и уже деревня стала — во всяком случае, ближе к центру России, что дача.
…Но чудо Полянского рынка для меня было сокрыто в другом: к нам в Бродников переулок приезжали из-под Троице-Сергия, из-под Нижнего торговцы деревянными игрушками. Белые игрушки привозили Богородские, а расписные — Полхов-Майданские — из Сарово-Дивеевских мест. Они пахли соками свежеструганного дерева, запахами избы, любимыми «черными» (ржаными) лепешками из русской печки, которые натирались — так у нас говорили, — со сметаной. Расписные игрушки — свистульки, матрешки, коробочки, яички-писанки ошеломляли меня своей красотой. Они в моем сознании сливались с великолепием ивановских ситцев — я носила ситцевые платьица с теми старинными узорами, что еще береглись (недосуг еще, видно, было кому-то все это испортить, да и дизайнеры, слава Богу! тогда еще не народились) от прошлого XIX века — какая же это была красота! Синие фоны, мелкий цветочек, а то и попросту частый мелкий горошек, да синий фон-то какой был густой, кобальтовый… Потому-то я так любила, как любят изысканные произведения искусства (а чем ситцы, были не произведения искусства?) эти старенькие свои, застиранные, но всегда наглаженные, чистые и с воротничками платьица. А к ним две тугих косички с бантами — чистота и стянутость лба — до хруста! Старая школа: детей всегда содержать в безупречной чистоте, в подтянутости, хоть в ситцах. Хоть в шелках…
Была у меня неисполнимая, неосуществимая, фантастическая и даже абсолютно безумная по нашей круглой бедности мечта — заполучить вот такую расписную Полхов-Майданскую колясочку для кукол. Хотя самой куклы-то у меня не было (ну, другие какие-то игрушки, попроще), но колясочка…Ее ярко-ситцевая роспись, ее свежеструганный запах… А вот вспомнить, дождалась ли я все-таки этой колясочки или нет, трудно. Смутно помню: быть может, в конце концов, мне ее все-таки и умудрились купить, но давно сказано поэтом, что «предчувствия сильнее чувств», а вожделения — сильней владения.
Все в этом маленьком Бродниковом переулке сливалось для меня вместе во что-то единое — загорелые лица баб, крутой запах махорки, сено у лошадок, дух нагретой живой московской земли (как я любила и пыль Московскую), крынки, деревня, пришедшая сюда в Москву и принесшая с собой Россию, которую детское сердце познавало через запахи, через глаза, через сердце и через какие-то другие неведомые органы чувств.
Кто сказал, что у человека столько-то вот органов чувств? А откуда же эта пронзительная детская память?! Откуда эта за всю жизнь неизбытая любовь, ни на что этот Полянский рынок не променявшая, ничем лучшим не соблазнившаяся?
…До реки от нас было что-то чуть меньше километра. Малый Каменный, Большой Каменный Мосты, и — перед глазами на горе, сказочный, как выплывающая из окиян-моря царевна-Лебедь — царственный Кремль с соборами. А там, между прочим, еще сидел Сталин. Но мне было все равно. Вокруг меня и под ногами моими была Россия и Русская земля.
* * *
Тихое было в те 50-е годы Замоскворечье: смиренное и одухотворенное. Еще оставались остатки знаменитых замоскворецких садов — кусочек сада усадьбы Третьяковых около Третьяковки, где мы в школьные годы еще умудрялись лазить, играть и таскать со старых яблонь одичавшие зеленцы. Были остатки таинственного сада между Марфо-Мариинской обителью и Полянкой. Я, конечно, ничего тогда не знала о том, что это было за место, но таинственное, пронзительно-насыщенное его молчание — слышала. Был рядышком маленький Старомонетный переулок с высоченными старыми тополями у здания моей второй школы. Охватить их невозможно было даже втроем. И я любила потом под этими тополями, в тишине, присев на широких каменных школьных ступеньках готовиться к первым моим экзаменам.
Как небыль собственное детство — Тишайший полдень улицы родной, Москва-реки отлог песчаный, И тополиный пух, летучий, неземной…Тишина наших Замоскворецких переулков была какая-то особенная, молитвенная тишина. Молилась древняя, вековечная святая Московская земля, молились за нас пред Господом тысячи и миллионы усопших праведных и святых душ, что родила и погребла эта московская земля, «воздыханиями неизглаголанными» молились и наши, еще слепые, не прозревшие, но чуткие сердца, отзываясь на незримую молитву предков-небожителей и освященной нашей земли.
…Даже старые магазины оставались в Замоскворечье на своих прежних привычных местах — овощной соседки называли «Дунаевским» по фамилии его дореволюционного владельца. Молочную, до самой аж «перестройки» сохранявшую свой дореволюционный узорчатый кафель, свежесть продуктов, ловкость и доброту продавщиц, называли «Чичкинской»…
Вечерами мы выходили на наш крохотный декоративный балкончик и, опершись на его парапет, стояли и смотрели в сторону реки на закат … И отец мне почему-то часто повторял одни и те же слова: «Смотри, вон там за рекой (а от нас было видно это место), на берегу стоял прежде Храм Христа Спасителя, и он был так красив, что даже нас, отчаянных Таганских и Рогожских рабфаковских мальчишек он тянул к себе как магнит. Мы часто сюда бегали… Если б ты могла услышать, как гудели его колокола…»
Отец любил и хорошо знал Москву. Он не был церковным человеком, но поистине Божие чудо свершалось в том, что именно на этом балкончике и именно от отца я впервые услышала имя Христа. Во всяком случае, я так помню. Отец, пройдя всю войну в автодорожных частях, теперь работал инженером, кроме того, он был спортсмен, как многие тогда… Живой общительный человек, отец любил и умел потанцевать, попеть, слегка пошутить, и некоторые родственники даже несколько свысока говорили о его якобы легковесном отношении к жизни. Отец действительно совсем не умел зарабатывать деньги (сверх положенного жалования) и как-то ловко устраиваться в этой жизни. Наверное, он был романтик, — могла бы сказать я. Но не скажу, потому что всегда знала об отце другое: он был сокровенный даже для самого себя мистик. Именно он сказал мне имя Христа. Именно он, каждый вечер, присаживаясь у моей кроватки, сочинял мне сказочные истории, в которых все человечество рисовалось мне неким деловито снующим муравейником, люди — маленькими муравьями, над которыми в необозримой выси существовал кто-то всемогущий, справедливый, милостивый, а иногда и гневно-грозный. И потом многие годы, даже десятилетия, меня этот образ не оставлял.
Мне часто представлялось, чуть ли не физически ощутимо, что этот муравей — я, а вокруг меня — гигантский реликтовый лес и неба над ним я не вижу, и смотреть туда даже не решаюсь. Но я иду, не зная куда, и Кого-то всем своим существом ищу, ибо даже не пытаясь поднять главы, я чувствую над собой присутствие Того, Кого я ищу. Но чаща непроходима… Но страшен бурелом… А я все-таки иду, и в конце-концов я начинаю сквозь черноту стволов видеть еле заметные проблески света…
Этот маленький сюжет моего детства, связанный с памятью отца и Храмом Христа Спасителя, имел свое продолжение. Много лет спустя, уже и папы не было в живых, в какой-то свободный от работы хороший осенний день мне захотелось перейти через мост и просто посидеть в сквере, который окружал тогда печально известный бассейн у Москва-реки. Там было хорошо, тихо, чисто. День осенний был задумчив и влек к созерцанию… Дорожки были посыпаны красным толченым кирпичом или гравием и над скамейками нависали, склонялись к моей голове еще не опавшие золотокрасные ветви кустов боярышника и жасмина. Помню, была у меня с собой какая-то хорошая книжка, блокнотик и что-то мне хотелось тогда там записывать. Но я не стала ничего писать. Не стала ничего читать, и думать ни о чем не стала. Меня окутала неземная тишина и сладостный, невыразимо сладостный покой. И я не знала, что это было, что я чувствовала, о чем мне шептало тогда это молчание…
А потом еще прошли годы, и не малые. Но я никогда не могла забыть тех минут, хотя и объяснить тогдашних ощущений не умела. И вот только теперь я могу попытаться это хоть как-то назвать… Тем чудным тихим осенним днем 1977 года в центре Москвы, в нескольких шагах от Волхонки, невдалеке от шума и шелестения машин на меня на миг спустилась и окутала своим покровом Вечность.
…А, может быть, здесь душа почувствовала присутствие Ангелов Храма, вечно стрегущих свои алтари?
Когда ковчегом старинной веры Сиял над столицею Храм Христа, Весна у стен его, в тихих скверах, Была мечтательна и чиста. Привычкой радостною влекомый, Обычай отроческий храня, К узорным клумбам, скамье знакомой Я приходил на исходе дня В кустах жасмина звенели птицы, Чертя полет к золотым крестам, И жизни следующую страницу Я перелистывал тихо там.(Отрывок из стихотворения "Каменный старец" Даниила Андреева)
…Помню, в раннем детстве меня всегда озадачивало, почему жилье человеческое пахнет по-разному? Неподалеку от нас жили близкие родственники, но дух в наших квартирах царил совершенно разный. Это я очень хорошо различала в детстве. Конечно, тут присутствовали и запахи, не только метафизические, но и к одним физическим параметрам не сводимые… Что это было? Быть может, свойственные иногда раннему детскому возрасту проблески чистого духовного восприятия? Ведь по святым Отцам так же, как существует благоухание святости, так же являет себя и зловоние греха и это они, Святые Отцы, разумеется, знали от опыта, и, конечно же, не просто так фигурально выражались.
Вот я вспоминаю бабушку… Ее нет на земле уже более сорока лет, но когда я думаю о ней и хочу как-то получше воскресить в памяти ее облик, не черты лица рисуются моему воображению, не слова какие-то слышатся, а что-то более похожее на невещественный, не химического состава запах, что-то для глаза и слуха и земных органов чувств неуловимое: не внешнее, но нечто все же явно осязаемое, только осязаемое тем, что больше и выше возможностей чувств — духом. Как если бы кто-то очень близкий, с кем вы долго вместе живете, однажды тихо и незаметно подошел бы к вам и встал за вашей спиной, и вы бы не слухом, не зрением, но всем своим существом почувствовали бы его присутствие, и узнали бы его, и, не оборачиваясь, спросили: «Это ты?»… Так мне вспоминается и бабушка в ее сокровенной духовной и личностной сущности, в ее первооснове, в ее духовном излучении или свечении, или, может быть, лучше сказать, в образе? Ибо образ в своей первооснове — это, ведь, не только символическое изображение в красках или при помощи словесной живописи, — это, скорее, звук, музыка, мелодия, то есть, нечто, не имеющее никакого земного средства выражения — ни грубого — в картинах красками, ни более хрупкого — в картинах словесных. Это концентрация, синтез духовной сущности человека, при этом не совсем лишенной и природно-телесных элементов, к примеру, того, что я называю запахом. Это возможно, та личностная субстанция, которая замышляется и сотворяется Богом еще до зарождения в материнской утробе человеческого существа, и одновременно это то, что остается и сохраняется после того, как разрушается все видимое, и ощутимое материально…
Бабушка была родная, присная, с младенчества необыкновенно мне близкая, мною досконально изученная и со всей возможной тщательностью мною в себя впитанная. И поэтому позднее, в возрасте уже не раннем, а более сознательном, приметливом, когда мы вместе с бабушкой разглядывали семейные фотографии, я уже целенаправленно впивалась глазами в некоторые любимые мною детали…
Руки бабушки и руки прадеда Николая Егоровича Жуковского, руки его матери — прапрабабушки Анны Николаевны — имели разительное сходство, и было в них что-то неизъяснимо привлекательное, неповторимое — я бы всегда их узнала среди сотен и тысяч рук. Да и у дяди Кирилла, бабушкиного сына, были точно такие же руки, и у мамы, хотя, на первый взгляд, что могло быть общего: мама — скульптор-монументалист, работала с тяжелой глиной, с камнем и деревом, с тяжелыми инструментами и потому ее руки были развиты мощно. И все же это были все те же сильные, благородные Жуковские руки! Но хороши они были не длинной пальцев, ни формой ногтей, ни каким-то характерным изгибом большого пальца, — нет, хотя все это, вероятно, с точки зрения антрополога и художника было и пропорционально, и совершенно, и благородно. Но я и по сей день вижу красоту этих рук совсем в ином. Это были умные руки, молитвенные, навыкшие к трудам, выражавшие внутреннюю гармонию и наследственную предрасположенность к благородству тех, кому они принадлежали. А ведь люди, которых я назвала, были довольно разными…
Все это говорило мне о таинственной концентрации сущностных родовых признаков, о природном, физическом и духовном единстве рода, как о некоем непреложном Божественном законе человеческой жизни. О человечестве, как о едином Адаме, о его, человечества, Священной Истории — Истории Божественного Домостроительства; о потомках Каиновых и о потомках Сифовых, о родовой греховности и о родовой праведности, о причудливых переплетениях в судьбах родов добра и зла, о всемогущественном Божием прощении потомков праведных отцов, и о неотвратимых наказаниях потомков богоотступников «до четвертого рода». И о том, что есть крайняя нужда каждому потрудиться познать свой род в этих перипетиях добра и зла и найти в нем себя — свою точку отсчета, свое место и назначение в роду, свою ответственность перед самим собой, перед предками и потомками. Ведь дело-то идет не о малом, а о наследственности, с которой мы рождаемся, живем, даже не отдавая себе отчета в ее существовании. Разве что, когда речь идет о физических болезнях. А психика? А духовное наследование?
Как о научно доказанном факте наследования от родителей не только физических, но и духовных свойств говорили и святые отцы древности — Макарий Великий, например, а в поздние времена — выдающийся хирург и святой архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), и митрополит Антоний Сурожский, утверждавший, что каждое поколение наследует от всех предыдущих не только свойства ума, сердца, воли, телесные особенности, но и разрешенные и неразрешенные проблемы духовного плана… Если родители в самих себе разрешат какую-то проблему, они передадут детям человечество более утонченное, освобожденное от этого «проклятого вопроса», если же родители не сумеют его разрешить, следующее поколение рано или поздно с тем «проклятым вопросом» столкнется. А, столкнувшись, преодолевая в себе этот проблемный узел, человек способен снять тяжесть наследственных «грузов» не только с себя, но и со своих давно усопших отцов и дедов, и, конечно же, «очистить от долгов» и свое наследство детям.
Какое чудо — возможность исправить не только свое собственное настоящее, но прошлое и будущее нескольких поколений своего рода дарует Бог человеку. Человек — не один. Человек — это цепь рождений: это его предки, это его род, у которого есть своя родовая Богом данная сверхзадача, миссия, которую род должен осуществить на земле, и средства для осуществления этой цели — те представители рода, которым предназначена особая роль в этом Божественном сценарии. Исполнив все, что на него возложено, род, как и человек, начинает угасать, быть может, дав жизнь уже новым ветвям и новым задачам новых родов.
Все это просматривалось и в рисунках исторической канвы и близких нам родов.
…Впрочем, к медитациям на эту тему побуждало частое и глубокое погружение в содержимое того самого огромного несгораемого шкафа, что стоял в комнате у бабушки, претендовавшего в детском восприятии даже на своеобразную одушевленность. Какие драгоценности сберег этот «Личарда верный», сколько сохранил подлинных, и сокровенно-пронзительных свидетельств об ушедшей жизни и о том, что имело отношение уже не к прошлому, а к будущему, а именно к судьбе потомков тех, чья материализованная память жила в несгораемом шкафу. Какой мало-мальски размышляющий потомок не захотел бы заглянуть в прошлое, чтобы, с замиранием сердца подсмотреть там что-то и о своем будущем, не сравнить прожитое с тем, а как бы надо было его прожить, и какие пути-дороги вели к цели, а какие — в дебри…
На фото: Бабушка Екатерина Александровна Домбровская в Орехове — родовом гнезде Жуковских. 1947 год.
Четвертый всадник
…И вот, наконец, пришло время открыть тяжелую двухметровую дверь стального несгораемого шкафа, который много лет стоял в углу бабушкиной комнаты. Шкаф был огромен и мрачен, внутри черен, а снаружи выкрашен белой краской; двери его лязгали, открываясь… Массивный немецкий замок со сложной системой засовов был давно сломан. Воры, добравшись во время войны до несгораемого шкафа, испортили его, почем зря: ничего ценного, кроме пожелтевших бумаг да старых ветхих книг, они в нем так и не нашли. А потому и оставили теперь уже никогда не запиравшийся шкаф в покое. Странно, но при замке сохранились даже ключи, которые уже ничего не отпирали и не закрывали…
Шкаф был забит до верху: бабушкиными книгами о церковных древностях, семейной перепиской в ветхих папках и коробках от конфет забытых мастей, с крышками, украшенными роскошными послевоенными картинками — то сияющими огнями Москвы с одноименной и уже не существующей гостиницей и влажной после дождя, просторно-элегантной Манежной площадью со старыми «победами» и «виллисами», то чудными девами Боровиковского или великолепными Жестовскими или Павло-Посадскими коврами цветов…
Шкаф хранил рисунки детей нескольких поколений, телеграммы соболезнований о кончинах, какие-то старинные малопонятного назначения и в основном поломанные предметы, включая обсосанные и обкусанные первыми детскими зубками деревянные ванька-встаньки, с суеверно-трепетной любовью сохраненные в самые страшные, грозовые годы революций и войн.
…Храню этих ванек теперь и я, хотя очень давно уже нет на свете тех, кто обсасывал их в первом своем детстве. Пора выбросить или сжечь в печке в деревне, — много раз говорила я себе. — Сколько можно захламливать дом… Но рука моя на эти, кроме меня никому не нужные предметы, так и не поднялась. Не из-за пристрастия к этим бедным невзрачным вещицам, а вовсе по другой причине, которая заключалась в иллюзорном (со всех здравых точек зрения) убеждении, что эти полинялые деревянные балясинки как будто бы что-то еще и значат, что-то важное в себе хранят, некий шифр, и каким-то образом они все-таки связаны с теми, кому когда-то принадлежали. И с детьми, которые ими играли, и с их матерями, имевшими столь беззаветную к своим чадам любовь, что неспособны были выбросить ни первые детские игрушки, ни первые детские книжки… Даже и на свои собственные первые книжечки пришлось мне натолкнуться. И первые рисунки свои с перевернутыми буквами — «это — бабе», «это — маме» — увидеть — они там тоже хранились, припрятанные когда-то бабушкой.
И годы, и люди уходили, а шкаф вот стоял… И руки мои на его содержимое, на эту былую, давно растаявшую и незримым для человеческих глаз паром отошедшую к небу любовь, так и не поднялись.
…А еще в шкафу были старинные монетки, очень давняя серебряная брошка-бабочка с рубиновыми глазкAми, принадлежавшая прапрабабушке Анне Николаевне, которая в свою очередь досталась ей от матери в приданое; черкеска моего деда — офицера «Дикой дивизии» с серебряными газырями, старинные открытки с отклеенными марками с видами Ниццы, Лондона, Нижнего и Киева, фрагменты древних фресок и изразцов, привезенные бабушкой из своих реставрационных командировок, — того немногого, подлинного, что сохранилось от уничтоженных фашистами древнейших русских храмов.
Чего только не было в этом шкафу. Его содержимое всегда притягивало к себе мое сердце и в то же время почему-то отталкивало и томило… Какое-то у него все-таки было холодное, тоскливое дыхание. И потому душа как-то инстинктивно противилась встречам с немыми свидетельствами давно ушедшей жизни, когда-то живой и теплой, а ныне безгласной, вызывающей боль и сострадание, и безнадежное осознание непоправимости утрат.
И теперь, вслушиваясь в свои тогдашние противоречивые ощущения, порождаемые нашими с бабушкой погружениями в прошлое, заключенное в стенах несгораемого шкафа, я могу вполне осознанно отдать себе отчет в том, что тогда чувствовала и чем именно смущалась моя душа. Эти трогательные останки прошлого, эта пронзительная овеществленная память об ушедших и дорогих, была на самом деле … памятью о смерти.
В несгораемом шкафу жили бок о бок и смерть, и любовь. Однако со временем чисто логическим, примитивно-арифметическим путем — но только ли от ума? — я решила тогда для себя эту антиномию (а заодно и судьбу этих вещиц) так: любовь — сопутница жизни, — самое жизнь, и там, где любовь, там смерти нет.
Но чем же все это было, как не умственной уловкой, догадкой, еще не испытанной, не доказанной и не извещенной опытами собственной сердечной жизни?..
* * *
О том, что ощущения — вовсе не такая уж примитивно-простая и обманчивая штука, говорил еще, кажется, Тертуллиан. Не ощущения нас обманывают, — утверждал богослов, — а подводит нас наш гордый самовластный рассудок, перерабатывающий ощущения и предлагающий нам уже свои собственные чрезвычайно ограниченные, а потому и сомнительные выводы. Сердце — корень, в котором жизнь духовная зарождается гораздо раньше «света разума» во мраке и темноте, в глубинах, недоступных для рассудка. Сердце ближе к Вечности. Оно и есть сосуд Вечности. Потому, что оно законное ее дитя. А ум — вернее, рассудок, лишь порождение времени:
Верь тому, что сердце скажет; Нет залогов от небес; Нам лишь чудо путь укажет В сей волшебный край чудес.Впрочем, логически обосновать свою догадку о родословиях ума и сердца мне, пожалуй, было бы не под силу.
…Спустя много лет после Замоскворецкого детства пришлось семье нашей некоторое время пуститься в кочевье по Москве — выросли дети, и надо было им отделяться для самостоятельной жизни. Начался период наших перемещений по Москве. Так однажды очутились мы на Земляном валу. Это тоже было очень славное и богатое историческими воспоминаниями московское место, да еще и удивительным образом связанное с памятью прадеда — Николая Егоровича Жуковского.
…Для человека, живущего верой, в книге жизни все не случайно. Но трудно неискушенному осмыслить тихую подсказку иных миров. Разве что в сердце сложить, да поглубже, — до срока: быть может, со временем непонятное и таинственное само напомнит о себе.
Вот так случайно или не случайно стали вспоминаться прежние маршруты жизни: вот там-то ты начинал впервые в жизни трудиться, а спустя десятилетия — переехал в то место жить. В другом месте — на ходу — обмолвился: как же здесь хорошо, никогда-то мне здесь не поселиться… Но прошло некоторое время — и совершенно неожиданно ты именно тут-то и бросил свой якорь.
А Землянка, как прежде звали эту улицу, была мне дорога тем, что на ней когда-то находилась первая квартира 23-х летнего Николая Егоровича Жуковского, которую он, начав служить и получать первое свое жалование и содержать на него всю семью, сам, выбрал и нанял.
…Здесь, на Садовой, вблизи Яузы, в доме Морозова начиналась его научно-педагогическая деятельность, здесь он уже уверенно вступал на лествицу научных открытий. Жили Жуковские на Землянке тесновато, но как всегда, дружно, гостеприимно и весело: в любви, в согласии, в трудах. Любимая младшая сестра Николая Егоровича Верочка (прабабушка моя) поступила во 2-ую женскую гимназию, куда сам Николай Егорович был зачислен учителем физики. В это время Жуковские обросли близким кругом добрых друзей — научной молодежи. Устраивались вечера, танцы, из Орехова был привезен рояль Марии Егоровны (старшей сестры Николая Егоровича), кое-какая мебель. Время от времени оттуда же поставлялись и нехитрые, но столь уместные и вкусные деревенские припасы.
Николай Егорович очень любил маленькую Верочку, сам отводил ее по утрам в гимназию, сам проверял выполнение уроков. Ну, а уж Верочка-то старшего брата просто обожала: звала его «мой черненький» — за смуглый цвет кожи и темные волосы — наследие прабабушки Николая и Веры — Анны Васильевны, которую прапрадед Кондратий Белобородов по великой любви и страсти взял прямо из табора. Их дочь — юная Глафира Кондратьевна Белобородова отдана была замуж за очень родовитого и состоятельного дворянина Николая Яковлевича Стечкина. Вот у них-то и родилась дочь Анна — будущая Анна Николаевна Жуковская, матушка Николая и Веры Егоровны Жуковских…
…Устроившись на Землянке, мы полюбили эти прогулки, овеянные воспоминаниями о Николае Егоровиче, Верочке и других членах большой и дружной семьи наших близких, когда-то так же ступавших по булыжникам мостовых этих стародавних мест…
На фото: Николай Егорович Жуковский: первые годы службы.
…Обычно мы шли в сторону Китай-города, благо здесь он — через Воронцово поле — был очень близок. Слева от Воронцова поля был поворот в Николо-Воробинский переулок. Когда-то здесь стоял Божий храм в честь святителя Николая Что в Воробине, поскольку место сие именовалось Воробино. В XVII веке тут жили стрельцы, кои и возвели храм. А разрушили его потомки, летом 1932 года, выстроив впоследствии на святом месте здание, где, в конце концов, разместилось Министерство юстиции: вместо Правды Божией — право земное. Вместо христианской Византии — языческий Рим… Это место представлялось нам некой точкой, сконцентрировавшей в себе то, что о. Павел Флоренский называл «сгустком бытия». Здесь особенно вспоминалась и слышалась прежняя московская жизнь, и даже не только с близкими родными связанная, но и с близкими и родными уже не по крови, но дорогими по сердцу, по духу предками.
Храм, который снесли, пятиглавый, с шатровой колокольней был особо любим купечеством: ктиторами его состояли многие видные рода московских купцов — здесь они и жили, ведь совсем неподалеку кипело, торговало и сообщалось чуть ни со всем светом вольное многоголосое Зарядье. До Воробина — рукой подать. Потому именовалась сия церковь еще и так: "Что на Гостиной горке". Между прочим, местом этим владели Тессины, дворянские — по матери — предки Александра Николаевича Островского. От них до сих пор сохранилась память в названии здешнего крохотного переулка. Дом же, где жил Островский, неподражаемый в полном смысле этого слова драматург, сохранивший для нас живую атмосферу русского бытия, стихию его чувствований, силу, дух и благодатность русского к Богу влекомого ума, — дом, где он писал «Грозу» и «Доходное место», — все это погибло вместе с подлинным глубоким пониманием того, о чем же все-таки поведал миру А.Н. Островский.
…Дойдя до поворота в Николо-Воробинский переулок, мы всегда притормаживали: смотрели на оградку Министерства, слушали, ждали, — что скажет нам это место? Ведь оградка-то — это все, что осталось от Никольского храма. И даже не вся оградка, а только остов оградки… И все же здесь, у этого мысленного, но по нашему глубокому убеждению, существующего алтаря загубленного храма, в этих переулках, все еще — хотя и для нас только, — населенных людьми, для которых этот храм был осью жизни, — для нас здесь все было звучно: какое-то «внутреннее слово», разрастающееся, сильное, окруженное подымающимися вкруг него многоголосыми клубами живых шумов жизни, слышалось нам. Далекое, милое, родное, сокрытое от праздно-холодных взоров… И в этих далеких звуковых волнах — то чей-то стон, то чья-то скорбь, то чьи-то воздыхания…
Быть может, причиной наших великих ожиданий было и множество других воспоминаний и обертонов, — как бы второстепенных, незначащих призвуков, но вместе с тем влиявшим на окрас всей картины нашего сознания. Тут «звучали» и таинственные священные остатки — рядом с нашим домом — изуродованного и оккупированного тогда музеем, храма святого Пророка Илии (Благовещенская церковь), связанного с очень древними воспоминаниями о здешних местах, о благочестивых обычаях и о святынях, об Ильинских крестных ходах от Кремля до Воронцова поля… Сохранившиеся старые кирпичные дома причта во дворе — еще жилые и живые… Поминаемое и о другом храме по соседству — тоже совсем близко, в маленьком и очень коротком Кривогрузинском переулке, поднимавшемся от Землянки круто в гору до Воронцова поля… Там на верхней точке крутого изгиба переулка, на горе — такое дивное, высокое, благодатно-красивое место! — когда-то стоял древний храм Покрова Пресвятой Богородицы с чудотворной святыней — Грузинской иконой Божией Матери. А в храме — трогательный отрок, поющий на клиросе — будущий писатель Алексей Ремизов, с малых лет бывший прихожанином и певчим этого храма, получавший здесь под водительством Царицы Небесной и покровского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева, известного московского законоучителя, — первые уроки церковности и русскости:
«Церковь эта снесена, и едва ли есть в Москве хоть один, кто бы вспомнил о ней, но я сохраняю ее в моей памяти. С тех пор как дьякон начал учить меня писать, я вижу себя в этой церкви на клиросе: старик дьячок с косичкой, Николай Петрович Невоструев, пел по «крюкам», и я за ним тянул альтом; потом я узнал, что это унисонное пение называется знаменным распевом, на котором пели в Москве и во времена Андрея Рублева, и при дьяконе Иване Федорове и который был отменен царем Федором Алексеевичем, сжегшим в Пустозерске протопопа Аввакума…» …
И ремизовское пережитое, и сам он, с ним слитый, особенный, страдательный, близкий сердцу старомосковский человек, — все это здесь звучало, говорило, отзываясь в сердце болью непоправимых утрат.
Постояв на углу, мы сворачивали в Николо-Воробинский — и шли вниз, к закрытому тогда храму Троицы в Серебряниках, — какой крутой, какой вольный, прекрасный Московский спуск! То — вверх, то — вниз!
…И был, помню, тогда поздний, горячий, яркий март, снег — лишь в углах дворов, да под воротами, и асфальт переулка — весь в рытвинах — оголенный и измытый мартовскими водами. И вдруг в одной из этих ям мы увидели — словно в тайном окне, внезапно открывшемся пред нами в мир иной, — старинную московскую мостовую: булыжники всех цветов, словно огромные отшлифованные морем агаты, сердолики… Старинная укладка, крепкая, ровная, камни изглаженные, а между ними — на глубине — не наша теперешняя, а та московская земля, песочек, схороненный под столетним асфальтом и старыми камнями, уложенными руками тех, кого уже так давно нет и в поминах.
Что мне было до этого булыжника… У меня и так в сознании, «за кадром» уже стучали и гремели подковами по мостовой, валились под спуск — «Пади!..» — коляски да пролетки, а по сторонам — виды, Замоскворечью не уступающие. Промоченные весенними дождями, просмоленные временем под самую темную морилку деревянные дома — двухэтажные на кирпичных подклетях, с резными подзорами на оконцах и карнизах. А в них — жизнь, богатая, стихийная, чудная, и страшная, и мирная, и широкая, и святая — наша, любимая, своя, былая русская жизнь…
Ну, не тоскливо ли было все эту любовь к утраченному — не просто прошлому, а родному прошлому, в котором осталась большая часть тебя самого, в себе носить, и быть не в состоянии что-либо с этим сделать, — не горько ли? Ведь и здесь, на Землянке, в лицо мне дышало все тем же, что и на Полянке из раскрытых дверей несгораемого шкафа, — любовью и болью в их каком-то неописуемом сопряжении.
И здесь, в этих еще прекрасных московских переулках, в этих сокровенных фрагментах исчезнувшего прошлого, как и в том волшебном шкафу с остатками семейных писем, реликвий, детских игрушек, принадлежавших тем, кого уже сто лет как нет на этой земле, — здесь тоже царил дух вечных утрат. И дыхания его никак не отрицало наличие вполне живых людей, вот сейчас прямо на моих глазах спешивших к трамвайной остановке «Аннушки», которая только что пристучала своими колесами к своей стародавней остановке: «Яузский бульвар!..». «Дзинь!»
* * *
Становясь старше, я все чаще задумывалась, почему ко мне привязалась эта постоянная боль о прошлом, об ушедшем, утраченном? Причем отнюдь не только о своем утраченном родном, но гораздо шире, всеохватнее… Зачем, для чего поселилась она и начала хозяйничать в моем сердце?
Однажды один мудрый верующий человек, выслушав эти мои вопрошания, спросил меня, в какой день недели я родилась? Стала припоминать, что мне рассказывали, заглядывать в календари, и выяснила — в субботу. «Ну, так вот, что ж ты хочешь, — уверенно заключил мой знакомый, — суббота ведь установлена православной Церковью как день поминовения усопших. Вот ты и мыслишь по своему назначению…».
Мне было, кажется, около четырех лет… Наверное, я была уже, благодаря родителям, неплохо развита для того возраста. Бабушка и отец мне много читали, и сама я могла часами сидеть среди глины, каркасов и повсюду налипшего пластилина за материнской спиной в мастерской, где она работала, и рассматривать замечательные картинки в старых книгах по искусству.
Тогда я узнала и запомнила на всю жизнь Микеланджело — его росписи Сикстинской капеллы, о которых — уже много позднее мне растолковали, будто бы в них изображены какие-то могучие сверхчеловеки — так акцентировало эти фрески преимущественно искусствоведческое восприятие. Меня же задевало на лицах прародителей и сивилл нечто иное — печать неизреченной муки и духовного томления… Тот же след виделся мне и на лицах Дня и Ночи, Утра и Вечера — Микеланджеловских надгробных фигур из капеллы Медичи, и вечный их — не мертвый, ни живой — но странный сон, и вечная их при этом неусыпная тяжелая дума, их тайное неведомое и страшное знание или, скорее, предчувствие: небытия как вечного, словом земным неизъяснимого страдания. А, может быть, и не только предчувствия, но уже и знания…
Но более всего властвовал тогда надо мной Дюрер. Было страшно, но оторваться от четырех апокалипсических всадников, от лука и венца, меча и меры в их руках, от четвертого коня «бледного» и самого главного и страшного всадника — Смерти — не могла.
С родителями я этими впечатлениями не делилась. Да и сказать о них тогда, конечно, просто не сумела бы. Но впечатления были, и я их отчетливо помню. Уже тогда они что-то внятное говорили моему сердцу. В детстве ведь даже очень сложные и глубокие вещи как-то интуитивно, целостно и просто постигаются.
…И вот однажды вечером, когда меня уложили спать, как обычно, потушив свет, и не плотно прикрыв дверь в другую комнату, где за столом мои родители и бабушка пили чай, — я тогда еще боялась полной темноты, и был уговор меж нами об этом маленьком лучике света, — так вот в этот вечер ничто не предвещало того ужаса, который вдруг настиг бедное детское сердце. Все было как обычно: позвякивали чашки в соседней комнате, доносился тихий разговор… И вдруг, внезапно, без всяких логически-мыслимых причин (правда, все же в сердце моем успела пронестись мысль о родителях, мол, вот они, милые, там сидят, как все хорошо и как я их люблю) передо мной разверзлась бездна. Я узнала, — или почувствовала? — молниеносно, что наступит день, и родители — умрут. И никогда их больше не будет. Было ли это мне сказано? Или как-то иначе я об этом узнала? Ответить не могу. Только помню, отлично помню, что мне было явлено видение (или ощущение) смерти и мною это было осознано как вполне взрослым человеком: безысходный, невыразимый словесно мрак небытия, и ужас потери любимых, который — в мгновение ока я это тут же прочувствовала, — мне было бы невозможно, нестерпимо пережить.
И многие десятилетия спустя — пока еще живы были родители, это знание висело над моей душой как дамоклов меч. Я никогда не забывала о том, что было мне сказано. Всегда ждала, всегда пыталась уготовиться к тому, к чему уготовиться, казалось, было для меня невозможно. Но в свой час все свершилось…
Получается так, что уход родителей я фактически пережила за многие десятилетия до их реальных кончин. Может ли мне теперь кто-нибудь возразить, что наш маленький временной земной мир не погружен в Вечность, где не действует хронология событий, где царит немыслимая, благодаря этому, и подлинная одновременная полнота бытия?
В этом видении я ощутила смерть во всей ее духовной яви и как свою смерть тоже… Но тут также молниеносно разверстый предо мной ад, насладившийся моим ужасом, закрылся. И кто-то другой, очень тихий, несказанно тихий, кого я не видела, но явно ощущала над своим изголовьем рядом, кому я сразу полностью поверила, сказал мне (кажется мне теперь, — с состраданием, но и бесстрастием, которое выше состраданий): «Не бойся. Ты не умрешь…». И странно, потом укоряла я себя, что я даже не спросила этот Голос: кто Ты?
Мне не было тогда четырех лет, но зачем-то мне дано было пережить то, что, скажу для сравнения, несчастный Лев Николаевич Толстой называл «Арзамасским ужасом», ибо пережил такое же адское откровение в городе Арзамасе, правде уже вполне в зрелом возрасте. Наверное, причины и цель, ради которой попущено было нам пережить это видение, были все-таки разные…
А еще я тогда успела подумать: я не умру, но как же они? И как же я без них?
…….
С того момента началось мое почти вполне осмысленное движение по жизни, что-то вроде рефлексии, — в буквальном смысле слова — постоянная, напряженная ловля того крохотного луча света, присутствие которого при всех провалах и блужданиях запутанных жизненных путей постоянно ощущалось, создавая некую внутреннюю непреклонную уверенность в том, что несмотря ни на какие мертвые петли дороги, ты следуешь по абсолютно прямому пути.
…….
В тот вечер родители, услышав мой плач, прибежали утирать мои слезы, но тайну я им не открыла. Не могла же я им сказать, что они умрут.
И вновь был этот неотмирный покой родительского дома, бархатная тишина, в которой, как нам иногда открывается, утопает Вечность. И вновь на наш дощатый пол, как и прежде, скользнул все тот же тонкий, утешительный луч света…
Надо было прожить большую часть жизни, похоронить всех старших близких, очень многое потерять, от много — от устремлений и надежд отказаться, чтобы, наконец, проснуться и задуматься: а для чего даны мне были в столь раннем детстве и этот несгораемый шкаф, хранящий осыпавшиеся лепестки давно ушедшей жизни, память дорогих знаемых и незнаемых людей, память благоуханную, влекущую, томящую сердце, взрывающую в нем любовь, которая, какой же могла бы найти тогда выход и применение? — и эти странные откровения…
Эта доминанта любви и скучания по прошлому очень долго не находила никакого разрешения, хотя постоянно присутствовала в самых сокровенных глубинах сердца. Иногда мне казалось, что на самом деле я уже жила и прожила свою жизнь тогда вместе с ними, и родина моя осталась там, с моей семьей, моими друзьями, а моей любовью остались те давно ушедшие, — они.
А потом, как осколок налетевшего на рифы корабля, я оказалась почему-то впереди прошлого, на нынешней поверхности жизни… И это была совсем другая жизнь. Все другое. Планета другая. И все происходившее со мной теперь ощущалось совсем в ином ключе: бытие словно крошилось и осыпалось из рук, оставляя ощущение всецелой своей иллюзорности. Мол, пожил тогда, и хватит. А потому нередко и вполне серьезно я, пытаясь все это на всякий случай перепроверить, задавала себе вопрос: действительно ли я еще живу, или мне это снится?
Или, быть может, — это и есть самое настоящее наступившее небытие?
Иллюстрация: Альбрехт Дюрер. Четыре всадника Апокалипсиса.
…При жизни бабушки минувшее ощущалось настолько близким, — рукой подать, — что отстраниться и вглядеться, как вглядываются во что-то иное, стоящее вне тебя, было невозможно. Прошлое семьи, да и вообще русское наше прошлое еще продолжалось в бабушке и дышало жизнью окрест нее, а, значит, и смерть прошлого еще не наступала. Оно было еще настоящим, но уже сумеречничающим днем…
Полнеба обхватила тень, Лишь там, на западе, бродит сиянье, — Помедли, помедли, вечерний день, Продлись, продлись, очарованье ……То и дело, вскользь, буднично упоминались какие-то шутошные, и ни к чему не обязывающие подробности из давно ушедшего. Это были совершенно бессвязные подробности и обрывки бытия, из которых, однако, чувствовалось, и состоит жизнь на самом-то деле. «Люди обедают, только обедают, а в это время рушатся их жизни и слагается их счастье…».
То прапрабабушка вспоминалась, то прадед, то любимая прапрабабушкина сестра Варенька, то няня Ариша, вынянчившая несколько поколений Жуковских и почти уже сто лет как усопшая, то мой дед, эмигрировавший из России еще в 1918 году, — и все они были для меня не «как» живые, а явственно живые, потому что их жизнь и души заключались в живом и любящем бабушкином сердце, а через нее отзывались со-чувствием и в моем. Наши сердца были соединены как две емкости песочных часов.
Иногда бабушка напевала мне, по всей видимости, чем-то любезную ее сердцу старинную песенку, хотя скорее, это был городской романс: «Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки…». Мама моя — серьезный художник, очень требовательно относилась и к искусству вообще, и к музыке, в частности: ведь она уже с пяти лет отдала меня в школу учиться игре на фортепьяно. И — не дай Бог! — превратить эти занятия во что-то такое полу-дилетантское — для собственного удовольствия. Нет, только профессионально, только видя пред собой очень высоко поставленные творческие цели. А потому мама весьма критически относилась к бабушкиной игре, и к старинным вальсам, и к «стежкам-дорожкам», — ко всему, что не могло соответствовать высочайшим критериям настоящего искусства: ни по репертуару, ни по исполнению. Это было, как мне теперь кажется, своего рода аналог соотношения «душевность — духовность», только на почве искусства и творчества.
Много позднее, размышляя как-то об этом соотношении, я все-таки пришла к выводу, что сопряжение душевности и духовности в отношении человеческих чувств много сложнее и тоньше, и загадочнее. Так «духовное» или «духовные» (в том числе и считающие себя уже духовными) уж слишком часто настраиваются высокомерно к проявлениям душевного, как исключительно второсортного, промежуточного, преходящего, а заодно так же и к самому человеку с душой и сердцем, со всеми его тайнами, и загадками, скорбями и собственными его переживаниями трагизма человеческого земного бытия.
Делая выбор и, разумеется, несомненный в пользу духовности как состояния, как явления нового преображенного во Христе человека, народившегося вместо «ветхого», мне всегда почему-то хочется одновременно и защитить от высокомерных нападок и душевное начало. Или точнее, заступиться за некие рудименты душевности в человеке, хотя бы потому, что именно в недрах душевного «гумуса» и зачинается та, пусть сначала еще преимущественно душевная, начальная любовь-отклик души на зов Божий. Идя на зов, душа способна перерождаться в духе, преодолевать свою душевность, суть которой не в сердечных воспоминаниях о прошлом, а в эгоизме своего «я», как несомненного свойства «душевного», не самоотреченного человека.
«Доколе это я существует, — категорически предупреждал в свое святитель Игнатий (Брянчанинов), — дотоле Христос не может принести нам никакой пользы. «Иже не возненавидит душу свою, не может быти Мой ученик. Иже не приимет креста своего и в след Мене грядет, несть Мене достоин. Обретый душу свою погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради обрящет ю». Господь заповедал погубление души, — писал святитель, — не только ради Его, но и ради Евангелия, объясняя последним первое. Погубление души ради Господа есть отвержение разума, правды, воли, принадлежащих падшему естеству, для исполнения воли и правды Божией, изображенных в Евангелии, для последования разуму Божию, сияющему из Евангелия».
Самоотреченный человек обретает, по слову Спасителя, очищенную и обновленную душу, в которой теперь главенствует дух. Дерзнем ли осудить такого человека, стремящегося к духовному совершенствованию в Боге, за какие-то, если угодно, остаточные явления и невинные пристрастия «обычной» душевной человеческой жизни? Один вполне исправный монах любит держать свою келью в чистоте и порядке, выращивать цветы и пр., а другой — тоже вполне исправный, — уголь из печки выкладывает прямо на пол и весь остальной свой скарб держит там же. Святые отцы знали, что как и любовь к уюту, к чистоте, к порядку жизни, так и полное безразличие к благообразию всего внешнего — как первое, так и второе вполне могут принадлежать людям высокой духовной жизни, поскольку все эти их невинные душевные особенности уже давно преобразились и подчинились духу. Все у них — Бога ради: и цветочки под окном и угли на полу…
Бабушка садилась за рояль и наигрывала любимые старинные вальсы времен ее молодости или те самые «стежки-дорожки», и незамысловатые эти мелодии погружали меня во время, в котором не я жила, куда мне очень надо было пробраться, чтобы понять бабушку. Что именно я хотела понять — мне и сейчас трудно обозначить. Скорее всего, мне надо было что-то узнать, чтобы научиться — через ее жизнь — жизни для себя. Мне не хватало этого познания. Бабушка была таимным, как встарь иногда говорили (я слышала в нашей деревне это слово в детстве), то есть скрытным человеком, а песенка и вальсы о чем-то мне говорили, что-то сообщали, являясь сокровенными свидетелями ее жизни, пожалуй даже знаками, в которых были зашифрованы какие-то страницы. А я догадывалась о них, но тогда спросить не умела…
«Позарастали стёжки-дорожки, /Где проходили милого ножки, /Позарастали мохом, травою, /Где мы гуляли, милый, с тобою. /Мы обнимались, слёзно прощались, /Помнить друг друга мы обещались»…
О чем напоминали бабушке эти грустные простенькие «стежки» — о спешном в начале 18 года отъезде заграницу мужа после того, как он, офицер «Дикой дивизии», Георгиевский кавалер, чудом выбрался из застенков ВЧК… О своем раннем всежизненном одиночестве?
…Обвенчались они с дедом Иваном Домбровским в 1912 году. В 1913 родился сын, а в 16 — дочка, а пожили-то они вместе совсем недолго: как только началась Первая мировая война, осенью 1914 года дед поступил на краткосрочные курсы в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Бабушка все эти годы оставалась в Орехове и с мужем виделась-то несколько раз. В это время началась многолетняя эпоха ее крестьянствования — первые три года войны вместе с отцом Александром Александровичем Микулиным они предпринимали попытки наладить хоть сколько-то прибыльное хозяйствование: маслобойку или небольшой кирпичный заводик в нашей небольшой усадьбе (ничего из этого не успело выйти, да и наверняка бы и не вышло), чтобы обеспечить семью продуктами. А с 1917 года бабушка уже безвылазно жила в деревне. «Восемь лет работала в поле» — писала она в анкетах.
Одна с лошадкой и с прадедовскими орудиями труда пахала, сеяла на небольшом оставшемся наделе зерновые, сажала огород, сама обмолачивала старинным, сохранившемся в амбаре с XVIII века неподъемной тяжести цепом. Руки были золотые, труда никогда не боялась, энергии было не занимать, и сердце было золотое, самоотверженное, которое уже тогда она и надорвала…
Бабушка Катя была даже в своей семье человеком отличным ото всех. Трудолюбивы, способны, исключительно добросовестны были все. Но у нее это было как-то иначе. Она всегда любила простоту жизни. С самого отрочества. Безупречно воспитанная, хорошо образованная, деликатная, — откуда в ней была эта тяга к земле, которую я всегда слышу и в себе? Какое-то особенное расположение к деревенским людям, к крестьянствованию. Жизнь бабушка прожила трудную, видела много лишений, сердце ее понесло много потерь. Но не потому только она не имела ни малейшей тяги и склонности к роскоши, к комфорту, да просто к удобствам каким-то. Полнейшая непритязательность, как и сознательный и стихийный, природный выбор.
«Ах, Катюшок», — говорила она мне, допивая свой бледный чай («бледной» была наша жизнь тогда), — а чаевница бабушка была истинно московская, — Что может быть вкуснее чашки чая с белым хлебом! Какое пирожное с этим может сравниться!»
Вот эта ее любовь к простой и бедной жизни, к скудости ее, мне теперь говорит о каком-то даже монашеском ее устроении. Ведь и жизнь семейная не сложилась, как осталась непознанной и безответной ее первая и всежизненная любовь еще с гимназических времен. Другой крест ей вручал Господь…
Бабушкина молодость, непочатый край нерастраченных сил, и ее никому так и не открытая боль одинокости, преследовавшей ее и в постоянном многолюдстве окружения, и в самих предчувствиях бурь, настигавших в эпоху Серебряного века многих и отнюдь не только одиноких людей.
Бабушка играла, и милые эти обрывки мелодий тут же порождали в моем воображении набросанные всего двумя-тремя штрихами, воздушные, почти размытые и еле тронутые кистью акварели…
Рисовала мне эта песенка окраину старинного усадебного парка, где кончались аллеи старинных лип-великанов, и начиналась деревенская околица, а за ней порядок изб, где в каком-нибудь 1908 или 1909 году, как и годами раньше, на притоптанной лужайке собиралась на посиделки под гармонику ореховская деревенская молодежь. И среди них молодая моя бабушка — своя среди еще недавних крепостных ее предков и никогда, упаси Боже! — не превозносившаяся пред людьми другого сословия. Все знали, что и косарям Катя не уступит, и стог не хуже других крепко и ладно сметать сумеет, и что друг она верный… На посиделки приходилось ей убегать из дома после вечернего чая с замираниями сердца, тайно — через окно. А из домашних никто и не знал, как безудержно и отчаянно отплясывала Катя «русского» со своими деревенскими сверстницами и сверстниками…
А я — знала, потому что бабушка сама мне о том сказывала.
Знала я и то, что она немало в своей жизни земных красот повидавшая, — и в Швейцарских Альпах, и в Италии, и на Босфоре, и в горах Кавказа, больше всего любила простор русских полей, никогда не застивших своими холмами неба; что тихими летними ночами, забравшись в поле на высокую кладь сена, могла она часами смотреть на звезды…
Бабушка знала и любила звездное небо, почти так же хорошо, как и археологию. Из-за этого-то неба и этой-то земли и не уехала она из России вслед за мужем в 1918 году, оставшись на Родине с двумя малютками и престарелыми родными на руках.
Странно, но эти не мои воспоминания были для меня всегда желаннее своих собственных, и как-то сильнее, пронзительнее мне всегда со-чувствовалось и скорбелось не о своей жизни. Отчего так было, кто знает? Может те, кто были в моей жизни со всем, что им было дорого и что они любили, оказались мне дороже того, что было у меня своего (исключая только неописуемое счастье «первой любви» моего воцерковления)…
Возможно, сказывалось и общее оскудение благодатью всей нашей русской жизни ко второй половине XX века, возможно и то, что моя реальная жизнь была действительно слишком бедна той поэзией, которая еще покрывала старинным флёром очарования жизненные стези старших поколений моих родных, несмотря даже на действительно явно ощущавшуюся всеми в предреволюционные годы и тем более позже, сконцентрировавшуюся в воздухе духовную тяжесть и мрак. А мне вовсе не хотелось довольствоваться разглядыванием картин под флёром. Сердце жаждало «живой жизни», реального узнавания глубинной правды о том, что хранилось в моей памяти: о предках, о бабушке тоже, а вместе с ними и о себе, как части целого под названием «род». Где только я не искала подходы к этим «правдам», а нашла, надеюсь, только в Боге…
На фотографии: семья Жуковских на веранде Ореховского дома. В верхнем ряду — Анна Николаевна Жуковская — матушка Николая Егоровича на девятом десятке жизни. Рядом с ней — Николай Егорович и гувернантка брата бабушки Шуры Микулина — он рядом с матерью — Верой Егоровной Микулиной, урожденной Жуковской (сестра Николая Егоровича). В нижнем ряду слева — Вера Александровна Микулина, сестра бабушки; а бабушка — Екатерина Александровна Микулина — крайняя справа. Снимок сделан еще до замужества сестер.
Конец детства
Когда бабушки не стало, я и не заметила, как нечувствительно оказалась в совершенно ином мире… Она никогда ни на кого не повышала голоса, в усталости не подавала виду, не жаловалась, не капризничала, не говорила никому резких и обидных слов — ни в лицо, ни заглазно, не отстаивала свои права, не упорствовала, никого не пыталась использовать, не желала ни над кем начальствовать, никого пригнетать и обременять, — у нее было какое-то удивительно благоговейное, святое отношение к свободе другого человека. При этом она и сама была очень независима. Это была квинтэссенция атмосферы семьи Жуковских, многоколенного принятого образа воспитания, семьи как родовой личности.
Думая о бабушке и пытаясь воскресить в памяти ее образ, еще много добрых черт ее просятся на бумагу. Однако прибавит ли это живости ее образу? Вот и сейчас, казалось бы, я иду в должном направлении, припоминая реально бывшее и очень достойное, но я чувствую, что бабушка в моем сердце почему-то не оживает. Она так далеко и я не могу даже протянуть к ней руку… И сердце мое почему-то молчит, свидетельствуя о том, что даже самого добросовестного, любовного и справедливого перечисления наипрекраснейших черт отнюдь не достаточно, чтобы действительно приблизиться духовно к таинственным глубинам человеческой личности другого.
«Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (I Цар. 16:7).
…И я стала думать, пытаясь собрать воедино — в одну точку — всю мою память о ней, ее след, ее образ живущий в моем сердце, — в его целостности и живости, в его самой глубинной точке.
И след этот, запрошенный у сердца, мгновенно «откликнулся» живым ощущением присутствия бабушки, и близости миров иных. «Я видел истину!», — восклицал у Достоевского «смешной человек». И мне тогда довелось «увидеть» ответ на свой запрос — им оказались не зримые — от ума — поистине редкие качества бабушкиного характера, но… боль ее сердца, оповестившая мне о приближении ко мне ее души, та самая боль, которая всегда была, как теперь это определилось, доминантой моего восприятия бабушки и моего отношения к ней.
Боль была средостением, проводником нашей близости, она связывала нас на самом глубинном уровне, который только возможен между людьми. Это был самый непосредственный и постоянный отзвук, образ и знак, — своего рода икона бабушки, и при жизни ее, в моем раннем детстве, и после ее кончины, и теперь — спустя почти полвека.
Вспоминая бабушку, я всегда ощущала, а поняла это только теперь, что эта боль и это страдание мое было ничем иным, как эхом ее глубокой, сокрытой ото всех боли. Это была любовь-жалость, со-болезнование, рожденное не от ума, не от рассуждений и оценок — какие оценки могли быть тогда, в самом раннем детстве?
Но именно тогда, каким-то таинственным образом душа моя — не рассудок, — знала, что ее нельзя обижать. Не бей лежачего, не обижай страдающего, не подбрасывай хвороста в костер другого, не улюлюкай у креста ближнего твоего, даже если этот ближний по всем параметрам безжалостного человеческого рассудка будет казаться тебе или сверхсильным, или «несомненно достойным своих мук»…
Не потому ли раньше, давным-давно, когда Русь была Православной, там не судили, а жалели арестантов, подавали нищим не с омерзением и потому что так, видите ли, «надо», не рассуждали не философствовали со страниц журналов о милостыне — этому дать — а этому не дать, но подавали потому, что от жалости разрывалось сердце, исполняя тем самым святоотеческий завет: подай, если попросит, и всаднику на коне (об этом писал в своих «Словах подвижнических» преподобный Исаак Сирин). Жалость была синонимом любви.
Из этого жгучего со-болезнования, со-страдания бабушке, а, потом, и всему ее миру), ее судьбе и ее близким (и моим тоже), ее времени и его мукам (они стали и моими муками), из-за неотвязного стремления понять тайну и смысл абсолютно наяву открывшегося мне духовного закона зеркального отражения, восчувствования боли другого и возможности только через это личностно соединяться с другою душою, преодолевая пространство и время, и зародилась когда-то весьма давно потребность написать эту книгу «Воздыхания окованных». Мне казалось, что именно так, и только так! — можно было бы послужить любимым усопшим (как близким, так и дальним, как кровно родным, так и душевно дорогим), предоставив им свое сердце и слово для выхода их еще не услышанных или просто еще не воспринятых, не опосредованных воздыханий.
Почему же все-таки бабушка, всегда ровная и спокойная, такая мужественная и благодушно-терпеливая в жизненных невзгодах, такая твердая в самодисциплине вызывала у меня эту бессознательную боль, сострадание и жалость?
Потому ли, что многие годы на моих глазах она тяжело болела и не роптала, а смиренно терпящий вызывает, ведь, еще более пронзительное сострадание: не по причине ли необъяснимого чувства вины перед страдающим? Словно он страдает вместо меня, и я, каким образом не знаю сам, все-таки, видимо, повинен в его страданиях.
Потому ли, что фактически она была брошена и забыта (кроме моей матери, благоговейно ее любившей и самоотверженно ей служившей) теми, кому она безотказно и искренно помогала, кто потом имел возможность и ей, столь нуждавшейся, помочь, но, увы… Потому ли, что она, всю жизнь подвижнически трудившаяся, сделавшая столько полезного и доброго, стольких людей выходившая, и своими трудами с любовью и щедростью прокормившая, своими любящими руками и мастерством спасавшая святые иконы и фрески в древнейших храмах нашей страны, — она не умела даже выхлопотать себе более или менее приличной пенсии, и крайне нуждалась, получая самую мизерную, какую только можно было представить в те пятидесятые годы.
Бабушка жила с моими родителями и со мной, и всеусиленно пыталась хоть чем-то помочь нашей семье: гнула спину над рукописями, которые за редкими исключениями, невозможно было, выражаясь в духе Пушкина, продать, а дорогие реликвии из семейного архива Жуковских со многою скорбью отдавала в музеи за сущие копейки (хотя кому они там на самом деле были нужны?!); задыхаясь от сердечной недостаточности, пыталась хоть что-то взять на себя и в обычной домашней работе.
И потому еще я ее жалела, что любя всех, она никогда не имела личной жизни (о чем я немного рассказала выше…).
Какая цельная и сильная натура была, — отозвался бы кто-то… И я, подрастая, часто мечтала о том, как бы бабушка любила и была бы счастлива, и раскрылась бы в той своей любви, если бы волей судеб она все-таки соединила свою жизнь с Александром Павловичем (так звали ее тайную со времен гимназии любовь)… Но тут мое воображение всегда иссякало и замирало: полноту счастья в этой жизни мне всегда было почти невозможно представить…
Больно мне было за бабушку — за эту столь несправедливую к ней жизнь, хотя от нее самой, конечно, ни досад, ни обид на судьбу никто не слышал. Да и в глубинах ее души, по-моему, их и в поминах не было. О прожитом она всегда говорила мне с легким налетом смущения и непременной долей самоиронии. Но я слышала боль и ей сострадала. И вот однажды и я все-таки умудрилась добавить своей крестной матери боли…
На фотографии: Екатерина Александровна Домбровская в Орехове. Жатва 1945 года.
…Мне было четыре года. В то лето мы жили с бабушкой в Орехове не одни: у нас гостила моя названная сестра Марина, немногими месяцами меня старше, но значительно сильнее меня и ярче характером, и я перед ней, уверенной и смелой, невольно силилась хоть как-то преодолеть свою робость, неопределенность, как-то выказаться, быть хотя бы такой же веселой и смелой, как она… И я нарочито храбрилась и готова была выкидывать такие коленца, на которые никогда бы без нее не подвиглась.
В одно не очень прекрасное утро мы с названной сестричкой, даже не сговариваясь, начали вдруг саботировать кашу — а год-то был 49-ый, трудный, — прятаться и убегать от бабушки, да еще и поддразнивая ее, хохоча, веселясь, и не желая замечать того, как вскоре начало меняться выражение ее всегда спокойного лица. Мы вели себя жестоко и нагло. Нам было невдомек, что бабушка уже далеко не молода — ей уже было изрядно за шестьдесят, и здоровье ее окончательно подорвано, и что ей не так-то легко было, оставив свою любимую работу, взять на себя на несколько месяцев заботу о двух маленьких девчонках, о старшей сестре Вере Александровне — она жила в Орехове и зимы, и лета, — да впридачу еще и все деревенское хозяйство с огородом.
Сколько же лет прошло, — вся моя жизнь почти, а я ясно помню, как, намучившись с нами, устав от просьб и уговоров, бабушка тихо и молча села где-то в углу и долго-долго сидела так, пока мы не устали беситься, а я не дошла до самой предельной точки терзания моей сожженной совести… Помню жгучий стыд, помню решимость идти на казнь (хотя не могу себе представить, чтобы бабушка кого-нибудь когда-нибудь наказывала, напротив, она всегда бросалась изымать меня из рук моей мамы, которая умела ремень употребить…), и — освобождение. А за ними очистительные, счастливые слезы прощеного грешника и возвращение к нашему с бабушкой вечному, нерушимому взаимному союзу любви.
Теперь я понимаю, что мое младенческое предательство стало, видимо, последней каплей: вся горечь ее одинокой жизни (она-то всех любила, всем помогала, но что видела взамен?), все потери, скопившаяся в бездонных глубинах ее терпения усталость, — все это в тот миг сошлось воедино и вонзилось ей в сердце. Уж если и я, ее единственная внучка, с такой легкостью ее предала…
Удивительное дело: человек долго-долго терпит, смиряется, но вот вдруг кто-то близкий или тот, от кого ты вовсе не ждал жестокости, подбрасывает и свой прутик в огонь, и что-то у терпящего обрывается: «На мя шептаху вси врази мои, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиша на мя: еда спяй не приложит воскреснути? Ибо человек мира моего, на негоже уповах, ядый хлебы моя, возвеличи на мя запинание» (Псалом 40:8-10).
Конечно, мы потом совершенно с бабушкой примирились, и она меня совершенно простила. Но эпизод этот все-таки имел продолжение. Когда приехали проведать нас наши родители (моя мама и Маринина моложавая бабушка), разборка все-таки состоялась. И я сказала что-то вроде того, что причина моего безобразного поведения — в сестренке. Та же сию трактовку категорически отвергла. Тогда ее бабушка уверенно и категорично заявила, что Марина «вообще никогда не врет». И на этом «разбор полетов» прекратился. Может, и зря тогда взрослые среди двух четырехлеток стали искать зачинщика. На самом деле, ни Маринка, ни я не знали толком, кто из нас начал… Согрешили обе.
Но мне на сердце тогда на всю жизнь легли два пятна. Во-первых, трусости: я еще не понимала тогда, что надо брать вину на себя и выгораживать другого. А я как чувствовала, что вела себя худо из-за подавлявшей меня морально Маринки (в чем она, разумеется, вовсе не была повинна, причина была в моем самолюбии, в чувстве своей ущемленности, но я тогда еще ни одного из этих слов не знала…), так и сказала. А во-вторых, осталось вполне осознанное мною умозаключение, что, если Марина всегда говорит правду (а я старшим и не только старшим, а наверное, вообще всем — верила), то я-то — есть отвратительная маленькая врушка, и, значит, всегда лгу. Странно, но тогда все это было мной принято априори — как неоспоримый факт.
«Не вешай нос на квинту», — говорила мне бабушка, всегда ободряя меня. А я жалела ее: и что она больна, что вечная ее серая шаль вся исштопана, хотя ни одежда, ни богатство бабушку даже и в молодости вовсе не привлекали: «было бы прочно, чисто, удобно и не безобразно» — бабушка никогда не стремилась иметь более трех одежд: «приличную», «полуприличную» и вовсе «неприличную» — шаровары и куртку (это в юности), чтобы одежда не мешала лазить по оврагам, собирать редкие породы камней, окаменелости, бродить по лесам… Что вокруг нее в ее маленьком кабинете — все такое ветхое и запущенное, пыльное. Что ее небольшое окно выходит к северо-западу, и у нее никогда не бывает ликующих утренних лучей. Что под окнами — улица и остановка скрежещущих тормозами троллейбусов… Что к бабушке много людей приходит за советом и помощью, а для нее помощников никогда нет… Что у нее столько неопубликованных работ, но похлопотать о них некому. Все устраивают только свои дела… Что она так часто перебирая старые фотографии и письма, хотела бы наверное, чтобы и я приняла их в сердце, чтобы их жизнь, давно ушедшая, продолжалась не только в ней, но и во мне. А я-то слушала, но душа моя была тогда на стороне: хотелось бежать во двор, играть с ребятами в футбол, взвиваться, лихо раскачавшись, под небеса на качелях…
Окно в бабушкиной комнате было, как я уже говорила, ориентировано на северо-запад в сторону старинных труб фабрики «Красный Октябрь» или, как ее раньше называли, — шоколадной фабрики Фердинанда Эйнема. Оттуда через форточку время от времени доносился до нас обворожительно крепкий запах настоящего шоколада. Из своего уголка бабушка смотрела на открывшийся ей кусочек московского неба и вспоминала свою долгую жизнь…
«Всё это было и минуло… А теперь, когда смотрю в окно, вижу угол высокого дома напротив, немного неба, серенького, московского, светло-розового ночью. Облака и клубы дыма указывают направление ветра».
Так начинались бабушкины воспоминания о прожитых годах, — ее последняя, предсмертная работа. И так заканчивался ее удивительный, исполненный невероятными испытаниями, трудами и заботами земной путь.
Очень не вскоре, спустя годы после кончины бабушки, начала я осознавать, что мир вокруг меня, оказывается, совсем иной, что людей, таких как она, и мира такого, как царил в нашем доме, вокруг меня нет, что все живут и чувствуют, и проявляют себя совсем иначе. Что и сама я совершенно незаметно для себя уже погрузилась в этот, не бабушкин, мир и стала его частицей.
В годы моего детства и юности, прожитые рядом с бабушкой, ничто не подталкивало меня к тому, чтобы относиться к окружающему с приглядом, испытанием и недоверием, чтобы искать в нем скрытые подтексты, изведывать подлинные сущности, как вещей, так и людей, давать всему осмысленные оценки и анализировать, анализировать, анализировать…
В нашей семье никто — не в лицо, не заочно не разбирал людей: этот, мол, таковой, а тот — сяковой. Разве что, мать моя, человек задорный, особенно в молодости и особенно после фронта, могла еще сказануть, но это случалось очень редко и всегда весело, а, значит, не зло. Тогда в доме последних потомков Жуковских еще держался старый, добрый и неотменный порядок, который и без высокого богословия можно было определить очень просто, как заведомо доброе и доверчивое расположение к людям. И для человека, выросшего в этой среде, эти отношения с миром, конечно, тоже были единственно возможными, естественными, как воздух, как родная речь, звучавшая вокруг.
…В старину сказали бы: это не учтивое поведение, то есть, тут не почитается (не бережется) честь ближнего, как того всегда требовала от нас христианская этика и старинное христианское воспитание. Оно, между прочим, заботилось о том, чтобы приучить детей говорить внятно и понятно, выказывая тем уважение слушающему тебя человеку. Не любили шептунов. Таковых даже государи осаживали. Во всем — куда не глянь, чувствовалось присутствие христианской меры, взгляда и навыка. А он заключался в том, чтобы во всем была забота о другом, о ближнем, чтобы ему было хорошо и удобно. А себя ставили на второе место — ближнему в услужение… И это действительно было — у кого осознанно, по глубокой и внятной вере, а у кого — в привычке, на уровне наследственного инстинкта. Иначе сказать — «сигнальной наследственности».
Вот говорили у нас деткам, если уж очень расшалятся: вот я тебя отдую! Понятно, что речь шла о возможном применении к шалуну силы. Но почему «отдую»? У Даля «отдуть» — это прежде всего сдувать, или оживлять дыханием, согревать, дыша… Отдували еще и порчу, сглаз, напуск; у плотников отдувались, бывало, доски — то есть, вспучивались. Но вот и наше словоупотребление у Даля, наконец, встречается: «отдуть на обе корки». Выпороть, значит… Но причем же здесь дутье? Где корневая, глубинная связь? И впрямь не из старинного ли, духовного начала брало это слово свой исток: отдуешься своими боками за что-то, переможешься и смиришься и, глядишь, ушла от тебя та самая порча или напуск.
А еще говорили: «не куксись!», «не разоряйся», которое у нас всегда употреблялось именно с нравственным оттенком в ответ на потоки многоречия, пылкие словесные излияния, инсинуации, обычно, в свое оправдание и кому-то, напротив, в обвинение. Так мягко и нечувствительно обличалось поведение, разоряющее не что-нибудь и кого-нибудь, а собственную душу «протестующего» человека.
Говорили: «береженного Бог бережет». На том семейная любовь стояла — не больше, не меньше. Постоянная, неусыпная забота друг о друге, да, и тревоги тоже, когда даже для них, казалось бы, и причин особенно не было. Но все знали: жизнь — штука превратная, все под Богом ходим, а любили и дорожили близкими трепетно. Особенно детьми. Вот и крестили неустанно уходящих, вот и молились сугубо о путешествующих, об отсутствующих, где-то на сквозных ветрах холодного мира обитающих… Верили, пока человек в твоем сердце, твоею молитвою укрыт, — Бог, эту любовь и молитву слыша, родного твоего человека в обиду не даст.
Или говорили: «скрепя сердце»… Как это было красиво, по-русски. «Подыми руку, да опусти, а сердце скрепи», — старинная поговорка. Теперь, ежели, бывает, и упомянут какое-нибудь подобное выраженьице, то почему-то как-то безжизненно, сухо, — ну, не звучит оно! — видимо, потому, что «скукоживается», попав в чуждое ему окружение холодно-отчужденной, нередко вычурной, претенциозной, а то и просто вульгарно-грубой речи. Не русской вовсе речи.
В этих присловьях хранились очень дорогие запасы родовой памяти, можно даже сказать нравственный и духовный ее код, и уж во всяком случае — все самое самобытное и яркое из тесных семейных обиходов. Так тихо, незаметно и ненавязчиво передавались от поколения к поколению, от человека к человеку (предание — передавание) обычаи, строй, тон и нравственно-духовный окрас жизни семьи, рода, народа. Теперь это называют «менталитет». А раньше бы сказали — тон или строй души. И действительно: невозможно было вот так любить и беречь ближних, благоговеть к жизни, Богом данной, и рядом с этим вдруг заговорить каким-нибудь жестко-насмешливым, язвительным тоном с тем, за кого пять минут назад болело твое сердце. Эта любовь и задавала «тон», «тон» созидал «строй», а «строй» слагал и «лад» всей жизни.
Удивительно было и то, что родители, выросшие в советское время и учившиеся читать, понятно, не по Псалтири, то и дело бессознательно поминали не только все особенные семейные выражения, но даже и псаломские речения, вряд ли отдавая себе в том отчет. «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его», — это звучало, как непроизвольная молитва в трудный или опасный момент; или «Темна вода во облацех», и многое-многое другое, что со временем я с изумлением «узнавала», начав читать святую книгу Псалтирь…
И Орехово еще было с нами, о поездке туда начинали говорить задолго до весны; еще в обиходе были вещи, когда-то принадлежавшие или Николаю Егоровичу, или даже его отцу Егору Ивановичу; на старых кузнецовских тарелках, купленных когда-то Жуковским на первые его жалования ели по всяк день; за его столом — просто за неимением другого — я делала уроки, висели старые портреты и дагерротипы в подлинниках, а в приданной шкатулке Анны Николаевны Жуковской — прапрабабушки, мама хранила все нитки и всю мелочь для шитва.
Возможно ли было среди всего этого прожить почти треть жизни — все ранние и самые восприимчивые годы, и ничего не услышать, не познать, и не дать всему этому прописки на вечное поселение в одном из самых сокровенных уголков своего сердца? Ведь не мелочи то были, а живые, близкие отголоски еще не успевшей исторически омертветь жизни. Это и были голоса, дыхания подлинной жизни, живого предания, которое, благодаря Бога, достигло и до моего сердца. Но до времени то, что схоронено было в этих заповедных уголках сердца, жило там, как в усыпальнице, как нечто неопознанное, неосмысленное, своего рода, инстинктивное нравственное и эстетическое чувство. Прошлое было воздухом детства, а кто его замечает и о нем думает, когда он есть, когда он хорош и сладок? Но пересади человека после этого в ящик без окон, без дверей, где еще и газом попахивает, так вспомнит, пожалуй, чем раньше дышал…
На фотографии: Марина и Катя (справа) — названные сестры, маленькие героини этого отрывка. Фото сделано очень известным в то время фотографом (имела персональное разрешение делать фотопортреты Сталина), — первой женщиной-«цветником» (снимала в цвете), Елизаветой Игнатович — бабушкой Марины и в то время супругой Катиного дяди — Кирилла Домбровского.
…Но пришло время, когда словно из внезапно распахнутых на шумную площадь окон, как из оркестровой ямы, где настраивался какой-то гигантский и лихой оркестр, из глубины бездны, разверзшейся между настоящим и прошлым, выплеснулась чудовищная какофония звуков. Увы, бабушка при жизни своей меня ни о чем таковом не предостерегала. То ли смирилась с необратимостью изменений, постигших русскую жизнь, то ли мудро и мужественно полагала, что лучше всего — оставить все как есть, в надежде, что ежели Богом суждено, то человек рано или поздно сумеет вынырнуть с Его помощью и из этой «оркестровой» ямы, а нет, — так на нет и суда нет.
Для меня эта затяжная непосредственность и бездумность детско-отроческого бытия в один прекрасный момент обернулась плачевной неподготовленностью к встрече с реальной жизнью. В свои первые самостоятельные годы я вступала, не ведая о том, что жизнь рано или поздно все-таки заставит меня обвыкнуться в ее критике, хотя бы даже самопознания ради.
Ведь как обычно начинается это самопознание? В бесконечных сравнениях себя с другими людьми (сравнениями собственными или слышимыми со стороны), встреченными на «боевой тропе» жизни, вслушиваясь в разноголосицу и разномыслицу мнений, в постоянной оглядке на все четыре стороны, чтобы, наконец, принавыкнуть лихо раздавать оценки налево и направо, тем самым определяя и утверждая прежде всего самого себя и свое место, и свою «драгоценную» индивидуальность в этих условиях жизни.
Можно себе представить, что это были за оценки и определения, сделанные без твердых понятий и безупречных критериев, которые дарит только Вера и подлинная жизнь в Церкви, без твердой почвы под ногами.
Только годы спустя, все сызмала впитанное и хранившееся в каких-то неприкосновенных отсеках души, стало домогаться света: от ума — опознания, а от совести — точного диагноза в их свете собственного душевного устроения, а от познания себя — вновь к ним, но уже с иным взглядом и иной целью…
Помню, как лет двадцать назад, один незначительный, на первый взгляд, случай заставил о многом задуматься, причем задуматься не на шутку — на годы…
Был еще жив дядюшка, последний из всех старших родственников в нашем роду. Однажды, будучи у него в гостях, мы много говорили с ним о проблемах культуры, — а время-то было ельцинское, страшное… В то время особенно безнаказанно контрабандным путем вывозились из России ее святыни и культурные ценности: иконы, шедевры искусства, раритеты… И вот, уж не помню какое конкретно, но сказала я резкое слово в адрес тогдашнего министра культуры, который занимал пассивную соглашательскую позицию (вероятно не желая неприятностей) в этом вопросе (я же трудилась на поприще публицистики и в то время занималась расследованиями всех этих отвратительных явлений на теле русской культуры). На что дядюшка, — а сам он был человеком чести, и, по правде говоря, всегда глядел скорее строгим критиком, нежели мягким созерцателем, — сказал мне эдак раздумчиво и даже не сердито: «А вот Николай Егорович никогда бы так не высказался бы о человеке, как ты о министре»…
Как однако, полезно иногда человеку оказаться в тупике. Ведь тупики бывают же не на всех путях сразу. А потому, возможно, и вполне вероятно, где-то рядом есть выход, есть дорога:
Прямая дорога, большая дорога! Простору немало взяла ты у Бога, Ты в даль протянулась, пряма как стрела, Широкою гладью, что скатерть легла!Дядюшкино слово тогда меня смутило, а потом и устрашило, — в общем, дало душе острастку. Но как же жить? Как быть, слыша и видя эти неправды мира, жалея тех, кто от них сугубо страждет, жалея бесценное наследие, которое нагло разворовывают? Молчать, терпеть, устраняться или отстраняться…Или душу разоряя, вступать в схватку с миром?
Это и было для меня каким-то новым этапом (я уже была в Церкви) на пути к Богу, к подлинной Вере, к познанию Божественной Правды и того миропорядка, который был преподан Творцом своему творению для сохранения и спасения жизни на земле. Окончательно запутавшись в своих отношениях с миром и осознав это, пришлось с горя начинать наново осваивать эту мучительную премудрость духовного бытия в реальном мире …
«И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это — томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Еккл. 1:18)/
Итак, изрядно «побив и выучив» (из биографии А.С. Пушкина известно, что он семнадцати лет пришел к П.А. Катенину — поэту старшего поколения, с суковатой палкой в руках, и, протянув ее поэту, сказал: «Побей, но выучи») жизнь, все же заставила не просто думать и судить о ней трезвее, но и биться за каждую взятую ступень ее понимания в Боге.
Ведь откуда, скажете вы, могла взяться эта осознанная потребность понимания жизни в Боге? Ведь провожатых-то не было, не было ни слов о Боге, о Заповедях Его, ни наставлений, взятых в путь из родного дома… Но были тишина и покой, — сладостный покой детства, ощущение Дома и надежности бытия, подаренные Богом через любовь и добро родителей и бабушки. Они-то и вели по этим трудным ступенькам, не давая душе совсем потеряться или забыть что-то бесконечно важное и драгоценное. Только теперь, чтобы вновь придти к этому важному и драгоценному, его нужно было выстрадать, «заработать» и оправдать в одиночестве уже собственными жертвоприношениями. Какие были потери и разоренья для души, — и не счесть. Но и их пустил, Милосердный, в замес…
Размышляя теперь об этом данном мне в детстве залоге добра, добра, которое по своему происхождению и природе было несомненно Божиим, мне представляется уместным сравнить его с первоначальной благодатью, даруемой Господом душе, вступающей на путь спасения. Благодатью, вскоре затем отступающей, чтобы испытать эту душу и укрепить ее в вольном выборе Истинного пути, и возвращающейся очень и очень нескоро, когда человек будет уже многократно испытан в огненном горниле искушений и окажется действительно достойным Добра Непреходящего Небесного …
Последние пятнадцать лет своей жизни из-за болезни сердца бабушка из дома не выходила. День за днем, год за годом пребывала она в своем неизменном мире… Старинный шкаф с архивом, ее любимая заветная работа — исследование древнерусского архитектурного орнамента, а в последние годы еще иногда и телевизор с крохотным экраном, где она смотрела только русскую классику исключительно в постановках Малого театра. Уставая от своих занятий, а иногда, видимо, и тоскуя, бралась перечитывать в сотый (или тысячный?) раз «Войну и мир», несмотря на постоянные ворчания и нарекания на Льва Николаевича за его неизбывную страсть к причастным оборотам и за нелюбимые бабушкой толстовские мудрования — что-то в них бабушку отталкивало: возможно, определенная нарочитость и поза, которые она парадоксально определяла чем-то вроде легкомыслия.
На этих чтениях Пушкина, Гоголя, Толстого с раннего детства бабушка и растила меня. И залегла любовь к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», к Миргороду, к чудному Днепру, к Руслану и Людмиле, к толстовскому миру детства, отрочества и юности в такие «несгораемые» глубины сердца, что добраться до них крикливому миру, в котором, казалось бы, и я позднее окончательно «прописалась», ему так и не удалось.
…Это был мир, в котором бабушка была своя. Ей не нужно было мудрствовать по поводу глубинных смыслов «Старосветских помещиков» — ее сердце знало и любило это тихое счастье скромной и доброй семейной жизни вдали от мирских бурь, очарование и надежность патриархальности, и относительную ее неподверженность времени, трогательную верностью вере и старинному укладу русской жизни — теплой, мирной, устойчивой.
Это и была для русского сердца та самая «обители дальняя трудов и чистых нег», о которой мечтал Александр Сергеевич, — образ подлинного бытия, возвращение к самому себе, к Богу, к желанной чистоте и простоте, к жизни Божией. О таком существовании мечтали в самых светлых снах годами, равняя его в помыслах с таинственной и благодатной жизнью монастырского бытия, а подсознательно — с мерцающими в сердце образами Небесных обителей.
…Вслух читала бабушка изумительно! Ведь не даром по старинному заводу раньше в русских семьях было принято так много читать вслух — и всем вместе, и старшие — детям, и дети — старшим: матушкам, бабушкам. Вот и моей бабушке с детства приходилось быть чтицей при своей бабушке и матери, страдавшей мигренями. Она читала так, что я вскоре переставала ее слышать, и даже голос самого Гоголя куда-то отходил на второй план, но зато предо мной начинало распространяться нечто великое, неохватное, вселенское: «Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает — и человек, и зверь, и птица; а Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе».
Это были дивные сны детства, когда все безотчетно впитывалось, насыщало и освещало душу. Осмыслить это тогда, конечно, было невозможно, но теперь-то, в созерцании воскресающего прошлого, можно и сказать, что же навевали эти чудные сны, какие широты и глубины бытия открывали они сердцу, как свидетельствовали они о Духе Божием, носящемся над водами, над сотворенной Словом Божиим землей. И можно ли было эту землю благословенную, Богом данную, Богу открытую, Богу молящуюся, Богу поющую, Духу вторящую — не любить, а спустя годы — не оплакивать огненными слезами ее поругание?
* * *
Редко, но бывало, что бабушка, ненароком нет-нет, да и начнет мне тихонько читать «Отче наш» — хоть что-то дать умирающей в невежестве душе внучки. Родителями моими ей было строго воспрещено «сбивать меня с толку». Но я, немало чего важного и ценного забыв, отлично помнила всегда и помню теперь еще с большей отчетливостью эти редкие мгновения: и бабушкину осторожность, и некоторое ее смущение — ведь она была скрытным человеком — а тут приоткрывалось нечто сокровенное, никогда не выставлявшееся. К тому же всю жизнь бабушка старалась быть (выглядеть?) более бравым, трезвомыслящим человеком чуть ли не позитивистских взглядов, нежели была на самом деле.
Этот образ вырабатывался годами и под влиянием эпохи, и близких лиц, которых любила и уважала, и больше всего из потребности спрятаться: скрыть какие-то свои немощи (они ей таковыми казались) и страдания, свою хрупкость и уязвимость, свою тонкую чувствительность и, наконец, очень сложную и противоречивую природу, которую бабушка в себе отчетливо осознавала, и, как мне кажется теперь, не очень-то одобряла.
…А еще помню, весной, в уже самые последние годы, она вдруг без предисловий и без связи с предыдущим разговором внезапно начинала мне говорить о церковной службе — как она ее любила, и особенно — Пасхальный канон… И даже пыталась напеть мне его так, как он звучал, как он летел и ликовал в ее сердце. Помню, я чувствовала тогда, что бабушка тоскует, что ей плохо, муторно, и настолько, что хотя бы с кем-то ей необходимо было разделить то, что ее мучило, о чем болело и тосковало ее сердце.
Могла ли она надеяться, что я этих редких и, казалось бы, случайных мгновений никогда не забуду?
Так я и не узнала, была ли отпета бабушка в церкви в том безбожном 1965 году. Я же, увы, отпела ее только много лет спустя. Однако сразу после кончины, в течение первого года особенно, бабушка являлась мне во сне за редкими исключениями каждую ночь: абсолютно явная, необыкновенно живая, помолодевшая, сильная и даже радостная, и повторяла мне только одно: «Я — жива».
Когда же не стало бабушки, все, чем питало меня детство, еще какое-то время жило во мне как бы по инерции, а потом стало помаленьку вновь превращаться в обрывки, в дорогие сердцу подробности-мимолетности, из которых даже кафтана сшить уже было невозможно. А ведь именно тогда и подступило ко мне время осмысления жизни. И как же нужен мне был бабушкин мир, который верой и любовью всегда с детства мнился мне идеальным, наполненным до краев красотой и добром, и, быть может, даже несомненной истинностью своего бытия. Но бабушки уже не было, а воспоминания, такие живые и ясные, постепенно застывали, превращаясь в исторические фрагменты. На глазах блекла когда-то связующая их мысль, и я недоумевала: а была ли вообще когда-нибудь эта связь? Был ли в той жизни доступный пониманию особенный и поучительный для меня смысл?
Однако я все же не сразу сдалась, упорно пытаясь вложить эти следы прежней жизни рода в прокрустово ложе модных тогда рациональных исторических схем. Выходила одна ложь, сущая ложь! И я очень хорошо помню это почти физическое ощущение прикосновения к мертвечине, омертвения, и «материала», и своей собственной души, пытающейся вступить на путь, не ведущий в жизнь. Что же за таинственная механика срабатывала внутри меня? Какое-то время, поначалу, я не хотела слышать того, о чем тихо предупреждало сердце: «не надо…», и насиловала и душу свою, и мозг.
«Сын мой!.. Надейся на Господа всем сердцем твоим, … и не полагайся на разум твой», — учил Приточник со страниц старинной семейной Синодального издания Библии с пометками моих давно ушедших родных. — «Во всех путях твоих познавай Его»…
И когда пробил мой час и все, что хранилось в памяти, одно за другим стало медленно разворачиваться лицом к Нему, к Свету Его и оживать, как только начались эти инстинктивные поиски Руки Божией «во всех путях» жизни, так мгновенно началось на моих глазах неподражаемое движение срастания, кристаллизации всех этих бессвязных обрывков, неровных концов, никчемных крохотных осколков, которые притягивались друг к другу как магниты, восстанавливая и открывая никому до того, возможно, неведомые смыслы. И вот на дотоле пустой и никчемной бумаге сознания, погруженной в волшебный проявитель, медленно и неуклонно стал проступать силуэт вполне связного и очень важного послания…
На фотографии — Наш дом (слева) в самом начале улицы Большая Полянка.
Фотография 40-х годов.
На улицу выходило бабушкино окно: "Окно в бабушкиной комнате было, как я уже говорила, ориентировано на северо-запад в сторону старинных труб фабрики «Красный Октябрь» или, как ее раньше называли, — шоколадной фабрики Фердинанда Эйнема. Оттуда через форточку время от времени доносился до нас обворожительно крепкий запах настоящего шоколада. Из своего уголка бабушка смотрела на открывшийся ей кусочек московского неба и вспоминала свою долгую жизнь… «Всё это было и минуло… А теперь, когда смотрю в окно, вижу угол высокого дома напротив, немного неба, серенького, московского, светло-розового ночью. Облака и клубы дыма указывают направление ветра».
Глава 2. Ореховская широта
Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.
А.С.Пушкин. 1833 г.
56 ГРАДУСОВ 9 МИНУТ 4 СЕКУНДЫ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ
— Станция Болдино!
Уже Болдино! — Катя проснулась раньше всех и уже давно высматривает через приоткрытую дверь купе мелькающие в окнах коридора знакомые виды и названия станций…
— Мама! Верочка! Шурка!.. Вставайте! Болдино проехали!..
Как томительно ожидание, выдержать невозможно, хотя до Ундола остался всего-то около часа езды. Катя лихо сваливается с верхней полки, кое-как приглаживает свои непокорные волосы, выскакивает из купе, а за ней летом выкатывается и неразлучный её друг — чёрный пудель Мушка.
Вера Егоровна, Катина мама, со страдальческим лицом пытается добудиться до Шурки — младшего брата Кати. Заспанная и безучастная ко всему Верочка — старшая сестра, — неспеша переплетает свои роскошные косы.
…А за окном уже поднимается солнце. Над Колокшей стелется туман. Вот и Ундольский пост проехали. Теперь уже скоро!
— Станция Ундол! — бьют в колокол старинного вокзала.
— С приездом, барышня Катерина Лександровна! В добром ли здравии доехали? Прикажете вещи выносить?
— Здравствуй, Федот! Ну, как? Всё благополучно в Орехове? Подавай к крыльцу!
Федот, высокий, ладный в красной рубахе, с грохотом подкатывает по булыжной мостовой к крыльцу вокзала. Шуркина француженка, которую все зовут просто Мадам, при виде «Ноева ковчега» — огромного старого со скосившимся порыжелым верхом тарантаса Жуковских издаёт пронзительный вопль: «Oh, mon Dieu!». Но тут вслед за рыдваном подъезжают и столь же бывалые роспуски под багаж. Его долго укладывают, увязывают, много хлопот с Шуркиным велосипедом. Он сам хочет его уложить, залезает наверх, всем мешает… Наконец, на макушку воза взгромождается повар Евгений со своей неразлучной вафельницей…
— Тпру… ты… м… твою!..
Кучер Аким, длинный, похожий на журавля, одёргивает веревочными вожжами упрямого Зайчика, впряженного в роспуски, наконец, и в тарантасе все как-то утискиваются и усаживаются, и живописная кавалькада ореховских жителей трогается в путь. Коренник — верный гнедой Копчик, широкий, с расчёсанной на две стороны гривой. Пристяжные — любимая Катина серая Замена и гнедая Голубка. Позвякивает поддужный колокольчик и бубенцы на пристяжных…
Впереди семнадцать верст грязи и колдобин: весна ранняя, а Ореховская широта — 56 градусов 9 минут и 4 секунды — севернее Москвы, а потому там и весна расходится позже, да еще, как назло, весь апрель непрерывно лил дождь.
…И вот, после трех часов тряски по раскисшей дороге под взвизги и охи чувствительной Мадам, мимо великих, мощных, изчерна просмоленных дождями мачтовых Оболенских лесов… о, нет! Тпру, стоп… Какая забавная подножка воображения! Да ведь и вправду, это не моя бабушка тряслась в видавшем виды тарантасе «Ноев ковчег» мимо «великих мачтовых Оболенских лесов», а сама я, спустя ровно пятьдесят лет после той весны 1903 года, на бабушкиных коленях на ничуть не менее допотопной, изрыгающей какие-то несусветные звуки, стенания и сдавленные рыдания полуторке послевоенных лет.
И вот почему теперь-то я уж точно определяю — и верить мне можно! — систему временных и пространственных координат моей памяти… Дело в том, что Оболенские леса были саженные, причем не ранее второй половины или даже конца 70-х годов XIX века, а потому в 1903 году бабушка действительно проезжала мимо чудесного, стройного, плотного и уже довольно рослого (лет двадцати пяти) леса (в котором, кстати хотя и было, по словам Николая Егоровича, пропасть дичи, однако везде выглядывали грозные таблички «Охота запрещена»). Но видеть-то видела моя юная шестнадцатилетняя бабушка отнюдь не такую величественно-устрашающую картину стеной стоящего мачтового соснового леса, какую видела я в середине века XX-го века. Во всяком случае, у меня были вполне веские основания смотреть на этот гигантский лес не иначе, как с мистическим ужасом…
А насадил его во время оно управляющий князей Оболенских по фамилии Гуд. Практичный латыш занял под лесопосадки огромные пустоши, окружавшие старинное имение Жерехово, которым когда-то владели Суворовы, а затем графы Зубовы, породнившиеся с Суворовым — его зятем был граф Николай Александрович Зубов, — а затем Жереховым владел его внук — граф Валериан Николаевич Зубов с супругой Екатериной Александровной, из рода князей Оболенских. Оболенские и унаследовали Жерехово после Зубовых, не имевших потомства.
К слову сказать, Александру Васильевичу Суворову во Владимирском Ополье принадлежали многие земли. Усадьба Ундол, где впоследствии, проложив железную дорогу, построили и станцию с таким редким, удивительным названием, досталась ему от отца. Александр Васильевич здесь имел усадьбу, крепостной театр, построил школу для деревенских детей. Именно на станцию Ундол и высылались всегда лошади за Жуковскими.
Имение Жерехово досталось Суворочке — любимой дочери генералиссимуса, — Наталье Александровне, которую он выдал за одного из братьев, знаменитых в те поры Зубовых — за сенатора и обер-шталмейстера графа Николая Александровича. Он был родным братом всесильного Платона — фаворита императрицы Екатерины II. Сам же, увы, он вошел в историю как один из убийц императора Павла I.
Братья Зубовы и их племянники служили вблизи или под началом Суворова: вместе с ним участвовали во многих кампаниях.
Сын Суворочки и Николая Зубова — граф Валериан Николаевич Зубов был добрым другом и благодетелем Жуковских. Именно он и стал «виновником» покупки Орехова.
Слыша в детстве бабушкины рассказы о роковых событиях рубежа XVIII–XIX веков, я всегда допытывалась, что за человек был сын «страшного» графа Николая Зубова и Суворочки, так любивший моего прапрадеда? Рассказывали, что он был и вельможен, и набожен, и строил в округе храмы, возможно, пытаясь как-то помочь загробной участи своего отца, поновлял и заботился о старых, любил жить в этих владимирских усадьбах, был человек московского, — не петербургского склада.
Трудно мне нынче сказать что-то более весомое и яркое о личности и характере графа Валериана Николаевича на основе семейных наших воспоминаний. Конечно, была между Жуковскими и Зубовыми и сердечная дружба, и взаимная приязнь, и уважение, хотя понятно, что несравнимость состояний и положений в обществе придавала этой дружбе своеобразный характер. Для Жуковских граф был в первую очередь благодетель, а для Зубова — Жуковские? Подружившись в 1835 году с молодым полтавским дворянином штабс-капитаном Егором Ивановичем Жуковским (родителем уже знакомого читателю Николая Егоровича), служившим в то время на строительстве Нижегородского шоссе — той самой «горькой» Владимирки (между прочим, в XX веке называвшейся Горьковским шоссе), а затем и железной дороги на Нижний Новгород, граф Валериан полюбил этого кроткого, кристально честного, возвышенной души молодого инженера. Он хотел его видеть вблизи себя всегда. Не случайно и аллея Жереховского парка была проложена так, что вела напрямую в сторону Орехова, до коего было всего 7 верст.
Вспоминается один эпизод…
* * *
Летом 1856 года в разгар сенокоса заболели корью дети. Сначала Валериан и Володя, а потом и неугомонный Николенька, который все норовил заглянуть к ним в детскую: он очень скучал без своего главного по возрасту наперсника — толстяка Варюшеньки-душеньки, как звала его няня. Наконец, и Коля слег весь красный в жару… Однажды днем, когда уже миновал кризис болезни, сквозь полузабытье, убаюканный тихим позваниванием вязальных спиц в руках мамаши, он услышал как звякнула старинная медная ручка двери. Коля проснулся и глянул из-под полога… Он увидел Анисью-горничную, она горько плакала и утирала глаза концами головного платка. Вдруг она как подкошенная, бухнула на колени в ноги Анне Николаевне (супруге Егора Ивановича и матушки Николеньки), рыдая и биясь головой об пол:
— Смилуйся барыня матушка… пропала моя головушка… горе мое горькое… Микитушку мово граф Зубов на щенка аглицкого менять хочет!!!
Услышал Коля, что собирались они с Никитой зубовским просить у мамаши благословения на брак, да теперь, — билась Анисья, — собирается Микита на себя руки наложить.
— Не погуби душу христианскую, матушка-сударка, пособи!
Слышал Коля, как Анна Николаевна урезонивала Анисью: «Сколько раз тебе говорила — не заглядывайся на Никитины кудри! Но Бог не без милости… Уж попрошу барина… Он сегодня хотел домой быть…».
…Коля давно уже плакал. Он знал графского кучера, так похожего на цыгана, про которого говорили, что нет такого коня, которого бы он не объездил. И вдруг его и — на собаку! Он сильно страдал. Поднялась, видно, очень высокая температура; мальчика мучили кошмары: смеялся Никита, скалил зубы огромный пес… Коля начал кричать…
Вечером, когда приехал из Жерихова Егор Иванович, ему все рассказали и про Анисью с Никитой, и про страдания Коли. Расстроился Егор Иванович: не ожидал он такого от кума — крестного Коли. Решил Никиту выкупить, как бы это не трудно было ограниченным средствам Жуковских. И свое обещание исполнил: он сначала усиленно отговаривал графа от его позорного намерения, тот, в свою очередь, упорно настаивал на обмене. Кончилось же все тем, что хозяин английского щенка неожиданно решил, что один Никита не тянет на его борзого, и отказался от мены. Зубов был сердит крайне. Не велел Никите показываться ему на глаза, но, в конце концов, подарил его Егору Ивановичу под видом подарка крестнику Коле. Видно прослышал, как болело сердце мальчика за этих людей, и устыдился… Анисья и Никита отпраздновали свадьбу, зажили в Орехове своим домом, и потомки их, надо думать, и по сей день живы…
Граф Валериан Николаевич скончался в 1857 году. Хоронили его в Москве, в родовой усыпальнице. На отпевании и похоронах присутствовала Анна Николаевна с дочерью Мариею. Они искренне оплакивали друга семьи и долго поминали: ведь именно благодаря Валериану Николаевичу Жуковские обрели они свое малое отечество — Орехово, где были прожиты самые прекрасные годы жизни Анны Николаевны и Егора Ивановича Жуковских, их детей, внуков, правнуков и даже одной, последней маленькой праправнучке выпало счастье первые десять лет жизни дышать воздухом Орехова, вдыхать запахи старинного дома и вслушиваться в тихие голоса его теней…
Граф Зубов не только способствовал обретению молодыми супругами места, где они пустили свои корни, свили свое семейное гнездо, где сформировался облик семьи, где достигла она своего акме — расцвета и увенчания… Валериан Николаевич много помогал Жуковским, был благодетелем и крестником почти всех детей Егора и Анны, в том числе и Николушки — Николая Егоровича Жуковского. В честь В.Н. Зубова был назван третий сын Жуковских — Валериан Егорович.
На фотографии — фасад усадебного дома в Орехове (современный вид).
А начиналось это так… В 1840 году Егор Иванович Жуковский обвенчался с Анной Николаевной Стечкиной в храме Святой Живоначальной Троицы на Пречистенке, «что в Стрелецкой слободе в Иванове приказе Зубова», — обратим внимание и на это совпадение имен! Зубовы были древнего рода, известного с века XIII-го. Их родоначальник — ханский баскак во Владимире, приняв крещение, стал первым Владимирским наместником со времен Батыева нашествия. Потомки Зубовых служили воеводами, стольниками, думными дьяками, командовали стрельцами… Вот и полковник Иван Зубов был головой стрелецкого полка, охранявшего в XVII веке Чертольские ворота Земляного города (ныне угол Пречистенки и Зубовской площади). Тут у Пречистенки и располагалась урочище Зубово, названное по имени начальника Стрелецкой слободы. Надо полагать, что стрельцы эту церковь в честь Живоначальной Троицы и строили.
Церковь эта была необычайная даже среди многих московских храмовых чудес. Крупный пятиглавый храм этот впервые упоминался под 1642 годом. Выделялся он особенной статью и архитектурным совершенством: его колокольня была самой высокой в Москве после Ивана Великого шатровой колокольней и имела 32 арки звона. Разорили это чудо красоты и древнерусской строительной техники, как и многие другие русские чудеса, в тридцатые годы XX века, точнее в 1933 году…
Именно в этом храме в присутствии своих теток Александры Яковлевны Лаговцыной, Маргариты Александровны Северцовой, (урожденной Нарышкиной) и ее мужа Алексея Николаевича Северцова, опекуна осиротевшей в 18 лет Анны Николаевны Стечкиной, в присутствии братьев невесты, родных и друзей жениха, четы Зубовых, венчалась раба Божия Анна рабу Божию Георгию — Егору Ивановичу Жуковскому…
К счастью, Анне Николаевне посчастливилось совсем немного не дожить (-1912) до начала лютых времен. Слава Богу, что не довелось ей увидеть, как крушили русские же люди свои святыни: «Мы раздуваем пожар мировой, / Церкви и тюрьмы сровняем с землей…», как растаскивали древние храмы по кирпичику, называя это «производством кирпича по рецепту Ильича», как взрывалось, долбилось, крушилось одно из величайших чудес красоты, само совершенство, — несравненный храм Успенья на Покровке, (Жуковские жили неподалеку от него — в Мыльниковом переулке — несколько десятилетий); как уничтожали старинную церковь Николы Явленного на Арбате, в приходе которого в студенческие годы снимал квартиру Николай Егорович, где жила с ним и матушка, куда всей семьей ходили к ранним обедням; как разрушен был храм святого архидьякона Евпла на Мясницкой — единственный храм в честь этого святого в Москве и единственный, в котором не прерывалось богослужение во время пребывания в Москве Наполеона. Известно, что именно из этого храма во время оккупации Москвы Наполеоном 15 сентября, в годовщину венчания на царство Александра I в Москве, с Мясницкой раздался звук 108-пудового колокола. При большом стечении народа, в присутствии французских солдат протоиерей кавалергардского полка Михаил Гратианский совершил молебствие за здравие Российского императора и просил о даровании ему победы. Службы в храме продолжались до ухода французов из Москвы. Жуковские были частыми прихожанами этого храма, а про подвиг батюшки передавали из поколения в поколения. Слышала его в детстве от бабушки и дяди и я…
Невозможно было бы себе представить, как смог бы пережить крушение Москвы и ее святынь, человек, который почти век провел под их святой сенью, услышать в Москве слово «мэр» и увидеть то, что выпало на долю детям XX века.
«Сперва лихие молодцы закидывали веревки за кресты, вырывали их с корнями, потом ломами принимались за купола, за барабаны куполов, потом за стены, — вспоминал очевидец разрушения храма святой Троицы в Зубове князь С.М. Голицын, — Не так-то просто было крушить. Известь, скрепляющая кирпичи в древние времена, по десяти лет в ямах выдерживалась, в нее лили яйца и прокисшее молоко. Их долбили ломами, а взрывать рядом с жилыми зданиями опасались: оконные стекла лопались бы».
Слава Богу, Анна Николаевна не дожила до таких времен, хотя уже и на ее глазах мир начинал переворачиваться… Сомневаюсь, однако, что действительно ужасаясь событиями 1905 года, Анна Николаевна могла себе реально представить все, что еще предстояло пережить ее детям, внукам и правнукам, — ей бы это оказалось просто не под силу, потому что аналогов тому не нашлось бы в ее сознании. Для нее это было бы равнозначно крушению мироздания. Анна Николаевна прожила жизнь в мире устойчивости. В мире традиции и веры, тысячелетней государственности, которая, даже бывая на волоске от гибели, от интервенций и смут, все-таки оставалась государственностью, а народ и при этом — единым народом, который не терял еще внутренней связи: Веры и любви ко Христу и к своему православному отечеству.
А коль все же потрясения глубин (кризиса) души не было, то и вряд ли эти события-провозвестники могли заставить почти девяностолетнюю Анну Николаевну, еще очень твердую умом, как-то иначе взглянуть и на всю былую русскую жизнь, и на жизнь близкого ей круга. Это трудное дело — метанойя (??? — греч. — перемена ума — покаяние), этот мучительный поиск корней, нащупывание причин и истоков великого русского горя, великой порчи русского человека, исподволь совершавшейся на протяжении не одного века, — по мере удаления от Веры и служения Богу, как от главного своего национального призвания, достался на долю лишь поколения праправнуков (да и то очень немногих из них).
Как больное животное инстинктивно ищет и находит целебную траву, так и наше поколение искало корень нашего общего горя. Потому что, найдя его, возможно, удалось бы уж если не горе искоренить или поправить, то хотя бы найти противоядие. Оказалось, что и это не так просто, как думалось. Да и где бы нам себя, русским, было найти? Кто бы нас этому научил, или хотя бы помог? Родители, дававшие детям имена «марленов»? Или филологи, ничего, кроме новой орфографии русского языка не знавшие?.. Историки, виртуозно оперирующие фактами, но глядящими на все былое сквозь призму собственных мерок и представлений.
Русского человека теперь уж совсем извели… Пишу я это, пребывая в погружении в прошлую жизнь моих родных и их друзей, в ту прежнюю, дальнюю русскую жизнь, так несовместимо не похожую на жизнь нынешнюю. Что такое быть русским, — кто в наше время это может знать, хотя умственных измышлений пруд пруди. А кто все-таки знает и чувство это хранит, тот никому ничего доказать и объяснить не сумеет. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…»
* * *
…В первые годы XX века в Анне Николаевне уже было под 90 лет. Она была, тем не менее, довольно крепка, не жаловалась на память и вместе со своим уже далеко за пределами России известным сыном Николенькой не раз навещала в Киеве дочь и внуков, совершая переезды из Москвы по железной дороге. Событиями 1905 года она была потрясена:
«Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, — писала Анна Николаевна в самом конце 1905 года она своей дочери Вере Егоровне в Киев, где ее зять Александр Александрович Микулин служил в должности окружного фабричного инспектора, — Последние времена настали, восьмой десяток лет доживаю, таких не видала».
Конечно, для нее, родившейся в 1817 году, все, что уже творилось в те годы в России, представлялось не иначе, как надвигающейся катастрофой. Правда, в родном Орехове тогда было довольно тихо: сравнительно с другими у ореховских крестьян было больше земли, поскольку народу было очень немного. Не прельстились ореховцы и на столыпинские хутора. Советовались с «Лександром Лександровичем». Решено было держаться общинного хозяйства, не выделяться. Сам Александр Александрович Микулин вместе с крестьянами ходил с саженью по полям, помогал поделить землю, чтобы можно было соблюдать севооборот. По примеру Александра Александровича в Орехове ввели четырехполье с посевом клевера, благодаря чему было уже полегче прокормить зимой скотину.
Еще живо и цело было родное Орехово, а с Ореховым — Домом, его родными стенами любые жизненные испытания и невзгоды были не страшны и даже смерть красна. Так говорила и так думала всю жизнь не только Анна Николаевна, но и ее дочь Вера Егоровна и ее внучка Екатерина Александровна — моя бабушка Катя, гордая тем, что немец-то до Орехова не дошел. И верила — никогда не дойдет. Вот только было бы Орехово — Ореховым.
Такими и были русские люди в их святой и нынче кажущейся наивной и уж теперь вовсе забытой простоте.
Коллаж: Погост Санницы (д. Глухово Собинского района), Храм св. пророка Илии. Фамильное кладбище Жуковских. Вид от холма Круча и храма на глуховские дали и реку Воршу.
Автор коллажа — Екатерина Кожухова.
…Молодой чете Жуковских жить после венчания было негде, гнезда своего они пока так и не свили. Родовая усадьба Анны Николаевны Плутнево в Алексинском уезде Тульской губернии осталась после смерти родителей ее младшим братьям. Анна Николаевна получила свое приданное деньгами — 15 тысяч ассигнациями, и молодые решили на эти средства, а так же на средства, полученные от продажи Русановки — старинной родовой усадьбы Жуковских в Полтавской губернии, — той ее части, что принадлежала Егору Ивановичу, приобрести себе имение неподалеку от Москвы. Тут-то граф Зубов и вмешался: всего в 8 верстах от Жерихова помещики Ляпуновы продавали в это время имение, — древнюю вотчину князей Всеволожских — сельцо Орехово, и граф уговорил сердечного друга его приобресть. Когда же спустя девять лет Егор Иванович вышел в отставку, — с его щепетильной честностью более невозможно было работать на строительстве дороги, где казенные средства тащили все без зазрения совести, и только он один был там у всех как бельмо на глазу, всем мешал, — Валериан Николаевич предложил ему для поддержания семейного бюджета стать управляющим его имениями Жерихово и Фетиньино, куда, к слову замечу, Суворочка свезла усадебный дом своего отца-генералиссимуса из Ундольского имения. Несравненное по уюту, красоте и живописности места, по чистоте природы (экологии, как бы теперь сказали), Орехово ведь никогда не давало не то, что излишков, а и прокормить семью, даже денно-нощно занимаясь хозяйством, было невозможно. А семья у Жуковских стала быстро разрастаться. Вот и пришлось Егору Ивановичу любезное предложение графа принять.
Очень много лет Егор Иванович жил в разъездах между Жереховым, Ореховым и Фетиньиным. Он очень любил и умел хозяйствовать на земле, хотя и здесь был гораздо более заботлив, аккуратен и бережлив, нежели предприимчив: не умел и, надо думать, не считал правильным ставить во главу угла выжимание прибыли из хозяйства, из земли, из работников. Он действительно главным образом заботился о том, другом и третьем. И эти усилия экономически лишь немного превышали затраты. Пока был жив граф Валериан Николаевич никто с него эффективного хозяйствования и не спрашивал. Но после кончины Валериана Николаевича в 1857 году наследники Оболенские все чаще стали предъявлять своему управляющему претензии. Нередко бывало так, что представленные им к оплате счета, скажем, на потребовавшееся поновление прорванной плотины не принимались, приходилось покрывать расходы из своих скудных средств. И все же немало лет Егор Иванович прослужил и у Оболенских, и затем и у Леонтьевых, их наследников, и только уж потом сменил его тот самый выше помянутый управляющий-лесовод Гуд, а Егор Иванович уехал в Тульскую губернию, чтобы снова стать управляющим, только теперь имениями своего старшего сына Ивана.
В начале 70-х Иван Егорович, в то время товарищ прокурора в Туле, женился первым браком на молодой вдове князя Гагарина Варваре — Вавочке, как ее звали в семье, получив за ней обширное и богатое имение Новое Село на берегу реки Шат. После кончины жены Иван Егорович остался совладельцем имения вместе с матерью покойной, но потом ему удалось довыкупить все имение, использовав на эти цели приданное второй жены — Ольги Гавриловны Новиковой, невесте так же весьма богатой.
И все-то годы — вплоть до кончины своей, Егор Иванович так и провел в Новом Селе, там же обрел и вечный покой на погосте храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Жуковские часто бывали в Жерихове. Собирались туда прокатиться молодые Жуковские и Микулины и в то, памятное 1903 года лето, которое все медлит и медлит начаться в моем повествовании… Тогда-то в Жерихове можно было пройтись по старинному дворцу изящнейшей архитектуры, помолиться в древнем храме, постоять в спальне у ложа, на котором почивала сама императрица Екатерина II и вообще напитать душу этой удивительной русской усадебной красотой. Тогда еще там, в немыслимо безобразных, душераздирающих развалинах не было специального психоневрологического диспансера, который обосновался в Жерихове в последние годы XX века.
Но мы с вами, дорогой читатель, все-таки обязательно отправимся к Жериховским достопримечательностям, вот только отправимся мы туда мысленно вслед за юными Верой и Катей Микулиными, да еще и с их кузиной Машурой и кузеном Жоржем, о встрече с которыми в то памятное лето рассказ — и удивительный! — непременно будет впереди; да поедем еще и с самим Николаем Егоровичем и другими старшими членами семьи Жуковских-Микулиных… И обязательно отправимся мы все в том же «Ноевом ковчеге», да по оврагам, да по речкам разлившимся от летних ливней, вот тогда и узнаем, каково-то весело путешествовать по своей родной земле, никем еще не испоганенной, прекрасной, да с чистым сердцем, не обремененном отяготительными земными богатствами, со своими близкими-родными и с любовью, с благорасположением всех ко всем, непременно скреплявшем в былые времена такие большие и дружные русские семьи…
Такая семейная идиллия и полное в семье душевное равновесие могут показаться современному человеку уж как минимум, неправдоподобными и сильно приукрашенными: мол, как же это может быть, чтобы в семье, где в наличии три поколения — да еще с зятьями и шуринами, с племянниками и не было никаких даже внутренних, даже скрытых противостояний и напряжений? А ведь так действительно было. Во всяком случае, в семье Жуковских, а потом в семье Микулиных, а еще потом в семье Домбровских, которую по причине отсутствия деда-эмигранта, возглавляла бабушка Катя.
…Однако пока нам еще рано двигаться в Жерихово: июль еще не наступил, кузен Жорж в гости к сестричкам еще не приезжал, Николай Егорович тоже еще не закончив лекций в Московском университете не отправлялся в Орехово, а мы в это время даже окрестности Орехова еще не населили. А как без этого? Ведь надо же нам прежде хотя бы в воображении населить здешние места их бывшими владельцами и обитателями, восстановить, хоть на живую нитку все дружеские связи, соседства, привязанности и родства — все то, без чего, как без кровеносной системы, не мог бы существовать ни один организм, в том числе и такое небольшое сообщество как семья, род, да еще в русской деревенской северной глуши. Помните, как Пушкин в «Евгении Онегине» подробно и любовно выписал деревню, — и Лариных, и всех их соседей, и ведь не случайно, что именно в деревне-то и завязались все сюжетные сцепления романа. Такова была старинная русская жизнь. Все завязывалось на земле … Связи деревенские в те времена играли не только не последнюю, а гораздо чаще и главенствующую, промыслительную роль в устроении судеб обитателей дворянских гнезд России. В городах служили, вывозили в свет невест, учились, проводили немногие зимние месяцы, проигрывались в карты (те, кто играл), но жили в полном смысле этого слова в своих деревенских вотчинах, в своих стародавних родительских углах. Званка у Державина, Большие Вяземы, Михайловское и Болдино у Пушкина, Долбино у Киреевских, Спасское-Лутовино у Тургенева, Ясная Поляна у Толстого, Даровое у Достоевского, Бунинское усадебное детство, заброшенное в степные пространства средней сердцевинной Руси… Елец…
Именно там — среди вольной природы и свободного дыхания пространств, в этой бескрайности богопронизанных далей, в больших и малых усадьбах, даривших — даже при крайней бедности и последней простоте — непередаваемое чувство защищенности и надежности родных, хотя зачастую и вовсе голых и разве что обтесанных стен, теплоты и уюта семейственности, без которых не может человеческая жизнь ощутить ни своего места в этом холодном мире, ни полюбить эту земную, пусть и временную, но родную колыбель, — именно там, в этом сопряжении простора, русских свобод (куда ни глянь, куда ни кинь!) и русской убогости и бедности (даже обычного дворянского быта — смотрите у Бунина, да и у Тургенева найдете, а про крестьянский быт и не говорю, а только плачу и молюсь!) — мог только раскрыться и расцвести во всем богатстве своей национальной самобытности талант русской духовной личности…
А прошлое и его тихий, еле слышный голос, что-то невнятно вещающий все новым и новым поколениям, приходящим в эту жизнь, чтобы пустить свои корни на своих Богом дарованных местах? Здесь-то уж сама история места, и даже его забытые или вовсе уже никому не ведомые тайны, и более того — сама духовная первооснова сих мест — разве не действовали они на нас даже тогда, когда мы ничего ни об истории, ни о первосущности своей земли даже и не знали? Ведь не случайно же остались в памяти народа предания о засилии темных духов на Маковце, куда в свое время пришел и начал подвизаться в дремучих лесах преподобный Сергий Радонежский, или Бородинские предания, жившие еще задолго до самой исторической битвы, связанные с удивительной топонимикой этого священного места — река Колочь, ручей Огник, Стонец. Казалось бы, Бородино уже исполнило свое предназначение, но пророчества-то устремлены к последним временам… Или святые предсказания преподобного Серафима Саровского о Дивееве, которое не сможет одолеть Антихрист…
И Орехово тоже имело свои тайны, свою глубокую сакральную историческую и природную первооснову, и у него тоже было свое Божественное предназначение, — не случайно так глубоко, так щедро и красиво укоренилась и расцвела здесь жизнь этого старинного русского семейства, о котором ведем мы наш несколько неровный рассказ.
Разве это малая величина — одно семейство и один род? Несколько чистых и благодатных слов могут спасти душу человека. Из нескольких зерен может произрасти поле пшеницы. Особенно во времена, когда люди теряют самих себя, свое самостоянье, свои корни, свою родовую память и даже свое сердце, разучаясь не только жить и любить, и чувствовать так, как изначально жили и любили и чувствовали его предки, но и ощущать свою священную связь с Богом дарованной землей-кормилицей. С землей рождения, с землей судьбы…
На фотографии сверху — уголок будуара матери Николая Егоровича — Анны Николаевны; внизу — спальня Николая Егоровича. Обстановка 50-х годов. Нынче в музее все другое…
Фотографии Елизаветы Игнатович.
«Этой зимой (речь в письме Веры Егоровны Микулиной (урожденной Жуковской) пойдет о Святках 1869 года, которые праздновали в Орехове. Она тогда была восьмилетней девочкой. — прим. автора). В Орехово собрались все братья — приехал Ваня, Колюшка и Володя, Варя зазимовал в VII классе, жил с нами в Орехове и готовился к экзаменам. Приехал и Папа из Жерихова, я его как сейчас вижу в коротенькой беличьей шубке, когда он утром выходил на крыльцо и звал меня: «Веренок, беги скорее гулять по морозцу, пойдем к коровкам на ферму». Я всюду бегала за ним.
Братья ходили на охоту, убили огромного волка. Папа им устроил на большом пруду высокую ледяную гору. По вечерам подвешивали на ветках елок цветные бумажные фонарики. Под нависшими шапками снега на ветках светились разноцветные огни. Катались с горы до поздней ночи. Вся деревня собиралась на пруд… По вечерам любили мы все собраться в охотничью комнату, около угловой, где спали братья. На зиму дверь из прихожей в большую залу и гостиную заставляли тамбуром. Машин рояль перетаскивали в прежнюю большую детскую, налево от коридора, там мы и жили с Машей, а мамина спальня была напротив в маленькой комнате. Там всегда было жарко натоплено. Рядом в длинной проходной стояли сундуки, и спала няня Арина Михайловна. В охотничьей по вечерам топилась печка, на стенах висели под стеклом Володины коллекции бабочек и жуков. За стеклом книжного шкафа лежали на полке куски огромного зуба мамонта, который нашел Володя в размытом обрыве под Вержболовом.
На столе, где мы обедали, кипел самовар. Сидела мама с вязаньем или вышиваньем в руках, а мы все забирались на большой диван, и тут начиналось самое интересное: кто-нибудь читал вслух романы Жюля Верна или Диккенса или рассказывали по очереди страшные истории. Особенно хорошо рассказывал Ваня. Помню, раз сидели мы так и — вдруг, на самом страшном месте рассказа за окном показалась голова цыгана… мы с Машей в ужасе закричали, даже мама испугалась, а Коля и Варя, вооружились ножкой от папиной астролябии и «шпагой майора» (история «шпаги майора» — туманна. Она принадлежала одному из предков Егора Ивановича — героя Отечественной войны 1812 года — прим. авт.), которая всегда стояла в охотничьем шкафу и отправились в обход. С тех пор они каждый вечер обходили вокруг дома. Раз во время обхода чуть было не случилась беда. Захотел подшутить над братьями племянник Кирилла, Прохор. Надел вывороченный тулуп и подкатился им на дорожке под ноги. Чуть было они его не убили, — подумали, что это медведь, хорошо, что с ними ружья не было, и он во время закричал…
На праздниках было очень весело: приехали Петровы (семья сестры Анны Николаевны — Варвары, вышедшей замуж за Александра Петрова. Их дети — двоюродные братья и сестры — были очень дружны с детьми Жуковских. Имение Петровых Васильки было в 17 верстах от Орехова, — прим. авт.) из Васильков, устроили живые картины. Машенька была Психеей, а меня нарядили амуром с крылышками, я была очень маленького роста. Братья сделали себе страшные маски. Ваня пугал меня, когда я ложилась спать. Высунется из-за ширмы и пищит: «И за что ты меня не любишь?» Раз они так напугали няню Аришу, что потом не знали, как ее успокоить. Уговорили Володю залезть в сундук, который стоял в коридоре и оттуда тоненьким голоском пропищать: «Арина Михайловна-а-а…». Няня так и обомлела, а Володя выскочил, и ну плакать, — тоже испугался, он очень любил Арину Михайловну. Я всегда боялась нашего коридора. Бежишь, даже дух замирает. Там в углу жила Володина сова. Кормили ее мышами из мышеловки. Она съест, а потом аккуратно плюнет комочек шкурки. Братья все хотели подсмотреть, как она это делает и меня подсылали, но сова при нас никогда не хотела плевать и ждала ночи. У Володи всегда водились разные звери и птицы. Папа называл его «мой профессор зоолого-ботаник». Коля и Варя тоже всегда возились с охотничьими собаками и с Володиными зверюшками. Ваня и Маша почти всегда были вместе: они играли на рояле, пели и сочиняли стихи…»
Долго не могла молодежь Жуковских забыть Рождественские дни и веселые святки 1869 года. Вера Егоровна помнила ту зиму всю жизнь и называла ее «счастливые сны детства». Есть и чудное письмо Николая Егоровича своему другу Щуке об тех зимних днях в Орехове, где он подробнее рассказывает об удачной охоте.
Однако ждет продолжения рассказ о Жуковских и Зубовых…
* * *
…Как-то, лет тридцать тому назад, с затаенной надеждой обнаружить что-то доселе мне на глаза не попадавшееся, разбирала я в очередной раз наш семейный архив. И действительно: вскоре в руках у меня оказались невесть где прятавшиеся до сих пор две небольших книжицы старинных синодиков-поминаний со многими именами живых и усопших родичей.
Один помянник, с изображением Распятия Христова с предстоящими Богородицею и святым Апостолом Иоанном Богословом на обложке, издания 1883 года, принадлежал моей прапрабабушке Анне Николаевне Жуковской (он был и надписан ее рукой). Ветхая книжечка рассыпалась в руках, но имена, занесенные в него какой-то удивительно насыщенной черно-коричневой тушью, старинным изысканным почерком и, по всей вероятности прапрабабушкиной рукой, читались прекрасно. Пред каждым именем алело надписание киноварью: «О здравии Болярина» или «Болярыни» имярек… Другой помянник — за 1897 год — принадлежал дочери Анны Николаевны, Вере Егоровне Микулиной, прабабушке.
Сколько драгоценных сведений хранили эти две старинные, ветхие книжицы… Имена людей знаемых и неизвестных, родных по крови и не только, — людей, о чьем близком присутствии в жизни твоих сородичей узнать есть всегда поистине нечаянная радость. Но одно дело — услышать о ком-то, кто был близок и дорог твоим присным, другое — увидеть его имя, во время оно начертанное родной тебе рукой ради молитвенного поминовения. И в том, и в другом поминании встретилось мне и имя графа Валериана…
Казалось бы, ну что же мог добавить помянник к тому, что и так было известно о близких связях Жуковских и Зубовых? Но одно дело сухие факты, другое — любовь и молитвенная память. В.Н. Зубов скончался в 1857 году. Книжечка помянника Анны Николаевны Жуковской была издана в 1883 году. Сама прапрабабушка прожила на свете 95 лет и до своей смерти в 1912 году — более полувека! — всегда поминала на домашней молитве и за службой в храме друга и благодетеля семьи графа Валериана. Поминал, конечно, своего крестного отца и Николай Егорович, и его братья и сестры, а потом и внуки Анны Николаевны, и пра, и праправнуки ее…
А вскоре, уже после обретения помянников, мне приоткрылось и еще одно удивительное совпадение, утверждающее не формальную, — по долгу христианскому, не отчужденную «благодарность благодетелю», а именно подлинную, душевную и Богом благословенную связь Зубовых и Жуковских. Тому подтверждение нашла я на старом кладбище Донского монастыря.
Коллаж: слева — направо — Анна Николаевна Жуковская (мать Николая Егоровича Жуковского), Вера Егоровна Микулина (урожденная Жуковская, младшая сестра Николая Егоровича) и няня Арина Михайловна, вырастившая всех детей и внучек Анны Николаевны, приехавшая с нею еще будучи крепостной девушкой из имения Стечкиных Плутнево Тульской губернии, где родилась Анна Николаевна.
(Коллаж Екатерины Кожуховой).
…Когда в 1921 году Николай Егорович скончался, решено было похоронить его в Донском монастыре, где уже ждала его могилка любимой дочери Леночки (20/1 июня 1892–1920), скончавшейся двадцати шести лет от скоротечной чахотки.
Отец и дочь упокоились за алтарем Большого собора Донского монастыря на красивейшем возвышенном месте — над фруктовым садом, цветущим по веснам и со множеством обитающих в нем птиц… Через четыре года рядом с отцом и сестрой был погребен и Сергей Николаевич Жуковский (1900–1924), тоже безвременно скончавшийся двадцатичетырехлетний сын Николая Егоровича.
Рядом, буквально в нескольких шагах от места упокоения Жуковских стоит небольшой храм-ротонда в честь преподобного Александра Свирского. Сколько раз, навещая могилу родных, я останавливалась и у этого, всегда закрытого на замок храма-часовни, машинально перечитывая памятное надписание, свидетельствующее о том, что передо мной родовая усыпальница графов Зубовых. Но как-то смысл этого сообщения до ума не доходил: да и никогда и никто в нашей семье не упоминал о том, что рядом с могилой Жуковских упокоились столь близкие им ореховские соседи и друзья графы Зубовы, хотя Жуковские — Анна Николаевна и Мария Егоровна — и присутствовали на отпевании и похоронах графа Валериана. Но однажды, в ту пору, когда только зародилась у меня мысль о написании этой книги, навещая на Радоницу своих присных, я вновь замедлила у храма преподобного Александра Свирского… Вот тогда-то, наконец, внезапно и осознала, что передо мной еще одно чудо Божественного промышления: как это не невероятно, но и вечный покой Жуковские и Зубовы обрели по соседству.
Надо было только еще кое-что уточнить…
Оказалось, этот храм-усыпальница был возведен в конце XVIII века графом Н.А. Зубовым над захоронением своего отца — графа Александра Зубова. Не берусь утверждать с точностью, но, кажется, и сам Николай Александрович был там похоронен. Во время наполеоновского нашествия храм-ротонду разграбили и разрушили, а восстанавливать его пришлось уже овдовевшей графине Наталье Александровне, Суворочке, матери графа Валериана Николаевича. И храм этот вдова Николая Зубова полностью восстановила, скорее всего, там он и был погребен. Сама же Суворочка была похоронена под Петербургом в Свято-Сергиевой Пустыни, — в еще одной — Петербургской — усыпальнице Зубовых.
Граф Валериан Николаевич был по духу истинно московским человеком, а потому, полагаю, завещал похоронить себя в фамильной усыпальнице именно в Москве. Мог ли он предположить, что когда-то — почти семьдесят лет спустя, рядом с ним обретет вечный покой и сын его заветного друга и его великий крестник Николай Жуковский?
Нет, это не было делом рук человеческих — во всяком случае, так верится. И вот еще некоторые соображения…
Когда скоропостижно скончалась Леночка Жуковская, а это был май 1920 года, пик голода и разрухи — сам Николай Егорович был уже очень тяжело болен. Он находился в санатории Усово и ему даже не в первый день решились сообщить трагическую весть о кончине дочери. Заботы о похоронах взяли на себя ученики и племянницы Николая Егоровича — двоюродные сестры Леночки. Конечно, выбор пал на Донской монастырь не случайно: это кладбище особенно любила старинная московская аристократия, дворянство, и вообще люди коренные, московские. В чем-то именно это Донское монастырское кладбище имело некое сходство с ореховскими местами, наверное, в присутствии там вот этой особой, сугубо московской атмосферы. Духа старомосковской простоты, теплоты и радушия, древнего благочестия и ненадменного благородства, всегда недалеко соседствующего и со святым юродством, — всего того единственного и неповторимого в своей самобытности, неподдающегося никаким жестким определениям и классификациям старинного, московского, православного облика и строя русскости. Этот особенный дух и строй, и всё это невыразимое, как облик храма Василия Блаженного, душевное и духовное наполнение, вобрала и впитала в себя Москва, когда собирала земли вокруг себя-центра.
Вот и на Донском кладбище вовсе не случайно подобрались замечательные не столько по родовитости, сколько по исконной русскости, «соседи» на кладбище: рядом с Жуковскими — великий московский бытописатель художник В. Перов, за ним Зубовы, совсем неподалеку В.О. Ключевский, а недавно возвратились в московскую землю и генерал Антон Деникин, и певец Замоскворечья Иван Шмелев, и православный философ Иван Ильин, а уж позднее всех по времени обрел здесь свою вечную храмину и Александр Исаевич Солженицын — причем совсем рядом — между Жуковскими и Зубовыми. И как потом оказалось, даже и это соседство открыло не случайный свой характер. И здесь обошлось не без Божественного промышления, о чем ниже тоже будет поведано.
Но вернемся к нашим путешественникам — не тем, кто в июле 1903 еще только собирались навестить Жерихово с непременным пикником по пути, а к тем, кто в то памятное лето возвращался в начале мая в Орехово после зимовки — кто из Киева, кто из Москвы, трясясь по размытым весенним дорогам в старом рыдване под названием «Ноев ковчег»…
На фото (коллаж Екатерины Кожуховой): Донской монастырь в Москве; могила Николая Егоровича Жуковского и его детей — Елены и Сергея; усыпальница Зубовых.
Страница из старинного семейного помянника.
«Гости съезжались на дачу…», — так у Пушкина начинался один из его неоконченных прозаических отрывков, напоминая издавна дорогое и близкое русскому сердцу, наимилейшее ему деревенское, усадебное житие. Дача — и слово, и понятие тоже стародавнее: царские небольшие подарки в виде лесных угодий за службу, за мужество, за кровь, за верность…Усадьба же все-таки понятие несколько иное, происходящее от слова «усаживать», садить, насадить. Усад — это двор крестьянский, но «безтягольным», тем, кто тягла государева не несет, — по Далю, — «усаду не дается, а живут они, либо на задворках, либо в келейном ряду». Не так уж и много было на Руси «безтягольных»: парни неженатые, калеки, бобыли, а так — с 18 лет до 60 — все тягло несли, а потому и свой усад на земле имели.
Так и садился русский человек — кто на стол княжеский, — на княжение, кто устраивался и обживался в усадьбах и усадах, словно дерево, пуская глубокие корни в землю, укореняясь, питаясь ее соками и дарами, ее красотой, и сердцем вбирая в себя ее боголепный лик, начиная и лицом своим походить на образ родины. И это вовсе не какая-то выморочная мистика: как любящие и большую жизнь прожившие супруги начинают неуловимо походить лицом друг на друга, так и брак с родной землей взаимно преображает и человека, и природу.
…Давно уже временных обитателей «Ноева ковчега» переполняло предвкушение радостной встречи с Ореховым. Шурка мечтал как можно скорее вместе с деревенскими мальчишками опробовать свой велосипед (история этого, можно сказать, «исторического» велосипеда непременно будет рассказана отдельно), Верочка воображала, какими дивными весенними букетами она примется сейчас оживлять пригорюнившийся после долгого зимнего одиночества дом, — да и кто бы сумел это сделать лучше нее? Помню ее изысканные, из колосьев и трав, из каких-то подзасохших совершенно невзрачных маленьких полевых цветов необыкновенно элегантные, вернее, элегические букеты, которые всегда были непременной чертой и украшением ореховского дома, благо тогда еще не все старинные вазы были уничтожены. У Веры Егоровны, как всегда, сильно болела голова, и она могла теперь думать только о чашке свежезаваренного чая с деревенскими сливками.
Мадам, пересчитавшая своими чувствительными боками все колдобины русских дорог, теперь, наконец, спала и видела во сне то ли Елисейские поля, то ли Булонский лес… И только Катина внутренняя пружина была готова к резкому скачку: скорее подхватить на руки Мушку, и — в поля, на зеленые нивы, где рожь уже пошла в коленца, на просторы укрывшихся луговыми травами ореховских холмов, на волю, ближе к лесу, к оврагу — поздороваться, похристосоваться с родимой землей, послушать сестрицу-кукушку.
* * *
Вскоре ближе к Орехову сосновые насаждения Гуда уже плавно перешли в природные, стародавние и очень глухие леса. Ехали и мимо страшной «Америки»… «Почему Америка? Почему Америка? — всегда допытывалась я, когда пришел мой черед возвращаться по веснам в Орехово. Но от меня отмахивались: «Ты туда и не мысли забрести, там болота и много волков, заблудишься и сгинешь — не найдем».
Но вот уже забрезжил и конец путешествия… Показались родные опушки Сосенок, — чудесного приусадебного леса Жуковских, чистого, хвойно-лиственного, а потому и веселого, приветливого, улыбающегося леса, смотрящего на человека с благорасположением, открывающего ему со щедрым великодушием свои земляничные поляны, на которых если прилечь, да взглянуть понизу, то глаз зарябит, — такое там всегда бывало обилие ягод, словно совсем миновала эти края, эту добрейшую, внятную, говорящую всеми своими очертаниями пейзажа красоту, не оттоптала ее еще своими коваными железобетонными сапожищами смертоносная цивилизация, чудом сохранив здесь неприкосновенный раритет каких-то иных, былинно-сказочных времен…
Сосенки были покрыты исключительной мягкости коврами — изумрудными травами — муравами, в которых даже ранней весной пахло маслятами и белым грибом, — не лес, а отрада всех человеческих чувств — туда было совсем близко прогуляться от усадьбы с пледом в руках, и, примостившись на любой из чистых и сухих полянок, на взгорочке, возлечь посреди земляник и цветов, и чудно снующей рядом муравьиной жизни, и погрузиться в созерцания, что и делал всегда, живя в Орехове, Николай Егорович Жуковский.
Именно в Орехове, когда он отдыхал на опушке Сосенок, — спиной к лесу, лицом к розовеющим в лучах заходящего солнца полям, — внезапно пришло к нему решение одной их красивейших в математическом смысле задач — о механической модели маятника Гесса. Об этой мистической, сакральной связи человека и природы сам Николай Егорович говорил нередко. Так под Полтавой, на родине своих предков по отцу, поминая знаменитого русского математика М.В. Остроградского на его могиле говорил так, словно видел перед глазами родные ореховские холмы и поля: «При взгляде на это мирное место успокоения, на широкие поля, убегающие в бесконечную даль, невольно возникает мысль о влиянии природы на дух человека… В математике, милостивые государи, есть тоже своя красота, как в живописи и поэзии. Эта красота проявляется иногда в отчетливых, ярко очерченных идеях… а иногда поражает она нас в широких замыслах, скрывающих в себе что-то недосказанное, но многообещающее…».
Вот почему именно Орехово должно было бы благодарить за явление в мире этого изумительно широкого именно в этой своей всегдашней духовной пронизанности и свободе гения Жуковского. Глубокое внутренне молчание ореховских лесов и полей, их бессловесная тихая речь пробуждали его дух, призывали, и понуждали его стремиться всем своим существом к познанию сокровенных глубин реальности, ее инаковости и нетленности, ее метазаконов, сущих как законы подлинной, изначальной Красоты, которым этот мир был лишь живым и прекрасным отражением, иконой, вобравшей в себя не только отблески Красоты недосягаемой, но и сущностные силовые воздействия, излучения и энергии Божественного Первообраза…
В научном наследии Николая Егоровича Жуковского всегда поражала прежде всего его всеохватность, в явлении которой безусловно сыграло свою роль и его Ореховское рождение: тихая мелодия смиренной, доброй и захватывающей сердце красоты особенной природной и исторической ауры здешних мест.
Сосуществование двух реальностей — видимой и невидимой, существование невидимых метафизических глубин мира в восприятии Николая Егоровича Жуковского, и как теоретика, и как инженера-механика, всегда пребывало неоспоримой данностью. Мысль его, над чем бы он не трудился, всегда проистекала из недр невидимого целостного интуитивного восприятия. Она рождалась, крепла и кровоснабжалась могучей интуицией, живущей и сокрытой в нем самом в духовной глубине. Говоря об особенностях мышления Жуковского, нам никак не обойти замечательную личность одного из его учителей: Василия Яковлевича Цингера (1836–1907). Он явился своего рода детонатором пробуждения гения Жуковского, он укрепил его волю и выбор направления мысли.
Основатель и глава геометрической школы Московского университета, ботаник, философ, религиозный мыслитель и любимый университетский профессор Николая Егоровича Жуковского, Цингер оказал огромное влияние не только на его научное, но и духовное становление, он подтолкнул их к сопряжению. Цингер считал, что и аксиомы геометрии, и способность нашего духа непосредственно и с полной ясностью созерцать и познавать пространство — не есть порождения и следствия земного опыта человека, но являются феноменами его духовной природы, духовного бытия. Сегодня можно было бы провести некую параллель между рассуждениями Цингера о научной интуиции и, скажем, учением Хайдеггера о языке, как о “доме бытия”, согласно которому бытие изначально живет и раскрывается в языке; где язык не орудие мысли, не одна из способностей человека, но фундаментальная категория сознания в такой степени, что уже не человек говорит, а язык говорит человеку и человеком.
«Аксиомы геометрии — истины не опытного происхождения, а способность нашего духа непосредственно и с полной ясностью созерцать пространство» (так говорил об учении В.Я. Цингера другой замечательный русский математик и близкий соратник Николая Егоровича Б.К. Млодзиевский (1858–1923).
Всю жизнь Цингер оставался защитником духовной сущности познания, в то время как вокруг все духовное агрессивно вытеснял позитивизм. Он утверждал, что интуиция пространства коренится в созерцаниях разума вообще, и поэтому есть условие всякого умозрения… Наука и знание не должны быть рабами опыта. Она основывается не на материальных, а на идеальных началах. «Наука есть одна из сторон духовного бытия».
К сожалению, почти все авторы, пытавшиеся характеризовать особенности и природу научного мышления Жуковского, его гения обходились лишь скупыми и формальными констатациями, а чаще оставляли за скобками именно эти, «идеалистические», столь близкие духовному складу Жуковского мысли и подходы. А потому в нашем рассказе Василий Яковлевич Цингер, замечательный мыслитель и педагог, красивый белокурый немец по происхождению, и православный по вероисповеданию, никак не может быть обойден стороной в нашем рассказе. Ведь помимо сакральной связи человека с Родиной, с «кормящим ландшафтом», помимо глубочайших кровных связей человека с его родом (а в проекции и народом, этносом), есть и другие священные связи — иерархические связи просвещения и научения — учеников и учителей, вольных и невольных помощников на путях нашей жизни, часто незнаемо и даже нечувствительно для самих себя исполняющих равноангельское служение таинственных от Бога провозвестников, посланников, наставников.
Тут, если попристальнее вглядеться, такие таинственные, «подземные» узоры и переплетения, такие сцепления человеческих дорог и судеб открываются, что поистине вся жизнь наша начинает восприниматься как некое священнодействие, имеющее в своих основаниях Божественный чертеж, присланный с Небес, а сверхзадачей жизни становится познание и постижение этого чертежа и своего места в нем. Тогда для человека, живущего верою и по вере, все начинает отзываться в сердце как явления таинственной воли, как гласы и знаки из миров иных. Слышит их человек в немощи духа своего, силится узнать голос к нему обращенный, и в то же время трепещет, сомневается: да кто же я, мол, таков, чтобы искать «залогов от Небес», чтобы со мной Сам Бог говорил?! Но бывает и так, что Небеса снисходят к слабости человеческой, к его неуверенности, и говорят ему как младенцу — по слогам, как в прописях — ясно и четко до очевидности, озарив вспышкой света человеческую судьбу, обычно перетекающую из возраста в возраст в каких-то предрассветных туманах или мистических сумерках.
На фотографии — Николай Егорович Жуковский на склоне лет…
Наконец-то «Ноев ковчег» с ореховскими жителями, дробно простучав всеми своими колесами на вечно недочиненном с прорухами мостике через Вежболовский овраг, выбрались, наконец, к последнему и самому заветному участку пути. Вот уже показался и въезд в аллею, именуемую «Проспект», ведущую прямо к вратам усадьбы.… Но что это? — «Тпру!», — кричит Федот. — Зачем остановились, ведь уже на подъезде? — возмущается Вера Егоровна.
Увы, придется вылезать, и это тогда, когда все уже сгорают от нетерпения, — как назло сполз с верхов велосипед Шурика, — а впереди — крутая, хотя и самая последняя осклизшая и размытая глиняная горка. Брать ее предстоит с риском для рыдвана.
Но вот и эти трудности минуют, сердце сладко сжимается: видна крыша дома и знакомые тёмные купы сада…
— Мама! Ключи от дома у тебя? — спрашивает Верочка.
Управляющий Николай Васильевич замирает в почтительном ожидании. Вера Егоровна ищет ключи и в отчаянии, сетуя на всегдашнюю рассеянность брата Николая, — заявляет:
— А ведь Коля забыл нам дать ключи! Как же мы теперь войдём, не ломать же старинную дверь.
— В кухне и коридоре замки висячие, — дозвольте сшибить?
Больше ничего и не остаётся. Но вот замки взломаны, — и Вера Егоровна Микулина со своими дочерьми, — Верой и Катей и младшим сыном Александром и совершенно потрясенной ухабистой дорогой Мадам входят в родимый дом…
Первым делом Катя бежит в зал — запустить старинные настенные часы. Их остановили прошлой осенью в одиннадцать утра, когда все под зиму уезжали из Орехова. Это только ее, Катино, послушание — «запускать время», хотя и другие претенденты пустить ореховские часы тоже есть. Но вот уже качнулся медный маятник, подтянуты гири на цепях — ого, уже полдень! — и дедовские часы вновь бьют, как и год, и два, и двадцать лет назад: гулко, солидно, уверенно… Начинается новая и такая любимая, и такая привычная ореховская жизнь… На стене выгоревший, засиженный мухами календарь 1902 года. Нет, так не пойдет: сейчас уже весна 1903-го, — совсем другое дело! Скорее выставить балконную дверь… И вот, в затхлый воздух зала врываются запахи и звуки деревенской весны. На старинных прудах урчат лягушки, в высоченных столетних липах парка гулко перекликаются птицы, и как звонко, как музыкально резонирует в ответ им тысячеголосое эхо в необозримом соборном небесном куполе… Бьют часы, а в лесах второй отсчитывает какие-то только ей известные вехи бытия ранняя кукушка. Самое начало мая, а она уж гукает вовсю! И запахи дурманят: сырая земля, трава, жабник, ландыши и зацветающая черемуха…
Кате скоро семнадцать, она и думать об отдыхе не думает: в ней столько необузданных сил, горячности, каких-то пока еще неосознанных стремлений, — с восторгом и испугом она прислушивается к этой закипающей в ней силе… Для чего она дается? Божия ли она? На что она уйдет и к чему приложится? А пока чувствуешь — все тебе по плечу!
В доме милая суета: разборка вещей, мытье полов, развешивание занавесок, а Катя уже летит стремглав на простор, — там тишина, только сестрица-кукушка не унимается… Над землей дрожит нагретый воздух. Закинешь голову, — пространства бесконечные, — а под тобой весь шар земной, и ты вращаешься вместе с ним вокруг Солнца… Как хорошо!
* * *
Вот и овраг — Катина земля! Место свободных полетов ее неудержимого любознания: она — пламенный археолог, она геолог, она историк и немного географ, именно здесь, каждый год, едва запустив свое городское платье по периметру комнаты и переодевшись в заправского парня — шаровары, ботинки, старая блуза и какая-то немыслимая дедовская шляпа, Катя, пристегнув к поясу весьма нешутошный охотничий нож в самодельных кожаных ножнах, убегает в овраг, чтобы скорее зарыться во влажные заросли лучезарно-синих, прохладных незабудок, в чистейшую как слеза, прозрачную виндзорскую акварель речки Вежболовки, или, точнее, того, что от нее осталось. На дне этого-то оврага и сокрыты все заветные Катины помыслы и вожделения. Это — камни, причудливые окаменелости с четкими следами морских раковин самых разных видов: когда-то давно, до ледников здесь, в Орехове было море!
С раннего детства Катя одержима ореховскими древностями. Ее мысль парит где-то там — за тысячи и сотни тысяч лет до…. Зачем она не стала археологом! Правда, много-много позже она найдет свою стезю и любимое дело — реставрацию древней русской станковой живописи — фресок и икон, и в то же время останется она и при камнях, — очень древних, освященных тысячами литургий, вобравших в себя столетия не поддающихся никаким другим земным измерениям человеческих молений, стенаний и воздыханий; часами на шатких деревянных лесах, в высоте под куполом, где изогнувшись, в великом напряжении будет совершать она свое тончайшее и трепетное служение искусству воскрешения древнего храмового благолепия и священной красоты…
Но пока она собирает только редкие камни и окаменелости с отпечатками настоящих морских раковин, правда, жарко мечтая при этом о зубе мамонта — ведь нашел же его здесь в свое время покойный мамин брат и первый ее воспитатель — самый младший из братьев Жуковских — Володенька (1854–1873), одареннейший, милый, безвременно, в девятнадцать лет подкошенный дифтеритом юноша, недозрелый, но так много обещавший колос, как и Катя, бывший страстным археологом, натуралистом, великолепным, тонким рисовальщиком, — это был прямо-таки юный Дюрер… «Наш профессор», называли его родители. Бедный юноша, быть может, даже самый способный из всех детей Жуковских, — он даже не мог получить полного гимназического образования — все скуднейшие ресурсы семьи были отданы на образование Ивану и Коленьке Жуковским — старшим сыновьям, толстый Варя — Валериан — уже был на втором плане, а Володя — вообще за немногими перерывами жил в деревне и был вместе со стариком сеттером Фигаро — умнейшей охотничьей собакой Николая Егоровича, первым нянькой своей маленькой сестры Верочки — Катиной мамы. Как только бабушка Анна Николаевна смогла пережить его кончину!
Анне Николаевне, родившей Верочку — свое одиннадцатое дитя в 46 лет, совсем уже некогда было ею заниматься. Она металась между Ореховым и Москвой, дольше оставалась в Москве, где учились сыновья, занималась хозяйством и там, и там как заправский управляющий, ведь от того, продастся ли горох осенью, зависело, смогут ли мальчики заплатить за учебу. Но гороховина, — как писала моя бабушка в биографии Николая Егоровича, что-то худо шла… Анна Николаевна была вынуждена считать каждый грош, отказывать себе в обедах — «Я уже пообедала!» — часто говорила она, — смотреть за всеми и за всем. Она даже не могла во всю свою жизнь позволить себе вволю предаться скорби и слезам, постепенно, кажется и разучившись предаваться долго столь бесцельным занятиям. С шестнадцати лет, как лишилась матери, она стала воплощением служения, и так вплоть до ее последнего 95-летия, и, может быть, потому Господь и даровал душе ее великую силу, а к силе духовной прибавил и телесную крепость.
В этой второй части моего столь неспешного, претыкающегося отступлениями рассказа именно Анна Николаевна, хозяйка Орехова, и будет главным героем. Но это еще впереди, — куда нам торопиться? Ведь как алмаз требует, чтобы сияние всех граней его было усмотрено и явлено, так и человек: с разных сторон загляни ему в лицо: то приблизься, то отойди подальше, и даже совсем в сторонку — охват земной человеческой жизни так беспримерно велик, как велика и бездонна тайна личности каждого человека, и потому, чтобы хоть штрихами наметить живой образ, как много нужно облететь мысленных пространств, как во многое нужно пристально и близко — в микроскоп — вглядеться, чтобы луч Божия познанья открыл путь к этим глубинам личностного, высветив и грани, и складки.
* * *
Обидно, но Кате мамонтов зуб все-таки в руки нейдет. «Как же это бабушка Анна Николаевна могла запамятовать, где Володенька-то его нашел»? Но Катя не унывает, — она никогда не унывает! — потому, что ей все интересно: кто бы мог подумать, — Владимирское Ополье, Орехово с одним только этим крохотным ручьем в овраге пересохшей Вежболовки, и вдруг — море, оставившее такие неотразимые следы своего здесь пребывания. И так, видно, с детства эта мысль о море, о затопленной когда-то, тысячелетия назад, ореховской земле ее поразила, что спустя полвека, уже в моем детстве, в том же самом овраге, в той же неземной лазури незабудок, захваченная бабушкиными рассказами про былое Ореховское море, я испытывала потрясение всего своего сознания и зрения. Я была тогда маленькая и мозг мой не мог мыслить тысячелетиями, но я эти недомыслимые глыбы несомненно каким-то образом представляла, ощущала, причем в каком-то единстве, целостности и грандиозности единовременно свершающихся метаисторических действий…
То ли Орехово выходило из моря, то ли море покрывало Орехово с его гречишными полями (почему не могу я теперь вспомнить лик этих полей, каким он действительно тогда был, вспомнить так, как бы я этого хотела, хотя вот и забыть не забуду никогда — этого розового перламутра, жемчугов и купающихся в этих жемчугах и излучениях душистой амбры пчел) и лугами, где я знала каждый махонький и самый простой цветок, который жил в моем сердце в своей мизерной неповторимости, почти как личность, — он был моим товарищем, какой-нибудь тончайший, надломленный, жалкий колокольчик, с которым мы не так уж и разнились по ростам; и васильки, и забредшие в поля одичавшие львиные зевы из давнишних ореховских цветников, и проселочная, мягкая и теплая для босых ног моих ореховская и одновременно для меня всегда и вселенская пыль; и неожиданно выплывающими среди полей и холмов из лощин небольшие соборы дубов, желуди которых я тут же бросалась, не знаю зачем, набирать в свой подол — они всегда вызывали у меня в детстве такой же священный восторг, как камни у бабушки…
Все это с самого начала жизни свидетельствовало мне о том, что Орехово — земля не простая, таинственная, не такая, как многие другие, даже пусть очень красивые и живописные земли и страны.
Во-первых, море, и наши с бабушкой сокровища — найденные в оврагах древние морские окаменелости. А во-вторых, исторические тайны, которые в моем детском сознании всегда сливались и с тайнами природными. Вода… Вот это ощущение скрытого моря в месте, где даже искупаться было негде (затянутые ряской рукотворные пруды в парке были не в счет), оно всегда как-то подспудно присутствовало, пыталось изобразиться мысленно на внутреннем экране сознания. А потом, уже позднее, попалось мне в печати и сообщение о том, что около речек наших — Ворши, Вежболовки, Ундолки и других малых ручейков, очень много родников. Оказывается, действительно, в наших местах находилось и никуда не уходило большое подземное озеро чистой воды, которое так часто пробивалось на поверхность родниками. И все эти места уже в наши поздние времена славились как экологически чистая водоохранная зона. Воды Ворши в среднем и нижнем течении использовались и ныне, наверное, еще используются, рыбными хозяйствами…
Сейчас, когда я это пишу, не один окиян-море вод утек, просыпалось время песком сквозь пальцы, истлели все косточки, зарос буйными травами и случайно подсаженными цветочками родной погост некоторыми — далеко не всеми! — оставшимися памятниками упокоившихся здесь Жуковских. Мир нашей семьи, а тем более мир живших до нас когда-то помещиков Ляпуновых, а еще раньше Всеволожей, — этот мир в Орехове нынче умер. Его там нет — он, как Китеж-град, ушел от нахлынувшей другой жизни под воды своего таинственного Светлояра — великого праморя…
Люди заблуждаются, разучившись чувствовать и даже задумываться о сакральном значении главного места их земного бытия. Человек ли красит место, место ли человека — но они должны найти друг друга и соединиться, как муж и жена — как одна плоть и одна душа. И в этом Божественная тайна Родины, Отечества, своего места на земле, без которого человеку свое от Бога данное земное предназначение в должную меру не исполнить.
На фотографиях: На крыльце Ореховского дома с прабабушкой «тётей Маней» — Марией Александровной Микулиной (о ней рассказывалось в 1 части), с Алексеем Георгиевичем Микулиным, двоюродным дядей автора. И, наконец, автор, а рядом с ним — велосипед.
Ниже — Ореховский парк, который никого кроме нас тогда (1950 год) не видел, но знавал-то он много лучшие времена…
…А вот и еще одно, поразительное, загадочное, совпадение, которое словно само собой, без моих на то усилий нечаянно открылось мне в совсем недавние времена. Оказывается, что неисповедимыми Господними путями более полувека назад на краткий в масштабах целой жизни миг занесла судьба в деревню Орехово, в этот сторонний и тихий, и давно опустевший угол русской земли Александра Исаевича Солженицына. Было это летом 1956 года, когда писатель после освобождения из ссылки в поисках работы (он искал места сельского учителя) решил поехать во Владимир. Позже он говорил, что его «потянуло к красоте», что ему хотелось после пережитого «окунуться в самую душу России». А искать ее он отправился почему-то не куда-нибудь, а именно во Владимирские края…
Солженицыну во Владимире неожиданно было предложено сразу аж 22 места. Александр Исаевич выбирал долго, и исключительно по какому-то наитию остановился на 2-х адресах. Одним из них и было Орехово, таинственную красоту и сокровенную духовную мощь которого писатель сразу и остро прочувствовал, как только до него добрался. А ведь это была тогда до крайности бедная, запущенная, грязная деревня неподалеку от райцентра Ставрово, которое вместе с соседними Суздальским и Юрьев-Польским районами входили в территорию Владимирского Ополья. И даже музея Николая Егоровича Жуковского там в это лето фактически не было. Бабушка моя уже в эти годы была тяжело больна и жила в Москве, а сестра ее, моя «вторая бабушка», Вера Александровна Жуковская (1885–1956) этим летом на день памяти преподобного Кирилла Белозерского скончалась. Вскоре музей созданный бабушками и ими окормлявшийся, был прибран властями к рукам. Был прислан директор, который, увы, страдал непреодолимым пристрастием к горячительным напиткам, а вот к музейному делу и русской культуре отношения никакого не имел. Дом Жуковских — сердце Орехова, стоял осиротевший, мертвый и окончательно доразграбленный…
И все же Орехово Солженицына потрясло: «Я не помню, где и когда я видел такую разнообразную, могучую и мудрую красоту, — писал он знакомым. <…> Я шёл там, задыхаясь от счастья и почти готовый согласиться на любые условия». Но оказалось, увы, что в Орехове всего 28 изб, дети на занятия в школу приходят из соседних деревень, классы неполные, нет электричества, жители поражают дикостью и нечистоплотностью, квартиру снять почти невозможно. Кроме того, в деревеньке не пекут хлеба, овощи и молоко добывают на месте, а всё остальное, включая крупы, возят из города. «Это было крушение всего моего “хохломского” варианта: я понял, что в моей мечте заложено противоречие: там, где тихо и красиво, я не найду ни работы, ни еды. Там же, где будет работа и еда — там будет шумно и производственно».
Солженицын добрался тогда и до Ставрова, — то ли попуткой, то ли своим ходом — от Орехова всего-то верст 13! Походил и по этому старинному купеческому селу, о котором был тогда такой приговор: «от деревни ушёл, до города не поднялся». Это было настоящее село, с еще сохранившимися зажиточными купеческими домами на крепких высоких кирпичных подклетах, с остатками лабазов, где когда-то шла бойкая торговля, с резьбой на ставнях и заборах и причудливых узорных жестяных дымниках над трубами… Наверное, Александр Исаевич заглянул и в храм — он действовал, и, быть может, даже и свечечку Богу возжег за дарованную, наконец, после стольких мытарств свободу…
* * *
Несмотря на грязь и крайнюю скудость быта, со всеми сопутствующими реалиями маленького и нищего райцентра пятидесятых годов, в Ставрове еще прочитывалось что-то особенное, какие-то следы и меты старинной жизни. Да и в придачу ко всему самое это странное название: Ставрово. А ведь «ставрос», — по гречески, значит, крест. Как же это смог залететь в эту забытую Богом глушь этот греческий «ставрос»? Объяснения тому даже и ныне в туристических проспектах даются весьма ненадежные: мол, первоначально село звали "Крестово", потому что дома в нем были расположены в две улицы, образующие крест. Или иначе: помещица, некогда владевшая этими землями, решила село переименовать на греческий лад, вот и получилось Ставрово. Только вот что же это за помещица, приверженница греческого языка была, и когда, если само название Ставрово уже известно было гораздо раньше появления в этих местах помещиков — с XIV–XV веков? Тогда тут были древние вотчины Владимирских князей Рюриковичей Всеволожей…
Уже в XI веке на территории Ставрова располагалось «селище». Самое раннее письменное упоминание Ставрова, относится к 1450 году. В 1515 году Ставрово упоминалось как дворцовое село, а в писцовых книгах 1650 года оно уже значилось в числе вотчин московского Вознесенского девичьего монастыря. Немногим раньше — в 1608 году Святейший Патриарх Ермоген пожаловал поместьем во Владимирском уезде одного из патриарших сынов боярских Василия Петровича Всеволожского. Это и было наше Орехово — тогда пустошь, которая уже в 1645 году обращена была в вотчину, закрепленную за сыновьями Григорием, Петром и Романом Всеволожскими, о чем сохранились и свидетельства.
Но откуда же все-таки взялось это греческое название?
Русский историк Михаил Тихомиров в своей книге о древнерусских городах писал, что местность эта, где расположено и Ставрово, и наше Орехово в глубокой древности во времена Владимирской Руси называлось «Юрьевским полем», и служило оно во время княжеских междоусобий местом великих побоищ. В XII веке здесь произошёл кровавый бой на Колокше у Прусковой горы. Дело в том, что в 1176 году владимирцы присягнули князю Всеволоду III Юрьевичу Большое Гнездо (1176–1212), ставшему отныне Великим князем суздальским. Но ростовцы не хотели видеть его своим князем и тайно звали его племянника — князя Мстислава Ростиславича. Мстислав покинув Новгород, прибыл в Ростов, собрал дружину и пошел на Владимир. Всеволод Георгиевич предложил разрешить спор миром, но Мстислав отказался. 27 июня 1177 г. состоялось сражение как раз в тех местах, где и находится нынешнее Ставрово и окрестные близкие ему деревни: село Турино в 6 верстах, урочище Каковинский лес, село Бабаево и Бабаева гора, называвшаяся еще Прусковой и Пруссово поле. Тут и раньше, и потом — часто происходили кровавые междоусобные брани.
Местность эта была обильно полита русской кровушкой и была она покрыта крестами. Это была сплошная братская могила. Не случайно, что именно здесь в глубокой древности был основан и Николо-Волосов монастырь. Интересно и то, что урочище это еще в языческие времена было посвящено Волосу — скотьему богу, которого деревенские жители в этих краях особо чтили, а позднее, уже в христианские времена, стали почитать особо святого Власия, ему молились о сохранности своей домашней скотинушки. Его образа были раньше у многих в избах в Орехове. Древняя икона святого Власия была и в доме Жуковских.
Великий князь Всеволод победил, и Суздаль с Ростовом Владимиру покорились. Скончался Всеволод III Георгиевич Большое Гнездо 15 апреля 1212 года. Княжил он счастливо, благоразумно, был справедлив. И, между прочим, в детстве воспитывался в Греции, где многому научился, и, несомненно, владел и греческим языком. Не здесь ли разгадка Ставрова?
…А Солженицыну пришлось выбирать другой адрес: как известно местом его учительства стал поселок Торфопродукт на стыке Владимирской и Рязанской Мещеры. Но и краткая встреча с Ореховым, наверное, не была случайной для писателя: где-то там, в бескрайних просторах вечности Божественная рука сопрягла его земное бытие с бытием Орехова, а косвенно и тех, кто здесь жил когда-то, и тех, в чьих сердцах потом уже чисто духовно пребывала память об Орехове. И земля эта — древняя, удивительная и таинственная, «разнообразная, могучая и мудрая» — повторим писательское слово, — хоть на краткий миг, но зачем-то коснулось глубин его чуткого сердца. Быть может, эта мимолетная встреча была попущена Богом как тихое предсказание о том, что последний покой раб Божий Александр найдет в соседстве с коренными жителями Орехова — с Николаем Егоровичем Жуковским, его детьми, с племянницей Жуковского и ее детьми и правнуком, похороненными здесь же, чуть в стороне — у стен Донского монастыря, и с Зубовыми, коренными жителями этого «Юрьевского поля», погребенными в родовой усыпальнице, в храме святого Александра Свирского, за алтарем которого и упокоился Александр Исаевич Солженицын. Царствие всем им Небесное!
* * *
После кончины Николая Егоровича Жуковского Орехово принадлежало сестре Николая Егоровича и моей прабабушке Вере Егоровне Микулиной (урожденной Жуковской), а затем — уже после революции в нем жили сестры — мои бабушки — Вера Александровна Жуковская и Екатерина Александровна Домбровская, которые за несколько лет до Великой Отечественной войны решили с помощью и под покровительством основанного Николаем Егоровичем ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского — крупнейший государственный научный авиационный центр России, Научно-исследовательский институт. Основан 1 декабря 1918 года Н. Е. Жуковским) в части дома устроить музей памяти Николая Егоровича, добровольно передав в пользование соседнего колхоза и часть усадьбы, и земли, по Охранной грамоте оставленные в распоряжении семьи за великие заслуги прадеда перед Отечеством. О том времени и тех событиях — разговор еще впереди: не так давно мне попались документы, свидетельствовавшие о высокой степени напряженности вокруг Орехова, об опасностях, подстерегавших престарелую Веру Егоровну, ее дочерей и внуков во все довоенные годы.
…В Орехове прошла жизнь всей нашей семьи, всего нашего рода. И Промысел Божий, милосердный, так управил, что и мне довелось провести первые десять лет моей жизни в Орехове, приобщиться к поколениям, этим домом и местом воспитанным. А потому и моей незабвенной Родиной стало Орехово, и моим корнем, и моего сердца сокровенной частицей, которая, наверное, никогда — ни здесь, ни там, — не сможет от него отделиться.
Когда же в 22 июня 1956 года скончалась бабушка Вера Александровна, моя бабушка Катя была уже тяжело больна. И тогда местные власти решили «оприходовать» этот бесхозный семейный музей и поставить туда чиновника от культуры. С этого момента началось отделение семьи Жуковского от ее незабвенной Родины… Помню, спустя много лет после детства, приехала я все-таки на два дня навестить родное Орехово. А случай столкнул с управительницей музеев всего Золотого кольца. «Кто такая?» — спросила она грозно про меня у тогдашней директрисы музея. — «Правнучка Николая Егоровича», — ответила та. — «Чтобы духу их всех тут не было», — отрезала начальница. По сему и сделано было.
…И вот теперь, когда память вновь и вновь воскрешает боль об утраченной и разорванной нашей родовой связи с Ореховым, мне вспоминается — как утешение и укрепление — мысль отца Павла Флоренского, высказанная им в докладе «Храмовое действие как синтез искусств» 24 октября 1918 года. Это выступление Павла Александровича было его реакцией на «недочувствованный замысел большевиков передать Лавру из рук монахов в руки приходских общин». Будучи сам приходским священником церкви святой равноапостольной Марии Магдалины в Сергиевом Посаде, Флоренский охарактеризовал это покушение властей на Лавру как «великое бесстилие»: «мысль, оторванная от жизненного фона, из которого она возникла, — утверждал о. Павел, — не понимается правильно».
Отрываясь физически от «кормящего ландшафта», от места, таинственно, метафизически соединявшего людей, человек уносит его с собой в духе — в глубинах и тайниках сердца, как «унесли» мы с собой — и я, и бабушка — Орехово, а позднее я — Большую Полянку. Наш «кормящий ландшафт», наша Родина продолжала жить в наших сердцах, еще сохраняя нас под сенью или в ауре наших семей и родов, все еще питая нас целебными соками своих корней.
Но что бы теперь могли бы унести в своих сердцах наши дети и внуки? Пожалуй, рассказы… Ведь генетическая память живет в сфере ощущений. К тому же не всякое место способно претендовать на роль «кормящего ландшафта», а только святое место, которое будучи преобразуемо жившим на нем этносом, племенем, родом или семьей и само во взаимодействии с ними преобразовывалось. И тот неповторимый, отличный от соседей облик этноса, рода и семьи, та единственная в своем роде симфония веры, предания и традиций, особенностей мышления и поведения (поведения в особенности! Ибо декларировать можно что угодно, но в нужный, и в особенности в экстремальный момент «аварийный ген» наследственности неминуемо выведет на чистую воду фальшь и ложь в поведении) запечатлевались в зримых чертах и в незримом духе ландшафта, который превращался в икону, в образ преобразовавшего его этноса. И, может быть, не совсем ту мысль о природе лелея, тем не менее, именно ту самую правду услышала гениальная интуиция Тютчева:
Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык…Казалось бы, утрата родного ландшафта, отсутствие живых связей с родной почвой (у детей эмигрантов и детей, родившихся на Родине, но в ландшафте, катастрофически искалеченном произволом чуждых духовно-этнической традиции) можно было бы восполнить с помощью так называемой «сигнальной наследственности» — то есть воспитанием. Но ведь и «сигнальная наследственность» — выработанные воспитанием и подражанием старшим традиции и стереотипы поведения не на пустом же месте они рождались, но во воздействии с родной почвой и родной средой.
Вот почему уже дети, а тем более внуки русских эмигрантов первой волны в массе своей начинали утрачивать природные черты русскости, — забывали язык и те самые «стереотипы поведения» — инстинктивно-непосредственные реакции и восприятия окружающего, навыки быта, приемы мысли, отношение к искусству, характер обращения со старшими и отношений между полами (по Аристотелю этнос — это не сводимая ни на что другое особенность, делающая предмет тем, что он есть. Не то ли и род?). Быть может, внешне формы былой жизни, семейная память притом и сохранялись, но глубинные черты этнического родства тем не менее начинали неотвратимо меняться и отмирать.
Можно было вернуться в Россию, даже выкупить свое прежнее имение, но восстановить дух жизни тех людей, для которых это место когда-то было родовым гнездом — им было не дано. Открыть новую страницу жизни — нового рода, нового племени, нового этноса, — пожалуй. А ведь, казалось бы, место — то же, и родство кровное, но поведение, но дух, — все иное. По теории Льва Николаевича Гумилева восстановление разорванного сопряжения человека и этноса в принципе невозможно. Заявить и даже подтвердить юридические права на наследство, разумеется, в наше время не так уж и сложно, но это будет лишь наследование физическое, номинальное. Путь же к подлинному наследованию, понимаемому как непрерывность семейной, родовой и этнической преемственности в духе и поведении лежит на пути постижения наследственного родового призвания, общеродовой жизненной задачи, познание которой есть нужда каждого. Ведь в родовой парадигме и в реальном ее воплощении в исторической жизни рода сокрыта и тайна личного призвания каждого из нас…
Коллаж (работы Екатерины Кожуховой): Ореховский, затянутый ряской пруд, аллея в старинном парке, вьездная березовая аллея «проспект», усадебные ворота, — все фотографии — 50 и 60-х годов.
Глава 3. Век Анны
Хроники жизни нашего рода, удивительные предания и трогательные подробности из жизни предков дошли до наших дней благодаря чудной памяти прапрабабушки Анны Николаевны Жуковской, которая к тому же была и неутомимой рассказчицей. Около ее старинного, резного, обитого красным бархатом кресла всегда стояла скамеечка, на которой любили сиживать, уютно примостившись, ее внучки Вера или Катя, с упоением слушавшие ее рассказы о семейных старинах…
«Я любила ее рассказы безконечно; теперь, как часто, с тоскою, вспоминаю я наши тихие вечера и ее родной голос; мне кажется, что я слышу еще постукивание граненых стеклянных флакончиков, в которых бабуня всегда носила с собой о-де-колон и нашатырный спирт, и звук ее маленького колокольчика, но я знаю, что ее нет уже больше, моей любимой, моей седенькой, и никогда я не услышу голоса ее, доставлявшего мне столько радости… «Всяко бывает, матушка», — говаривала бабушка, сидя со мною в уголке большого зала под образом Младенца Христа, приступая к истории сестер Предславинских»…
Так вспоминала свою бабушку Анну Николаевну Вера Александровна Жуковская в своей повести «Сестра Варенька», (была опубликована в 1914 году). События в «Сестре Вареньке» разворачивались в самом начале XIX века, колорит и подробности Александровской эпохи — все это в «Сестре Вареньке» узнаваемое, семейное, потому что было взято из рассказов Анны Николаевны. А потому и мельчайшие черты жизни тех времен в повести сохраняли очень ценные и неповторимые приметы подлинности, и даже речь повествователя — старинная, мягкая, плавно текущая, с слышимыми отголосками мелодики народного сказа, быть может, на наш теперешний взгляд, и несколько даже вычурная, — была никакой не стилизацией под старину, а заимствована из гораздо более глубокого и чистого первоисточника. Это была бабушкина речь…
Родилась Анна Николаевна, бабушка моих бабушек — Веры и Кати, их брата Александра Микулина и Жоржа (Георгия) Жуковского, молодого мичмана, геройски погибшего в Цусимском сражении, и его родной сестры Машуры (Марии Ивановны Ненюковой, урожденной Жуковской — детей старшего сына Анны Николаевны — Ивана Егоровича) в 1817 году и тихо угасла, сохраняя до последних минут ясность и твердость памяти, в 1912 году.
Какой век она прожила! Детство Анеты Стечкиной (так звали Анну Николаевну в ее родительской семье. Имя писалось через одно «н») прошло в атмосфере еще не остывших воспоминаний о наполеоновском нашествии. Анна Николаевна помнила множество живейших эпизодов из царствования императрицы Екатерины II, Павла I, во времена которых складывалась самая близкая к ней история и атмосфера жизни ее семьи, — тех, кого она лично помнила, знала, любила: ведь события и картины на исторической сцене меняются значительно быстрее, чем атмосфера и дух времени, прижившийся среди людей.
Детство ее пришлось на эпоху Александра I, юность, любовь и лучшие молодые годы замужества — на годы царствования Николая I, зрелость и «возраст мудрости» ее жизни охватили три царствования — Александра II, Александра III, Николая II. Это был волшебный кладезь не отвлеченных и успевших омертветь исторических воспоминаний, но живых и трепетных мимолетностей, еще хранивших ток жизни, помнивших ее болевые точки, ее непрерывную, естественную текучесть…
Без натяжки смело можно было назвать Анну Николаевну воплощением русского XIX века. Она была столбовой дворянкой с очень глубокими родовыми воспоминаниями (Стечькины были записаны в 6-ю часть древнего дворянства родословных книг Тульской губернии), хранительницей преданий чуть ли не со времен «Начальной летописи». Треть жизни ее прошла при крепостном праве со всем присущим тому времени самочувствием, реалиями и привычками. Анна Николаевна была типичной русской помещицей, укорененной в усадебной жизни, погруженной в стихию природы, свободы и широкого дыхания пространств, и в то же время никоим образом не страдала провинциальной ограниченностью — ни по складу души, ни по образованию и мышлению.
В ней жило удивительное сочетание природно-опытного и культурно выделанного знания: крестьянского трудолюбия (бедная недоходная усадьба, условия жизни, понуждавшие входить во все тонкости крестьянской работы и тяготы хозяйствования), непраздности, а, значит, и способности постигать жизнь в ее библейской первоосновной простоте («в поте лица твоего снеси хлеб твой…»), и истинно дворянского творческого чувства свободы и достоинства.
И все это вместе, пронизанное всегдашним искренним предстоянием пред очами Бога, хождением перед Богом, порождало тот единственный и неповторимый русский пушкинский дворянский тип, который поэт нес и в самом себе (дивный многозначащий, типично русский союз Александра Сергеевича и крепостной няни) и промыслительно запечатлел в образах героев «Капитанской дочки» и «Онегина», где выморочный герой-Петербуржец сопоставляется с чудным цветком русской дворянско-деревенской стихии — девочкой Таней. Но более всего, пожалуй, характер, образ и дух Анны и ее воспитания был близок духу «Повестей Белкина», неповторимому духу старинной русской жизни, русского благочестия и непременного свойства его — подлинной простоты, которой дышат и сохранившиеся до наших дней письма Анны Николаевны…
У прапрабабушки Анны Николаевны был дар слова от Бога, сбереженный от древнерусских корней, от того великого духовного дарения, которое когда-то щедро излилось на зачинавшийся и мужавший русский народ вместе с «миром излиянным» языка церковного-славянского. Тот русский язык был единым и пребогатным целым, диапазона всеохватного — земля и небо, и «гад морских подземный ход», свидетельствовал он о полноте национальной жизни, о богатстве оттенков ее, о разнообразии, глубине, широте и великодушии сердца народного, о самобытности характера его — непобедимого и в своем смирении, и в своей удали бесшабашной, и в своем заветном национальном желании объюродеть пред Богом, — то есть взять вот и отдать Богу совсем все — влоть до рассудка своего, до своего места и чина в этой человеческой жизни.
Именно язык этот исполнял (наполнял) духовной силой весь огромный жизненный опыт народа, возделывавшего гигантские пространства, сохранявшего притом и тепло и свет души, и поэзию жизни, которая в истинном своем понимании и есть обоженность. Намеренно употребляю это слово «обоженность», поскольку религиозность — слово не русское и не только по своему происхождению. Оно недостаточное, в своем оземлененном отражении определенных этапов погружения человека в безбрежную стихию Веры и определенных, ограниченных и оТграниченных отношений человека с Богом.
Прежним русским людям больше соответствовало понятие «обоженность» — но, конечно, не в прямом и строгом его богословском понимании, которое ставит обожение человека целью всей его жизни, синонимом совершенства и святости. Можно ведь употреблять понятие «обоженность» и в несколько более широком плане — как констатацию пребывания человека в Боге, в определенной духовной близости, или точнее — в устремленности к Нему, в особенной (дарованной Самим Богом) любви Божией — способностью слышания сердцем первично коснувшейся человека любви Самого Бога…
Анна Николаевна говорила по-русски так же замечательно хорошо, как, наверное, та же пушкинская Арина Родионовна. Отличаясь от нее разве что свободным владением несколькими иностранными языками. При этом, — что поражает! — чужестранной лексики она в русский язык никогда почти не примешивала. Это были редчайшие исключения. И сама этого не делала, и детей с внуками от того строго блюла, не позволяя, как она говорила, коверкать язык. На страже языка стояла ее вера, а язык — на страже ее Веры: инстинктивно чувствуя и сознавая, что чуждое слово несет и чуждое понятие, чуждый дух, который Вера отторгает, а если не будешь осторожно блюсти свою речь, то рано или поздно «исковерканный» язык начнет отторгать от тебя твою Веру.
Речь Анны Николаевны, как и речь многих ее сверстниц — но не всех: ко времени ее рождения в Петербурге уже многие дамы по-русски говорить уже и вовсе не умели, — была яркая, простонародно ухватистая, живая, которая бы нам, нынешним, жеманно опошлившимся со времен Петра, показались бы, — фи! — слишком грубой. Она говорила языком, к которому еще почти не прилипли кальки с европейских наречий. Сквозь эту немудреную русскую речь (как немудрена и речь Пушкина), — светилась еще незамутненная ипостась русскости.
…Анна Николаевна Жуковская — зятю Александру Александровичу Микулину (муж младшей дочери Веры) в декабре 1888 года из Москвы во Владимир:
Москва. Декабрь
«Дай Бог милый Саша, чтобы одна бедная кухарка не натворила крупной гадости. Здесь был на Николин день Саша Петров (Петровы — близкая родня Жуковских: сестра А.Н. Варенька вышла замуж за Александра Петрова. Имение их Васильки находилось в 8 км. от Орехова — прим. авт.) — мы еще ничего не зная, полюбопытствовали спросить, какова Афросинья, которая жила у них в Васильках. Он ужаснулся, что мы ее еще держим, там она всех перебаламутила и когда пришла к нему жаловаться на Тимофея, что он якобы избил ее, он, наведя справки, выгнал её в три шеи. А за скотом говорит, ходить умеет: Афросинья и известный тебе Автоном. Те самые человечки, которые обирали бедного Серафима (Серафим — племянник А.Н., сын уже покойной к тем годам любимой младшей сестры Вареньки. Он страдал запоями, человек был несчастный и кроткий. Опеку над ним, все расходы и попечения взял на себя добрый и сострадательный двоюродный брат Николай Егорович, так как родные братья Петровы — люди корня более жесткого, что ли, его очень обижали, — прим. авт.) до нитки.
Возьмет, бывало, 25 руб. Серафимушко у Коли, а Автоном сей час свезет к оной болезной Афросинье в дом, там подпоят его и отпустят голенького. А он мне, мерзавец Автоном, придет в Орехово и жалуется, что Серафимушко должен ему остался руб. 10. Невестка же Афросиньи — сестра Автономки. И вот, голубчик, в какой просак попалась я старуха, наняла на зиму такое сокровище. Прости Бог, чтобы сват этой мерзавки не натворил что-нибудь — он три года сидел в остроге за поджог целой деревни. Денег кухарка получила от меня и от Маши в три раза 3-50. Живет с 26 сентября и дополучить ей придется каких-нибудь 2 рубля — отчего мне она не сказала, что получила более чем за месяц, потому что нанята за 2-50 в месяц. В вымогательстве и сумятице их не учить. Довольно они попользовались от покойника (речь идет о Серафиме Петрове — прим. авт.). Все, бывало, он ими был доволен. Деньги его впрок им не пошли. Они бедны и наги. Аф. побиралась всю зиму. И откуда у ней деньги, ведь до копеечки они еще при нас истратили. Разве стащили что-нибудь у нас к Мягким, там Гришанушке мерзавцу тетенькой приходится.
Спаси нас Господь Бог — как-нибудь бы благополучно прошла зима без большой беды. Деньги думаю лутче выслать ей через волостного, чтобы и нога ее не была в Орехове. А раздражать тоже нельзя. Ишь! На каких разбойников мы наскочили. Не пришла она пешком, приехала. Автоном для сутяжничества не пожалеет лошади. Он и бедного Серафима всюду по кабакам возил, чтобы легче было его обирать. Да и нынешнею осенью явился после Васильков мне с претензиями на 25 руб. Якобы должных ему Серафимом. Я велела его прогнать…
Храни нас Бог от подобных головорезов — никогда Орехово не таскалось по судам и ни какие тяжбы. Даже и при Марфе не приходили в Москву. Боюсь, что разиня Акимка плохо запирает. Необходимо при приезде к вам съездить в Орехово и порасспросить Герасима, а то извольте видеть 5 руб. она невзыскивает, — Автоном за 15 копеек удушит отца родного. Я распорядилась, чтобы Герасим поставил сестру свою. Что бы все было сохранно — политично, премолчите с Акимом — не знаю, как теперь сладим привозкой теленка…..
P. S. Комиссия совсем съела Колю. Впрочем буду писать вскорости. Храни вас Бог".
На фотографии: Анна Николаевна Жуковская, ее младшая дочь Вера Егоровна Микулина с дочерьми Верой и Катей; Стоят слева направо: сын Анны Николаевны Николай Егорович Жуковский и муж Веры Егоровны — Александр Александрович Микулин.
Снимок начала 90-х годов XIX века.
…Анна Николаевна родилась в Тульской губернии в Алексинском уезде в имении своих предков Плутнево, неподалеку от станции Суходол. Родители Анны Николаевны умерли рано. Осиротев, — ей было 16, когда умерла мать, и 18, когда скончался отец, — она в миг стала старшей в семье, сестрой-воспитательницей для своих братьев и сестер — младший брат был еще грудного возраста. Характерный пример — тон и стиль обращения к старшей сестре в одном из сохранившихся в домашнем архиве нежнейшем письме младшего брата Анны Николаевны — Николая Николаевича Стечкина, отправленного им из Тулы в 1890 году:
12 февраля, утро.
Тула, Плацпарад, д. Михайловой
Милая воспитательница моя и сестра Анна Николаевна!
«Вчера, утром, из Новосиля было получено, заказным, весьма тревожное письмо от Славушкиной (Вячеслав Николаевич Стечкин — племянник Анны Николаевны, в будущем — довольно заметный революционер — прим. авт.) хозяйки об его болезни и о том, что он лежит в больнице. (…) У меня, как нарочно, на этой неделе неотложные дела; да и на кого бросить семью? Когда вчера (в 10-м часу веч.) я провожал Соню (сестру Николая Стечкина и Анны Николаевны — прим. авт.) на вокзал, из дому привезли телеграмму на мое имя: «болен, в больнице, теперь присылай мать. Стечкин». Вы сами мать, и потому можете понять весь наш ужас. Болезнь, по моему крайнему убеждению вызвана неблагоприятными условиями помещения… на квартире хоть волков морить; Славушка на беду, хилее, пожалуй, Вани. (…) Он в слезах просит добрейшего и показавшего себя на днях милого Колю (Николая Егоровича) похлопотать на каких угодно условиях о переводе Славушки в Тулу. Колю, как я убедился, так уважают в округе… Оф, пишу — а сам боюсь испытывать судьбы Господни… Сердце в тяжелой неизвестности замирает: точно в непроглядную осеннюю ночь еду не знаю, куда, и все боюсь упасть в скрытый темнотою овраг.
Голубушка, попросите Колю, и не поленитесь мне черкнуть словечко. Надеюсь, Маша (старшая из детей Анны Николаевны. Через месяц с небольшим Марии Егоровны Жуковской не стало. — прим. авт.) полегоньку оправляется. Передайте ей от души благопочтительнейший дядин поцелуй. Обрадовал бы и меня милосердый Господь и Его Пречистая Матерь, наша благосердая Заступница Всех Скорбящих Радость! Соничке ничего не говорите, и Колю предупредите. Я уже о том, приняв предотороженности, написал Сашеньке (Александра Александровна Заблоцкая, племянница Н.Н.Стечкина — дочь его младшей сестры Софьи Николаевны Заблоцкой (урожденной Стечкиной).: боюсь старуху растревожить горестною вестью о ее любимце-крестнике.
Храни Вас всех Господь: и об нас, голубушка, помолитесь… Мой Славушка ваш по душе внук, а не только племянник. Еще раз, спаси вас Господь! Целую всех вас крепко, молюсь об вас. Ваш всей благодарной душей Н.Стечкин».
Так рано принявшая на свою душу ответственность за семью, Анна Николаевна в отличие от пушкинской Тани вынуждена была гораздо раньше распроститься — и бесповоротно — с романтическими иллюзиями, эгоистическими претензиями на устройство в первую очередь своего и только своего личного счастья. Труды и тяготы сиротства спасли ее душу от тлетворных веяний века: от разъедающего душу сентиментализма и дурного мистицизма, за которыми, между прочим, почти всегда кроется весьма утонченное себялюбие…
Она была и оставалась реалисткой, чему свидетельство — переписка с горячо любимым мужем — Егором Ивановичем Жуковским, который на протяжении всего их безупречного супружества, вынужден был почти всегда пребывать по делам службы вне дома.
Вот одно из писем Анны Николаевны мужу из Орехова летом 1849 года:
Милый мой ненаглядный другочка Егор Иванович!
Вот уже завтра неделя как ты был у нас, если возможно назвать это минутное пребывание действительностью. Мне кажется, это был сон! Другочка моя родная, солнышко красное взошло на немного и ушло на другой горизонт. С нетерпением дожидаюсь твоих писем, верно уже есть на почте. — Сколько хлопот с этой крышей — несмотря на деятельность нашего приказчика, пять дней ходит по окрестным рощам, а тесу елового нигде найти не мог, сосновый же мне решительно отсоветовали взять — говорят, не будет прочна крыша. Решили взять резанный постом еловый семи аршин. В Марковой роще, что за Черкутиным у того же Першина. Вчера привезли мне уже 350 штук по 15р.50 за сотню — денег собственных моих дано 30 р. Сер. Хлеб же идет туго.
Тесу потребуется 700 штук. 500 семи ар. и 200 шести аршин — если арш. По 15–50 — а шести по 12р.50 за дело взяли с нас по 7-75 с сотни, красильщики же просят на всем своем 150 целковых — цена до того высока, что крышу хоть не крась. Ундольские уже пришли и начали тес фуговать.
Ну, хлеб у нас вовсе не идет, а Логин ундольский и Евстафий отказались — хлеб удивительно падает в цене. По всему этому судя, надобно друг, чтобы ты денег выслал к 1 июня, а то начали дело, да не будешь знать, как его кончить. Еще предлагают крышу поднять, но, кажется это надо оставить. Все, благодаря Бога, здоровы — погода стоит чудная, Мария поправляется. К сестре еще не ездили, собирались в четверг.
Прошу тебя, друг, закажи сапожки деткам по мерочке. До свидания. Да будут Бог и Ангелы над тобою, вручаю тебя Пречистой Богоматери Деве -
Твоя Ниночка (Так любил именовать свою жену Егор Иванович — прим. авт.).
Жизнь Анны Николаевны после замужества не давала ей возможности расслабиться, понежиться в ипостаси любимой молодой жены, в удовольствие побыть тургеневской помещицей, вкушая радости тихого деревенского жития. Заботы ее непрестанно увеличивались: разрасталась семья, воспитание детей, которым она сама занималась (и с честью справилась!), а также хозяйство — все это практически лежало на ее плечах, поскольку Егор Иванович, как уже говорилось, постоянно бывал в разъездах и отлучках. А ведь Анете было 23 года, когда она вышла замуж, и всего 25, когда стала хозяйкой Орехова. К тому же супругам Жуковским всегда крайне не хватало средств. Орехово было не то, что доходное, а скорее убыточное имение: чтобы довершить ремонт дома, пришлось продавать даже и личные вещи Анны — остаток приданого: соболий салоп и драгоценности. Приходилось прибегать и к займам:
…Милый мой Егор Иванович, попроси доброго нашего графа одолжить нам взаймы 5 мер семя льняного. Завтра сев, а у нас нет… (Речь идет о графе Валериане Николаевиче Зубове, у которого служил управляющим Егор Иванович — прим. авт.).
Анна Николаевна была, по выражению внучки ее Екатерины Александровны Домбровской, одарена «умом практического склада высокого порядка». Бабушка моя, имевшая счастье прожить вблизи Анны Николаевны 26 лет, поучаться от нее, слышать ее рассказы и живые воспоминания о ней ее сыновей и дочери, именно она в свое время замечательно метко, просто и безошибочно глубоко (что было присуще по наследству и ее собственному уму, трезвому и деятельному; и, конечно, слогу), очертила образ своей бабушки. Да так, что лучше и не сказать:
«…По воспоминаниям сыновей и дочери Анна Николаевна была строгая и непреклонно требовательна. Но вместе с тем, всегда ровная и справедливая. Одним из качеств ее был уравновешенный характер. Со дня своего замужества Анна Николаевна всю свою личную жизнь сосредоточила на любви и заботах о муже и детях. Она рано сумела перейти на положение всеми уважаемой, пожилой матери семейства. После сорока лет она покрыла голову черной косынкой и носила ее всю свою долгую жизнь. Гладко причесывала она свои рано поседевшие волосы, одевалась в темные, свободные платья с пелеринкой и совершенно не заботилась о своей весьма красивой в молодости наружности. Однако до глубокой старости облик ее, спокойный и благостный, сохранял подкупающую привлекательность. Как и Егор Иванович, только в ином духе, по детски, без рассуждения и просто веровала Богу Анна Николаевна. Вера поддерживала ее во всех тяжелых случаях ее жизни, придавая ей силу и стойкость терпеливо и безропотно переносить все невзгоды».
Добавлю, основываясь на тех же семейных воспоминаниях, еще одну деталь, которая с детства была мне особенно говорящей, притягательно милой, поражавшей меня, и всегда ставившей образ Анны Николаевны недоступно высоко, как идеал, как нечто ангельское… Я ее только такой в сердце своем ее и видела: никогда и не на кого не возвышающей голоса, никогда не пребывающей во гневе, раздражении и уж тем более в каких-либо злобных, пусть и спрятанных чувствах осуждения других. Это не была черта обычной прежде внешней дворянской сдержанности, привитой, вышколенной, — ширмы, которая каких угодно чудовищ могла скрывать, да нередко и скрывала: и равнодушие, и холод, и гонор с презрением к другим, и что угодно… Воспитание, конечно, сделало свое дело, но то, о чем я говорю, было свойством ее души, природой ее. Такая вот была ровность, уравновешенность и, главное, — спокойствие. И что, как не глубина и крепость ее Веры и христианская мудрость дарили и хранили в ней это чарующее спокойствие?
Как говорил один духоносный старец (архимандрит Софроний (Сахаров) — 1896–1993 гг.), довериться Богу можно только в подлинной простоте, став Евангельским дитем. «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.18:3). Смею утверждать, что и Анна Николаевна, и сын ее Николай Егорович, имели в себе залог той самой простоты, в основе которой — всегда лежит душевная чистота. Это было свойственно многим старинным русским людям. И Пушкин, и Толстой, и Достоевский запечатлели в своих отражениях этот типично русский образ чистой простоты: граф Ростов в «Войне и мире», генеральша Епанчина в «Идиоте»…
Правда одну оговорку я все же сделаю, вспомнив то, о чем рассказывалось в предыдущей главе… Не могу себе представить, как бы реагировала Анна Николаевна на то, что ждало ее Отечество, ее семью и миллионы русских людей всего через несколько лет после ее кончины в 1912 году? Ответа у меня нет. Хотя в какой-то мере он все-таки существует в лице моей бабушки Екатерины Александровны — фигуры более сложной и в глубинах своих противоречивой. Но и она свои почти что 80 лет, из которых 65 лет пришлось на век XX, тоже прожила в подобной ровности, без злобы и гнева, принимая все без тени ропота ни на обстоятельства, ни на людей, хотя у нее уже не было такой неколебимой детской Веры, как у ее бабушки.
Иллюстрация: коллаж (работа Екатерины Кожуховой): старинная карта северо-западной части Тульской губернии, Алексинский уезд и ст. Суходол, где родилась и провела свое детство, отрочество и юность в родительском имении Анна Николаевна Стечкина (в замужестве Жуковская). Луга и Ока в местах родины Стечкиных.
…Понятия у Анны Николаевны всю жизнь оставались старинные: она никогда не желала зла ни крестьянам, ни дворовым, но не считала их и ровней себе. Близка ей была по-настоящему лишь няня Арина Михайловна, ее помощница и наперсница, которую вывезла она с собой из Плутнева еще совсем юной крепостной девушкой. Няня вырастила два поколения детей Жуковских. Ее все очень любили и почитали. Это поистине была семейная Арина Родионовна.
Строга была Анна Николаевна и в соблюдении церковных установлений. Даже на браки с троюродными родственниками своих детей она не благословляла. А уж тем более между двоюродными. Так не сложилась семейная жизнь ее сына Николая Егоровича: он любил Сашеньку Заблоцкую, свою двоюродную сестру — дочь Софьи Николаевны — младшей сестры Анны Николаевны. Почти полжизни не имел спутницы: всем существом своим жил в науке, от одиночества спасала его любимая и дружная семья, добрые друзья студенческой молодости, а потом и ученики, и верные соратники. Но уже ближе годам к пятидесяти, когда скончалась его старшая сестра Мария Егоровна, бывшая его другом и хозяйкой, хранившая тепло, уют и живость в их общем доме, когда вышла замуж и уехала самая младшая из всех — любимая сестрица Верочка, Николай Егорович вдруг впервые ощутил пустоту вокруг себя. Правда, в письмах он лишь чуть-чуть дает волю легкой грусти, чаще шутит по поводу безуспешных попыток его друзей каким-то образом помочь ему найти спутницу жизни. Так в письме сестре Вере во Владимир в середине декабря 1886 года за две недели до рождения Кати (Екатерины Александровны Домбровской) — второй дочери Верочки, он пишет:
Милая Вера!
Живо вспоминаю я те летние вечера, когда мы тебя крестили на прощание. Как жаль, что я теперь не могу ободрить и перекрестить тебя. Радуюсь, что из твоего письма можно судить о хорошем настроении твоего духа. Завтра поутру пошлю тебе кое-что для будущего детки и для маленькой Верочки…
Недавно у нас был факультетский обед: пили тост за невесту Орлова, который весьма умилился и выставил 2 бутылки шампанского. Слудский (Ф.А. Слудский — профессор теоретической механики — прим. авт.) под конец обеда натравил кампанию на меня, чтобы пить за мою будущую жену, но я говорил, что математикам не подобает пить за мнимую величину… Один раз был в общественном месте на студенческом концерте. Со мною рядом сидели супруги Бугаевы (Н. В. Бугаев — математик, декан математического факультета Московского Университета. Отец писателя Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева прим. авт.).
На втором акте madam Бугаева, с которой супруг меня познакомил, объявила мужу, что она желает поменяться с ним местом, так что села рядом со мною. Таким образом, она пользовалась моим биноклем и толкала (по случаю тесноты) меня локотком. Бугаев был видимо, недоволен; вчера при встрече со мною в университете, когда по какому-то поводу я стал заявлять, что уже отжил свою молодость, он сказал: «Нет, вы человек опасный, недаром усы колечком закручиваете»…
Прощай, дорогая, целую тебя крепко. Не заботься ни о чем; все Бог даст, устроится… Скажу, как говорил мамашин дядя (Скорее всего, это муж двоюродной тетки Анны Николаевны, ее опекун — Алексей Петрович Северцов, — прим. авт.): «Подожди Мариам, до моих именин», а там мы с Машей к Вам приедем.
Тебя любящий Н.Жуковский.
Но когда Николай Егорович сошелся с жившей в их доме помощницей и экономкой Надеждой Сергеевной, женщиной очень хорошей, исключительной доброты и преданной семье, по роду тамбовской крестьянкой, Анна Николаевна категорически запретила сыну даже и думать о браке.
Судьба Нади была печальна: ее увез из Важного в Москву какой-то купчик и бросил беременной. Она, как рассказывали у нас дома, была на пороге самоубийства, хотела броситься в Москва — реку. Тут-то и послал ей Бог спасение в лице Ивана Егоровича, старшего из братьев Жуковских, который приехал в это время в Москву. Услышав Надин горький рассказ, он, не долго думая, водворил ее на квартире у матери.
Кроткую и очень усердную Надю с длинной русой косой и протяжной мелодичной тамбовской речью Жуковские полюбили. Родившуюся у нее девочку, назвали в честь Марии Егоровны Машей (ее увезла в деревню сестра Нади). Сама же Надя осталась сиделкой Марии Егоровны, которой оставалось жить не более трех месяцев: Маша скончалась 14/27 марта 1890 года.
Николай Егорович теперь оставался совсем один, так как Анне Николаевне большую часть года приходилось проводить во Владимире, помогая дочери Вере ухаживать за малышами. В 1890 году Вера Егоровна ждала третьего ребенка — дочь Анну, которая родилась весной 1891 года.
Николай Егорович очень скучал в тишине опустевшей квартиры: зиму 1890–1891 года он прожил в Москве один. Но теперь Надя была рядом, заботливо ухаживала за ним, прекрасно вела хозяйство. В это время Николай Егорович так писал матери во Владимир:
…Сейчас я могу пожить и без вас, так что Вам удобнее побыть у Веры пока у нее гости. Это облегчит ее в хлопотах по хозяйству.
Однако нечто похожее на добрую семейную жизнь длилось недолго. Надежде Сергеевне пришлось покинуть Москву. Не без участия Анны Николаевны летом 1891 года она была вызвана в Орехово и там выдана замуж за Алексея Гавриловича Антипова, человека честного, бывшего солдата, охотника, но, к сожалению, злоупотреблявшего вином. Она и года с ним не прожила, но связана юридически и церковным браком оставалась до конца жизни (Надежда Сергеевна Антипова скончалась в 1904 году, — прим. авт.). Горький след этих событий отразился и в письмах Николая Егоровича того времени:
13 сентября 1891 года
Милый Саша!
Вследствие некоторых неожиданных обстоятельств не могу прислать к вам няню. Надежда вышла замуж за Алексея и сегодня уезжает в Шацкий уезд. Надо будет вам устроиться как-нибудь без няни, так как у меня не на кого оставить квартиру…
В ноябре Николай Егорович и Анна Николаевна заболели инфлюэнцей. В письме А.А.Микулину он опять поминает Надю:
13 ноября1891 года
«…Пожалеешь, что нет Нади, она так хорошо ходила за больными. Теперь же все лечение опирается на еле живую няню…»
Родные и друзья, однако, не оставляли надежд женить Жуковского. Приезжал брат Иван. Хотел сосватать одну из своих хороших знакомых — клиентку его адвокатской практики из родовитого семейства Львовых — А.А. Гарднер. По этому поводу Николай Егорович пишет А. А. Микулину не без сарказма и досады:
…Одну из Львовых — госпожу А.А. Гарднер Ваня мне сватает. Говорит, что она очень мила и кротка, но чтобы ей выйти замуж ей надо сперва развестись со своим сумасшедшим мужем господином Гарднером, с которым она не живет.
Теперь я стал таким старым перхуном, что мысль о женитьбе отошла в сторону…
К концу 1891 года — к Николину дню неожиданно появилась в Москве Надя. Николай Егорович был удовлетворен: теперь в доме опять будет уют и приветливое слово, все вновь пойдет по старому, ничто не будет препятствовать его занятиям…
В 1894 году родилась дочка Николая Егоровича Леночка — Елена Алексеевна Антипова. Открыто признать ее Николай Егорович не мог. Анна Николаевна никогда бы этого не допустила. Решиться на разрыв с глубоко уважаемой и любимой матерью, находившейся на его попечении, Николай Егорович не мог. И заставить ее в 77 лет изменить свои взгляды на жизнь было совершенно невозможно. Девочка росла непризнанная, оставаясь Антиповой все гимназические годы, хотя жила с отцом и бабушкой. Анна Николаевна была добра и ласкова с Леной, дочку Нади по-своему любила, но редко пускала к себе в комнаты, а в письмах писала «Надя с девочкой». Лена звала Анну Николаевну барыней. Когда Лена подросла, Анна Николаевна начала учить ее читать и говорить по-французски, и вместе с тем приказывала ей: «Пойди позови барина обедать…».
Только после кончины матушки Николай Егорович начал хлопоты об усыновлении Лены и сына Сережи (родился в 1904 году) и желаемого добился. Как память той грустной истории хранится у меня до сих пор гимназическая математика Малинина и Буренина, принадлежавшая Леночке, и надписанная ее рукой: «учебник Лены Антиповой».
Таково было сыновнее послушание Николая Егоровича, маститого ученого, профессора, поднявшегося уже почти на вершину своей славы. Таково было его сыновнее уважение и почитание матери. Такова была старая Россия.
* * *
Меня всегда как-то особенно огорчали и расстраивали эти горькие страницы жизни Николая Егоровича: никак не вязались они в моем сознании с его на редкость радостным благорасположением к миру, с его всегдашним неиссякаемым добродушием и милой веселостью нрава, с его непритязательностью (а точнее даже, — нестяжательностью), с неповторимой светлостью, — и я бы даже сказала, — серафимовской светлостью его лика. И я вопрошала о том бабушку и дядю, — хотелось услышать в их ответах отзвуки подлинных восприятий и чувств того времени, какие-то детали и подробности, которые по причине целомудренных умолчаний остались сокрытыми.
Бабушка всегда делала акцент на старинных (и с бабушкиной точки зрения, несомненно, уже устаревших) взглядах и правилах жизни Анны Николаевны. Она так же подчеркивала великую любовь и почтение к ней сына, который понимал, что, преступив через материнский запрет, он нанесет Анне Николаевне очень глубокую рану в конце ее долгой, безупречной и достойной жизни.
Дядя мой — Кирилл Иванович Домбровский, в свою очередь объяснял мне, что все дело было в том, что Николай Егорович пребывал на государственной службе, имел достаточно высокий чин, почему совершив такой неравный брак (при условии развода Нади с Антиповым), он должен был бы по существующим законам выйти в отставку. Анна Николаевна считала, что службой и служением жертвовать нельзя — в отставке Николай Егорович не мог бы иметь таких возможностей для своих научных разработок и практического внедрения их в жизнь. Анна Николаевна была женщина высокого, старинного патриотизма. И нужды России, понимаемые в весьма широких масштабах, ставила выше личных мотивов.
Как бы то ни было, не мне было судить (да я никогда и не судила) об этих событиях жизни Анны Николаевны, ее смиренного сына, бедной преданной Нади, и так мало поживших внуков Леночки и Сережи. К тому же мне представлялось, что тогда имели силу, наверное, и какие-то другие, глубинные и более тонкие оттенки и мотивы поступков, которые нашему современному пониманию вряд ли могли бы быть теперь доступны. Соболезнования мои усугублялись и еще одним обстоятельством…
И жизнь Анны Николаевны, и жизнь Николая Егоровича — ее жизнь — вся, от начала и до конца, а его, пожалуй, почти вся, — была в моем восприятии явлением подлинной классической цельности и красоты в своей ясности, стройности, добротности и неизменности служения тому, во что они верили и что почитали за Правду и что в них самих было воплощено Божиим смотрением, конечно, в совершенстве. Почти идеальная человеческая жизнь… Ни мать — ни сын, будучи действительно цельными и притом богато одаренными натурами, тем не менее не уклонялись ни в какие крайности, к которым, увы, так часто склоняется наша русская широкость. Тут же во всем была соразмерность и мера. В общем, не ошибусь, если скажу, что и он, и она являли собой примеры осуществленной в жизни праведности. Омрачала эту ясную картину жизни только болезненно-печальная история того личного сердечного испытания, которое выпало на долю Николая Егоровича. Реальное и одновременно призрачное утешение при невозможности брака с Надей; безропотно-молчаливое, сокровенное переживание сложившегося, страданий Нади и маленькой Леночки; скоротечная чахотка и смерть Нади вдали от Москвы в ее родном тамбовском (Шацкого уезда) селе Важном…
«Николай Егорович плакал, когда пришла весть о ее кончине», — скупо сообщала бабушка. Великая любовь — отеческое благоговение к последней кроткой подруге жизни — дочери Леночке, и ее безвременная смерть, — последний искус, который предстояло пережить уже почти умирающему Жуковскому.
…А ведь это был лишь самый краюшек трещины, — великого разлома русской жизни, который задел уже даже и тишину, и плавное течение глубоких вод жизни Анны и ее замечательного сына. Трещины, которая гораздо глубже и безжалостней прорезала жизнь ее внуков и правнуков.
Но разве не задолго еще до рождения на свет Анны эта трещина перевила судьбы ее близких, ее предков, а затем и потомков?
Впрочем, долой риторику. Жизнь сама себя рассказывать умеет…
Иллюстрация: коллаж Екатерины Кожуховой. Николай Егорович с дочерью Леной. Надежда Сергеевна Антипова с детьми Леночкой и Сережей. Лена Жуковская. Николай Егорович в последние дни своей жизни в санатории «Усово».
…Бабушка моя, помню, всегда подчеркивала различие между характерами супругов Анны Николаевны и Егора Ивановича. Егору Ивановичу — человеку души неотмирной, — не доставало ее практичности и простоты веры. А ей, быть может, его пытливости взгляда на жизнь…
Анне Николаевне совсем не свойственна была выматывающая сердце рефлексия, в том числе и рефлексия чувств и духа: все в жизни было для нее раз и навсегда определено и заведено Божиими Заповедями, понятиями, сложившимися в евангельской стихии, и установившимся в ней за столетия патриархальным укладом. Устойчивый уклад — это ведь самая благоприятная среда для передачи и восприятия наследия, а следовательно и охранения единства этноса.
Но трескается почва, а под ней все чаще слышатся подземные толчки, когда и начинает все страгиваться со своих прежних привычных мест… Как тут без рефлексии выжить? Начинает человеческий дух метаться в поисках понимания происходящего, в попытках угадать будущее, хотя бы ближайшее. Редкий человек сможет в таких условиях сохранить сердечный покой и настоящее доверие Промыслу, сохранить свою веру в незыблемости, сохранить себя и те святыни, которыми прежде жил, — вот тут-то и проходит свою великую проверку подлинность веры…
Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир.Прав Тютчев — тысячу раз прав! Это действительно пир — пир веры, пир высокого ее испытания, где выясняется, кто есть пшеница, а кто плевелы…
Большинство не слышит Божиего зова, оно все более подпадает под зависимость стихий, начинает напряженно вслушиваться в их утробные рыкания, прилаживаясь, кто как умеет, к миру, пошатнувшемуся и навязывающему всем свои зыбкие, шатающиеся новые начала.
Но пусть бы прилаживались по-житейски, что понятно и допустимо по рассуждениям икономии, но веру… Но в том-то и беда, что именно веру-то и начинали прилаживать еще при появлении первых трещин. Значит ли это, что вера та была с изъяном, коль сразу поддавалась на подновления?
…Егор Иванович, в отличие от своей супруги очень строго зазирал свою сокровенную жизнь, судил себя нелицеприятно, о чем свидетельствует его духовно-молитвенный дневник, в который мы еще заглянем впоследствии. Супруга же его была сама непосредственность и прямота, что видно из ее писем. Ей нечего было скрывать — рефлексия, из каких бы побуждений она не возникала в человеке, несомненно усложняет и его внутренний мир и внешнее существование, таковой человек всегда чувствует и помнит, что жизнь его — есть хождение над пропастью по тонкому канату. «Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже премудри, искупующе время, яко дние лукави суть. Сего ради не бывайте несмысленни, но разумевающе, что eсть воля Божия» (Еф. 5:15).
Это апостольское слово святитель Феофан Затворник комментировал так: «Что блюсти? Сердце, чтобы оно ни к чему не прилеплялось, не к лицу только — об этом и говорить нечего, — но ни к какой вещи. Всякое такое прилепление будет нарушением Вашего обручения с Господом, неверностию Ему. А Он — ревнив. И строго взыскивает с сердец, Ему неверных».
У Анны Николаевны вера была непостыдная и детская в своей крепости. Как бы она не любила семью, сколько бы души, сил и времени не отдавала она своим присным, сколь бы самоотверженна она не была, сердце ее всегда оставалось верно Господу и Его святой воле. Из одиннадцати детей — выжили шестеро. И кроме двоих — Николая и Веры — она всех детей пережила. И как пережила… Не рухнуло, не дрогнуло ее сердце. Сохранило верность, силу, здравие, а ведь она было исключительно добра и умела любить своих дорогих, как мало кто любил…
* * *
Так было: в семье Жуковских главенствовала мать. Анна Николаевна несла на себе — негласно и молча, всю тяжесть ответственности за семью перед Богом и людьми. Впрочем, история более чем сорокалетнего супружества Анны и Егора Жуковских заслуживает отдельного рассказа, — он пойдет следом. Здесь же самое место, погрузившись еще на столетие назад — на глубину XVIII века — вспомнить воспитательницу самой Анны Николаевны — ее бабку по отцу Настасью Григорьевну Стечкину (урожденную Нарышкину), от которой Анна Николаевна унаследовала свою удивительную жизненную крепость, тем более что именно Настасья Григорьевна была и основной ее воспитательницей: и при жизни матери, которая родила Анну, еще не имея полных 15 годов, и после ее ранней кончины.
Именно от бабушки унаследовала Анна Николаевна удивительную твердость и силу характера, который никогда, тем не менее, не будил в ней деспотических наклонностей и властолюбия. В этом легко убедиться, читая ее письма. Однако теперь наш рассказ пойдет о бабушке Анны Николаевне — Настасье Григорьевне Стечкиной (урожденной Нарышкиной).
…Настасья Григорьевна Стечкина была женщиной поистине редкостной силы. К сожалению, не дошли до нас (мне не известны) ни ее родовые предания, ни сама история этой ветви дворянского рода Нарышкиных. Известно только, что была она весьма и весьма богатой помещицей Рязанских и Воронежских губерний. Что в Воронеже она была более всего близка с семейством Северцовых, из которых муж ее родной племянницы Маргариты Александровны (дочь брата, двоюродная тетка Анны Николаевны) — Алексей Петрович Северцов не случайно стал опекуном осиротевших детей Стечкиных после кончины родителей и самой Настастьи Григорьевны. Опекунство было не формальное: Маргарита Александровна помогала Анете воспитывать младших братьев и сестер, супруг ее вел дела по наследству и имению. Именно к Северцовым в Москву переехала Аннета с младшими сестрами, когда жить со старшим братом Яковом, показавшим после смерти родителей (ему было всего 16 лет) непреклонное самоуправство, стало девицам невмоготу. Но и о братьях — рассказ особый. Вернусь к Северцовым…
Эта семья подарила России очень известного ученого-естествоиспытателя Николая Алексеевича Северцова. Он был на десять лет моложе своей троюродной сестры Анны Николаевны и на двадцать лет старше племянника Николая Егоровича. Несомненно однако то, что подвиги и труды этого бесстрашного и неутомимого ученого имели неотразимое влияние на Николая Егоровича в его отроческие годы. Он был без ума от книг Жюля Верна, да и не только он: вся семья Жуковских читала и перечитывала их вслух, жадно впитывая благородную романтику путешествий и научных дерзновений, свойственную Жюлю Верну. А тут в лице Николая Северцова был живой, близкий и абсолютно реальный герой-путешественник и видный ученый — воплощенный капитан Немо.
Настасья Григорьевна Нарышкина своему мужу, Якову Порфирьевичу Стечкину, принесла с собой в приданое поместья в Рязанской и Воронежской губерниях, что значительно увеличило благосостояние Стечкиных. Рано овдовев, бабка Анны Николаевны взяла в свои руки управление имениями и всю свою долгую жизнь была полновластной главой всего семейства. Про нее сохранилось множество рассказов, характеризующих ее непреклонный, и даже, как выражалась моя бабушка в пятидесятые годы нашего с ней XX века, «деспотический нрав русской помещицы времен нашествия французов и Аракчеева». Она, например, блестяще организовала и провела массовое, насильственное переселение крестьян из имений центральных губерний в тогда еще незаселенное поместье Никольское Воронежской губернии. Однако еще при жизни своей она сумела превратить это природно-богатое, но пустынное, степное имение в образцово-цветущее, ставшее впоследствии главным источником доходов в роду Стечкиных.
Рассказы Анны Николаевны, которые сохранились частично и в повести Веры Александровны «Сестра Варенька», и в ясной памяти и записках моей бабушки Екатерины Александровны, живописуют незаурядность личности Настасьи Григорьевны. Сохранилось воспоминание о страшном пожаре в том самом имении Никольском… Полыхали службы и флигеля, полыхала деревня, а бесстрашная Настасья Григорьевна преспокойно сидела на втором этаже горящего дома в своей спальне, зная, что в подвале имеется винный склад и изрядный запас пороху, и из окна руководила тушением пожара. Он был благополучно потушен: остался цел и огромный барский дом с флигелями, и большая часть поместья и деревни.
Рассказывают так же, как однажды она, приехав из Плутнева в то же Никольское, застала там повальный тиф. Настасья Григорьевна не растерялась, и целый месяц сама лечила больных, организовала доставку им питания, уход, и уехала лишь тогда только, когда закончилась эпидемия. В нее-то, в Настасью Григорьевну, и пошла характером Анна Николаевна, а затем передала ее твердость, волю и силу — как черты наследственные, и своим внучкам, конечно, в причудливых преломлениях: у некоторых из наследников черты Настасьи Григорьевны пошли как-то вкось — по руслу своеволия, непререкаемого упрямства, капризов и самодурства. Но вот главенство в семье и роду, способность возлагать большую ответственность на себя, — то, что так сильно и прекрасно проявилось в характере и жизни Анны Николаевны, эти черты каким-то чудесным образом воспроизводились только по женской линии и причем через поколение.
Именно женщины в роду Стечкиных и Жуковских, в нескольких поколениях были фактически «несущими матицами» своих семей. И вовсе не потому, что незаконно «захватывали» власть, были агрессивны или принижали и подавляли своих супругов. О нет! Мужьям воздавался и почет, и уважение, и та святая христианская «боязнь», которую заповедовал женам святой апостол Павел. Просто в генетическом коде этих женщин была заложена изначально, хранилась и передавалась из рода в род одна устойчивая черта — душевная сила, решительность, отвага, способность не терять присутствия духа в самые опасные минуты, готовность брать на себя ответственность за судьбы других людей и, что важнее всего — способность предавать себя и весь живот свой Богу.
Почти все женщины в роду Жуковских (хотя, конечно, и мужчины отличались крутостью, своеволием и непреклонным упрямством, что им и свойственно более по природе, — кроме, конечно, Николая Егоровича, отличавшегося кроткой легкостью и покладистостью) — сохранили при самых разных комбинациях характеров черты могучей воли своей прабабки.
Без малого 80 лет твердой рукой вела и возглавляла семью ее внучка Анна Николаевна Жуковская, за ней — уже ее внучка, моя бабушка Екатерина Александровна Домбровская (урожденная Микулина). И даже мне, ничуть не обладающей даже тенью столь замечательных качеств, какие имели бабушка и прапрабабушка, и тем более Настасья Григорьевна — четырежды прабабушка, мой крестный — дядя Кирилл Иванович Домбровский, — последний и старейший из рода Жуковских (по матери) — незадолго до своей кончины как-то однажды совершенно неожиданно, ибо относился ко мне, наверное, не без веских оснований критически, тем не менее сказал, словно завещал: «Ну, вот теперь ты будешь Анной Николаевной».
Думаю, покойный дядя ощущал роль Анны Николаевны не как господствование над волей и судьбами других членов семьи, а как сохранение духовной преемственности, внутреннего кода родовой традиции…
Конечно, твердость, мужество и — скажу больше — иногда то, что называется стальная воля присущи были и другим женщинам в роду — та же Вера Александровна Жуковская — родная бабушкина сестра, утонченная и нежная красавица Серебряного века, всегда являла собой, хотя на первый взгляд, и не заметный, но, тем не менее, при более внимательном рассмотрении, неоспоримый образчик того самого прапрабабкиного стального волевого начала.
Настасья Григорьевна Стечькина (не удивляйся, дорогой читатель, что фамилию своих предков автор пишет то с мягким знаком, то без — этому есть свое объяснение, но место ему чуть впереди…) выдала свою дочь Александру (названа в честь ее брата Александра Григорьевича) за весьма состоятельного дворянина Лаговцына и, как оказалось, разгульного самодура. Его безобразия запечатлела Вера Александровна Жуковская в своей «Повести старых годов» — «Сестре Вареньке» — в образе барина Предславинского, развратника и карточного шулера, а свою двоюродную прабабушку — Александру Яковлевну Лаговцину (урожденную Стечкину) назвала она в повести Анной Предславинской.
«Он страх такой на всех нагонял, что именем его детей пугали, злой был человек, — ни людей ни стыдился, ни Бога не боялся (…) Захотелось ему как-то хорошенько над попом своим сельским поглумиться, да кстати и застращать… Пригласил он его, честь — честью, будто на крестины; поп собрался, купель взял, а у Предславинского в зале уже все к торжеству готово. Приступает поп к крещению, поворачивается к куме от нее дитя брать, глядь, а это козленок. Поп туда — сюда, а Предславинский стоит посреди зала, хохочет и пистолетом в лоб метит ему. Человек слаб, голубчик, опять же семья большая была у попа, что делать?.. Без памяти домой вернулся поп, прохворал изрядно, а потом затосковал и сбежал; слухи ходили, что к раскольникам на Вятку ушел. Вот, матушка, какие люди бывают. И не мало душ христианских он так погубил».
Страницы «Сестры Вареньки» — повести Веры Александровны донесли до нас немало подробностей той старинной жизни нашей семьи — жизни, бывшей детством и юностью Анны Николаевны Жуковской. Например, что тот самый барин-страшилище Предславинский (читай Лаговцын) так сумел к Настасье Григорьевне «подластиться, таким тихоней прикинуться, — что воды не замутить». Вера Александровна со слов бабушки так рисует его портрет: «Голова огромная, усищи в рот лезут и глаза с блюдце. Сам черный…». Была еще у него и палка с настоящим зверьим черепом-набалдашником. Этот Предславинский (Лаговцын) охотился за богатым приданым. Но тут писательница сознательно переплетает имена и судьбы своих предков, хотя тень реальных событий присутствует тут несомненно… Та же Макарьевская ярмарка, куда Настасья Григорьевна приезжала с дочерью каждый год, и описание гулянья, которое закатил там Предславинский, когда получил согласие на брак от Настасьи Григорьевны
«Всю ярмарку вверх дном поднял… гулянье народу на диво устроил, двадцать бочек вина выставил, цельные бараны жареные на подмостках стояли…».
…А женившись, привез жену в пустой дом, обои в клочьях, службы все развалены. Зато собак видимо невидимо: у каждой конура и личный повар. По ночам в нижнем этаже шла картежная игра с буйством и драками. Над молодой женой он всячески стал издеваться: запирал и по целым дням не выпускал ее из ее комнат на втором этаже… В «Повести» Веры Александровны бедная Анна Предславинская все стерпев, умирает, оставив двух сироток. Не так было в жизни…
Когда Настасья Григорьевна узнала, как страждет ее родная дочь, она однажды в отсутствие Лаговцына собралась и приехала к нему в имение и, не долго думая, забрала свою дочь Александру с ее девушками и увезла в Плутнево. И никто не посмел ей даже пикнуть поперек. Так, любимая тетушка Анны Николаевны — Александра Яковлевна Лаговцына и прожила свой век при матери в своей родительской семье. Она помогала воспитывать Анну Николаевну, была сердца мягкого. Сохранилась одна записочка, адресованная ей от ее племянницы Анеты — теперь Жуковской с припиской ее маленькой дочери Маши:
6 августа 1849 года
"Милая тетенька Александра Яковлевна!
Давно, очень давно я не писала к Вам, моя родная и в том очень-очень виновата: но я надеюсь на Вашу любовь ко мне и осмеливаюсь думать, что вы простите мне, узнавши получше обстоятельства мои. Нынешнее лето я провела очень-очень грустно, так как Егор Иванович мой совершенно не жил дома. Если бы вы знали, тетенька, как скучно мне вдали от того, которого любишь так много. К тому же была не так здорова, так что мне два раза пускали кровь, да пугают, что и в третий не пришлось бы пустить. Да будет воля Божия надо мной: что Ему угодно, то пусть и творит… Вы что, моя родная? Здоровы ли? Как я желала бы вас видеть. Жорж подаст в отставку и если Бог будет милостив нынешней зимою мы непременно увидимся. Нам разлука так надоела, что друг мой непременно хочет в отставку: помолитесь, родная, чтобы его выпустили…
Маша моя очень мила — вот бы вам видеть, какая она стала у меня большая!.. Мы в нынешнее лето все так загорели, что кажется, во всю зиму не отмоем загара. У нас теперь погода стоит чудесная по неизреченной благости Пречистой Владычицы. Хлеба у нас прекрасные, так что самые старожилы не запомнят таких урожаев….
Прощайте, моя родная, да будет Господь над вами.
А. Жуковская
Милая бабушка, когда я вас увижу! Мы с мамой и папой собираемся приехать к вам по снегу. У меня есть кролички с розовыми мордашками. Мне бы очень хотелось одного вам послать, да не укладываются в пакетец. Целую ваши ручки милая баба.
Маша Жуковская".
Грустную историю тетушки Александры Яковлевны Анна Николаевна не раз слышала от самих участников. Возможно, и сама она помнила эти события из своих ранних лет. Надо сказать, что в роду Стечкиных-Жуковских было несколько подобных неудачных браков (все они в несколько измененном виде легли в основу предыстории героини повести В.А. Жуковской «Сестра Варенька». — прим. авт.), очевидицей которых была Анна Николаевна…
На ее глазах сложилась горькая судьба и другой любимой ее родственницы — сестры Егора Ивановича Жуковского, — Вареньки Акулевич, урожденной Жуковской, которую выдали замуж за Евграфа Акулевича, столь похожего своим образом жизни на Лаговцына или барина Предславинского из повести Веры Александровны. Был и третий прототип Аннеты Предславинской — младшая сестра самой Анны Николаевны, тоже Варенька, которую после ранней кончины родителей (Глафиры Кондратьевны Стечкиной, урожденной Белобородовой, скончавшейся в родах сына Михаила, которого, как и Вареньку, и двухлетнюю Сонечку, и младших братьев она оставила на руках старшей дочери — шестнадцатилетней Анны, поскольку и муж ее, Николай Яковлевич Стечкин — вскоре умер неутешным вдовцом вслед за ней). Анета (Анну Николаевну в юности в семье звали Анетой и писали ее имя через одно «н») сама воспитывала. Вот только Вареньку никто насильно замуж не выдавал. Тут дело иначе складывалось, хотя результат был такой же печальный. Но и об этом мы еще расскажем…
На фотографии: стена Ореховской залы с портретами Анны Николаевны Жуковской и ее детей.
Современный вид.
…Анна Николаевна — мужу Егору Ивановичу Жуковскому в декабре 1873 года в имение Новое Село Тульской губернии:
21 декабря. Среда
Москва
"Сейчас держу твое письмо, только что поданное почтальоном. Как видно ты тогда еще не получал наше известие, что Господь избавил Веру от страшной болезни и что мы пережили ужасные минуты и когда же? в самые дни болезни и кончины дорогого нашего Володи (Володя и Верочка одновременно заболели дифтеритом. Володя в день празднования иконе Божией матери Нечаянная Радость (9/22 декабря) скончался и был похоронен в Спасо-Андрониевском монастыре. Верочка чудом выжила. Благодаря тому и возможны теперь эти воспоминания. — прим. авт.). Так что я и не могла быть в монастыре.
До сих пор Верик еще не выходит из своей комнаты, хотя, благодаря Господа, встала с постели. Приеду ли определительно сказать не могу — как будет здоровье доченьки — теперь же могу только сказать, что все мы едва приходим в нормальное положение, особенно я, — ныне первую ночь спала покойно. К Марфе давно уже написали все то, что ты пишешь. А Вава! Ведь обещали же они привезти Нину на целую неделю — да будет воля Божия! Верую в Господа, что так или иначе, а праздниками мы обязательно увидимся. А деньги? У бедной мамы лишних нет! Болезнь Веры и шубка Маши совершенно разорили Коляндрушку (уже в эти годы 26-летний Коляндрушка — Николай Егорович был главным кормильцем своей семьи и почти всех близких и даже дальних из своей обширной родни, что внимательный читатель смог бы уже заметить по ходу рассказа. — прим. авт.) и совестно мне еще его беспокоить.
Голова у меня так пуста и … потрясена, что писать долго не могу. До свидания крепко целую тебя, хотя Валерушке можно было бы приехать к Празднику.
Мама твоя А.Жуковская".
Маша и Вера и Коля горячо целуют твои ручки и поздравляют с наступающим Великим праздником Христова Рождества, а Мама обнимает дорогого, поздравляет и крепко и горячо целует.
Всего детей у Жуковских, как мы уже говорили, было 11 человек. Выросли из них — шестеро: Мария (род.1841 г.), Иван (род.1844 г.), Николай (род.1847 г), Валериан, родившийся в 1850 году (скончался от болезни сердца в 1905 г.), Владимир 1854 года рождения (-1873 г.) и Вера, появившаяся на свет 8/21 сентября 1861 года (-1932 г.). Пятеро деток скончались во младенчестве. К сожалению, мне не известны имена, даты рождений и кончины младенцев-Жуковских, — ведь тоже прапрадедов моих! Мать же, конечно, всех помнила, и несла в сердце боль утрат: не случайно она с сорока лет оделась в черное. Тем более, что к усопшим во младенчестве детям позже прибавились и взрослые сыновья и дочь, которых выпала Анне Николаевне горькая доля самой хоронить: Володя, скончавшийся 19-летним юношей в 1873 году, верная помощница всей жизни и вторая хозяйка дома — старшая Машенька, умершая на ее руках в марте 1890 года после тяжелейшей и мучительной водянки: ей не было и пятидесяти лет; старший Иван, надежда и любимец матери, преодолевший свой полувековой юбилей, скончавшийся внезапно от разрыва сердца в 54 года и, наконец, кроткий сын Варя (-1905 г.) — Валериан Егорович, на воспитание и образование которого, как одного из младших, когда-то так не хватало средств. Ему тоже было лишь 55 лет…
Похоронила Анна Николаевна и любимого мужа, скончавшегося, как и жил, почти все время, вдали от родного Орехова — в Новом Селе под Тулой, в имении старшего сына Ивана, где Егор Иванович служил управляющим. Жизнь в разлуке и с редкими свиданиями была их совместным супружеским крестом, который они несли с невероятной стойкостью и смирением.
А еще через несколько лет Анну Николаевну ждало еще одно горе: в Цусимском сражении в 1905 году геройски погиб любимый всеми внук Жорж ее — мичман Георгий Иванович Жуковский. Ему тогда только что исполнился 21 год, это был юноша удивительного обаяния, души глубокой и склада мистического, мечтавший всегда о жизни деревенской — помещиком средней Руси, но матушка его тоже была кремень — она желала, чтобы сын шел по пути ее предков — ее отец был адмиралом, сподвижником Нахимова. Вот и Жорж был еще в нежном отроческом возрасте отдан в Морской корпус…
Болезни и кончины близких следовали почти одна за другой. К утратам как-то привыкали, их было немало, семьи-то в те времена были большие…
* * *
Анна Николаевна Жуковская — дочери Вере Егоровне из Москвы во Владимир в 1889 году:
"Дорогая Верушка!
Береги свое здоровье, милушка, я что-то стала о тебе тосковать. Не принимай к сердцу крепко всего. А я, моя дорогая, не избегла своих спазм и третьего дня провалялась весь день, даже и теперь еще сама не своя. Как только буду уверена, что Машу можно оставить (это письмо и последующее написано во время предсмертной тяжелой болезни Марии Егоровны Жуковской. За ней ходила сама 72 — летняя Анна Николаевна. — прим. авт.), сейчас приеду к тебе… как болит мое сердце по вас, так я и не знаю, что поделать, и Машу беспомощную жаль, а тебя вдвое. Милого Сашу (это о зяте Микулине — так вот любили и зятьев. — прим. авт.) прошу поглядеть в Орехове хозяйским глазом все обстоятельно…
До свидания, родные мои голубочки, Веренька и Катя (внучки: Вере — 4 года, Кате — 3. — прим. авт.). Скоро бабушка, Бог даст, приедет, досказывать Шпулечку и Мих. Иван. Топтыгина. Жду Олю и Машурочку (Оля — мать Жоржа и Машурочки, детей старшего сына Ивана. — прим. авт.).
Береги Веру, милый Саша. Голубчики вы мои, сей час напишите, как вы там здоровы! Сердце у меня не на месте. Жду вашего письма как манны Небесной. Что кухарка? Измучалась, голубушка, ты теперь? Хоть на Масляную бы теперь осталась…"
Это письмо было написано в начале 1889 года — после Святок. Мария Егоровна была уже очень тяжело больна. Лечение пробовали разное, меняли докторов, но улучшения не было. К концу года крайне измучились обе: и умирающая, но держащаяся молодцом, несмотря на страдания, Маша, и ухаживающая за ней Анна Николаевна. Сохранились несколько последних предсмертных писем Марии Егоровны и писем Анны Николаевны тех дней — младшей дочери Вере во Владимир и Орехово.
Анна Николаевна и Мария Егоровна Жуковские из Москвы во Владимир Вере Егоровне. Сначала — записочка Маши:
"…Очень меня радует, что ты хочешь приехать в Москву — я так часто вспоминаю тебя. Была у нас Оля (Ольга Гавриловна Жуковская — вторая жена Ивана Егоровича Жуковского, урожденная Новикова. Жила в Туле и в имении Новое Село под Тулой), такая она веселая и здоровая. Шелкового платья погоди присылать, если Бог даст, поправлюсь здоровьем, я его перешью, а покуда я хожу в капотиках, и как-то ничего не хочется себе заказывать. Что, милый Веренок помнит ли тетю, а родная Катя? Как часто я их вспоминаю. Прощай, дорогая, пиши мне. Саше кланяюсь".
Далее, вслед за Машей письмо Анны Николаевны:
"…Ели бы ты была здесь, все бы пошло как по маслу. Ты энергично повела бы лечение, и Маша была бы спасена. О чем-либо другом я не могу писать: вся я одна боль. Оля привозила тоже сестру. Ее энергия воодушевила Кожевникова и Склифосовского. Заказан корсет в 75 рублей бедной Любовь Гавриловне (Сестра Ольги Гавриловны была от роду горбата).
…Нам необходимо иметь весь ход Машиной болезни. Оля привозила к Кожевникову и объяснение Тульских докторов. Сижу одна. Машу уложила. Коля уехал на охоту — что-то вы теперь поделываете? детки с Божией милостию, почивают, а ты где? Беспокоит меня твое ухо! Милая Вера! Свези мое поминание в монастырь, отдай старичку 1 руб., вложи записку о здравии Марии в поминание и попроси каждодневно подавать за обедню. Этих денег хватает на поминание. Деньги я вышлю. Здесь я еще не знаю церквей. Еще раз целую тебя, помолись за нас".
Почти в одно и то же время с болезнью Маши пришла весть и о горькой кончине племянника Анны Николаевны, сына ее младшей сестры Серафима Петрова.
Анна Николаевна Жуковская 27 сентября 1889 года — дочери Вере Егоровне Микулиной во
"Дорогая Верочка!
Вчера мы были очень поражены вестью о смерти Серафима: бедняга умер как жил, в трактире купца Подрезова сидя на стуле. Никто и не заметил, что с ним? Весь день я ходила как помешанная. Жаль бедного. Прошу тебя всепокорно, послать няню в монастырь, чтобы каждый день его поминали (за упокой новопреставленного р. Б. Серафима). Дай ей два рубля, которые я по приезде отдам Саше. В Орехове все разъехались по праздникам — некого послать в Васильки…
У нас, дорогая, очень шумно — с 5-ти часов утра уже стучат, а пыли, пыли… скоро и праздник. Получили письмо от Коли. Коля не обещает наверно приехать. Ждут они министра.
Ныне поехали на Собинку. Стращают страшною жарою 4 часа, а подводы еще не приезжали. Печь почти сложили с большим трудом — кафелей недоставало. Молотить не принимались. Все в разъездах. Дверь к нашему неудовольствию прорезали. Думаю, что к Покрову успеют… Не знаю, как расплатиться, боюсь, будут приставать. За Сашей вышлем в понедельник на утренний поезд. До свидания. Целую милых деток, особенно Катюшки ласковой. Сего дня чудная погода, я гуляла в платье. Детки, верно, побегали по валу. Храни вас Господь.
Мама.
7 часов вечера 28 сентября"
Скорби, горести и испытания, выпавшие на долю ее братьев и сестер Стечкиных, для которых она всегда была вторая мать, казалось бы, переполняли ее жизнь через край. Но Анна Николаевна никогда не падала духом, не пригнетала окружающих тягостной мрачностью, стенаниями, напротив: страдания удивительным образом расширяли и укрепляли ее сердце, остававшееся всегда открытым жизни и многим другим людям. О том свидетельствуют письма Анны Николаевны, адресованные Марие Александровне Микулиной — из Москвы в Бердянск. Мария Александровна, Манечка, как ее звали в семье с детства (о ней немного уже было рассказано в первой части), была младшей сестрой Александра Александровича Микулина, мужа младшей дочери Анны Николаевны Веры Егоровны.
Несколько слов о Марии Александровне (автору сего повествования она приходится двоюродной прабабушкой, а я ей — правнучатой племянницей)… Еще со времен самого раннего ухаживания Александра Микулина за Верочкой, Жуковские взяли на себя трогательную опеку над его еще очень маленькой, рано осиротевшей сестрицей Манечкой: в то время Вера, будучи юной невестой, чуть ли не каждый день писала в Мариинский Институт благородных девиц, где Манечка воспитывалась. Эта трогательная и поучительная переписка, впрочем, как и история удивительного супружества Веры и Александра Микулиных, заслуживает отдельного рассказа — и он тоже впереди, — все письма Манечка сохранила в целости.
Сейчас же, вернемся к Анне Николаевне. Ведь она заботу о Манечке вполне могла предоставить своей дочери. Но нет, и сама Анна Николаевна никогда не оставляла Марию Александровну своим самым теплым и сердечным вниманием. Казалось бы, такая старая барыня, 85 лет, большая семья, заботы и горести, старческие немощи, но Манечку она не только не забывает, но и даже при некоторой ответной холодности или отстраненности Марии Александровны (раннее сиротство несомненно сказалось на душевном строе Марии Александровны. К тому же ей была свойственна типично Микулинская замкнутость и строгость) так и оставшейся одинокой, все-таки пытается хоть как-то согреть ее сердце, дать ей ощущение причастности к общей семейной жизни Жуковских и Микулиных.
18 сентября 1902 года
"Милая Мария Александровна!
Вот мы и опять в Москве и на той же квартере; застигнутые колонизациею. Ни выйти, ни пройти никуда нельзя. Целое лето нас мучила хозяйка, обещала к нашему приезду все отделать. И довела чуть не до зимы. Коля, кое-как проходит. А мне трудно. Гляди из окон и любуйся, как сейчас роят у твоего носа глубокие канавы. Поистине осадное положение!
Слышала от Коли, что вы лето провели на Новом Афоне. Много слышала о его прелестных видах. Счастливица! То-то Вы забыли нас, северных жителей. Нынешнее лето гостил у нас Валериан с женою. Вера уезжала заграницу с мужем и Шуркой. Девочки были у меня до 18 августа, т. е. до приезда наших из чужих краев. Не скажу, чтобы лето было красное, сплошные дожди мешали удовольствию. Всего родилось много, но убирать было трудно так, что мы уехали, оставив овес в поле. Очень красив цветник. Валериан любит цветы, и очень много привез из Москвы. Роз было изобилие и грибов, грибов в Ельнике, и даже грузди объявились. Кажется, осень будет продолжительна. Деревня вся в листах. Смеетесь вы? Я забыла, у Вас весь год почти лето. Ваше желание исполнилось — Вы так спрятались, что об Вас даже и не слыхать, и даже 9 забыли, чтобы не дать о себе знать. Ну да Бог с вами, лишь бы Вам было хорошо. Николай Георгиевич по-прежнему целый день занят, по-прежнему я одна, да еще в осадном положении. Надя недавно приехала, Ленка опять ходит в школу. Новость: Коля завел новую собаку, у ней щеночек. Вот он-то бегает и тормошит по комнатам. О вас ничего не знаю, если Вы подарите мне хоть одну строчку, я буду очень счастлива. По-прежнему обнимаю Вас — будьте здоровы. Храни Вас Господь.
Всегда любящая Вас А. Жуковская.
Коля шлет Вам вой привет".
* * *
Всю жизнь Анна Николаевна сама много занималась со своими детьми — во всяком случае, до поступления их в гимназию — самыми разными предметами и, в особенности, языками, поскольку успела получить очень хорошую подготовку от лучших учителей в те годы, что прожила при матери и отце до их безвременной кончины. Она и от природы, и по наследству имела крепкий, трезвый, ясный ум и была сызмальства приучена всегда пополнять свои знания и сведения. Была любознательна. А если прибавить к тому, что более 60 лет она прожила рядом со своим великим сыном-ученым, живо входила во все его занятия и интересы, насколько это было возможно следила за развитием науки, была не просто знакома с теми, кто представлял собой ее цвет — друзьями, соратниками и учениками Николая Егоровича — она была в самых тесных, сердечных отношениях с людьми этого круга, которые, в свою очередь, глубоко почитали и вместе обожали эту удивительную женщину.
Запечатлела образ Анны Николаевны в своих воспоминаниях и другая ее внучка Екатерина Александровна Домбровская:
«Анне Николаевне уже 95 лет; но она все еще выходит в кабинет Николая Егоровича. Садится в привычный угол дивана со своими пузырьками и медным колокольчиком и неизменно спрашивает:
— А где наш Николушка?
Память у нее изумительная, она помнит старину, а также имена профессоров и завсегдатаев студентов, всем говорит «Ты, голубчик мой». Иногда я ей читаю газету, она по-своему всем интересуется. Очков не носит и все еще пишет письма в Киев крупным старческим почерком. Каждому можно пожелать дожить до ее возраста и так сохраниться».
Много повидала Анна Николаевна на своем веку. Она очень хорошо помнила старинную жизнь: детство и юность свою в имении Плутнево близ Суходола, что под Алексиным Тульской губернии. Поездки в Воронежское имение Никольское вместе со знаменитой бабушкой своей Настасьей Григорьевной Стечкиной, близко знала грустную историю короткого брака любимой своей тетушки — по отцу — Александры Николаевны Лаговцыной, разлученной матерью со своим мужем-обидчиком. Помнила своих деда и бабушку по матери: богатого тульского купца-самоварщика Кондратия Петровича Белобородова, выдавшего свою дочку — красавицу Глафиру Кондратьевну — четырнадцати лет за родовитого дворянина Николая Стечкина, и бабушку по матери — прирожденную цыганку Анну Васильевну.
Иллюстрация: коллаж работы Екатерины Кожуховой — портреты Егора Ивановича и Анны Николаевны Жуковских — родителей Николая Егоровича Жуковского.
Подлинные письма Анны Николаевны из семейного архива.
…Несмотря на свою живость и восприимчивость к тому, что происходило вокруг, Анна Николаевна во всех отношениях все-таки осталась человеком «старинным». Не тронули ее души ни политические, ни нравственные обольщения прогресса. Все в ней было спокойно, просто, ясно, основательно, — по заведенному, наверное, столетиями порядку, все освящено любовью к Божией Правде и Ею вскормленным многовековым традициям, преданиям и заветным чертам семейного русского бытия. Между прочим, вот эти-то тайны и предания, благоуханные черты семейной жизни, от внешнего мира сокрытой, являющей себя не столько во внешнем рисунке родовых судеб, сколько в тонких привычках и обычаях поведения, в жизни чувств и восприятий, — вот это-то и есть самое драгоценное наследство, завладеть которым ни волевым актом, ни даже смиренным усердием, пожалуй, невозможно. Наследственные черты поведения — это и есть лицо рода, своеобычное и неповторимое, сквозь которое светится еще более глубокая сакральная подоснова бытия — родовое призвание, Самим Богом на род возложенное. И кто, как не Анна Николаевна способен был все эти тонкие и неуловимые вещи передать в слове…
Вот, к примеру, и еще одно письмо Марии Александровне Микулиной (Манечке), но уже 1903 года. Оно рассказывает об одном из самых замечательных, — счастливом и памятном лете в деревне, о начале которого — приезде Веры Егоровны с детьми в Орехово в самом начале мая на рыдване «Ноев ковчег» повествовалось в пятой главе.
Анна Николаевна Жуковская — Марие Александровне Микулиной из Москвы в Бердянск:
13 сентября 1903 года
Совсем потеряла вас из виду, решаюсь писать вам. Думаю, что Вам все-таки будут интересны от нас вести. Ну, прочь Китайская церемонность. Скажу просто. Наше лето выдалось одно из самых хороших. Все время погода стояла чудная, цветник был великолепен: девочки веселились во всю, катались на велосипеде тройкой, чередовались беспрестанно. Особенно, когда приехала Машуринька и Жоржик. Тут были и переодевания, и фейерверки и иллюминации. Всего не перескажешь. Одним словом первое лето по окончании экзаменов для девочек прошло не без удовольствий. 29 сентября все семейство уехало в Киев.
Мы переехали 8 сентября. Так что именины мои прошли в разгрузке и уборке по дому. Проездом в Петербург заходил Иосиф Александрович (брат Александра Александровича Микулина, военный. — прим. автора). Пришла Ольга Евпловна Орлова (сестра большого друга Николая Егоровича), Саша Заблоцкая (дочь сестры Анны Николаевны Софии — всежизненная любовь Николая Егоровича Жуковского). Именинница усталая все время лежала на диване.
Из Киева получили письмо — Катя поступила в Академию живописи и ваяния, во второй класс, Вера продолжает 8 класс. В доме у них француженка, немка и приходящий учитель музыки. Ты может, слышала о переменах в службе Саши? Вере очень не хочется в Петербург. Для ее здоровья южный климат необходим. Иосиф Александрович очень счастлив, что его перевели в Одессу Директором Корпуса. Саша пробыл у нас 6 недель и еще успел побывать в Петербурге, Киеве. В Троицк не ездил вследствие моего маленького недомогания. Случилось так, что я упала, перепугала всех, но Слава Богу, все кончилось благополучно, хотя я и долго хромала; да теперь нет, нет да нога дает о себе знать. Слышали, голубушка, что вы были на Кавказе и даже пили воды. Я ничего не знаю о Вас, не откажите подарить мне строчки две из Вашего Бердянска. Обнимаю Вас родная, храни Вас Господь.
Ваша А. Жуковская
Коля шлет Вам сердечный привет. Лекции начались, а с ними и все беспокойства. Надя и Лена Вам кланяются. Девочка поступила в третий класс.
* * *
Конец — всему делу венец. Удивительны письма Анны Николаевны Жуковской и последнего двадцатилетия ее века — с 1895 — по 1912 годы. С 1895 года она почти все время жила в Москве с сыном, вела его хозяйство. Летом, как всегда, Николай Егорович отвозил ее в Орехово. На Рождество они вместе ездили в Киев — куда перевели по службе Александра Александровича Микулина и где он устроился не на один год со всем своим семейством. Наезжала Анна Николаевна и в Тулу, навестить других своих внуков — Машуру и Жоржа и вдову сына Ивана — свою невестку Ольгу Гавриловну Жуковскую. Но главным наполнением ее жизни в последние 10–15 лет была деятельная переписка. Писала Анна Николаевна без очков и почерк ее с годами совсем не менялся. Надо признать, что и дух ее деятельный, живой, никак не увядал. Вот одно из удивительных писем Анны Николаевны своим внучкам в Киев 7 декабря 1902 года:
"Горячо любимые мои девочки Вера и Катя!
Вот и Николин день прошел благополучно, и все удалось отлично! Полупудовый осетр и пирог именинный были с большим аппетитом скушаны. Серьезные профессора повеселели и после рябчиков говорили речи, превознося Колю, особенно отличился Андреев. Сидели очень долго и пили ликер, заедая фруктами. Из дам была одна Саша (Заблоцкая). Очень жалела, что не было Машурочки, особенно Саше было очень грустно без нее, она очень ее полюбила.
Бог сподобил меня с Колей быть в церкви, несмотря на сильный холод. Сейчас топим усердно у Коли два раза в день, утром и вечером. Письма Ваши получили. Много было телеграмм, не все приехали из-за холодов… Машурочка не долго пробыла в Москве. Ее вызвала мама по очень спешному делу. На студенческом балу не захотела быть. Съездила в театр и к Зимину. Доктора настращали ее неврастенией и запретили посещать скученные собрания. Теперь я не знаю, когда ее увижу. В газетах прочла лечение розами, нервной боли головы. Вот лекарство тебе подходящее. Ты очень любишь розы, Вера! Помнишь, ты хотела сделать подушечку из роз, как бы она тебе пригодилась теперь.
Пока папа с тобою занимайся посерьезнее математикой, чтобы выйти с хорошими балами из гимназии. Иностранные языки тоже очень пригодятся в жизни. Тетя Саша (уже упоминавшая А. А. Заблоцкая, которая много и успешно занималась переводами и тем самым весьма прилично для женщины того времени зарабатывала. мне сказывала, что она за перевод комедии «Да здравствует жизнь!» получает от редакции 700 рублей. Не правда ли недурно? Ну да, она великолепно владеет французским и немецким языком. Машурочка тоже очень хорошо знает три языка, но она, кажется, посвятит себя пению. Как жаль, что я до сих пор ее не слыхала.
Недавно был бенефис Шаляпина. Ложи были баснословно дороги — от 200 р. и более. Шаляпину за всем расходом досталось 15 000! Вот милушки, как колоссально шагает у нас искусство в России. А живопись — картины Айвазовского ценятся на вес золота. А это был уличный мальчишка — бездомник. Вероятно, Катя читала его биографию. Если нет? Прочти — она очень интересна. Зрение мое стало плохо, а здесь очень частые выставки картин. В молодости я была энтузиастка, любила все прекрасное. Природа и теперь меня сильно чарует. Снежные буруны голые деревья наводят на меня сплин, хотя я и не англичанка. Ух, как холодно! Счастливцы и вы, тепло у вас — трудно верить нам северянам. Будьте здоровы, любимые мои, берегите маму, исполняйте немедля все ее желания. Крепко вас обнимаю, особенно Шуру за его прекрасное письмо. Храни вас всех Господь.
Ваша бабушка А. Жуковская.
Прилагаю газетную выписку. Надя и Лена целуют ваши ручки".
Да не смутится придирчивый читатель денежными подсчетами восьмидесятипятилетней Анны Николаевны. Почти всю жизнь они с Егором Ивановичем претерпевали постоянные финансовые затруднения. Из-за этого многие годы вынуждены были жить в постоянных разлуках. А самой Анне Николаевне почти в семьдесят лет приходилось переезжать по нескольку раз в год из Москвы в Тулу — к мужу — и обратно, затем и во Владимир — к дочери… Тогда это было нелегким испытанием. Да у нее часто и нескольких рублей не было на такую поездку к Егору Ивановичу. Так что не будем, друг-читатель, спешить с выводами. Ведь Жуковским даже не всем сыновьям удалось дать высшее образование. Да и вообще: прежняя жизнь в России была несравненно более скромной. Люди привыкали с детства ограничивать себя, даже и во вполне зажиточных семьях. Так детей и воспитывали. Да что говорить: сам государь Александр III в строгостях и ограничениях держал своих детей; так воспитывала своих дочерей и государыня Александра Федоровна: они сами штопали свои чулочки.
Нет, Анна Николаевна ничуть не была меркантильна. Она была бережлива, но ни на йоту не скупа. А в этом письме она просто хотела несколько подхлестнуть учебное рвение своих внучек. Катя мечтала о поприще художника, была усерднее, гимназию закончила медалисткой, а Верочка думала о писательстве, но к гимназическим занятиям относилась с некоторой прохладцей. К тому же у нее болела голова. Вот Анна Николаевна и ставила ей в пример трудолюбивую и хорошо образованную Сашеньку Заблоцкую, действительно много потрудившуюся в своей жизни над переводами зарубежной прозы, публицистики и в особенности, драматургии, ведь Сашенька была неудержимая театралка: она была дружна с Гликерией Николаевной Федотовой, жила вместе с ней, а к ним на чаек любил заходить Николай Егорович, благо жили они рядышком: Жуковские у Покровских ворот в Мыльниковом переулке, а Гликерия Николаевна — у Чистых прудов (ее дом давно снесен).
* * *
24 января 1904 года началась русско-японская война… И вот уже через четыре дня Анна Николаевна пишет внучкам:
28 января 1904 года:
"Смутно, голубушка! На бульваре все прохожие с телеграммами в руках. Что будет, одному Богу известно. Все взоры обращены на Восток и нет другого разговора… Звонок! Коля с телеграммой в руках. Не объявляя войны японцы 26 в полночь предательски на подводных лодках подъехали к Порт-Артуру и потопили три наших крейсера. С нами Бог — война началась…
Коля вас обнимает. Не могу ничего писать".
31 января 1904 года:
"Из газет вы уже знаете, что Государь поздравил старший класс моряков мичманами без экзаменов. Наш Жорж мичман, его мечта осуществилась, он раньше времени на действительной службе… Ему достался жребий… Петербург! Признаюсь, все эти дни мы страшно тревожились. И ныне еще я не могла сомкнуть глаз целую ночь. А что делается на улице! Толпы народа стоят, выжидая известий и вырывая телеграммы друг у друга…
Тяжелое время мы переживаем родные… Спешите стать в ряды работающих на наше доблестное воинство… Вот время, когда русские женщины вырастают во весь свой рост!!! Верю, что вы бодро приметесь за живое дело. Увы, мне глаза изменяют. А то бы хотела я бежать в склад к Вел. Княгине Елизавете Федоровне и работать, работать…"
17 февраля 1904 года:
"… Сейчас прочла в газетах, что «Суворов», к которому прикомандирован Жорж, выходит с большой эскадрой в июле месяце. Наш моряк рвется на восток и не раз подавал прошения… Всполохнулась Русь, слилась в одно сердце и с кличем: с нами Бог! ринулась на дерзкого врага, нарушившего мир и попирающего Крест Христов…"
Эскадра была разбита. Жорж — молодой мичман Георгий Иванович Жуковский, которому только исполнился 21 год, геройски погиб в страшном бою на флагманским броненосце «Суворов». Назревали новые испытания…
Ноябрь 1905 года. Москва:
"…В Москве неспокойно. Начать с того — все газеты стали, университет потерял своего ректора князя Трубецкого. Завтра пребывает его тело из Петербурга. Технический закрыли. Фабрики одна за другой закрываются. В гимназиях не хотят учиться… Спокойно ли у Вас?"
В декабре в Москве началась всеобщая забастовка…
18 января 1906 года. Николай Егорович пишет в Киев сестре Вере:
"…Ты спрашиваешь про здоровье мамаши. Мамаша духом вполне бодрая, всем интересуется, читает каждый день газеты. Но силами немного ослабела. В церковь съездить очень трудно, гуляет только около ворот (с Петровной или горничной Катей)…"
4 декабря 1906 года. Николай Егорович — сестре Вере Егоровне в Киев:
"…Приезжала к нам Саша Заблоцкая. Она живет с Федотовой в деревне Федотовка Каширского уезда. Саша выглядит очень бодрой. Она говорит, что тихая деревенская жизнь доставляет ей удовольствие. Мамаша дала Саше прочитать Верочкин рассказ, и она сказала, что он написан с большим литературным талантом…"
Анне Николаевне было без малого уже 90 лет. Но она все так же деятельно заботилась о своей семье, не отставала от интересов своих внучек, трогательно пыталась хлопотать за них — искала для младшей Верочки поддержки на выбранном ею литературном поприще. И тетушка Александра Заблоцкая с легкой руки Анны Николаевны действительно немало помогала Верочке советом и делом. Это были ее последние благословения семье…
Осенью 1907 года Анна Николаевна заболела в Орехове воспалением легких. Надежд на ее выздоровление уже не было никаких. Но у Анны Николаевны был очень сильный организм и хорошая сиделка — внучка Верочка, бывшая при ней неотлучно.
Еще и еще потекли по-прежнему годы…
В феврале 1909 объявили о помолвке Верочки с Константином Николаевичем Подревским, тогда еще студентом киевского университета. 16 января 1911 года незабываемым празднованием отметили 40-летний юбилей деятельности Николая Егоровича. Это, как тогда говорили, был день Жуковского. Анна Николаевна, как обычно, устроившись на своем привычном месте в уголке дивана в их последнем доме на Мыльниковом переулке, слушала рассказы о торжественном чествовании ее любимого сына в Политехническом музее. В столовой накрывали праздничный стол, Петровна пекла пироги, из комнат слышались веселые голоса молодежи: Леночки, Кати Микулиной, студентов Николая Егоровича, по обыкновению забежавших вечером к Жуковским.
А летом позднее, чем обычно, на станцию Ундол был подан огромный заслуженный ореховский тарантас с пледами, подушками и тальмами. Орехово в последний раз встречало свою 94-летнюю хозяйку…
Молодежь ждала бабушку и Николая Егоровича у второго овражка. Долго сидели на горке, прислушивались, прикладывали ухо к земле, чтобы услышать топот копыт… Наконец тренькнули несколько раз вдали колокольцы и, наконец, перед встречающими явилась тройка и раскачивающийся тарантас. Анна Николаевна сидела зажмурив глаза, одной рукой придерживаясь за верх тарантаса, а другой — держа черный дорожный ридикюль.
В Орехове Анна Николаевна, как всегда еще прохаживалась, поддерживаемая Верочкой, по «проспекту», отдыхала на любимом пенышке березы.
В это лето в июле в Орехове случился пожар. Анна Николаевна выходила с иконой в руках… Николай Егорович подавал ведрами воду из пруда остальным, растянувшимся в цепочку. Пожар был потушен. Николай Егорович и Микулин помогли погорельцам и деньгами, и материалами.
А вначале весны 1912 года Анна Николаевна заболела. У нее было ползучее воспаление легких. Больше месяца она боролась с болезнью. Сознание было ясно до самых последних минут ее жизни. 2/15 апреля 1912 года она тихо скончалась. «Мамаша скончалась спокойно», — тихо сказа Николай Егорович приехавшим из Киева Микулиным. Он поклонился ей в землю: «Прощайте мамаша».
Похоронили Анну Николаевну на Глуховском кладбище на фамильном погосте Санницком рядом с ее дочерью Марией. Провожало Анну Николаевну в Москве множество профессоров и студентов. Хоронило в Орехове все ореховское крестьянство.
Последняя фотография Анны Николаевны Жуковской 1911 года. Последнее лето в Орехове.
Глава 4. Не смотри на спящего…
Не раз испытывала я что-то вроде досады, когда, вчитываясь в старинную переписку родных (как бы они меня-то сочли, — родной ли, близкой ли, своей ли? — это ведь еще вопрос. Велика разница между подлинником и реконструкцией, пускай и на старом фундаменте…), чуть ли не физически осязала я скрытые «за кадром» переписки пустоты… То, о чем не говорилось вовсе или упоминалось вскользь, как о чем-то несущественном и привычном, о чем и говорить не нужно, как о само собой разумеющемся и обыденном. А их-то, пустот этих, мне и надобно было. Мне казалось и сейчас кажется, что в этих мелких подробностях-пустотах и прячутся парадоксально вместе и сокровенное лицо времени (в минутах), и тайный ход к вечности.
Эти «пустоты» я не просто примечала, я их усердно отыскивала, часто их жадно созерцала, прилагая все возможные усилия к проницанию в утаенные от меня звуки, запахи и живые дыхания якобы несуществующей жизни. Там, в этих ненаписанных, невысказанных, и никем не выявленных пустотах она надежно спрятавшись, и продолжала быть самой жизненной жизнью в ее подлинном существовании. Это было сродни с тайно подсмотренным бытием спящего человека, уснувшего в уверенности, что его, спящего, никто не увидит.
«Не надо, не надо смотреть на спящего…», — предупреждала меня в детстве бабушка. Но почему?.. Не знаю. Но это тоже был осколок какого-то недосказанного опытного знания, которому спустя годы мне, на такие вещи не забывчивой, все-таки захотелось поискать собственные обоснования. Вот только совпало бы то, что думалось бабушке, с тем, что открывалось мне? «Богом моим прейду стену» (Пс. 17:30), — говорит царепророк Давид. Между нашим и т е м миром — стена, которой название человеческая поврежденность (изувеченность) первородным грехом (тотальная поврежденность всех органов чувств — недаром ищут шестое, вместо того, чтобы стремиться исцелять то, что имеем в наличии от Бога). Но Богом и в Боге, подает нам надежду святой Псалмопевец, мы эту стену можем и должны в меру сил преодолевать.
* * *
…Там, в этих пустотах, все было так, как бывает поздним утром в добропорядочной старомосковской квартире, когда все, откушав, уже разошлись, кто куда, по своим делам, а столовая пока еще не убрана…
На столе — еще не остывший самовар, в стаканах недопитый чай, а на скатерти — крошки от булок, которые с ночи поставив, ранним утром выпекла к завтраку Петровна, и кем-то ненароком уроненная и застывшая на скатерти густая отливающая гранатом капля варенья…
И стулья, небрежно вывернутые от стола на выход, и газета, перегнутая не по сгибу, брошенная кем-то на диван…Никого нет. Но всё здесь еще наполнено и живет присутствием тех, кто только что здесь пребывал: взглядами, разговорами, чувствами, высказанными и невысказанными мыслями, — жизнью семьи в ее связях и сцеплениях, в ее ни с чем не сравнимой и неповторимой единичности…
А за границами этого насыщенного, живого безмолвия, в конце длинного коридора, — где кухня, — слышится говорок… Там Петровна (Прасковья Петровна Кузнецова — последняя в семье Жуковских помощница по дому Анны Николаевны) и горничная Катя прежде чем начать уборку и готовку обеда, пьют чай… Это их вполне реальное и законное утреннее сидение (хозяев накормили и проводили) одновременно является и границей, обрамляющей и замыкающей то, что обитает в столовой.
…Вот в эту-то столовую, а не в кухню с Петровной и Катей я и предпочитала всегда заглядывать. Хотя всегда, признаюсь, слово случайное. Подсматривать за подобными паузами жизни я принавыкла в то давнишнее и остро памятное мне своими горькими разочарованиями время, когда только начали зарождаться первые мысли о писании чего-либо. Когда мне только еще начинало хотеться это делать… Причем писать — это было очевидно с самого начала, — именно об этих пустотах и паузах, а вовсе не о верхних ярко освещенных этажах жизни, где суетливо перемещаются и что-то непрерывно предпринимают люди, на что-то дерзающие, от чего-то отказывающиеся, спорящие, борющиеся друг с другом, куда-то спешащие, бросающие в мир фонтаны творческих идей, чего-то неустанно желающие и непрерывно что-то доказывающие urbi et orbi, и предпринимающие…
Но что писать про эти тайные паузы, за которыми, — я знала! — скрывалось самое сокровенное и подлинное содержание жизни, и уж тем более, к а к, — для меня было покрыто туманом. Мне нужно было услышать внутрь себя четкое указание, что-то рационально мотивированное, или хотя бы какое-то сокровенное ободрение, уверение… Идти же на ощупь, на авось, доверившись собственному инстинкту, не решалась: с незапамятных времен жил во мне премерзкий критик, промышлявший тем, что мгновенно изничтожал — и причем аргументировано — дотла все мои наилучшие творческие пожелания и идеи благих предприятий. А превозмочь его, пойти на риск, доверившись тихому голосу инстинкта, — где мне было занять такой отчаянной смелости?..
Думаю, этот жилец был мне попущен Богом для моего же блага: противостоять его проискам могли или только крайняя самоуверенность (чего изначально не имелось), или уже выстраданная, опытная вера сердца, что если «не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии» (Пс.126:1). Однако процесс этот, не знаю, у кого как, а у меня стал «дорогой дальнею», по словам известного стиха, написанного Константином Николаевичем Подревским, мужем бабушки Веры Александровны Жуковской.
* * *
Миг первого осознанного, — но еще не записанного, — услышания этой пустоты помню отчетливо… (жалеть ли о собственной нерешительности, об утраченном для делания времени, или принять все так, как оно и было на самом деле? Несомненно — второе: пусть будет так, как было, «коли Господь попустил», — как говорил мне мой духовный отец по близкому поводу).
…Я сидела дома на Большой Полянке (все это происходило в прошлой жизни, еще задолго до того, как мне пришлось расстаться с родным Замоскворечьем), на кухне (все-таки на кухне!) у большого нашего подоконника, который служил нам и обеденным столом, и холодным шкафом, в котором была просверлена изрядная дыра в мир Божий (зимой ее затыкали тряпкой), и гладильной доской, — так строились до и после войны многие добротные сталинские дома.
Этот подоконник был своего рода духовным центром нашей домашней жизни — на нем потом мы с мамой пеленали моих детей… Но пока малышей еще на свете не было, и мамина любовь еще не разделилась, чтобы львиную долю отдать ее любимому старшему моему сыну, мы с ней, будучи большими друзьями, любили светлыми июньскими вечерами, полулежа на этом подоконнике, говорить о том, о сем, и бесцельно глазеть из окна нашего бельэтажа на двор, который в то время служил проходным с Полянки к Старомонетному и Лаврушенскому, — прямиком к Третьяковке, а там и к бурнокипучей жизни «бакалей», «продуктов» и «мясных» Пятницкой.
Проход этот находился прямо под нашим окном, и это было для нас вполне завораживающее созерцание движущихся и сменяющих друг друга фигур (среди прохожих встречались и многие знакомые — тогда и в Москве люди, жившие по соседству, хорошо знали друг друга) в сопровождении ликующего аккомпанемента — звонких перекликов детских голосов, с утра до вечера наполнявших этой «одой к радости» наш большой двор. Эти высокие детские перезвоны напоминали мне перекличку птиц свежим ранним летним утром под высоченными сводами липовых аллей Ореховского парка.
…Как давно я не слышу уже этой сладкоголосой музыки московской жизни. Может, потому, что, переезжая с места на место (утратив, увы, оседлость), этажи наши стали забираться все выше, а, может, и потому, что московские дворы стали пустеть, а дети разлюбили так весело, и звонко-крикливо носиться по родным дворам своими веселыми стайками, играть в лапту, городки и прятки… Скорее всего, — просто стайки поредели…
Итак, однажды я сидела на кухне сбоку этого самого подоконника, а мамы в тот час дома не было. Передо мной стоял опять же заварной чайник («питьчай», «чайпить» — вечное русское времяпровождение или времяпоглощение), что-то еще, — может, сахарница, но это уж совсем не важно, — знаковым предметом для памяти остался только белый фарфоровый чайник…
Был тихий тогдашний московский полдень, когда жизнь московская особенно в июне, в отличие от нынешней почти замирала. Как ночные туманы от реки так безмолвие заполняло недвижимое и безлюдное в тот час наше жилье. Кажется, даже и радио, надежный оплот от воздействия зияющих пустот, пауз и прочих опасных соприкосновений с краями жизни, даритель ощущения мирности, мерности и устойчивости семейного бытия, даже радио — маленький, не раз битый трехпрограммничек, — не бормотал в маминой комнате в тот час. И я была одна. А мыслей у меня не было никаких, разве что только вялый обрывок одной: вот как же об этом написать и что же это такое? Ни сон, ни явь, и не пустота, и не пауза, а что-то напряженное, насыщенное, содержательное, тягучее… Какое-то ожидание? Вслушивание? В такие мгновения хочется умереть, потому что подобное давление сжатой материи чистого бытия, когда оно, обычно замаскированное лоскутьями повседневности, вдруг обнажает свою первооснову, трудно выдержать человеку, ничего об этом бытии не ведающему и не представляющему: ни с Кем он там может встретиться, ни что бы он мог и должен был бы там, в этом обнаженном бытии делать, и вообще, зачем и для чего ему все это открывается?
* * *
…Понятно теперь, почему я временами досадовала, читая переписку более чем вековой давности, тщетно ища в ней мест, где жизнь говорила бы сама за себя, а человек хоть на время ослаблял бы вожжи своего неустанного деятельного ею понукания, чтобы услышать то, что услышал однажды Пушкин во время бессонницы, и лицом к лицу увидеть увиденного им же «лихого ямщика»: «Ямщик лихой, седое время/Везет, не слезет с облучка»…
И я вот думаю: как же полезна иногда человеку и некоторая праздность, если взамен деятельности нет-нет, да и постигнет его хотя бы мгновение подобного созерцания. Впрочем, разве созерцание праздность, если оно хотя бы чуть-чуть приоткрывает путь к первоосновам бытия, уготавливая нас к грядущей встрече с нашим Творцом…
Не так ли было, к слову, и с Обломовым? Он был так устроен, а никак не просто ленив; он имел и мог то, что не имели и не умели другие, а потому и вожжами этими («жизнепонукания») он просто не сильно-то интересовался, чуя Того, Кому всегда и принадлежало по праву это единственное место на облучке. И в созерцаниях пауз жизни у него нарождалась иная, нежели чем у всех тех, кто его окружал (кроме ребенка), система мер и весов распознания этой самой жизни… Впрочем, все вопросы к Гончарову.
А еще, кроме тех самых пустот, я искала — самонадеянно и эгоистично — и жюль-верновскую бутылку, брошенную в море с запиской, предназначенной именно мне или хотя бы кому-нибудь, кто когда-нибудь возьмет в руки эти письма, а в записке — нечто искреннее, исповедальное, откровенное, тоже пытающееся прорваться, — только теперь уже вперед, — сквозь время, — в будущее. И не находя, — недоумевала, огорчалась и досадовала, и искала причины этого странной покорности «фараону» — вечно утекающему времени, потому что, как иначе объяснить, что они ничего для меня не оставили, — заветного слова, какого-то указания, напутствия…
Впрочем, я не совсем добросовестна… В письмах деда из Америки, после почти 40 лет его пребывания заграницей, которые я обнаружила в личных документах бабушки, о которых она при жизни мне никогда не говорила, увидела я в них и вопросы о недавно родившейся внучке (обо мне), и о том, какая она, услышала и нежность его, и беспокойство о взрослых сыне и дочери, обо всей семье, желание хоть как-то быть полезным, вняла его тоске по России и еще большему томлению по первой своей семье — бабушке и детям. А у него ведь там были и другие дети, и другие жены — и знаменитые, как Аста Нильсен, но последнее одиночество предсмертных лет вернуло его сердце все-таки домой — к нам.
Но о деде — опять же впереди… А пока — назад — к самому началу XIX века в тульские края, где под Алексиным близ станции Суходол было старинное яблоневое имение Плутнево (оно славилось своими яблоневыми садами, какими-то невероятными сортами, о которых потом с сожалением вспоминали в середине XIX века ореховские жители), — усад дворян Стечкиных, родовое гнездо, пожалованное им императрицей Екатериной II, за известное ее с помощью гвардейских офицеров восшествие на трон. Среди щедро вознагражденных был и прадед Анны Николаевны Жуковской…
Фото Екатерины Кожуховой
… Рассказывая детям и внукам свои семейные старины, Анна Николаевна и представить себе не могла, что жизнь русская может так стремительно и так скоро унестись далеко вперед, что ту старую Россию — Россию ее детства и молодости, да и всего ее большого века, отдаленным, тоскующим по Родине потомкам придется собирать по крупицам. Причем очень часто невпопад, произвольно, на свой вкус и лад, сочетая осколки вовсе не в том порядке и совсем не в ту картину, частями которой эти осколки были когда-то, утрачивая и искажая в этом процессе исконный вид подлинника.
Нигде — ни в документах, ни в собственных письмах, ни в воспоминаниях об Анне Николаевне я не заметила и тени предчувствий о том, что именно так и будет, что чудесный, сверкающий на ослепительном солнце, весь словно литой из золота старинный корабль русской жизни на полном своем царственном ходу вдруг взлетит на скалистую мель… А именно таким однажды и приснился мне этот корабль: летящий под солнцем по верху синих волн, на легчайшем стремительно-победительном ходу — величественный и мощный — и вдруг неожиданно высокий, на той же скорости, — по инерции мощного хода — взлет его брюхом по камням на крутизну склона, почти вертикальную, невесть откуда взявшегося на пути корабля …
Правда, потом в этом удивительно красочном сне было показано, как, нырнув с изумрудно зеленой травяной лужайки в яркие, сверкающие под слепящим полуденным солнцем (как у Достоевского в «Кроткой»: «солнце мертвец») слишком пронзительной, тревожной синевой, и, может быть, потому пугающие воды (трава и воды очень большой, даже может быть, бездонной, глубины, были на одном уровне), мы вытащили такой же золотой, как корабль, церковный подсвечник с горящими на нем свечами.
Удивительное это было и устрашающее зрелище: полуденные, палящие лучи солнца, обманно-притягательная сверкающая синь бездны вод, пронзительная зелень топкого берега и пылающие церковные свечи…
Но мы выжили. И обрели себя под монастырскими сводами (может, трапезная?) с начисто выбеленными древними арками и нишами. За окнами ревел непроницаемый мрак, и кто-то сказал, что надо бы закрыть окно. Окно закрыли, к торцу стены придвинули стол, и опять кто-то сказал, что постелить на него надо ту, спасенную с корабля скатерть, а мне прямо во сне подумалось, что речь идет не о скатерти, а об антиминсе, а значит, этот стол — для нас, но не для чая, а это престол для Божественной трапезы…
И было в этой комнате под сводами совсем немного людей. И эти люди были какие-то мы. С закрытыми окнами было тихо, мирно, — совсем хорошо, если можно было бы забыть, или хотя бы не думать о черноте, беснующейся за окном…
* * *
А думать хотелось и вот еще о чем… Устояли бы мы перед этими угрозами если бы в нас были не беспринципное рабское соглашательство со временем, а не опосредованная временем и обстоятельствами любовь? Если бы рвалось сердце человеческое, не взирая на давность, на наглую очевидность смерти, — и к усопшим, и к грядущим в мир, которых тоже хотелось бы, жалеючи, предупредить, как евангельский богач, желавший хотя бы братьям своим что-то передать из ада об узнанной им (слишком поздно!) правде жизни и смерти («Смотри, как он чрез наказание пришел к сочувствию другим», — комментировал это место в своем Толковании на 16 главу Евангелия от Луки св. Феофилакт Болгарский).
Но смогла бы любовь явить свою охранительную силу, сумела бы обрести ее вне глубокой и подлинной веры в Бога и чувства осязания реальности Его мира? Это ведь вне Бога — время невозвратно, и всё живущее — бренно, и будущее всегда берет верх над прошлым, обесценивая тем самым и неуловимое настоящее. И место Бога и Его Промысла в сознании людей узурпирует идол верховодящего всем в жизни людей прогресса.
Тут даже и усердно-научная любознательность в отношении прошлого становится всего лишь праздным интересом, а потому не только бесполезным, но и вредным для души человеческой занятием, все тем же рабским служением фараону по имени «время». Вне Бога в нем нет жизненной необходимости, оно не способно влиять на глубинную механику человеческих существований, не может именно поэтому быть хранителем живых связей времен и поколений. Правильно прочитывать и понимать реалии минувшего оно тоже неспособно. Это праздное (свободное от Бога) любопытство порождает чудовищные исторические фантомы и фальшивки, которыми, как правило, умельцы манипулируют в угоду своим сиюминутным политическим корыстям и страстям.
Анна Николаевна любила свое прошлое и всегда оставалась неизменно верна семейным преданиям и родовому чувству. Это было органической частью ее собственной жизни. Но вот уже внучки ее — Вера и Катя, бесспорно любившие эти уютные и тихие вечера с бабушкой и ее старинные рассказы, уже всецело жили в ином — своем, следовательно, оторвавшемся от прошлого времени. Родовая старина воспринималась ими уже отстраненно, совне — эстетически. С насущными реалиями их жизни и тем более их будущего прошлое семьи из бабушкиных рассказов уже сердечно, глубинно и тем более реалистично-физически в их восприятии почти никак не сопрягалось.
Что тут говорить о переживаниях собственной наследственности, в том числе и духовной… Понятия генетики в ходу тогда, наверное, еще не было. Хотя и к тому времени (конец XIX и начало XX вв.) о феномене наследственности уже написано было, как в сфере гуманитарных наук, так и в области богословия немало. На эту тему, между тем, всегда высказывались древние святые отцы и учители Церкви, — к примеру, преподобный Макарий Великий в его «Беседах». Учение о наследственности содержало охватывавшее все стороны жизни человека Священное Писание. Основательно и подробно рассуждали на эти темы русские святители: митрополит Московский Филарет, Феофан Затворник Вышенский и многие другие…
Но ведь и то правда, что вопросы эти — в миру — начинают заботить тех, кто уже познал необходимость поглубже посмотреть в самого себя, в свои истоки, кому открылся в духовном постижении феномен природного единства не только одного рода, но и всего человечества, кто осознал земную жизнь как время, данное для исправления в себе всего того, что искажает первозданную доброту образа Божия в человеке, в том числе и наследственные повреждения, кто увидел и начал оплакивать и в себе эти повреждения, и, наконец, убедился, что покаяние — духовная работа над самим собой, реально способна помочь и исправлению прошлого. И не только своего. Что очищение собственной души сказывается благотворно на душах предков, помогает облегчить их участь в вечности. Как говорил старец Паисий Святогорец, лучшая панихида о родителях — благочестивая жизнь детей.
Разумеется, и будущему потомству наше очищение тоже пользу приносит, поскольку и наследство потомков освобождается от духовно-нравственных долгов.
Удивительное слово довелось мне прочесть у архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского), — замечательного архипастыря, богослова и поэта. Размышляя о последних днях и часах жизни Пушкина он писал: «Умягченная душным, грозовым воздухом своей жизни, умудренная томлениями последних лет и страданиями последних часов, человеческая и человечная душа Пушкина могла отряхнуть всю пыль заблуждений, страстей и суетных вер, переходя в мир иной. Молитвы многих помогали ей, и — кто знает — может быть, и те многие молитвы, которые стали изливать о ней будущие поколения России… Пред Богом нет несовершенной среды земного времени, — все пред Ним в миге вечности».
Жизнь предков и потомков — одна река, одна вода. Благочестивая жизнь потомков «очищает» грехи предков, как обрезание ветвей оздоровляет жизнь корней. Дотронься до одного конца и сразу аукнется на другом (об этом говорит у Чехова в рассказе «Студент» его герой студент духовной семинарии Великопольский). С какого бы конца не дотронуться, — аукнется непременно…
* * *
Вот и я, например, читая старые письма, записки, незавершенные воспоминания (по причине незавершенности самой жизни), старательно припоминая обрывки фраз, слышанных в, казалось бы, невнимательном и безразличном ко всему кроме самого себя детстве, мучительно пытаюсь собрать все это воедино, чтобы увидеть живой образ матушки Анны Николаевны, — моей трижды прабабки Глафиры Кондратьевны Белобородовой (1802–1833), в 14 лет выданной (свадьбу играли сразу после конца Успенского поста в 1816 году) замуж за родовитого дворянина Николая Яковлевича Стечкина, а в 30 с небольшим лет скончавшейся в преждевременных родах. Ведь в этой главе о ней, о судьбе ее, о потомстве пойдет рассказ…
Мне всегда казалось, что вот так интуитивно отыскав ее образ, я сумею прочувствовать и в самой себе ее часть, наше подлинное родство, услышать в себе движение ее крови, атомы, которые, несомненно, всегда присутствовали и жили во мне, и, чему еще больше не устаю удивляться, живут и присутствуют даже в моих детях и внуках.
Да и можно ли было бы без этого отыскания не только узнать и запомнить ту мою молодую трижды прабабушку Глафиру Кондратьевну, но и полюбить ее? Ведь какая была бы моя молитва о ней без ощущения личной близости, без сострадания, жалости, без ощущения и понимания ее сокровенности, без слышания ее сокровенных воздыханий — не тех, что быди при той жизни, а тех, которые, увы, приходят к нам за гранью жизни земной?
Мне хотелось угадать подлинность именно ее лица, которую никакие даже самые блестящие художники и фотографы передать никогда не способны, — лица внутреннего человека в его целостности и живости, а не красивую витрину, и не вымышленное мною или воссозданное фантазией по слышанному и читанному.
…Порывистость и быстрота взгляда широко и удивленно-весело распахнутых глаз, какой-то полудетский каприз, который потом перерос в типично взрослое выражение своеволия или, как чаще говорят, воли; высокий, характерный, отпечатывавшийся потом на лицах внучек и правнучек открытый излом парящих на лице бровей…
Где кончались мои своевольные фантазии, и действовала почти безошибочная интуиция сердца?..
И все же я была почти уверена: если бы мы с моей молодой бабушкой (пра-пра-пра) Глафирою Кондратьевной Стечькиной (урожденной Белобородовой) вдруг повстречались бы наяву, я наверняка узнала бы в ней что-то пронзительно близкое и родное: быть может, лицо моей мамы, или старшего сына, или даже старшего внука, возможно, также и что-то знакомое из облика ее правнучки — Веры Александровны Жуковской, бабушкиной сестры, да и самой моей бабушки Кати, унаследовавшей, как она и сама признавала (возможно, со слов Анны Николаевны, узнававшей во внучках черты своей матери), этот редкостный удивленно-вопрошающий прихотливый излом бровей, который у бабушки Екатерины Александровны, по правде говоря, всегда говорил не о капризе, но о сокрытых в глубинах глаз усталостью и печалью и вопросом, оставшимся без ответа…
* * *
Вообще же по мере погружения моего в семейные воспоминания, я не раз имела возможность убедиться, что для внешнего и внутреннего генетического сходства предков и потомков столетия не помеха. О том, между прочим, говорил в одной из своих лекций о М. Ю. Лермонтове и Владимир Сергеевич Соловьев. Позволю себе небольшой отступление…
Он был убежден, что поэт унаследовал духовные черты своего древнего (жившего за 600 лет до его рождения) предка, шотландского рыцаря Томаса Лермонта, жившего близ монастырского города Мельроза в замке Эрсильдон.
Рыцарь Лермонт славился как ведун и прозорливец, находился в загадочных отношениях к царству фей, а так же сочинял стихи. Именно этому предку — вещему и демоническому Фоме Рифмачу с его любовными песнями, мрачными предсказаниями, загадочным двойственным существованием и роковым концом (он пропал без вести, уйдя вслед за двумя белыми оленями, присланными за ним, как говорили, из царства фей) и был наиболее близок демонический, по мнению Владимира Соловьева, талант гениального русского юноши — Михаила Юрьевича Лермонтова.
Указав на наследственный демонизм поэта, В. Соловьев еще и подвел под свои интуиции философско-богословский фундамент: мол, в том-то, оказывается, и заключается наша подлинная любовь к предкам, чтобы говорить о них только правду, поскольку, якобы, только такая о б л и ч и т е л ь н а я правда п о л е з н а будет душам усопших в мире ином:
«Тут, как и везде, один только взгляд, основанный на вечной правде, в самом деле нужен и современным, и будущим поколениям, а прежде всего — самому отшедшему… Обязанность сыновней любви к такому отцу… потребует от нас не того, чтобы мы восхваляли его заслуги и дарования, а того, чтобы мы помогли ему снять с себя или, по крайней мере, облегчили удручающее его бремя. Разве не то же и относительно отцов умерших?».
Не правда ли, как просто: чтобы снять бремя с души умершего отца, нужно всего лишь сказать о нем — да еще публично — обличительную, осудительную правду, самонадеянно приписав подобной человеческой правде свойства «правды вечной», узаконив наше право и способность изрекать правду об усопших, в то время как Господь суды запрещает — по неспособности нашей судить, а разрешает только рассуждение и рассуждение, движимое самой искренней и чистой любовью. А без любви вообще делать ничего не разрешает. Всё, что сделано без любви, — учил мой духовный отец, — не имеет права на существование. И — всё.
Да разве Правда Божия с правдой человеческой могут когда-нибудь сойтись? Бог зрит на сердце, а человек — на лицо, Бог судит сокровеннейшие расположения и подлинные намерения человеческие, которые люди друг в друге по своей греховной поврежденности узреть вообще неспособны, если только великим подвигом не сподобятся получить от Бога дар подлинной сердечной чистоты. А в этой чистоте — и дар любви, и дар сострадания, и дар милости, и глубину понимания, и всецелость прощения, и, как фундамент и охранительный итог всех даров — выстраданное смиреннейшее человека о самом себе помышление…
* * *
Нет истины, где нет любви, — предостерегал Пушкин в своем эссе о Радищеве. А истинная любовь, живущая — или не живущая — в сердце человека, не в сухих и жестоких обличениях, но в молитвенном сострадании и предстоянии перед Богом за души, — в том числе и даже за многогрешные души ближних:
Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу, Своих царей великих поминают За их труды, за славу, за добро — А за грехи, за темные деянья Спасителя смиренно умоляют.Надо ли специально оговариваться, что Пушкинское понимание любви нам несравненно ближе соловьевского, хотя вслед за Владимиром Сергеевичем и мы несомненно верим, что для наследственных связей и века не помеха. Не помеха и для наследственного добра, не помеха и для наследственного зла, — даже нераскаянного, невыплаканного, неисправленного, — не помеха для роковых ошибок, совершенных предками, и отражающихся на душах и судьбах потомков, рождающихся, чаще всего к подобному злу уже предрасположенными…
И таким вот образом — передается эти наследственные греховные повреждения не одному-двум поколениям, а много больше, пока великим подвигом какого-нибудь дальнего потомка (если такового Бог даст) они будут очищены и изжиты, — хотя отчасти — проклятие наследственности («грехи, которые не были искуплены тем, кто их совершил, искупают его родные и близкие, его потомки». — Святитель Николай Сербский. Беседы под горой), пока какой-нибудь дальний потомок, пройдя и познав сначала в себе самом, а затем и в предках — отчасти — с любовью и состраданием, горький путь «окованных», не начнет с Божией помощью, возносить в сердце своем воздыхания и за себя, и за всех окованных, Спасителя «смиренно умоляя», — как Пушкин гениальный говорил.
Иллюстрация: старинный портрет Глафиры Кондратьевны Стечькиной (урожденной Белобородовой).
…В своих устных рассказах Анна Николаевна рисовала образ своей матушки Глафиры Кондратьевны, как «экзальтированной, мечтательной натуры». Это слово — экзальтация (exaltatio — подъём, воодушевление) — пришло к нам из латыни, скорее всего по милости католических «опекунов», никогда не оставлявших своей заботой наше р у с с к о е н е в е ж е с т в о. Эта экзальтация, как тон, стиль и манера поведения была в веке XIX очень в ходу, особенно в первой половине, когда большую власть над «всеотзывчивыми» русскими душами и умами возымели завезенные из Европы вместе с духовными наставниками романтизм и мистицизм.
Толковые словари, разумеется, объясняют нам, смысл сего заимствованного понятия, как повышенную, неумеренную до неестественности восторженность, возбудимость, подразумевая здесь же и склонность «к излишне возвышенным (с точки зрения авторов словарных статей) настроениям». Провинциальные барышни тех времен изо всех сил старались подчеркнуть свою пылкость, странность (а ля Татьяна Ларина), неотмирность, чтобы удостоиться прозвания экзальте(как нынче вполне просвещенные и даже считающие себя утонченными люди, принадлежащие к современной культурной элите, желая сделать барышне приятный комплимент, могут эдак запросто и открыто сказануть о ней: о! эта девушка, она, мол, с е к с и…).
К середине XIX века любые проявления экзальтация (как и все, претендующее на какую-либо возвышенность, в том числе и подлинную одухотворенность) стали, с одной стороны, предметом злых высмеиваний нигилистов, а с другой — символом, тоном и последним душевным пристанищем героев Достоевского, пытавшихся отстоять от грубого натиска буршей свободу души человеческой. В том числе и на выражения чувств. Правда, у них была уже совсем не латинская экзальтация, а русский надрыв, и подлинные слезы, впрочем, всегда с легким намеком на п р о ш е д ш и е — и л у ч ш и е — в р е м е н а, имевшие место в судьбах самих этих героев…
Эти подлинные слезы м а л е н ь к и х, п ь я н е н ь к и х, слабых и неудачных и очень трогательно по-русски (по-детски) верующих, крепко теснились и с еще одного края: наступало время завершающего русскую имперскую историю победоносного шествия п р о т е с т а н т с к о й к у л ь т у р ы, вместе с сопутствующими ей «товарами»: темным мистицизмом, хлыстовством (как это не парадоксально звучит на первый взгляд), спиритизмом, катившем без тормозов впрямую к эротике без берегов. Впрочем, о том — ближе к концу нашего повествования и к закату Империи.
…Вот и эту напасть принес к нам вместе с грозами, бурями и шквалами нездоровый западный ветер. Теперь уже в лице добропорядочных дам, начиная с самых, что ни на есть, в е р х о в н ы х в е р х о в общества, — добродетельных немок-императриц и великих княгинь, вывозивших из заграниц и привечавших в своих респектабельных салонах редстоков-проповедников (речь идет о проповеднике лорде Редстоке, завезенном в Россию императрицей Марией Александровной, супругой Государя Александра II), утонченных аристократок и хорошо на протестантско-англиканский манер подготовленных в благородных пансионах к самостоятельной трудовой жизни бедных дворянок из недостаточных семей.
* * *
…Тут было царство порядка, чистоплотности, реализма, самообслуживания и дисциплины, трудолюбия, моральных императивов высоко взлетевшего и осознанного чувства человеческого достоинства, умение жить и мужественно держать это достоинство даже в крайне неблагоприятных обстоятельствах, сохраняя при этом — неизменно и н е п р и к о с н о в е н н о то самое внутреннее устойчивое сознание ценности собственного «я», с которым испокон веку учила нас сражаться православная «наука из наук» — аскетика.
Это были первые поистине д е л о в ы е русские дамы. Их-то, кстати, и приметил, и благословил Николай Гаврилович Чернышевский… Белоснежные воротнички, сдержанная, в меру свободная простота манер, твердость знающего, чего он хочет, и что нужно хотеть характера, безупречная выдержка, множество полезных навыков и умений и при этом весьма жадная потребность и пожить при возможности на полную катушку, непременно «быть любимой» (любить самим — это уж оставлялось для жертвенных неудачниц Сонечек Мармеладовых)… И долг, и еще раз — долг, — чем не хороши?
Этот женский тип не стороной прошел в XIX веке по России… Он очень глубоко врос в русскую жизнь, смешался с русской почвой, привнес много ценного и полезного, но и все-таки чуждого в корне своем духу туземному, православному. Вопрос здесь очень тонкий и деликатный. Уж очень тщательно в этом русском женском типе смешалось добро и зло… А потому тут-то и полезно было бы держаться того, что Станиславский называл «правдой жизненных образов» (которая «заразительна»).
…Они много трудились, они учили, они лечили, умели довольствоваться крайней скудостью условий жизни, никогда не ныть и не жаловаться, не распускаться… Эти женщины были людьми долга: достойными, кристально честными и великодушными… Но не случайно, что в романах Достоевского, а Федор Михайлович был тонким знатоком женской души, — этому идеальному и красивому женскому типу почти всегда противостоял другой тип, который мы могли бы объединить в образе Сонечки Мармеладовой (разумеется, подразумевая здесь строй ее души, а не что-то иное).
Первый тип был хорошо известный писателю (к нему можно было отнести и его некоторых дальних родственниц, и хорошо знакомых ему сестер Корвин-Круковских — Анну и Софью, — ставшую знаменитой женщиной-математиком Ковалевской, и даже саму Анну Григорьевну, супругу и доброго ангела последней четверти жизни писателя. К ним вполне можно было бы отнести «говорящий» жизненный девиз Софьи Ковалевской: «Говори, что знаешь; делай, что обязан; и пусть будет, что будет».
Однако много выше ставил Федор Михайлович живое христианское самоотверженное, сокрушенное и смиренное сердце, никогда не ведающее о своих самопожертвованиях (как евангельская левая рука о добре, которое делала правая). Нет почти ни одного произведения у Федора Михайловича, где бы такой достойной и заслуживающей уважения в своей основательной горделивости красоте не противопоставлялся бы иной строй сердца «Сонечек», познавших на деле, ч т о стоит за Евангельским словом: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук.14:33).
Осмелюсь высказать предположение, что симпатичный (в лексическом звучании этого слова в середине XIX века) тип образованной русской женщины-институтки, а следом и курсистки отозвался не только положительными сдвигами в сфере просвещения, но еще значительнее — и разрушительнее! — аукнулся он в сфере духовной — в оскудении веры, духа и благодати, покрывавшей старинную простоту патриархально-семейной русской жизни. Ведь женщина — главное соединительное и охранительное начало семьи, но секрет состава сего «цемента» в духе подлинного христианского смирения, о котором теперь мало кто правильно понимает…
Хороши были три чеховские сестры, а места себе в жизни своей найти не могли, — попросту им всегда хорошо было бы там, где их нет. Из этого корня возродилась только в новом качестве экзальтированность русской жизни. Как близко — бок о бок они шли: оскудение духовности и благодатности, вытеснение всего мистического из человеческого сознания рассудочностью, позитивизм, нигилизм и наконец дурная мистика и экзальтация: куда-то надо же было бедному духу человеческому, вытесняемому, выбиться, найти себе кормёжку — но только, чтобы при этом по узкому пути смирения не идти, только чтобы гордынька не пострадала…
Вот и пришел час спиритизма, хлыстовских оргий и кокаинового блеска расширенных зрачков… Начинался Серебряный век с его ярмонками (как произносили это словцо в старину) не личностей, не тщеславий даже, — нет! — но и н д и в и д у а л ь н о с т е й, и экзальтации без берегов, не чурающейся ничего, что только могло подхлестнуть давно уставшие, истрепанные чувства…
Но все это не имело никакого отношения к душевному складу Глафиры Кондратьевны Стечькиной, к рассказу о короткой жизни которой мы вновь возвращаемся… Там тоже жили страсти, но, поверь читатель, совсем другие, не такие, как к концу XIX века, хотя к появлению вышеназванного были еще как причастны.
* * *
Бурная разгульная молодость неукротимого отца Кондратия Белобородова, цыганская кровь и таборная жизнь его супруги, ставшей впоследствии добропорядочной и тихой купеческой женой Анны Васильевны, — все это как-то причудливо сошлось в природном характере юной красавицы Глафиры Кондратьевны. По воспоминаниям Анны Николаевны она временами страдала приступами беспричинной тоски, порой была чрезмерно строга к детям, а порой восторженно и неумеренно ласкова с ними. Ей было свойственно какое-то постоянное внутреннее напряжение, исход которому она искала в граничивших с безумством развлечениях.
Например, она любила сама объезжать молодых жеребят, и, чтобы приучить своих детей ничего не бояться, подчас брала с собой одного из них. Малыша (в первую очередь и чаще всего это бывала бедная Анна или Яков, или Александр, младший Коля и совсем крошечная Варя) приходилось чуть ли не вбрасывать в экипаж, увлекаемый бешено бившей и мчавшейся тройкой, на полном ходу.
До странности и непреодолимой страсти любила Глафира Кондратьевна грозу, и всегда во время сверкания сильнейших молний и раскатов грома взбегала она на вышку мезонина плутневского дома и там, на балконе, наслаждалась страшным зрелищем, не обращая никакого внимания на сжавшуюся в углу в безумном страхе пятилетнюю Анну, которую тащила наверх с собою, чтобы научить не трусить во время грозы.
Но Анна Николаевна всю жизнь потом грозы очень боялась…
Какой все-таки была она, моя «пра» и трижды «пра» — бабушка моя? Такое имя старинное, пряное, благоуханное, как ночные ароматы цветников у кромок густых смолистых вод ореховских прудов пред тревожно чернеющими в ночи липами парка. Глафира…
И всего-то неполных тридцать лет жизни, замужество с четырнадцати лет и мучительная смерть в родах. Муж, родовитый, богатый, огромного роста «русак», обожавший свою легкую и капризную подругу, хотя и не избегавший при том и других привязанностей, оставивший от них даже и потомство… И ее собственная странная, сокровенная наследственность, уводящая мысль от старинного уюта по-екатеринински усладного Плутнева, от яблонь его, от тульской купеческой, неописуемой красы, с а м о в а р а м и установившейся и развернувшейся и вширь раскидавшейся жизни, — от Алексинских окских песчаных отмелей, от этой русской трогательно-чистой, милой красоты и широты, — к страшному и таинственному существованию древних ее пращуров-ариев…
Но никуда не денешься: Глафира Кондратьевна была их живой потомственной каплей. Как-то ее матушка завладела душою Кондрата Белобородова, от широкого купеческого разгула которого звоном звенела и ходуном ходила вся Тула… Наконец, и он был захвачен в плен амуром — пламенной любовью к огненной, загадочной, будившей в душе его, скажу словами Тютчева, «древний хаос» певунье и плясунье из табора. Перед венчанием невесту-цыганку крестили Анной. А как звали ее в собственном ее племени — память о том никто из родных из предусмотрительной и благочестивой осторожности и деликатности не сохранил. Даже вскользь прежнее имя ее не поминалось. Да и Бог с ним…
Удивительно, но вчерашняя огненная цыганка довольно скоро превратилась в благочестивую и послушную купеческую жену Анну Васильевну, и таковой и осталась в памяти ее потомков. Жила она за Кондратием Петровичем, разумеется, не просто, он-то характера после женитьбы менять и не думал. Она же вроде, как вспоминала Анна Николаевна, не взяла с собой в приданное из табора ничего бунтовщического, но, выйдя замуж и приняв святое крещение, стала на удивление смирной, тихой, покорной. Не даром в честь нее была названа Анной ее внучка, истинная раба Божия, трудами и молитвами которой стояли семьи Стечкиных и Жуковских, а потом и породнившихся с ними Микулиных почти весь XIX и даже в начале своем XX век.
Глафира Кондратьевна от предков своей незаметной и тихонравной матери унаследовала непреклонный в своих порывах темперамент (при том, что воспитана она была уже по-светски как барышня), а так же редкую смолистость волоса. Многие ее потомки отличались этой глубокой чернотой волос и смуглостью кожи: у знаменитого внука ее Николая Егоровича Жуковского, было с детства семейное прозвище «черненький», — так его звала младшая сестра Верочка, друзья же по университету прозвали его по той же самой причине «Жуком». Была у Николая Егоровича и племянница — Машура — Мария Ивановна Жуковская, дочь его старшего брата. О ней рассказ еще впереди, но, забегая вперед, откроем и здесь одно удивительное сопряжение. Овдовев, в эмиграции в двадцатые годы XX столетия Машура приняла от руки сербского Патриарха Варфоломея монашеский постриг, и ей имя было дано монашеское, — какое бы Вы думали? Мелания, что значит, «Черная». И выбор сделал никто иной, как сам Патриарх Варфоломей.
От Анны Васильевны, от Глафиры Кондратьевны влилась в жилы не одного последующего колена потомков Стечкиных и Жуковских не просто экзотическая струя яркой цыганской крови, но и вместе с тем нечто странное, пугающее, а, порой, и больное…
Кровь эта подарила Стечкиным, а затем и через замужество Анны Николаевны — и Жуковским, и потомкам соединившегося с ними рода Микулиных не только какое-то особенное магическое свечение девичьих взоров. Проявлялись и душевные странности, и даже болезненные у некоторых потомков явления. О том предпочитали скорбно умалчивать, но рано или поздно это все равно открывалось, хотя бы из переписки и скудных реплик воспоминаний, из обстоятельств, и печальных их повторений в новых коленах рода, то и дело напоминавших о событиях давно минувших дней…
Река рода, уже начавшая изрядно мелеть в начале XX века, до конца все-таки еще не истаивала, и нет-нет, да и напоминал о себе тот необычный для Руси брак п о л ю б в и тульского купца Кондратия Петровича Белобородова…
Коллаж работы Екатерины Кожуховой: "институтки и курсистки". Сверху вниз и слева направо: И. Белоусов. Институтки на лугу перед Смольным; выпускницы бестужевских курсов сестры Н. и К. Манаевы; курсистки — групповой снимок; столовая и дортуар в Смольном институте.
…Что же оставалось сокрытым от наших глаз в тех таинственных псевдопустотах или «паузах» жизни, в которые мы, читатель, пытались с вами заглянуть вначале этой главы?
Конечно, боль и скорби, ошибки и падения, укоризны совести и оплакивание содеянного, — все то, что человек нередко старается, если не забыть, то, даже и, пройдя через горнило покаяния, норовит упрятать в какие-то пыльные чуланы жизни, подальше от глаз других людей. Но почему? Только ли потому, что чужие грехи — для нас, немощных, великий соблазн? Или потому, что предполагаем, что редко кто сможет понести их с поистине материнской всепрощающей любовью, всепониманием и великодушием, оплакивая чужие ошибки, падения и страдания, порожденные грехом, как свои, как общий всем человекам трагизм земной жизни… Как подала нам всем пример наша общая Матерь — Царица Небесная — юная Дева Мария, когда, возрастая в духе во Святая Святых, она положила начало Своему вечному молитвенному земному и Небесному предстательству перед Сыном за все скорбно-греховное человечество.
Вспоминая горькие страницы из жизни наших предков, и уж тем паче не родных нам по крови людей, мы, нередко, хотим того или нет, предаем их души на поругание, узнавая тем самым и о собственной духовной и нравственной несостоятельности. Но правы ли те, кто, ратуя о благочестии, допускает подобные воспоминания лишь с утаиванием «негативов», как они нынче выражаются, причем ссылаясь на традицию составления житий святых, хотя и тут дело обстоит совсем не просто. Древний житийный канон, разумеется опускает не самое существенное, бытовое, не смакует грех, но оставляет на поучение свидетельства о великих бранях и искушениях, даже и о падениях, которые превозмогали в подвигах святые, не ограничиваясь только примерами их запредельного для простого смертного воздержания и самопринуждения.
Чем же руководствуются нынешние благочестивые утаиватели правды? Неужто и впрямь они хотят таким путем научить человека добру, умягчить почву его сердца, воспитать его душу, сгладив все острые углы жизни и утаив теневые стороны ее реалий, не взирая даже на святой образец глубочайшего вселенского трагизма и жесткости повествования Священной Истории. И даже то не принимая во внимание, что Сам Господь Свою земную проповедь предворил сорокадневным постом и испытанием на Горе Искушений, когда взалкав после поста «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола» (Мк. 1:12–13; Лк. 4:1–2).
Что это, как не потакание человеческим страстям, человеческому духовному невежеству и злобе! Господь ведь «благ и к неблагодарным и злым» (Лк.6:35), а, значит, и мы должны искать и воспитывать в себе эту благость, уподобляясь Спасителю, и обретая ее не в попустительствах г р е х у, но в милосердии и сочувствии, «благости» к г р е ш н и к у, поскольку отношение к грешнику — и есть один из наиболее верных критериев подлинности нашего христианства. Но мы же, — и те, кто рассказывает, и те, кто внимает, на поверку, гораздо чаще, увы, оказываемся на месте виноградарей, которые из-за своей злобы и зависти взроптали на «хозяина дома», явившему Свою Божественную милость и доброту людям «одиннадцатого часа» (Мф.20:1-16), не только к благочестивому старшему, но и к блудному сыну, «ожившему» и вернувшемуся к Отцу (Лк.15:11–32).
Не всякому по плечу правда. Но не она в том виновата. А только состояние наших сердец и то, с какими побуждениями мы решаемся открывать эту правду…
* * *
После Глафиры Кондратьевны Стечькиной переживание гроз (как, впрочем, и других стихийных явлений) в семейном обиходе Стечькиных и Жуковских (вплоть до дня сегодняшнего) заняли особое место. Те страхи, которые пережила в раннем детстве Анна Николаевна как-то сугубо натянули в ней струну ее беспокойств о семье, о близких… Страхи за детей, за уезжающих, приезжающих и в отдалении сущих, — конечно же все покрывалось ее сугубой горячей молитвой. Боязнь гроз передалась и внучкам — помню, в Орехове только посверкивать первые зарницы начинали, как бабушка тут же все форточки закрывала — она опасалась особенно шаровых молний, потому что одна такая все-таки влетела как-то в ореховские окна, но каким-то образом бабушка сумела ее выдворить. Она рассказывала, но я забыла.
Бабушка сберегла немногие памятные вещицы, принадлежавшие когда-то незабвенной Глафире Кондратьевне: старинную инкрустированную шкатулку, какие-то скромные украшения старинной работы (они исчезли из нашей московской квартиры в войну, когда «благочестивые» воры освободив квартиру от излишков, с их точки зрения, оставили рояль да несгораемый шкаф со всеми семейными воспоминаниями), зеркальце, которое потом пошло в память о матери в приданое Анете Стечькиной, серебряная бабочка с рубиновыми глазами. Этой брошкой бабушка всегда закалывала воротничок своей блузки. А когда брошка перешла ко мне, я уже носить ее не стала, потому что ничего соответствующего этой старинной бабочке не было ни на мне, ни во мне, ни вокруг меня. Как нет для нее ничего подходящего и по сей день…
Хотя та серебряная бабочка жива и сейчас, и всегда, когда вижу ее, она тут же отзывается во мне щемящим чувством жалости к ее хозяйке, в тяжких муках скончавшейся в 1833 году родами бедного недоношенного Мишеньки… И горько мне, что я не знаю, ни сколько лет прожил на белом свете этот мой прапрадед Мишенька, ни почему его, горемычного, упоминали всегда с каким-то странным оттенком опаски и недоброжелательства? Наверное, действительно немало досаждал он родне, потому что требовал большого ухода: учиться не мог, его надо было кормить с ложечки, возможно, при том, и характер у него был непростой… Да ведь разве не жертвой он был, как впрочем, и другие, ближние и далекие потомки, которые и через двести лет чувствовали в себе, порой, и склонность к беспричинной тоске, и томившее их временами уныние, а некоторых отличали прямо скажем странные привязанности…
Иначе откуда бы у некоторых (слава Богу, редких,) потомков Кондратия и Анны Белобородовых в четвертом и даже пятом колене с самого раннего детства являлось странное влечение к опасным и угрожающим явлениям природы — тем же грозам, бурям, желание прислушаться к грохоту совсем рядом проносящихся поездов, и даже к взрывам… Им было и страшно, и в то же время почему-то усладительно это щекотание нервов, это пушкинское «упоение в бою/У бездны мрачной на краю…».
* * *
Следующим «подранком» вслед за Мишенькой стал внук Глафиры Кондратьевны — сын ее дочери Варвары Николаевны Петровой — Серафим. Родившись в достатке, во вполне приличном семействе, мальчик, страдавший депрессиями, уже с юности впал в запойное пьянство. Братья его, совершенно здоровые и на него не походившие (зато походившие на своего купеческого деда Терентия Петрова, имевшего характер грубый и бесцеремонный), обращались с несчастным Серафимом очень жестоко, не давали денег, держали в черном теле, — в общем, обижали, и потому опекать его стал (и заботился о нем всю его жизнь) с большой любовью и состраданием его двоюродный брат — Николай Егорович Жуковский. Однако и сама Варвара Николаевна Петрова (урожденная Стечькина), мать Серафимушки, — была очень несчастна в браке (о чем рассказ чуть позже), и скоро сгорела, оставив осиротевших детей…
Серафим Петров умер в трактире, о чем с великой болью писала в своем письме Анна Николаевна: «Бедный Серафимушка, как жил, так и умер». Она-то, как никто хорошо знала истоки серафимовой беды и много о нем скорбела, хотя, разумеется, и строго смотрела на его неудавшуюся жизнь, но она знала о том, что крылось в глубине. И сердце ее не сподвигалось к жестоким судам. Оно переплавляло тяжелую правду в горниле любви и молитвы за родных — легкомысленных молодых ее родителей, крутого деда и тихой бабки-цыганки, знаменитой воспитательницы ее Настасьи Григорьевны и младших братьев, много почудивших на своем веку и разоривших все отцовское обширное наследство…
* * *
…У меня в детстве ни страха, ни тем более влечения к грозам не наблюдалось. А вот образ моей трижды прабабушки Глафиры Кондратьевны всегда влек меня к себе неотразимо. Может, потому, что о ней так часто упоминала в своих рассказах бабушка, но при том образ ее для меня был покрыт флером таинственности. Мне хотелось почувствовать ее подлинную, узнать, что это был за человек, увидеть ее хотя бы так, как мы молниеносно порой фиксируем в память некое мелькнувшее перед нами в толпе лицо — пусть неизвестное, но схваченное и мгновенно угаданное в его личностной неповторимости…
…Я взбегала на второй этаж ореховского флигеля, на мой любимый балкон, который, как мне казалось тогда в раннем моем детстве, парил в небе как аэроплан, взмыв над спуском к старым прудам, над высоченными таинственными черными кронами столетних лип, где какие только не жили и не перекликались на тысячи ладов птицы, создавая вполне реальный эффект совершеннейшего по акустике вселенского свода, от которого звонко и гулко отталкивались эти возгласы, позывные и арии соло, раскатывались и рассыпались по парку и округе их сверкающие рулады…
Я смотрела сквозь кроны парка на видневшуюся деревню и чудные дали за ней, за которыми где-то, всего в нескольких верстах на холме Круче по-над Воршей на родном погосте Санницы, за алтарем почти разрушенного Глуховского храма в честь пророка Божия Илии, одиноко и мирно покоились мои предки Жуковские и Микулины, — и предавалась своим нескончаемым фантазиям, вспоминая и тех, кому принадлежала наша усадьба еще до Жуковских, — дворян Всеволожских, представляла их жизнь здесь в XVIII веке, от которой остались на дне прудов старинные мифологические скульптуры a la antic и расписные поливные печные изразцы с картинками в стиле галантного века императрицы Екатерины II, настоящие каменные солнечные часы в цветнике, замшелые в щелях… Они и по сей день там стоят, показывая кому-то иное время…
Я вдыхала знакомые ореховские запахи самосеявшегося табака и душистого хмеля, обвивавшего весь дом, и представляла, как когда-то на этот самый балкон, заслышав еще далекое рокотание громов, стремительно взлетала моя подвижная и легкая, как вспышки предгрозовых зарниц прапрапрабабушка Глафира Кондратьевна, крепко держа за руку, сжавшуюся от страха совсем еще маленькую Анету. Конечно, это были всего-лишь мои детские фантасмагории: на самом-то деле Глафира Кондратьевна взлетала на балкон совсем другого дома, которого уже на земле не было, — Плутневского, в Суходоле, Алексинского уезда Тульской губернии, что у брегов Оки. А здесь был северный край Владимирский. И все-то были тут лишь детские грезы: две усадьбы долго жили в моем сознании нераздельно в образе единого родного материнского дома, грезы, которые по мере моего взросления постепенно переплавлялись в один и тот же неотвязный вопрос — неужели там мы никогда не увидимся? Неужели даже там я никогда не увижу Орехова и все это исчезнет, когда «вострепещут праведники от безмерной славы явившегося Судии», когда «они воззрят на свои правды, и эти правды представятся им, при свете Высшей Правды, ветхими рубищами нищих: в правдах своих они не увидят залога к помилованию своему», когда Самые Ангелы Божии придут в смятение и страх от открывшегося в величии Своем Бога, Который "суд весь даде Сынови, да вси чтут Сына, якоже чтут Отца" (Ин.5:22–23), когда «бесчувственная вещественная природа не выдержит взора Сына Божия: «небо свиется яко свиток, всякая гора и всякий остров двинутся с мест своих» (Апок.6:14) (Свт. Игнатий (Брянчанинов). О втором пришествии Христовом)…
* * *
Теперь в музее Жуковского била ключом жизнь туристическая. Тут и блинов заезжим паломникам на масляной предлагали откушать в гостиной Жуковских, тут и чаями грозились напоить, да с наливками по старинным, якобы от Жуковских опять же сохраненным рецептам, тут и ряженых показывать приноровились, — и деревенских бабушек разодетых в сарафаны, чтобы рассказывали якобы семейные старины-байки Жуковских, тут и дите приучили выступать, — внучку директора музея, которая давным-давно осела с семьей в Ореховском раю. Наряженная девочка в гламурных шляпках с рюшами и цветами, словно со страниц старой «Нивы», которая теперь выбегает к заезжим туристам и выступает со своим номером, представляя, якобы она есть некто из тогдашних…
Шляпок, конечно, таких девушки и дамы из семьи Жуковских отродясь не носили. Во всем была строгость, скромность, простота. Украшений, кроме разве что подобных той старинной прабабушкиной брошке, бархотки на шею, да в крайнем случае, нитки жемчуга — в нашей семье не употребляли, — считалось это чем-то «сниженным», не приличным, не comme il faut, не д о л ж н ы м. Светскими львицами, — Боже сохрани! — никогда не были и, уверена, не стремились ими быть. Хотя имелись и в нашей семье одна-две души, которые все-таки ущемлялись недостаточностью средств семьи Жуковских как несоответствующей родовым амбициям и не открывающей должных широких возможностей для яркой светской жизни.
Но это была, конечно, не Анна Николаевна в сорок лет, еще весьма красивая, миловидная, покрывшая себя черным старческим платком, — или, как бабушка говорила, «записавшая себя в старухи»; ни Николай Егорович, ни его сестры, ни моя бабушка, в которой все прежнее, наследственное, и семейно неповторимое было словно выкристаллизовано и самою ею свободно выбрано раз и навсегда, как образ и стиль истинной жизни. Все, кроме некоторых, немногих, вполне с тем, что имели и чего не имели с легким сердцем смирялись. Верили Богу, что если надо будет и на пользу — так Бог пошлет, а не пошлет, — так и нам тогда такого не надо…
Так вот, разглядывая современные фотоснимки ореховского парка, я никак не могла уяснить, чем же они отличаются от прежних, еще в мои дни отснятых, не сравнимых, конечно, с нынешними по техническим возможностям и качеству, но почему-то ничего не «говорящих» мне, совершенно немых, как немы были и другие парки большинства старинных усадебных музеев, в чем я не раз убеждалась, бывая в них. Дело тут, видать, было не в родстве, и не во мне, а все-таки в самих парках… Они были словно духовно вытоптаны. Неслышная музыка их прежней жизни навеки умолкла. Ни в шуме лип было ее не услышать, ни в звуках половиц и дверей, ни даже в лике самой почвы под ногами, которая в детстве меня так особенно волновала. Корни столетних берез, посаженных Николаем Егоровичем, поднявшихся к моему детству в великолепную аллею за оградой парка перед открывающимися мягкими холмами полей. Там была особенная сухость и мшистость почвы, сколько раз среди бела дня в детстве я находила там крепкие и чистые белые грибы… Там еще все дышало Жуковскими, самим хозяином, который любил пройтись здесь после своих занятий со своей собакой. А при мне уже ходил там один очень старый, умнейший и отрешенный ото всего реального огромный сенбернар Немо. Это был поистине хранитель памяти лучших времен, хотя надо и понять, что приходился он внуком собаке Жуковского. Немо жил в доме у бабушки Веры — рядом с старым усадебным домом — этот дом построил ей отец- Александр Александрович Микулин к ее замужеству в 1910 году. Это был добротный двухэтажный, но весьма простой сруб. Но внутри там царил особенный, не похожий на мир бабушки Кати мир Веры Александровны…
* * *
Она провела в этом доме более трех десятков своих последних лет жизни — почти до самой своей кончины в 1956 году. Прихотливая красавица, с детства к этому сознанию своей красоты привыкшая, способная писательница, одна из звезд пленительного и ядовитого Серебряного века, и вот — почти полное одиночество: лета и зимы, зимы и лета — особенно зимы, — в заброшенной и почти опустевшей деревне, одна, с крохотным примитивным хозяйством среди связок стародавней переписки, среди еще сохранившихся старинных ваз с неподражаемыми сухими букетами, с запыленными и покрытыми патиной канделябрами на давно угасшем камине, у жаркой натопленной русской печи со щами и подлинным роскошеством — горшком гречневой каши и непременным варенцом…
Дом Веры Александровны после ее кончины был продан на сруб и вывезен. Письма Мережковских, Блока, Белого, Городецкого пошли под махорку — спасти дом от разграбления просто не успели. Все произошло молниеносно. И мебель всю разобрали.
…Что она там делала, дорогая тетя Вера, долгими вечерами? Читала, молилась, вспоминала, ждала безнадежно приезда своего знаменитого академика-брата, так легко начавшего забывать своих крайне нуждавшихся постаревших старших сестер, Верочку и Катю?
В детстве я любила играть вместе с деревенскими девочками у тетивериного дома. Там росли две старые черемухи, между которыми было местечко — словно шалаш. Игрушек-то тогда у меня почти не было, зато имели место лопухи, влажная земля и непередаваемый запах этих лопухов (а сныти нынешней, все заполонившей, там как-то и не помню). Я ковырялась на земле среди этих лопухов, что-то выдумывая, представляя, фантазируя, а шустрые деревенские девчонки, изрядно меня постарше, уже сверкали босыми пятками по стволам высоченных узловатых черемух, как юнги по мачтам, и губы у них были совсем черные. А я слушалась бабушку (в пять-шесть лет ведь это еще не так зазорно?) и черемуху почти не ела, да ведь и не очень-то доставалось мне: разве ж мне залезть было на такую высоту?
Все мне тогда говорило, ко мне обращалось в Орехове: во всем были с л о в а и смысл. И я это слышала и как-то по-своему понимала, о чем о н и вели со мной речь. Тогда были песни без слов. А с годами стали проситься наружу слова. Но зачем они мне были? Моя память была со мной. Как у той старой монахини, что подарила мне свою единственную фотокарточку ее старца. «А как же вы? — спросила я, — А у меня все тут», — положила она руку на сердце. Или как другой старец однажды сказал при мне: «Ну так что ж, и — умрем: у меня-то все давно там…». Значит, и мне слова были не так уж и нужны, и если нужны, так вовсе для другого дела — для того, чтобы сохранить и передать. Но и это следовало еще уяснить: а нужно ли было все это передавать? И возможно ли?
Трудно было представить, что здесь когда-то были посыпанные песком дорожки, росли во множестве благородные цветы — любимые прапрадедом центифольные розы, которые он выписывал со всего света. Жизнь здесь, в прошлом такая ясная и бодрая, упорядоченная старинным семейным ладом и складом, исполненная благородных чувств, любви и веры, страданий и потерь, теперь продолжалась совсем по другим канонам и законам или, скорее всего, вне закона. Не лес, не парк, но тенистое от лип, сырое сумрачное м е с т о у черных, казалось, бездонных прудов, — немой сгусток звуков, слов и п о с л а н и й прошлого… Ответ самой жизни на эти послания всегда предлагался только один, в котором все кончалось, все умирало, все истаивало, во всем и везде торжествовала насильственная разлука или добровольное — amor fati — отречение от того, что было «сердцу мило»…
Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальным По грозной прихоти обманчивых морей, Но только не к брегам печальным Туманной родины моей…* * *
Наконец пришел и ответ на вопрос, чем же разнился парк на старых и новых — спустя тридцать с чем-то лет сделанных, снимках?
В мои детские годы в Орехове музейчик был, его бабушки еще задолго до войны устроили. Очень скромный, бедный, но подлинный. В доме продолжалась тихая жизнь немногих потомков Николая Егоровича Жуковского — двух стареньких племянниц, после кончины дочери и сына им удочеренных, и его маленькой правнучатой племянницы. В доме было пустовато: за годы голода и разрухи революции и гражданской войны, когда жили и без спичек, и без бумаги, за годы войны с немцем — все уже поистаяло, что было, и уже оставались в доме почти что одни стены и некоторые памятные вещи, — занавесок на окнах не было, но и не было чуждого, привнесенного, — жизнь Жуковских — такая, какая она была — все-таки продолжалась в этих Богом предлагаемых обстоятельствах…
Все так же пах прежними запахами прежнего хлеба старый буфет. Все так же звучал спускавший строй старый рояль (тот самый, вывезенный из Москвы из нашей городской квартиры), на своих местах еще хранились намоленные иконы. В спальне Анны Николаевны, куда я с замиранием сердца любила забегать, все так же стояли на столике у кровати ее колокольчик и флаконы от высохших духов. Вера Александровна делала свои удивительные сухие букеты, лежали вышитые и вязанные руками бабушек старинные пожелтевшие салфеточки, стоял на месте тот самый мраморный умывальник с бронзовым сосочком — почему-то я помню ощущение во рту бронзы — пишу и мгновенно вспоминаю — несомненно я пила из него, не только в руки собирая воду…
Но главное не это. Пока там были мы, — и дом, и парк хранил запахи и тени и даже саму жизнь прошлого. Это были вполне осязаемые тени… Когда я тогда бегала по аллеям заросшего парка, я буквально слышала — всем существом своим (и сейчас еще слышу — и потому пишу) прорастающее через замшелые корни лип и берез дух прежней жизни насыщенные жизнью паузы: они здесь только что были и ненадолго отошли и вот-вот вернутся, но их жизнь продолжается… Они, родные наши, были вместе с нами, тихо следили и следовали за нами, молчаливо покрывали и оберегали нас своим небесным заступничеством…
Но вот убрали нас немногих оставшихся, и все это сразу ушло. Ничем, абсолютно ничем не дышит мертвый парк и его дорожки, даже если их и расчистить и посыпать толченым кирпичом, как не дышат и другие усадьбы-музеи: сколько не прислушивайся, сколько ухо к земле не прикладывай — там нет н и к о г о и нет н и ч е г о. Там все умерло. Там все так, как пелось в бабушкиной песне: «Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки… Позарастали мохом-травою, где мы гуляли, милый, с тобою…»
…Когда умирала Глафира Кондратьевна Стечькина ей было немногим больше тридцати лет. За свою короткую жизнь она родила семерых: Анна, старшая дочь, появилась на свет, когда матери ее было всего только пятнадцать лет — 5 мая 1817 года, а после Анны на родились еще шестеро (мне известны имена только выживших детей): Яков, Александр, Николай и Михаил. Кроме Анны у Глафиры Кондратьевны было еще две дочери Варвара и София.
Проститься с матерью пришли шестеро… Анете к тому времени исполнилось 16 лет, Якову — 14, остальные были еще совсем маленькими. В колыбельке лежал недоношенный Мишенька…
Николай Яковлевич пережил жену неутешным вдовцом, — как выражалась Анна Николаевна, — лишь на два года. В 1835 году отошел ко Господу и он, оставив всю семью на руках едва достигшей 18-летнего возраста Анны. К тому времени уже не было в живых и бабок ее — знаменитой Настасьи Григорьевны, и Анны Васильевны. Все сложное хозяйство, имения и воспитание детей, из которых младшим Софье и Михаилу было 4 и 2 года, легло на юные плечи Анны. Ей, самой почти ребенку, порой не под силу было справляться со сложным хозяйством и воспитанием детей. Но она, видно, унаследовала ум, энергию и волю своей бабки Настасьи Григорьевны: оставшись с такой семьей на руках, Анна не растерялась. С помощью няни и двоюродной тетки-опекунши Маргариты Северцовой вела она обширное хозяйство, исполняла сложные обязанности главы дома, занималась детьми. Впоследствии, в своих письмах братья обращались к Анне Николаевне не иначе как к «воспитательнице нашей».
Оставшись старшей в доме, Анна Николаевна продолжала поддерживать давно установленный бабушкой Настасьей Григорьевной порядок жизни, но понятно, такого авторитета, как старшие, такой крепкой руки она иметь еще не могла… И жизнь в Плутневе, совсем недавно, патриархальная, старинная, укорененная в православии, еще хранящая в быту и нравах черты и дух русского допетровского уклада, зашаталась…
Всего несколько десятилетий оставалось до появления в семье людей иного, разночинно-атеистического склада мыслей и характеров, дотоле в семье Стечькиных невиданных и немыслимых. Два племянника Анны Николаевны — Сергей Яковлевич (1863–1914) и Вячеслав Николаевич Стечькины стали революционерами, познав все прелести жизни и в тюремном заключении, и в ссылках. Сергей Яковлевич был одаренным писателем-фантастом, причем одним из первых в России, который не забыт любителями этого жанра и по сей день. Печатался он под псевдонимом Соломин.
Из Стечькиных — внуков Николая и Глафиры, пожалуй, только один человек остался верен духу и традициям родной старины (не считая потомства Анны Николаевны — там уже дети были Жуковские) — Николай Яковлевич Стечькин (1854–1906) — один из сыновей Якова Николаевича, старший брат революционера Сергея Яковлевича. Он, как и все почти Стечькины, имел несомненное литературное дарование, свои критические и публицистические заметки печатал под «говорящим» псевдонимом Стародум, что вызывало в конце XIX века постоянные и злые на него нападки. Публиковался он иногда и под наименованием «свободный мыслитель», резко критикуя современные ему приемы политической борьбы «Народной воли» («Свободный мыслитель» [Стечкин Н.Я.]. Современные приемы политической борьбы «Народной воли» в России. Berlin, 1882.), духовно оппонируя брату. Стечькин-Стародум защищал Пушкина от тех, кто пытался в угоду пошлому духу времени исказить, снизить и унизить образ русского гения.
Николай Яковлевич издавал газеты патриотического направления, и журнал «Воздухоплаватель», — Николай Егорович Жуковский был не просто его двоюродным, но и очень чтимым и духовно близким ему братом. Стечькин был так же постоянным сотрудником «Русского вестника», где опубликовал большинство своих критических и публицистических работ. Известный журнал «Весы» в номере 7 за 1906 год поместил очень сочувственный некролог Николая Яковлевича.
* * *
Родная сестра Сергея и Николая Яковлевичей — Любовь Яковлевна Стечькина (-30 декабря 1900 г.) — тоже посвятила свою жизнь занятиям литературой: она была, что называется, замеченной в то время писательницей. Ей посчастливилось обрести такого творческого наставника, редактора, и больше того — друга в лице Ивана Сергеевича Тургенева. Когда в 1903 году были опубликованы письма Тургенева к Л. Н. и Л. Я. Стечькиным (матери и дочери), современник с полным основанием писал, что эти письма — «настоящая маленькая поэма, которую можно было бы озаглавить: «Чужая рукопись». Благодаря совершенно изменившимся условиям жизни, большинству современных писателей едва и на свою собственную рукопись удается уделить столько внимания, труда, хлопот, как это сделал Тургенев для чужой. И вы чувствуете, что отношение Тургенева — настоящее…».
И.С.Тургенев был высокого мнения о таланте Стечькиной. Он видел в ней «дарование из ряда вон выходящее», «несомненный дар психоанализа», «поэтический дар», считал, что из нее может выйти «писатель очень крупный». Правда, не упустил Тургенев из виду и другое: «тревожный дух», присущий Л. Я. Стечькиной, непоследовательность, чрезмерную впечатлительность и, вероятно, полную неспособность к упорному постоянству писательского труда, которые вероятно, и помешали ей в полной мере оправдать надежды Тургенева.
В 1902 году, живя в Одессе, Стародум выпустил отдельной брошюрой переписку Ивана Сергеевича и Любови Яковлевны — необыкновенно живую, «проникнутую горячим дружелюбием» — совсем на равных. Началась она во время работы Стечькиной над повестью «Варенька Ульмина» (Опубликована в ноябрьской книжке «Вестника Европы» 1879 г.) и продолжалась до кончины писателя.
Н.Я. Стечькин опубликовал так же и свои собственные воспоминания о И.С. Тургеневе, с которым не раз встречался и расположением которого пользовался. «Я очень полюбил вашего брата, — писал И.С.Тургенев Л.Я.Стечькиной, — он очень милый и хороший человек… Литература — его настоящее призвание».
Однако вернемся немного назад…
* * *
Старшему из братьев Якову Стечькину в год смерти отца исполнилось 16 лет. Он был молодец крайне своевольный и воспитанию не поддающийся. Ростом он достиг аж 13 вершков (выше двух метров), а весом — уже через несколько лет — 13 пудов (примерно 213 кг.). Рассказывали, что соседние помещики посылали к нему на исправление своих дворовых и крестьян. Не достигнув еще совершеннолетия, брат Яков против воли старшей сестры Анны и опекунов женился на в о с п и т а н н и ц е своего отца — Любови Николаевне (-1900), носившей в семье имя «Эммочка» от французского слова «любить». Все родные были против этого раннего и совершенно неподходящего брака, но отличавшийся непреклонным упрямством Яков поставил на своем. В семье произошло разногласие. Но злоключения и напасти в роду Стечькиных еще только начинались…
Сестра Анны Николаевны Варенька, совсем еще юная девушка-подросток полюбила гувернера и репетитора братьев студента Силина. Брак столбовой дворянки с разночинцем казался семье, в особенности честолюбивому (несмотря на собственные его безрассудства) Якову Николаевичу совершенно неприемлемым. Только зачинавшийся нежный роман был резко оборван: Силину отказали от места и стремительно выдворили из Плутнева. Варенька была потрясена. События эти оставили в ее чувствительной и экзальтированной, как у матери, душе, глубокий след…
Некоторое время спустя в Москве в доме родных Варенька познакомилась с Александром Петровым. Он был из рода купеческого, но отец его — Терентий Петров, имел уже личное дворянство. Петров поразил ее своим сходством с изгнанным гувернером. «Ах, глаза, глаза!..», — воскликнула Варенька при первом взгляде на Петрова. Она влюбилась в него (и надо признать: и сам Александр Терентьевич, и потом их с Варенькой сыновья и дочери и внуки — все были действительно очень красивы) и тут же согласилась выйти за него замуж. Теперь оставалось только выплакать и вымолить благословение старшей сестры и братьев на замужество. Они уговорам и мольбам в конце концов уступили… на горе и на долгие годы страданий самой Варвары.
Сестры Стечькины, несмотря на некоторые причуды и экспансивную неровность матери, воспитывались в любви, в понятиях утонченных и возвышенных, да еще с романтическим, в духе начала XIX века окрасом. А в купеческом доме Петровых Вареньке с первых дней пришлось претерпевать от мужа, и особенно от свекра, постоянные издевательства и даже глумления над ее дворянским м е н т а л и т е т о м, как бы теперь выразились, — и всем тем, что было ей дорого.
Варвара Николаевна была, как и мать, характера неуравновешенного, и при том нежной и хрупкой фантазеркой. В той купеческой среде, куда она попала, были совершенно неуместны устроенные ею оранжереи, ее вышитые шелками картины, изображавшие Юдифь и Олоферна или Фауста у ног Маргариты. Муж и старик Петровы восстанавливали против нее и детей, насмехались над ее причудами, в семье она была крайне одинока, а к Анне Николаевне ее отпускали редко и неохотно. Жизнь ее проходила в сплошных огорчениях, слезах и чуть ли не взаперти. Варенька умерла еще совсем молодой, оставив дочь Лидию (скончалась в юности) и сыновей Сергея, Александра и Серафима. Этот-то Серафимушка, как мы знаем из писем Анны Николаевны, окончил свою короткую и горькую жизнь скоропостижно — на стуле в трактире. Видать, и он не сумел вписаться в жестоковыйный петровский стиль взаимоотношений.
* * *
…Сохранился один потрясающий по колориту документ — старинное, почти 170-летней давности письмо Якова Стечькина сестре Анне Николаевне — уже Жуковской, в котором речь идет о его намерении выкупить у сестер Анны и Варвары, которую он теперь именует «наша бывшая сестра, теперь г-жа Петрова», принадлежащие им части стечькинских имений. Это письмо — не только отзвук событий связанных с замужеством Вареньки, но и живой портрет его автора — человека огромной физической силы и крайнего упрямства, самодурства и широты, — типичного русского «коренника», из того давно угасшего племени русских мужиков-коренников, следы которых теперь разве что в старых книгах да в архивах найти можно…
1847 года, июля 8 дня
Эх! Любезнейшие друзья напугали вы нас всех, особенно меня, своим сильным, могучим магнатом стариком Петровым. Как представил себе, что стуканет он волшебным своим костылем, да турнет всех насчет имений, да приберет к рукам, вот тебе бабушка Юрьев день, скажет тогда… ну да я придерживаюсь всероссийской пословицы «Бог не выдаст, свинья не съест», и в надежде на оно, отдыхаю от испуга, принесенного вашим письмом.
Вы пишете, что желаете продать нам братьям Вашу часть из имения за 12500 рублей. Мы на оное согласны, но это не иначе можно сделать как в сентябре месяце. Причина этому Егор Иванович, который коротко знает про дело Вороновой… Как вы знаете мы до сих пор мы не введены во владения ея наследством, но я предполагаю, что два месяца не составит разницы…
Желали бы очень, что бы часть ваша осталась в роду нашем, но если найдете выгодным отдать магнату Петрову, как ты пишешь сестра, то я, отчего не прочь…зависит это вполне от вас. Но предполагаю, что продажею нам части будет соблюдена, хотя не вполне, но половинная часть воли покойного Батюшки, скончавшегося в 1835 году: замечательный год для братьев, а в особенности для меня, бывшего 16 лет мальчишкой, но понимавшим все и сохранившим все в памяти до самой малой подробности и до сих пор, не сочтите Анна за упрек или за что-нибудь иное, это воспоминание о прошедшем в котором я должен дать отчет братьям пришедшим в такой уже возраст и отдал уже Николаю, который после оного в восторге от теперешних милых и родственных расположений бывшей нашей сестры, а теперь г-жи Петровой, да, a propos, не возьмешь ли ты, Егор Иванович, труд передать Г-же Петровой, не благоугодно ли и ей продать свою часть имения, чем бы она много обязала всех нас, да хлопотать и платить бы было заодно, да и сочлись то мы бы лучше с тем скорей.
Впрочем, как хочет, уведомь пожалуйста об оном, а ты Егор Иванович, приезжай к концу месяца и деньги в руки, да не забудь взять полную доверенность на продажу от жены. Прощайте друзья, желаю вам всего лучшего и истребления страха к сему могущественному старцу, и стоит только придерживаться моей наилучшей пословицы; целую ваших милых малюток. Остаюсь навсегда ваш брат
Яков Стечкин
Благие намерения братьев относительно собирания наследственных имений ничем толковым не увенчались: Яков Николаевич Стечькин проиграл свое родовое имение «Плутнево» в карты. И другие братья Анны Николаевны постепенно прожили свои состояния и земли, ничего не оставив наследникам. А наследники имелись: у Якова Николаевича были два сына — Николай (Стародум) и Сергей (революционер и писатель-фантаст Соломин), и две дочери — Любовь (писательница) и Анна. Все они весьма бедствовали. После потери состояния и родовых имений сыновья пытались самостоятельным трудом как-то встать на ноги, дочери уехали в Москву. Там самая младшая из них Анна без всякой помощи и средств, тяжело заболела и очутилась в больнице. С этого момента и до конца ее жизни заботиться о ней стал двоюродный брат — Николай Егорович Жуковский. В одном из его писем родным есть несколько строк об Анне:
"Виделся с Анною… Она вышла из больницы и поселилась в очень плохих нумерах на Рождественском бульваре, в ожидании присылки денег, на которые могла бы ехать в Ромны. Разумеется, эта присылка затянулась, и бедная Анна оказалась в горьком положении, так как хозяйка стала ее теснить и гнать за неуплату из нумеров. Я оказал ей маленькую помощь, она такая худая и горькая…"
Взял на себя Николай Егорович Жуковский и заботы о двоюродном брате Серафиме Петрове. После смерти матери ему был выделен собственный капитал из ее наследства — несколько тысяч. Но братья, распоряжаясь деньгами, ничего Серафиму не выделяли и вообще, как мы уже говорили, жестоко с ним обращались. Запой Серафима был неизлечим, он крайне бедствовал, голодал, опускался все ниже. Кроме Николая Егоровича за помощью обратиться ему было не к кому…
«…Недавно получил письмо от Серафима, который пишет, что лежит в Черкутине с опухшими ногами и просит прислать 40 р., которые и были мною высланы…»
«…Серафима свез в Васильки. Мы порешили вместе с Сашей и Сережей (родные братья Серафима — прим. авт.) построить ему у пруда флигель (руб. за 300), в котором он поселится с нянькою. Саша обязуется выплачивать в месяц 30 р. (20 — нянька и 10 руб. Серафиму на выпивку). Не знаю, что из этого выйдет…
Ничего путного из этих благих намерений братьев не вышло. Тогда Николай Егорович настоял на разделе наследства братьев и взялся быть опекуном Серафима. Нелегкий это был крест. Мария Егоровна (старшая сестра Николая Егоровича — прим. авт.) — писала сестре Вере из Москвы осенью 1886 года:
"…Перехожу к печальному повествованию о Серафиме… Ночною порою, часов около трех, когда мы все спали, раздается звонок, затем сильный стук в дверь, за которой слышен отчаянный вопль. Коля в испуге вскакивает сам, открывая дверь, два человека втаскивают Серафима, прикрытого лишь драным одеялом… Коля воспринял его в свой халат…"
Серафим, как известно из письма Анны Николаевны, внезапно скончался осенью 1888 года сидя на стуле в трактире. И Анна Николаевна, и Николай Егорович о нем очень скорбели, для них он был, прежде всего несчастное и больное дитя рано умершей Вареньки. Николай Егорович писал Александру Александровичу Микулину (мужу младшей сестры Веры — прим. авт.):
"…Сообщаю печальную новость: Серафим скоропостижно скончался в Черкутине. Вчера телеграфировал об этом Сереже а сегодня высылаю 100р. Саше Петрову на погребение. Когда Сережа приедет в Москву, то сдам ему остающиеся у меня деньги Серафима…"
* * *
При жизни родителей старшие дети Стечкиных получили вполне достойное, типичное для тех годов домашнее образование: они отлично знали французский язык (Анна Николаевна владела еще несколькими языками), музыку, рисование, научились они так же правильно писать по-русски, благодаря урокам русского студента Силина — репетитора мальчиков. Девицы, кроме того, искусно вышивали шелками сложные композиции. Воспитывали их в духе православной церковности, в строгости; все время они проводили на детской половине, на антресолях со своими гувернерами и гувернантками. Сходили вниз лишь когда их звали — ко времени обеда. Не смели сесть за стол раньше родителей. Должны были молчать и лишь отвечать на вопросы. Запрещалось говорить громко, выходить из дома без спросу и т. д. Детей приучали к полному повиновению, выдержке, к упорным занятиям. Целый день у них проходил у них за уроками.
Но даже последовательное и тщательное, и твердое воспитание (один из главных идолов, которому молились и на которого уповали в России в XVIII и XIX веках) не достигало желаемых целей, — трудно одними человеческими усилиями справиться с глубинными повреждениями и тем более с тяжкими грузами наследственности. На то потребно великое соучастие Божие, поспешествующее человеку, уже начавшему познавать всю опасность своего положения, более глубокое духовное воспитание. Но кто в миру — уже и тогда, не говоря уж о временах более поздних, стал бы учиться у святых отцов православия? Как же, как же, мы ведь не в монахи родились, — возражали бы нам таковые миряне.
Сколько ж было говорено на эту тему — и как! — ни кем-нибудь, а таким великим и богодухновенным златоустом, как святитель Филарет Московский. Сколько слов и проповедей было им сказано за многие десятилетия его служения на московской кафедре… Говорил царям и дворянам, говорил купцам и мещанам… Но тщетно звенело его спасительное слово, звавшее оборотиться к истинному духу и сути Евангелия, к аскетике как к самому насущному, спасительному черному хлебу для жизни человеческой…
Где уж было взяться таковой высоте и чистоте духовного понимания в среде тогдашнего дворянства и просвещенного купечества, уже донельзя замороченного абсолютно чуждыми влияниями. А потому уже тогда отфильтровывал народ для себя в Евангелии то, что было, по его мнению, для его жизни пригодно, а что-то другое оставлялось лишь для избранных…
На фотографии работы Екатерины Кожуховой — вещи, принадлежавшие Анне Николаевне Стечкиной, вывезенные ею из имения Стечкиных «Плутнево».
Часть II. ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКИ
Глава 5. Два языка во утробе твоей
«В начале жизни школу помню я…». Помню в самом начале моей церковной юности — иным это время я и не мыслю, потому что именно эта серединная полоса жизни, пригнетенная долу неподъемными скорбями, искушениями, ошибками и цепной реакцией трудностей, была для меня в то же время как первый ликующий небесный просвет весны, как второе рождение и пробуждение сердца, как «осуществление ожидаемого» (Евр.11:1) и уверение в невидимом.
До тех пор я жила с покорно усвоенной мыслью, что в э т о й жизни никаких «осуществлений» быть не может (во всяком случае для меня), разве что в редком и дивном, случайно ниспавшем откуда-то с пренебесных вершин в нашу никчемность подарке-сне, после которого день-два ходишь очарованным и охмелевшим, а потом возвращаешься, как ни в чем ни бывало, «во своя си».
Оказалось, что может быть такое, еще как может.
…Я тогда провинилась. Уверенная, что действительно нуждаюсь в отдыхе, однажды сама в себе решила, что в субботу останусь дома и не пойду в храм ко всенощной. А на другой день после литургии Духовник подозвал меня к себе. В ту первую пору моего погружения в «правильную», как он выражался, церковную жизнь, Духовник очень тщательно и строго приглядывал за мной, зная как опасно, особенно для таких, как я, расслабляться, жалеть себя в усталостях и болезнях, давать волю своему не только унынию, но даже и печалям. Он хотел, чтобы я не просто постигла греховную подоплеку этих безбрежных печалей, но преодолев, пришла к более глубокому пониманию смысла жизни, который всегда очень прост — доверие и послушание Богу… Хотя, ох как, труден путь к этому послушанию.
«Мы не свои», часто и в е с е л о повторял Духовник это слово апостола Павла (1Кор.6:19–20), а вслед за ним и Блаженного Августина: «Для Себя создал Ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя».
Но как это — «успокоится, когда найдет»? Эти слова тогда еще не узнавались мгновенным откликом сердца, потому что отклик может дать только свой собственный, пусть еще малый, но уже подлинный д у х о в н ы й опыт.
За мое саможаление и пропущенную всенощную Духовник метнул в меня свой знаменитый грозный взгляд и жесткое отеческое слово, которое, в отличие от упомянутых предыдущих, тут же отозвалось в моем сердце: «Смотри, погаснет огонь!». Духовник прекрасно знал (и я уже тогда это и сама понимала), что первый Божий призыв, как вспышка огня, мощно влечет человека к Богу, но если не возгревать в себе ревностно и с большим напряжением этот огонь, он быстро опадет.
Но вот в чем тут была загвоздка: сердцем-то я от слов его похолодела (пребывающее в покаянии сердце быстро вырабатывает условный рефлекс о ж и д а н и я всезаслуженных нами Божиих гроз), но ответила-то ему п р о с е б я совсем иначе (так часто бывало — Духовник мне вслух что-то говорит, а я ему тут же лихо п р о с е б я возражаю, хотя и знаю, что он «молчание» мое, скорее всего, слышит и даже слышала сама, к а к он его слышит…).
«Ошибаешься! — восперечила я ему п р о с е б я, — вовсе не вспышка огня привела меня сюда, а огонь, который всегда был со мной, даже тогда, когда я не догадывалась о его существовании. Теперь же я знаю, что был он со мною всегда, и что такой огонь не может вот так загаснуть…».
«Смотри… «От Господа стопы человеку исправляются» (Пс. 36:23), — сказал мне тогда духовник. И был, разумеется, прав.
Знал ли он действительно то, что не вспышка, но стена огня стояла за моей спиной, и дорогу назад она навсегда выжгла? Вот вопрос, который меня тогда занимал. Никакие милые сердцу картины детства и дорогих близких, ни реальная тогдашняя оставленность, — всегдашняя причина душевных ностальгий, ни воспоминаний о былом, когда еще были все живы — и люди, и надежды, ни искушения лотовой жены, жаждущей оборотиться ко временам полноты своей земной жизни с ее теплыми радостями: «Не поздно, ты можешь еще посмотреть / На красные башни родного Содома, / На площадь, где пела, на двор, где пряла, / На окна пустые высокого дома, / Где милому мужу детей родила» — уже не имели надо мной силы.
Ужас возвращения в прежнее, в жизнь без осязаемого Его присутствия, без предания себя в руки Его, без упования на Него и только на Него, жизнь в постоянных полубессознательных поисках ответов среди сотен тысяч суррогатных вариантов, предлагаемых безумным и самонадеянным миром, тупики сердца и ума, — все это вырастало в огромный и страшный соляной столб, воплощающий для меня ужас обычной человеческой жизни, в которой люди сами себе «свои», а не Его.
И только отдельные редкие точки высвечивались вдали: там и те, где и когда не заметить присутствия Его Промысла в моей жизни и в жизнях рядом было просто никак невозможно…
* * *
Не было человека, который бы взяв за руку, подвел бы меня к вратам храма, или хотя бы сказал душеспасительное слово, хотя кому-то рядом везло на таковых чудных посланцев. Хранилась дома большая Синодальная церковно-славянская с русским переводом Библия, кстати, она была чуть ли не единственным, что удалось спасти из дома бабушки Веры в Орехове. Ее привезла мама. Я открывала ее и читала наугад. Была русская литература. Возможно, было что-то еще, что трудно определить, но что можно было бы назвать почвой. Духовник же всегда говорил о нас, людях, вернувшихся в Церковь во второй половине XX века, как о вымоленных предками. Боюсь исказить его мысль, но в свое время я поняла ее так, что они каким-то образом вымаливали нас там, чтобы мы, вернувшись к Богу, смогли своими молитвами помогать в свою очередь им, там жаждущим теперь уже нашей молитвенной помощи… Как бы то ни было, мне передалось от него это его святое слышание нашей связи с отошедшими ко Господу, их воздыханий и беззвучных прошений.
«Мы не свои»… В свете этого слова не возможно было не думать об истаивании нашего рода. Четыре сына было у прапрабабушки Анны Николаевны Жуковской. У старшего Ивана было двое детей — сын и дочь. Сын Георгий погиб в Цусиме в 21 год бездетным, дочь Мария, хотя и вышла замуж, но детей не имела — она была «обетная монахиня» — ее мать, когда она только родилась, уже обещала одну из своих дочерей Господу. Машура и стала монахиней — игуменией Русского Елеонского Вознесенского женского монастыря в Иерусалиме.
У Николая Егоровича было двое внебрачных и усыновленных детей — Елена и Сергей — но они почти одновременно с ним безвременно скончались очень молодыми. Дочь — от скоротечной чахотки, сын Сергей — в 24 года от перитонита.
У Валериана Егоровича, женатого, детей не было. Младший Володя, умер от дифтерита в 19 лет. Старшая дочь Мария — после неудачного сватовства приняла обет безбрачия, скончалась девушкой, живя только для семьи. И только самая младшая — Вера Егоровна оставила потомство — мою бабушку Катю, ее сестру Веру и сына Александра. Бабушкиным единственным потомством стал автор этих строк. У Александра родился сын — тоже Александр, у которого в свою очередь родилась одна дочь София.
Вот и все… И разве не Божиим перстом были положены все эти пределы? И разве случайно то, что осталась одна бабушкина внучка, которой бабушка смогла оставить архив и память, но сыновьям потомства в продолжение рода Бог не дал. А внучка была «попущена», возможно, вот ради этого самого помянника, а он, возможно, ради какого-то поучения, которое нужно было вынести из истории рода, и сохранить для других. Вопрос в том — какое?..
Размышляя над этим вопросом все чаще мне стала приходить на ум антиутопия Брэдбери и 451 градус воспламенения бумаги. Для чего-то и для кого-то, значит, должны быть записаны и сохранены и наша родовая память, и уроки жизни, о которых она говорит еле слышно в наших сердцах. Значит, еще не конец? Значит, Бог благословляет наши труды по осмыслению жизни — и своей собственной, прежде всего, но и не только своей, потому что мы — это не только мы, но и все, кто были до нас. А поскольку связь физическая людей строится не только по вертикали, но и по горизонтали, то мы — это все…
Но каким должно быть это осмысление? Конечно, молитвенное. В любви. Омовение молитвой человеческих жизней — ближних и дальних. Пока не поздно и для него, и для меня, ибо второй вариант ближе к Брэдбери. Тогда тем более следует торопиться, или, как учил замечательный старец схиархимандрит Серафим (Тяпочкин), у которого, наряду с другими духовными отцами окормлялся и мой Духовник, «поспешать неторопясь»…
* * *
Оборачиваясь назад вижу во всем водительство Божие, как Сам Господь вел, как Сам «пропускал» через жизненные «университеты», попуская глубокие и долгие испытания, чтобы сердце само познало и научилось великому смыслу тех апостольских слов: «мы не свои».
Как я, к примеру, обрела духовника? Я долго и слезно просила о нем, искала, приноравливалась к разным храмам, благо в то время мы переезжали с места на место; я вглядывалась и вслушивалась, и однажды приняла решение остаться в храме святителя Николая в Клениках, что на Маросейке, где все было овеяно для меня духом святого и праведного московского старца батюшки Алексия Мечева, потому что именно он — вслед за преподобным Серафимом Саровским и Амвросием Оптинским был одним из первых отцов, которые преподали мне самое первое и самое сильное ощущение духа Православия.
Я-то решила, но Бог рассудил иначе…
Со временем мне все чаще стали бросаться в глаза странные совпадения, свидетельствующие о том, что жизнь наша строится как бы по некоему тайному чертежу, который притом часто вовсе не совпадает с нашими желаниями. Вынужденная покинуть родное Замоскворечье, я долго пыталась каким-то образом вернуться туда жить. Искала разные пути и способы, но не получалось ничего. Зато география наших скитаний-переездов по Москве складывался словно по явному чертежу: к примеру, когда-то в юности начинала работать в школе у Серебряного бора. И вот прошло много лет — и я попала жить именно в эти края… Когда-то проезжая осенью по Каретным переулкам, дивясь их московской тишине и уюту (давно и это было) обмолвилась: вот бы здесь жить, да никогда этому не бывать… И вот там-то именно мы и очутились спустя сколько-то лет.
Точно так же произошло и с духовным моим «портом приписки». Расскажу…
В детстве я очень любила увязываться за мамой в ее хождениях «по делам». Она была скульптор-монументалист, а это значит, что ей нужно было ездить на какие-то дальние окраины за специальной глиной, а потом к мастерам-отливщикам и формовщикам из гипса и бронзы… Я уставала, но путешествия были замечательные! Ведь это была т а Москва, подлинная, дивная и в своих самых окраинах, где тоже цвела наша русская жизнь: во дворах старых больших двухэтажных деревянных домов еще с печками и трубами играли на гормониках недавно вернувшиеся с фронта еще совсем молодые, мужички-инвалиды в гимнастерках; тут же собирался народец у большого дощатого стола в пыльном дворе, кто-то приносил граненые стаканы, кто-то патефон, — двор-то был общий, родной, ведь так и говорили тогда: родной двор. Жизнь была устоявшаяся, не перевернутая, многие в этих дощатых домах пережили бок о бок войну. Все друг друга знали…
И вот уже на всю московскую округу, на все соседние голубятни, на всю эту горькую и сладостную и очень красивую послевоенную нашу жизнь — красивую, потому что подлинную красоту и цену жизни обнажила сама страшная война и страдания, лился чудный голос Шульженко, певший «О голубка, моя, как тебя я люблю…»:
О, голубка моя, будь со мною, молю, В этом синем и пенном просторе, В дальнем родном краю. О, голубка моя, как тебя я люблю…Они танцевали, стучали стаканчики, а я смотрела, как подклевывали крошки на столах и в пыли московские воробьи, как развевались оборки на легких платьицах худеньких женщин, — все тогда почти были худыми, поджарыми с впалыми щеками, и не могла оторваться от этой картины цветения жизни и любви. А сколько там было мне лет тогда… Мало совсем. А ведь все чувствовалось и понималось…
Такими ведь были и мои родители, прошедшие войну: мать хирургической медсестрой у Бурденко — а это какие же были страшные ранения, — черепные, челюстные… Смотреть страшно, не то, что ухаживать, но я знала и чувствовала по рассказам не только матери, но и других, что сестра она была поистине от Бога: умела утешать, умела повеселить, а руки — руки какие были! И я помню, как она ловко и красиво перевязывала и мои детские ссадины и раны, как ходила за мной, когда я болела, как засыпала я щекой на ее большой, сильной скульптурной руке, и как она могла, уставшая, так сидеть рядом и не один час… В чем была тайна ее силы и великодушия? А в ней действительно просыпалось, как вспыхивало, мужество и удивительно укреплялась бодрость, когда подступало что-то очень опасное, роковое, когда другие нередко опускали руки… Впрочем, это было у нее от бабушки, а у бабушки — от ее бабушки Анны Николаевны, а у той от ее бабушки — Настасьи Григорьевны.
…А папа прошел с автодорожными частями до Берлина и еще год после войны служил в Потсдаме военпредом. Вернулся в 1946 году в одной гимнастерке и в шинели, из которой ему же потом перешили зимнее пальто, с двумя железными солдатскими раскладушками — много лет они служили нам верой и правдой. Он был абсолютный бессребреник.
…Как я любила наблюдать за ними, молодыми, когда они собирались сходить вечером в кино на танцы в наш соседний «Ударник». Мама доставала свое единственное шелковое платье в мелкий горошек, душилась «Красной Москвой» (подарок родных), надевала туфли на каблуках (но модницей она никогда не была, в ней всегда жило больше мальчишеского, детского, ребяческого…) и они, счастливые, сбегали от нас с бабушкой танцевать. Папа умел это делать изумительно, поистине с довоенным шиком, достойным его… сапог и гимнастерки — ему еще очень долго не получалось поменять свой внешний вид, о чем он очень-то и не переживал. У него было чувство радости жизни, при всей его непритязательности и скромности. Его корили родственники, что он не честолюбив и умрет инженером. Так ведь и случилось — он за год сгорел от рака всего в возрасте 62 лет… инженером. А ведь был всю жизнь очень здоровым человеком, замечательным спортсменом, никогда не болел. И вдруг — рак желудка. «Это все шрапнель», — сказал он тогда про военную солдатскую кашу, которую, кстати, любил и просил варить ее себе и в мирное время почаще. А желудок не выдержал. Умирал отец тихо — как жил: никому никаких неудобств. Когда он впал в кому — мы с мамой сидели с ним рядом. В какой-то момент мама вышла. А я осталась одна, и Бог сподобил принять последний вздох отца, — я в и д е л а, как душа рассталась с телом, видела это последнее дыхание…
Папа, увы, не был крещен — во всяком случае, мне об этом не было известно. Вскоре после его кончины я увидела его во сне во всем белом, радостного, идущего ко мне навстречу… В руках у него была буханка черного хлеба.
* * *
Но возвращаюсь к потерянной нити моего рассказа… Впрочем, так ли уж потеряна она? Рассказ мой идет от родителей земных — к отцу духовному, а от него и выше… И все-то оказывается очень тесно связанным. И вот пример…
О местах моих детских с мамой поездок по окраинам по ее делам я не помню ничего, кроме одного только места, поразившего меня своим ужасом. Это был изуродованный, черный и страшный Новоспасский монастырь. К тому времени, это был уже, наверное, не концлагерь, где в подвалах всю войну каждую ночь расстреливали, где были разрыты и искорежены все склепы и загажены настолько, что молодые монахи, расчищавшие этот ужас в 1991 году, плакали…
Тогда это был уже жилой черный «клоповник», весь забитый, заселенный — включая древний Спасо-Преображенский собор — нижний и Покровский собор — верхний, людьми: там нигде не было живого места — перегородки, копоть, керосинки, белье, дети — жуткая теснота и грязь. Пьяные вопли, ругань и крики, и ни метра свободного, а вокруг — территория, где было кладбище монастырское, все разрыто и переворочено — люди искали в могилах ценности. И стены монастырские тоже были черные.
Но острее всего помню по малости роста своего близко увиденные и особенно поразившие меня ступени паперти — старинные, узорно-литые, чугунные, и тоже черные… Почему-то они меня особенно напугали и врезались в память. Наверное, чтобы я их мгновенно вспомнила — как в свете фотовспышки, оказавшись там во второй раз уже на другом конце жизни.
Каково же было спустя почти сорок лет вновь очутиться на этих ступеньках, да еще в такую минуту моей жизни. Чуть ли не насильно, можно сказать не без обмана притащила тогда меня на встречу с архимандритом моя знакомая — не предупредив меня, она договорилась с ним, что он меня примет и поговорит со мной в определенный час. Мне уже деться было некуда.
…Это был день Празднования Успения Божией Матери. Я побывала на литургии в «своем» храме на Маросейке, причастилась, потом, мысленно ворча на свою знакомую, поехала в Новоспасский. Назавтра у меня был очень трудный день и я не знала, как мне его пережить: это были сороковины по самому дорогому мне человеку…
И потом я ведь вовсе не хотела переходить к архимандриту из Клеников, где меня так тогда утешили, так помогли мне в дни моей великой скорби, все внутри меня сопротивлялось этому насилию, а тут еще и вспомнилось детское посещение черного монастыря и эти ступеньки в храм… Нет, нет и нет, — говорила я в себе. Но все закончилось тем, что с того дня я там и осталась, в Новоспасском, обретя духовного отца, свою духовную колыбель, и все то, что ныне имею, если имею — я получила там.
А привела меня туда в первый раз — в пять лет — мама…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой: Новоспасский монастырь — в наши дни и в 1956 году (фотография А.С. Потресова). Родители автора — мать и отец (крайний справа) в мае 1944 года под Нарофоминском, — неожиданная встреча во время фронтовой командировки.
Все дети Николая и Глафиры Стечькиных были очень одаренными и изрядно по тому времени образованными. Но Анна одна была на особицу: походила она разве что на бабушку Настасью Григорьевну, ту, что хладнокровно командовала тушением пожара из своего окна на втором этаже своего Никольского дома что в Воронежской губернии, где в подвалах еще хранились бочки с порохом — ужасы Пугачева были реальным воспоминанием детства и юности Настасьи Григорьевны.
У Анны было то, чему и следов не наблюдалось у братьев и сестер: душевная ровность, недетская рассудительность, цельность, — такое дивное и неизъяснимое сочетание незлобия и незлопамятности и подлинной доброты — не елейной душевности, но доброты, действительно желающей добра другим и содействующей в меру сил его осуществлению и при том твердости характера, — часто ли подобное встретишь? Братья и сестры при всех талантах были совсем иного замеса: пылкие, своенравные, рабствующие своих прихотям и порывам, осмыслить которые не всегда успевали до их свершения.
Вот и Николенька — третий ребенок в семье Жуковских, выделялся среди братьев и сестер необычайно мягкой отзывчивостью сердца, особенным русским простосердечием, которым отличались все сказочные Иванушки да Емелюшки, и незлобивостью, конечно… А прибавить сюда милую веселость с добродушными подтруниваниями, что как-то особенно прижилось в семье Жуковских в его, Николенькин, век, да еще непритязательность и совершенную непадкость на приманки жизненных услад, — так вырисуется очень славный образ человека, с которым всем другим хорошо и не обременительно, даже и тогда, когда ему самому, быть может, и вовсе не легко…
Но не в Николеньке усматривала Анна Николаевна осуществление своих материнских чаяний и семейных надежд. Николенька был слишком прост, зауряден и как-то даже умом вроде бы не расторопен. Не то — Иван…
Ваня был и красив и силен физически, и с раннего детства искрился успехами и в науках, и в художествах, и в словесности, и даже в искусстве дендизма, которого во времена его юности в таких патриархальных русских семьях, конечно, отродясь еще не знавали. Зато позже он все-таки попал именно в такую — а ля англез — обстановку. И пришелся ко двору без особого труда…
В отличие от смешного Николеньки, Иван отнюдь не страдал застенчивостью, держался свободно, изящно, умел покорять. К тому же у Вани никогда не было таких нелепых слабостей как рассеянность, в отличии от бедного Коли.
Жизнь обещала любимому первенцу Анны Николаевны широкую дорогу, да и сам он поджидал встречи с будущим вполне уверенно. Одна только была незадача: — весьма ощутимая недостаточность средств в семье Жуковских, которых так недоставало для красивого выхода на столь широкое жизненное поприще…
* * *
Кто усомнится, в том, что нет ничего труднее, как узнать о себе волю Божию, или, как говорят люди маловерующие, голос судьбы. Гаданья на кофейной гуще — немощь бедного человечества, живущего как одинокий лист на дереве — не ведающий, когда опадет…
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля eго, и в законе Его поучится день и нощь. И будет яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист eго не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет» (Пс.1:1–3).
Но чтобы погрузить свою волю в Закон Господень, надо ведь отказаться от своих «законов»… А это для всякого человека подвиг из подвигов и очень узкий путь — уже не бывает…
Если же все же решится человек на таковой подвиг, а только он и может доставить ему заветное с о в е р ш е н с т в о, — то это, как правило, дело не дней, но многих и многих лет высокого отреченного жития. Однако и в подвиге живущий, но еще не достигший, знает, как трудно не ошибиться, прислушиваясь к тихому голосу Промысла о себе. Каждый твой вздох и взгляд, и слово сказанное и непроизнесенное, — экзамен и выбор: Тебя ли слышу, или вновь обманываюсь, по Твоей ли воле говорю, дышу, живу и действую, Тебе ли служу или… сбился с пути, который Ты мне когда-то начертал, а значит, на окольных дорожках встречу я диких зверей, огонь и топи… А, может, и с самого начала взял я не ту дорогу, не на тот огонек прельстился?
Трудно робкому и привыкшему не доверять себе. Трудно и сильному: он слишком самоуверен, слишком принавык сам себя слушать, сам вещать миру свои с о б с т в е н н ы е слова, а потому частоты, на которых можно было бы услыхать тихий голос Божий, обращенный к нему, он давно уже забил шумами своей самонадеянности.
«Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего, пасох овцы отца моего. Руце мои сотвористе орган, и персты мои составиша псалтирь. И кто возвестит Господеви моему? Сам Господь, Сам услышит. Сам посла Ангела Своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазания своего» (Пс. 151:1–3).
Чем же так отличился тот «юнший» среди братьев пастушок, почему, взглянув на сердце его, Господь выбрал именно его?
* * *
…Дело было в Вифлееме три тысячи лет назад. У старика Иесея выросли восемь сыновей В этот дом Господь и послал Своего пророка Самуила, ибо там Он усмотрел Себе царя. Увидев старшего Елиава, Самуил подумал: верно, это он. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я (смотрю не так), как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». И повторилось потом всё то же с остальными старшими сыновьями — и никого не избрал из них Господь (1 Цар.16:1-11). Тогда Господь повелел послать за младшим, который пас овец своего отца. Его привели: он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. «И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он».
Часто ли мы задумываемся, как и почему избирает Господь людей Себе на служение? Что особенного усматривает Он в их сердцах? Что усмотрел он в сердце фарисея Савла, ревностно-жестокого гонителя христиан, что прозрел в душе юного пастушка Давида, почему ненавистного сборщика податей мытаря Левия Матфея позвал «иди за мной»?.. Почему, наконец, из двух близнецов библейской Ревеки, жены патриарха Исаака, Господь избрал не первенца Исава, а вышедшего на свет, держась за пятку брата, меньшого Иакова? Почему еще задолго до рождения близнецов, отвечая вопрошавшей Ревекке (близнецы сильно бились во чреве ее, и она очень страдала), Господь сказав ей, что это близнецы («Два языка во утробе твоей»), предрек, что потомство младшего Иакова сделается сильнее потомства Исава, и «больший будет служить меньшему» (Быт.25:23). И даже не без хитрости «перекупленное» Иаковом первородство и не без обмана отца полученное родительское благословение (которое неотменимо) не изменило Божественного Промысла об Иакове.
«Еще страннее может казаться рождение от Исаака и Ревекки одним разрешением утробы столь непохожих один на другого сынов, как Исав и Иаков, — читаем мы у святителя Филарета Московского в его Беседе о благословенном рождении детей. — Два противоположных начала в одно время действовали в чреве ее: прирожденный грех Адамов и Божие благословение; одно усилилось в Исаве, другое превозмогло в Иакове».
Что же особенного было в сердцах этих избранников, чего не было у других, вполне возможно, более умных, ловких, смелых, способных и даже добрых? У мальчика Давида — особенная, от юности, любовь к Богу, которая и сподвигала его петь «Богу моему дондеже есмь», аккомпанируя себе на Псалтыри, — ненасытная любовь-алкание, из-за которой он не петь и не мог.
У Савла — по святителю Иоанну Златоусту, была особенная глубокая искренность и горячность сердца и именно эти качества стали доброй почвой для Сеятеля, мгновенно обратившего гонителя в Павла — своего истинного первоверховного апостола языков.
А Иаков? Почему он? Отчего одно дите во чреве матери благословляется, а другое — нет? Почему один становится пшеницей для Господа, а другой вырастает как плевел, — а плевел — это ведь большей частью не просто сорняк, а ядовитое растение — «плевел опьяняющий» — Lolium temulentum, те самые библейские "волчцы", которые по определению Божию, стала рожать земля Адаму после грехопадения и изгнания его из Рая.
Пшеница и плевелы — удивительный пример смешения добра и зла — главной отметины человечества падшего.
«Отчего так бывает, — однажды размышлял вслух наш многомудрый и опытный Духовник, — что тот, кто был поначалу по всем статям «пшеницей», со временем вдруг превратился в «плевел», а начинавший как «плевел», вдруг выравнился и стал как добрый колос пшеничный»?
Не потому ли, — думалось мне, — внешние проявления сокровенного в характерах этих людей обманывали, что смотрели на них не т е м оком, а значит, сами с самого начала и обманывались. Не "пшеница" или "плевелы" были виной, что не усмотрена была сразу в них их Богоданная суть, а те, кто смотрели «на лицо», а не на сердце. Тем более, что не только во чреве матери, но и еще и задолго до этого определял Господь устами Своих пророков предназначение имеющего явиться на свет Божий человека. Великое предназначение человека вовсе не означало скорого и легкого его обнаружения. Как пшеничное зерно должно умереть и произрасти колосом в темном и прикровенном чреве земли, так и человек: юного псалмопевца Давида ждали еще десять самых трудных лет жизни: непрерывные гонения, страдания, унижения и смертельные опасности, хотя он уже и был помазан и у ж е был царем. Так и Богоматерь, введенная во Храм трех лет от роду, долго была сокрыта от глаз мира во Святая Святых, так и святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн жил сиротой во младенчестве в пещере, хранимый Господом до времени, когда ему надобно было выйти на дело свое, о чем пел в свое время царь Давид: «Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера» (Пс.103:23).
Так и нашему герою — забывчивому и рассеянному Николеньке еще предстоял долгий и ничего великого не предвещавший путь к заветной цели — ему от Бога предназначенному деланию…
* * *
Коля рос спокойным, ласковым и здоровым ребенком. Это был худенький и смуглый как цыганенок мальчик, с тонкими и мягкими черными волосами, бойкий, веселый, доверчивый, правдивый и, порою, нежный, как девочка; отличался упрямством, от раз задуманного не отступал, но при том был болезненно застенчив, уговорить его выйти в гостиную, когда приезжали гости, было очень трудно.
Притом шалуном Николенька был изрядным, изобретательным: нашалит обычно, завяжет впереди рубашечку узлом, и ну скакать по комнатам. Раз как-то, в канун большого церковного праздника, когда все в доме были погружены в хлопоты, — собирались всем домом ехать в Глухово ко всенощной, а назавтра ждали гостей, трехлетний Николенька тоже нашел себе интересное занятие: он потихоньку снял в большой зале и по комнатам все портреты дедов, затем, кряхтя и пыхтя — портретов было немало, аккуратно расставил их в гостиной на диване и на креслах, а перед ними возжег маменькины церковные свечи, которые предусмотрительно стащил из ее киота (куда ему, разумеется, заглядывать было строго-настрого воспрещено). И вот, наконец, обратили на него внимание, что он скачет на свой обычный манер перед мамашей, впереди узел на рубашке мотается, а сам весело напевает: «набедил, набедил, и не сказывает…».
Пошли за ним в гостиную смотреть, а там — страшная картина: полыхающие на креслах свечи (из маменькиных запасов), перед портретами прадедов, со всего дома собранных, а посреди всей мизансцены — раскрасневшийся от усердия, свечного жара и очень довольный своей затеей трехлетний «молитвенник»…
«Ну, конечно, пришлось малость посечь», — улыбаясь, обычно заключала Анна Николаевна свой рассказ: она любила вспоминать о детских проказах Николаши. Разумеется, ни в какие философские размышления на сей счет, она не пускалась. Баловство, да и только. Ведь ребятишки любят подражать тому, что видят вокруг: дети духовенства, к примеру, часто играют в священников или диаконов, а то иной раз и архиереев изображают, благословляя своих «сослужащих» сверстников архиерейским благословением. А потом, между прочим, очень часто сами становятся архиереями, хотя и не все, конечно…
Набожным был семейный быт Жуковских: привычно молитвенным, пронизанным живым страхом Божиим, церковностью, освящавшей весь круг жизни. Не трудно было предположить, что и Коля попросту в детском подражательном порыве тоже решил устроить уже знакомое ему богослужение, — нечто вроде родительской поминальной субботы. Но только ли так? Много ли мог значить мотив предприятия для столь еще малого дитя? Нет, это было деяние символическое. Можно даже сказать пророческое. Не иначе как по наущению Божию вознес тогда трехлетний Николенька свое непроизвольное, стихийное поминовение и похвалу своим отцам, знаменуя то, что именно он-то и станет для них «лучшей панихидой», самой яркой свечой и молитвой в память о них, а не только самым знаменитым и добрым потомком, но живым оправданием и увенчанием их трудов, скорбей и надежд перед Престолом Того, Кто, быть может, для сего-то и вызвал сей род из небытия…
* * *
Отец Павел Флоренский, священник и замечательный ученый-энциклопедист, учившийся у Николая Егоровича Жуковского в Московском университете, любивший и почитавший своего профессора, а затем и провожавший его в последний путь, на кладбище Донского монастыря, отпевавший его, в свое время много занимался метафизикой рода. Это была одна из излюбленнейших тем его размышлений. Род — есть единый организм, — утверждал о. Павел, — и имеет единый целостный образ, он имеет свое начало и конец во времени, свою цель движения и развития, стремясь к самому полному выражению своей идеи, своей задачи, данной ему Богом. Эту задачу рода должны выполнить особые органы рода — его энтелехия (от греч. — направление, «цель» и «имею», осуществленная цель бытия «обретение себя»), «благоухающие цветы или вкусные плоды» родовой жизни. Этими органами энтелехии рода и заканчивается цикл его жизни. Будет ли в дальнейшем потомство или нет — не важно. Оно может быть и даже дать начало новой ветви, новому роду, но это уже будет другая история.
«Всякая вещь имеет свое цветение, время наиболее пышного своего раскрытия, свое а к м е, когда она особенно полно и особенно цельно представительствует за себя, в ее четырехмерной, цельности. У всего есть во времени своя вершина, как есть наибольший размер и по каждому из прочих трех измерений» (П.А.Флоренский. Время и пространство).
Но вернемся к теме избранничества и того узкого пути, которым ведет такового счастливца сам Промысел Божий…
Иллюстрация: фреска «Древо Иесеево» из единственного в мире храма в честь царепророка Давида в Тбилиси(иконописец Лаша Кинцурашвили).
Фреска изображает родословие Христа по Иосифу, обручнику Девы Марии, восходящее к отцу Давида Иессею (Мф.1:1-17). К царепророку Давиду восходит также и генеалогическое древо Пресвятой Богородицы. Царь Давид изображен художником — иконописцем у основания родословного древа.
Николай Егорович родился 5(18 по н. ст.) января 1847 года в Орехове. Егор Иванович был в отъезде в Коврове. Туда ему Анна Николаевна и отписала о рождении второго сына:
«Сердечный друг Жорженька, Господь снова посетил нас свою великою милостью: послал нам на утешение и поддержку сына Николеньку».
…И сказала Ева: «приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1).
Столь же величественным и простым было и слово Анны. Люди, чьи сердца устроены без мудрований и сомнений, живущие детской неколебимой верой — всецелым доверием Богу, — и к жизни обычно относятся просто. А где просто — там, как говорил преподобный старец Амвросий Оптинский, Ангелов со ста. Такие люди еще водились в старинной России. Но даже и в те времена блаженные эти души были в редкость, отличались от окружающих, давно разучившихся остро слышать лукавство своей собственной души, и разъедающие ее помыслы мелких расчетов. О! Если бы только они могли услышать свое собственное молчание…
Достойно удивления, как же близко обстоят в человеческом сердце добро и зло, и как они взаимопроникают: и запахами, и атомами своими, — поди разберись! Однако все-таки Церковь учит вниманию и трезвению, как главному условию всякого духовного делания — тому самому слушанию самого себя в глубинах душевных. И как же это оказывается, трудно. Даже в церковной среде это «слушание» большей частью подменяется культивированием внутреннего бухгалтера — а простота-то, простота — где? Ангелы-то куда поисчезали?!
Вот и выходит, что у одного простота, как у Анны Николаевны и сына ее Николеньки — как дар Божий от рождения, а другому надо пройти через какие еще тернии и труды трезвения и внимания к собственным своим скрытностям, чтобы потом Сам Господь даровал эту желанную и чудную простоту, которая есть на самом деле ни что иное, как свобода. А ведь свободны были многие наши предки! Однако неспроста в людях говорилось, что второе-то — великим трудом заработанное, выше первого. Впрочем, мы совсем отклонились от курса…
…Вот и Анна Николаевна нехитрым своим в простоте сказанным словом, сама того не ведая, предсказала самое главное о своей будущей жизни, ведь именно застенчивый шалун Николенька и станет ее верной и всежизненной опорой, утешением и увенчанием всех праведных трудов ее столь долгого века. Но тогда-то она навряд ли предавала своим словам какое-либо особое значение и думала о будущем своих детей совсем иначе.
* * *
Крестным отцом Николая стал граф Валериан Николаевич Зубов, а тетушка Варвара Николаевна Стечькина, тогда еще не вышедшая замуж за «магната» Петрова — крестной матерью. Крестины Колины совпали с праздником Крещения Господня, и это тоже был знаменательное событие, которому родители придавали промыслительное значение.
А покамест он рос семейным «дразнилкой», — такое было у него прозвище, хотя все знали, что Коля — само добродушие:
Варя пестик утопил Его перовником отдули, Он и плакал и стенал, И хуже стал моченой дули…Варя — это был четвертый ребенок Жуковских Валериан: смешной добрый мальчик, толстый и неуклюжий, страшно любивший свою няню и… покушать. Однажды на мостках пруда Варя с удовольствием щелкал пестиком орехи, — но тяжелый старинный пестик взял, да и выскользнул из Вариных ручек и — плюх! — бултыхнулся в черные воды глубокого Тайнинского пруда… А пестик-то был бронзовый и мамаша навряд похвалит…
Глянь, а Коля тут как тут, — и сразу стих сочинил, и в дом понесся, приплясывая над Варюшкой посмеиваясь…
А бедного Варю, как пить дать, перовником отдули. О том и записи сохранились…
Вообще же по стихам, как впрочем, и по всем остальным творческим проявлениям первое место среди детей Жуковских всегда занимал старший Ваня. Никто не сомневался, что у этого умного, собранного, знающего, что он хочет, и так хорошо умеющего себя держать мальчика, блестящее будущее. Еще бы — с такой памятью, Коля о том и мечтать не может. Вот и в версификации с Иваном никто не может потягаться. И рисует Ваня чудесно, не хуже Маши, а она-то известная в семье художница. И по-французски Ваня говорит великолепно.
Маша — старшая сестра, она на три года старше Вани и на шесть лет Коли. Вот как она изображает жизнь Орехова в своем дневнике в 1857 году (Маше шестнадцать лет, а Коле — десять):
«Что я скажу о нашем времяпрепровождении? Мы по обыкновению учимся. Я начала ботанику, зоологию и физику. Риторика, к моему большому удовольствию, почти закончена; кроме нее, уроки очень интересны. Наши рекреации проходят весело. Альберт Р. (Альберт Репман — студент, учитель, репетитор детей Жуковских, очень много сделавший для формирования научной культуры Николеньки — прим. авт.) играет с нами и читает нам вслух. Мы с ним всегда говорим по-немецки; я уже постигла все тонкости этого языка.
Мои братья — Жан и Николя — часто ходят на охоту и приносят нам дичь, которую мы поедаем с большим удовольствием. В ясные дни мы делаем большие прогулки в сопровождении нашего учителя. В дождливые дни я читаю моего Расина и Корнеля или, сидя за пяльцами, слушаю чтение фантастических сказок Гофмана. Но самое приятное время — после ужина. Мама всегда доставляет нам новые удовольствия; мы устраиваем шарады, играем в colin-maillard (жмурки — франц. — прим. авт.). Альберт великолепен, он стал совсем взрослым молодым человеком. (…) Мои братья стали очень умны, они — мальчики элегантные, вежливые, всегда со своим учителем, который делает им все приятное, если они послушны, и наказывает их за безумства…»
Хотя юная и мечтательная Маша в своем французском дневнике изображала жизнь мальчиков как сплошную идиллию, у Коли все-таки не все было гладко. К рисованию и музыке он был совсем не расположен. Любил копаться в механизмах. Но вот однажды привез в Орехово знаменитый плутневский исполин дядя Яков Николаевич Стечкин фисгармонию. Коля не выдержал и залез посмотреть, как устроена ее механика, да что-то нечаянно сломал. Альберт Христианович дело поправил, но дядя Яков был очень сердит и увез белобородовскую фисгармонию обратно в Плутнево — в тульские края.
Но где Коля первый, так это на охоте вместе с рыжим Кириллой Антипычем и его собакой Уймой. «Негодный мужичонка!», — отмахивается на Кириллу Анна Николаевна, поскольку тот и впрямь давно отбился от работы. Зато мальчикам он еще как годится в их охотничьих затеях. А тут еще и это замечательное старое ружье, что дядя Яков подарил…
На всю жизнь три брата — Иван, Коля и Валериан сделались страстными охотниками, а значит, и большими любителями и знатоками мира природы. Вскоре появились у них и свои охотничьи собаки Фауст и Фигаро — тот самый Фигаро, что потом уже на старости его лет будет нянчить маленькую Верочку, которую Анна Николаевна родила в 46 годов и ей уже не до малышки тогда было. Сыновья оканчивали гимназию в Москве, нужно было содержать два дома. Вести хозяйство и считать версты между Москвой и Ореховым.
…Пока же длилось еще это чудное погожее лето 1857 года: породистый сеттер Фигаро, тогда совсем еще щенок, летал по заросшим полянам парка, ныряя в травы как в волны, а семья тем временем весело усаживалась в квадратной аллее ужинать. Собирали на стол, горели цветные фонарики, о которых бились ночные бабочки. Всем было несказанно хорошо, потому что в тот день приехал домой отец, служивший управляющим в Жерехове. Обсуждались предстоящие именины Машеньки — 22 июля/4 августа н. ст на память св. Марии Магдалины, и удовольствия, которые ожидали детей…
Это были самые любимые вечерние сидения в парке за ужином аж до самой темноты, которая к концу июля уже не успеешь оглянуться, как заволакивала все вокруг. От стола на несколько шагов без лампы не отойти. Но все равно засиживались долго — уже и сырость ночная всех пробирала, и самовар остывал, а все сидели, пока, наконец, Анна Николаевна не выдворяла со строгостью полунощников домой.
Не за горами была осень, а с нею и крутой поворот в жизни семьи. Иван и Коля должны были ехать в Москву и поступать в гимназию. Коля грустил. Жаль было расстаться с Кириллой, собаками, охотой, с шомпольным ружьем, с родным Ореховым, но больше всего его тревожили мысли о грядущих испытаниях: снились бесконечные таблицы умножения и цепочки сложений, и каждый раз во сне как наяву под общий смех он безнадежно запутывался, терялся, краснел и — страдал… Коле совсем не давалась арифметика, он никак не мог считать…
* * *
Как и многие тогда дворянские дети Коля вначале учился дома — занимался с матушкой, потом с учителем. Но арифметическую аномалию Коли дома преодолеть не получилось. Теперь в гимназии она обнаружилась пред всеми со всей очевидностью. Как не бились с ним, но счет Николаю не давался, не говоря уж о таблице умножения. А тут еще и с памятью были серьезные нелады. Имел место какой-то врожденный изъян в мышлении Коли. Он старался, был не ленив и упрям, но ничего не получалось. Вскоре он стал постоянным объектом насмешек в гимназическом кругу. Учителя его ругали, ставили в угол, наказывали линейкой по рукам, а однажды дело дошло и до розг. Для такого доброго, чувствительного, в домашнем тепле и благородно воспитанного мальчика это наказание могло стать серьезным душевным потрясением. Пускай бы дома, но не от чужих рук. А теперь ему уже 10 лет и он в Москве — посмешище для всех.
Спасла от розг Николеньку неожиданно приехавшая в Москву из Орехова Анна Николаевна. «Как чувствовала!..» — воскликнула она, спешно снарядила Колю, и отправилась с ним на Сухаревку в Митрополичьи палаты к самому великому митрополиту Московскому Филарету (Дроздову), коего необыкновенно почитала. Бывая в первопрестольной, Анна Николаевна старалась не пропустить его архиерейских служб, услышать его высокое духовное слово; обращалась к нему за благословением по важным житейским и духовным вопросам. Вера в духовную силу святителя у нее была безграничная.
Митрополит Филарет принял благочестивую мать, внимательно выслушал ее сетования о неспособностях Коли, о возможности даже оставления гимназии. Однако реакция митрополита была для Анны Николаевны ошеломительной: Владыка положил руку на голову мальчику, благословил его, и твердо предрек матери, что ее Николушку ждет великое поприще, что он будет подлинным светочем русской науки и самой надежной опорой для своей матери.
…С того дня, с того мгновения учеба Николая Жуковского пошла совсем другим путем. А тут еще начали читать в гимназии курс математики замечательные преподаватели Малинин и его коллега Буренин — авторы знаменитого русского учебника алгебры и геометрии, выдержавшего множество изданий, по которому училось не одно поколение русских мальчиков. И Николушка ожил. Вскоре он стал у Малинина чем-то вроде ассистента: всем в классе помогал, разъяснял своим соученикам решения новых и трудных задач, подтягивал отстающих.
К тому времени, когда состоялась это промыслительная встреча со святителем Филаретом Анны Николаевны Жуковской и ее сына, многие Слова и речи митрополита Московского уже были опубликованы, и у Жуковских они, конечно же, имелись, тогда ведь не только романы, но и проповеди читали вечерами в семьях вслух, и, надо думать, что рано или поздно, быть может, уже в бытность его слушателем лекций любимого университетского преподавателя Василия Цингера, Николай Егорович и вспоминал чеканное слово святителя Филарета, которое можно было бы вместе с рассуждениями Цингера (мы приводили их в главе пятой) назвать путеводной звездой будущего ученого:
«Первое и всеобщее начало всеобщей болезни человечества, начало всякого несовершенства и несчастия, или иначе, начало всякого греха и наказания человеков, — говорил святитель Филарет в своем Слове 1826 года в день памяти преподобного Никона Радонежского, — есть неправильная мысль ума, и беспорядочная решимость воли, не смотреть более на невидимое, а смотреть только на видимое. Что называется падением человека (…) Это было началом зла в человеке… Если когда в исключение из сего правила, позволительно и должно со вниманием смотреть на видимое, то наипаче в тех случаях, когда видимое, как образ, как таинственное орудие … поставлено в предмет благочестивого внимания для человеков».
* * *
Так с благословения Божиего, преподанного великим святителем-старцем, в окружении высоко духовных наставников, при собственном благорасположении к таковым занятием, при усердном трудолюбии и даже благодатной помощи самой природной среды его становления, начинался путь Николая Егоровича в науку…
Однако до побед и открытий было еще очень далеко. Как и пастушку Давиду после помазания еще предстояли десять лет тяжелейших испытаний, так и Николаю еще предстояли неустанные напряженные труды, скорби и неудачи, постоянные сомнения, неудачные пробы себя в разных направлениях (в то время как друзья-однокашники уверенно шли в гору), очень скудная, довольно голодная и весьма холодная московская гимназическая, а потом и университетская жизнь.
Этот путь почти до самого конца ученья они шли бок о бок с братом Иваном. Сохранились их письма тех лет Анне Николаевне и сестре Маше в Орехово, которые удивительно точно свидетельствуют о глубинной духовной разности братьев.
Однако прежде чем письма заговорят, еще одно небольшое отступление, ведь то, что местами глядит на нас с этих пожелтевших страниц середины XIX века, не просто живо и по сей день, оно прочно скреплено с нынешними нашими духовными состояниями. К сожалению, здоровое, столь необходимое нам хотя бы как напоминание о должном, исчезает из жизни много скорее. Вот и приходится усиливаться искать его следы в прошлом. Впрочем, как и первые симптомы оказавшихся впоследствии смертельными заболеваний.
На коллаже работы Екатерины Кожуховой портрет Анны Николаевны Жуковской примерно тех лет, факсимиле писем Николая Жуковского из гимназии родным, и само здание 4 Гимназии на Покровке в Москве, которое стоит там и по сей день.
Полтора века назад Россия, как известно, была Империей православной. Но откуда-то ведь взялись в ней спириты, хлысты, нигилисты и прочая духовная нечисть? Н. С. Лесков писал, что русские, начиная с шестидесятых-семидесятых годов XIX века, повалили в спиритизм толпами.
Говорят, что причиной столь мощного распространения духовной порчи в России была «малоцерковность»: мол, большинство образованных людей до революции были и православными, и богобоязненными, но вот беда, от церкви стали отдаляться. Хотя обрядовая сторона веры соблюдалась еще довольно долго, но сердца-то уже «отиде на страну далече, и ту расточи имение свое» (Лк.15:13). Отходом от церковности и объясняют и сегодня многие то помрачение умов, которое к годам революции заполонило Россию.
От церкви отошли, но от жизни-то не убежать: тяготит она, давит необратимыми потерями и несчастиями, а как все это понести, если ты разучился обращаться к Своему Отцу Небесному и Утешителю, если истощилась твоя вера и высохло сердце и ум стал «превратным», и долбит в нем день и ночь один и тот же помысл: «нет ничего, нет никого». Поневоле бросишься поглощать рожцы «яже ядяху свиния»:
Безверием палим и иссушен, Невыносимое он днесь выносит… И сознает свою погибель он И жаждет веры… но о ней не просит.Трудно было найти к последней трети XIX века семью и причем не только в столицах, но и в провинции, где бы не плодилась и размножалась духовная нечисть спиритизма, ересей и сект. Духовная катастрофа была налицо: не только верхи, но и крестьянство с купечеством было духовно поражено самым черным мистицизмом и различными уклонениями от православия, свидетельствуя о назревавшей глобальной общенациональной катастрофе.
И по сей день мы все ищем в прошлом виновных в том, что случилось с Россией, а, следовательно, и пути спасительные мы ищем таким же точно образом — совне, но только не в глубинах своей собственной духовной жизни, — наши мысли текут по древу политики, ищут ответов в тайных секретах личностей государственного масштаба, в социальных процессах. Припоминаем императору Петру I насилие над церковной жизнью, предъявляем вины в духовном растлении общества разложившейся великосветской верхушке времен Татариновских кружков Александровой эпохи и позже тоже, ставшей переносчиком чумы масонства, каббалы и черного мистицизма, наводнившей Россию лжестарцами-католиками и пасторами-властителями дум….
Вопросительно взираем и на церковь воинствующую земную, много страдавшую под натисками мiра и постепенно терявшую «силу благочестия» (2 Тим. 3:5), которую, между прочим, апостол в другом своем послании определяет как «слово Крестное» (1 Кор.1:18). Почти полвека нес русскому миру это Крестное слово митрополит Московский Филарет, — и знати Петербургской и другим сословиям, — но слушал ли кто?
* * *
В семье Жуковских молились, еженедельно бывали на церковных службах, соблюдали посты, о внутренней вере Анны Николаевны уже говорилось. Достаточно добавить, что пока она была хозяйкой в доме Николая Егоровича (да и при дочери ее Марии, при внучке Леночке…) карт в руки не брали. Даже пасьянсов не раскладывали. Это было несовместимо с духовным строем жизни. Слушались Церкви. Все, чему учила столетиями Церковь, усваивалось с молоком матери, было не декларациями о принципах, а законами неписанными, вернее законами, написанными на скрижалях сердца.
Нередко задаваясь вопросом, отчего в переписке Анны Николаевны, ее супруга, самого Николая Егоровича, его сестер — совсем не чувствуется отзвуков полемики, которая теснила со всех сторон патриархальный склад русской жизни: этого всеобщего критицизма, недовольства, которое, разумеется, существовало и во времена Грозного и Курбского, но не в сопоставимых, конечно, масштабах.
У Жуковских в переписке до самых первых лет XX века жизнь в ее словесном отражении отнюдь не поменяла своего курса и строя, сохранила духовное целомудрие и спокойствие. Несомненно, читали и Тургенева, и Лескова, но отраженное кипение страстей в их романах как-то не затрагивало глубины сердец Жуковских, настолько сильна в них была опора веры, церковности — это сохраняло устойчивость жизни, а полемики и бури воспринимались как нечто случайно-преходящее. Могу с уверенностью сказать, что имели они такую веру, что она помогала им хранить себя «неоскверненными от мира»: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Иак.1:27).
И кроме всего прочего жили с ощущением, что «нас много, большинство», а разрушителей веры, воспаленных полемистов несравнимо меньше. Не было чувства тревоги. Разрастаться и крепнуть она стала к самому концу века XIX и началу века XX. Хотя подземные толчки задолго до этого слышали и реагировали на них духовные прозорливцы: святители Феофан Затворник и Игнатий (Брянчанинов).
Спустя почти век, не раз возвращаясь к мысли о написании этой книги, я представляла ее себе как попытку оглянуться через пропасть, разделяющую нас, на былую жизнь, понять и рассмотреть ее именно под этим углом зрения. Мои пра — и прапрадеды могли позволить себе жить, как жили их пра- и прапрадеды, хранить глаза, слух и душу от разъедающей человека рефлексии. Однако предощущение катастрофы все-таки проникало в жизнь все глубже и поколение дедов уже пыталось заглядывать в последние страницы романа ужасов под названием Судьба России. В отличие от их отцов и дедов они уже всецело погружались в мутную пучину, пытаясь найти себе там новое место и новый образ жизни. В этом было главное и роковое отличие их от поколения Николая Егоровича. Дожив до революции, он-то и не думал приспосабливаться. Для него было естественным жить как жил, оставаясь самим собой и не меняя взглядов, которые у него, как и у матери — были рождены и вскормлены верой.
Однако неверующему человеку или маловерующему (а есть и такая странная и весьма опасная разновидность человеческого душевного устроения) очень трудно представить и прочувствовать не одним усилием рассудка, но всецело — всем своим существом, а что это такое — иметь мирочувствие, вскормленное верой?
* * *
Много лет после моего ореховского детства у нас не было своего клочка земли. Для меня этот отрыв от стихии природы был очень прискорбен — даже в молодости, когда, казалось бы, жизнь засасывает человека в свой водоворот и ему не до пасторальных идиллий, — и тогда мое сердце тосковало о земле. Рождались дети, их надо было куда-то летом вывозить из города — снимать дачи, приземляться на время в каких-нибудь деревнях… И везде я безрассудно начинала копаться в земле и уезжая навсегда оттуда, оставляла многие «»гостинцы» хозяевам, в виде посаженных под осень цветов и кустов. С годами, по мере уничтожения старомосковской красоты и уюта, тяга к живому простору только усиливалась. Я заметила, что могу долго рассматривать картинки, фотографии русских пейзажей, погружаясь и вживаясь в этот почти уже виртуальный мир, и довольствуясь теперь хотя бы этим… Душевное голодание, алкание природы и земли, бесплодные мечты об оставлении города постепенно стали постоянной потребностью, но сначала мои старики доживали свою жизнь там, где привыкли, потом дети учились и по-своему видели будущее, — и мне ничего не светило. Мечта о жизни на природе превратилась в боль и залегла в копилку сердца наряду с уже целой коллекцией подобных опытов жизни.
Бабушка моя, в последние годы болезни смотрела на клочок московского неба в окно. А я, сидя за своим письменным столом, смотрела в окно на дальние и ближние купы старых высоченных московских тополей, которые рисовались на фоне серого с подсветами московского неба и благодаря высокому этажу и удалению от окна умудрялась почти не видеть домов, а только деревья и небо, и можно было даже думать, что ты не в городе. Это было для меня утешением и природозаменителем. Но вот однажды зарычали пилы и верха моих тополей спилили, оставив высоченные и голые обрубки, которые почему-то так и не захотели вновь начать жить по разнарядке.
Первая моя реакция на обрубки за моим окном была у меня отчаянная: как же на это можно смотреть, как же теперь я буду жить… Но скоро сработал внутренний навык (какая великая вещь, какое бесценное и спасительное свойство, вот только приобретается оно не за дешево…), тут же просигналив: «ничего, привыкай, не к тому еще привыкала…». И я успокоилась: нет старшей родни — все ушли; нет старой Москвы, — вместо нее серое, безобразное, лязгающее гигантское чудовище, картинка из адского сна, огромная свалка; нет Орехова, нет людей, хоть сколько-нибудь похожих на бабушку, нет тех, благоговейных и строгих в Боге, кто помогал тебе родиться в Церкви, вместо них пришли совсем другие люди, принеся с собой запахи, звуки и весь абсурд, лопающегося от неискоренимой злобы и «гордости житейской» уже совсем не русского мира, — так что ж теперь скорбеть о спиленных деревьях и страшных голых обрубках высотой с пятиэтажный дом…
Но вот однажды припомнились мне ранее часто слышанные мною слова Духовника: «Запомни, Катя, терпение без смирения — это катастрофа». А я как раз шла вдоль огромной и очень шумной трассы, и вокруг не было ничего, на чем можно было бы хоть на миг успокоить глаз — несколько чахлых запыленных деревьев-скелетов на обочинах, помойки и автозаправки, какие-то бункеры и ангары из алюминия или стали, искореженный, весь в дырах асфальт, закопченные дочерна дома, в которых — о ужас! — жили же, наверное, судя по занавескам и белью на балконах люди, груды старого кирпича за измалеванными заборами, и даже ни одной вывески хоть какого-то магазинчика или ларька. Уж не родных слов искала я глазами — «булочная» или «молочная», а хотя бы «минимаркет 24» или какая-нибудь «Симонна», — но и таких признаков живой жизни тоже не было.
И тут вспомнился мне один детский страшный сон — года три, не больше мне было тогда, если не меньше, а вот ведь не забылся же за всю мою жизнь…
* * *
Помню, тогда дядя мой привез из Германии «Виллис» (он там работал года два-три после войны), и решил нас с мамой прокатить по набережной Москва-реки. Поездку уже не помню, а отражение ее во сне вижу явственно, словно это было вчера. А снилось мне, как мы едем по набережной: серая река, серый гранит, серый асфальт и сплошным рядом стоящие огромные серые дома сталинской архитектуры на американский лад и ни одного деревца, ни одного человека, ни одной машины — вымершая страшная серая стена домов над гранитом набережной и холодными свинцовыми волнами водами.
Это был еще один мой «арзамасский ужас», который преследовал меня много лет, когда в детстве мне приходилось проезжать по некоторым вот так застроенным набережным Москвы. Позднее я стала лояльно относиться к сталинскому большому стилю, но это было уже другое вИдение. Сон-то был не про архитектуру…
И вот, когда я брела не «вдоль большой дороги» и не «в тихом свете гаснущего дня», а вдоль какой-то части третьего транспортного кольца Москвы под палящим нещадным московским солнцем и вспоминала тот детский ужас, ко мне вдруг пришла мысль — именно пришла, иначе не скажешь, потому что я никак над ней не трудилась, не стремилась ее обрести, она у меня вовсе не зарождалась и во мне не готовилась. Мысль была заброшена в меня как случайное семя ветром: «Вот и хорошо, что вокруг ужас, — говорила мне эта мысль, — и ничего страшного, что обрублены тополя, что в Москве уже жить стало невыносимо, — все к лучшему: пусть всему вопреки все цветет и ликует у тебя внутри — в сердце. Пусть там будет расти и шириться радость и свет и даже любовь к этому несчастному городу, к этому страшному асфальту и ангарам, и живым душам, попрятавшимся где-то за ними. Пусть огонь и свет будет в тебе — этого совершенно достаточно. Когда в нас есть этот огонь — он все начинает преображать и вовне».
И меня не просто тогда отпустило, не просто слетела тяжесть с души, но на место ее хлынула бодрость и даже ликующая радость, словно мне Кто-то Всещедрый быстро и просто в очередной раз подсказал самое простое и готовое уже решение главной задачки. Вспомнила и Духовника: «Не надо бороться с обстоятельствами, дорогие, — повторял он не раз в своих проповедях, — а надо их нравственно проживать».
Нравственно — по Заповедям, по Евангелию.
…Это была не в первый раз испытанная, но всегда необычная и несравненная радость, словесной передаче почти не поддающаяся: ведь я возрадовалась тому, чему вроде радоваться никак не могла, тому, что еще несколько минут назад и столько лет раньше меня глубоко угнетало: изуродованная Москва, обрубленные тополя, и многое другое из этого же ряда. Но в том-то и дело, что я по подсказке, посланной мне, познала в этих обстоятельствах посланный мне Крест, а приняв его — по подсказке же, — с радостью (отвергшись уныния), ощутила пусть в моей крохотной мере именно то, что и должен ощущать христианин, которому заповедано «всегда радоваться», — а это означает любить Крест Христов и кресты, которые Он посылает.
Крест Свой предлагает христианину Христос, а в несении Креста — дар Благодати, Любви Торжествующей, всегда торжествующей, когда мы принимаем с любовью посылаемые Им Кресты. Как у святителя Филарета: «Любовь Отца распинающая, Любовь Сына распинаемая и Любовь Духа Святаго Торжествующая».
В свете, просиявшем тогда в сумраке моего уныния, высветилась и суть того, о чем же хотелось сказать мне в этой главе. И оккультизм всех мастей, и волны критицизма, захлестывавшие Россию в XIX веке, и погружение в лабиринты рефлексий, под которыми оказалась погребенной русская стародавняя простота, — все это очень скоро вылившееся в чудовищное кровопролитие, было в своем основании пороком духа, пороком веры, которая ни больше, ни меньше, начала уклоняться от Креста (соответственно и от Христа), от подлинной «силы благочестия», суть которого — «слово Крестное», зовущее нас всегда вслед за Ним — сначала на Голгофу, а затем и на Крест. А люди всегда норовят выбрать легкие и окольные пути: покрути тарелочку и — получишь…
Отказом от Креста и недовольством обстоятельствами, предлагаемым Господом, и начинались всегда самые лютые эпохи Богоборчества…
Чем заболел, да от кого заразился, — это ладно… А вот как бы выяснить, к какой болезни — в особенности духовной — ты сам был предрасположен? Какие духовные микробы получил по наследству, и, будучи ленивым, невнимательным, проглядел их пачкованье, поскольку о душе толком не заботился? И, напротив: какие благие дары унаследовал, да за невежеством и упрямым своеволием своим не дал им жизни и ходу…
Что может быть интереснее и таинственнее, чем то, как человек смотрит на самого себя, каким он себя видит, как потом пытается в зависимости от этого видения и понимания выстраивать свою жизнь: что-то в себе укрепляя и возделывая, а что-то, если не перебарывая, то хотя бы о том сокрушаясь…
…Итак, мальчики Жуковские в феврале 1858 года поступили в Москве в IV гимназию: Иван — в третий, а Коля — в первый класс. Общими для всех предметами были: Закон Божий; Русский и славянский язык (!); математика; Физика и математическая география, история всеобщая и русская, география, немецкий язык, французский язык, латынь и греческий для тех, кто собирался потом в Университет, чистописание, черчение и рисование, естествознание и русское законоведение для тех, кто собирался в дальнейшем заниматься юриспруденцией. Учеба в то время заключалась преимущественно в огромном количестве зубрежки. «Лев съел перчатки, собаку, стол, кузину моей бабушки … и т. д.» — твердил Коля из Кайзерова учебника немецкого языка, но немецкий, как и математика, ему никак не давался…
Жизнь у мальчиков с детства была крайне напряженная, не то что у нынешних: они занимались 10–11 часов в сутки с очень краткими перерывами на отдых: вставали в шесть утра, к полседьмого шли на молитву. Потом до восьми занимались уроками, в восемь пили чай, — до девяти утра был получасовой утренний перерыв — рекреация. Классы начинались в девять и продолжались пять с половиной часов. В одиннадцать давали завтрак — два горячих блюда. Потом были танцы или фехтование или пение. Отдыхали с четырех до пяти (в четыре часа давали обед). С пяти начинали готовить уроки до половины седьмого. Полчаса отдыхали и продолжали заниматься уроками до восьми вечера. В восемь — вечерний чай и полчаса до полдевятого отдых. После вечерней молитвы ложились спать в девять часов вечера.
Первое время Коля очень тосковал в гимназии. Но скоро появился друг — Миша Щукин и стало их двое: Жук и Щука. Щука был постарше и покрепче характером и не давал в обиду Колю, которого сразу начали дразнить «пшиком». Но и сам худющий Коляндра при всей своей детскости и нежности души был мальчиком физически крепким, деревенской жизнью да охотами с Кириллой закаленным, и отпор насмешникам дать умел.
Однако всего более он страдал от врожденной застенчивости, робости и нерешительности. Это у него было явно не от Анны Николаевны. Скорее от самого мягкого и кроткого в семье, ее главы — Егора Ивановича, который так же в 10 лет был увезен своим богатым петербургским дядей-сановником Николаем Алексеевичем Жуковским (- май 1851 г.) — «отцом, благодетелем и другом», как его звали все в семье, из теплого полтавского старосветского родительского дома, от добрейшего отца, от горячо любящей матери, от тетушки, от сестер, от садов полтавщины, от необыкновенного уюта тихой и мирной семейной жизни, да не куда-нибудь, а в Корпус инженеров путей сообщения в Петербурге. Это учебное заведение эпохи начала царствования Государя Николая I, слыло суровейшим по дисциплине и муштре. Карцер и розги в корпусе считались делом заурядным…
* * *
Егорушке в Корпусе, разумеется, было не сладко, однако он при этом учился, как следует, окончив Корпус изрядно подготовленным инженером. В 1832 году ему был присвоен чин прапорщика, а в мае 1833 года его командировали «для практических занятий к изысканию по проекту шоссе от Москвы до Нижнего Новгорода». Проще говоря — он направлялся строить печально знаменитый Владимирский тракт. Егору Ивановичу было в тот год 19 лет, — это была, как бы теперь сказали, предвыпускная практика. Окончил Корпус Егор Иванович в 1835 году.
И вот что достойно удивления: сердца своего золотого он в Корпусе и в Петербурге не оставил: каким поступил в 10 лет — светлым, добрым, чувствительным, таким ученье и окончил.
Многим Егор Иванович был обязан семьям своих дядей: и Николай Алексеевич, и Григорий Алексеевич Жуковские были люди богатые и видные, жили в Царском селе. На праздники они забирали мальчика к себе. Особенно близок был Егор со старшей двоюродной сестрой Елизаветой Григорьевной Жуковской. Она воспитывалась в Смольном институте, потом осталась там пепиньеркой (воспитательницей), а впоследствии постриглась в монашество, вот только, увы, не дошло до меня ни ее монашеское имя, ни монастырь, в котором она спасалась, что, между прочим, не только всегда огорчало меня, но и весьма удручало…
Странной мне казалась эта странная семейная нелюбознательность: ни в бабушкиных рассказах и записках, ни в семейной переписке о Елизавете Григорьевне не упоминалось. А ведь она была, наряду с тетушкой Варварой Кулябкиной (сестра матери Егора Ивановича, урожденная Тышкевич) духовной наставницей в отрочестве и юности Егора, возможно именно благодаря этим двум женщинам, он и умудрился сохранить душу и веру в чистоте в то время, когда вокруг пышно цвело масонство, вся петербургская знать была очарована оккультизмом и чуждым православию темным мистицизмом, везде вербовали себе членов «библейские общества». Все это встречалось буквально на каждом шагу и не только в столице — мы сегодня не можем даже представить себе степени распространения этой духовной заразы в тогдашней России. Чуть ли не каждый встреченный на пути жизни Егором Ивановичем дворянин был масоном. Разумеется, кто-то лишь поверхностно, моды ради, а кто-то проникал и на глубину, отдавая и душу свою…
Елизавета, глубоко религиозная девушка, была истинной духовной опорой Егору. Она оставила замечательное свидетельство о характере своего двоюродного младшего брата, — нечто вроде характеристики, в которой написала, что Егор отличался кротостью и совершенным незлобием, был крайне чувствителен, очень застенчив и скромен, любил мечтать, порой впадал в флегматическое состояние, а иногда вдруг проявлял усиленную энергию, и увлекался с легкостью…
Как меня поразила эта характеристика, когда я впервые со вниманием перечитала ее! Во-первых, слово в слово, кроме флегматичности разве, этот портрет можно было отнести и к сыну Егора Ивановича — Николаю (и, наверное, только к нему изо всех детей Жуковских). А, во-вторых, это ведь и про меня было сказано, про мое жизненное основание, насколько себя помню во младенчестве и после: странное сочетание робости, крайней застенчивости, которая сызмала всегда тянула меня не быть в первых рядах и стараться запрятаться ото всех куда подальше, с ощущением в себе какой-то потенциальной энергии, которую углядела в Егорушке моя двоюродная прапрабабушка Елизавета Григорьевна.
Слабость и сила одновременно, — какая странная и неудобная двойственность, вечно обманывающая людей тебя окружающих, скорее воспринимающих проявления силы как доминанту…
Меня это открытие несказанно порадовало. Одно дело всю жизнь рассматривать свои немощи (а именно так я и расценивала это странное сочетание) изолированно, как только свои собственные, доставлявшие мне много хлопот, скажем мягко, особенности. Другое дело, когда ты вдруг увидишь за собой целую цепочку схожих особенностей в семейном сродстве — не могу определить в точности, почему, но меня эта связь несказанно утешила. Ведь не худшие люди страдали этой двойственностью — я-то знаю, как обходился с нею Николай Егорович: он с детства уклонялся от споров, не выносил ссор, не стремился к первенству, а вся энергия его уходила в целеустремленный напор его творческого труда и живость доброго восприятия людей и жизни. Когда же его начинали сильно отягощать какие-то агрессивные и враждебные проявления людей совне, он только одно и говорил: «Ну и Бог с ним!».
Мне стали ближе и понятнее и некая склонность к унынию и печали Егора Ивановича (а поводы реальные в его жизни для этого были), — как результат не нашедшей должного выхода жизненной энергии, и природная веселость Николая Егоровича, его легкое, но всегда доброе подтрунивание, и такая же легкая атмосфера жизни в семье Жуковских. И даже шутливый склад характера (в котором при этом сосуществовали и строгость, и нередко резковатая прямота суждений, и некоторая, пожалуй, только в семье заметная властность) моей матери, которую за веселость и простоту мои друзья юности всегда любили больше, чем меня: так они и ходили к нам в гости — к «Марьванне» (маму звали Мария Ивановна), и сиживали, болтая с ней на кухне и гоняя чаи, часами.
Николай Егорович, бывший по своему душевному строю копией отца при особенной живости и добродушной веселости, имел еще одно несравненное качество: никогда и никому не было с ним рядом тягостно жить. Он никого и никогда душевно не обременял, не давил даже молча.
Тайна этой необременительности в общем-то весьма проста: у Николая не было никакой изначальной нерасположенности к людям. К нему никак нельзя было приложить строки молодого Пушкина:
Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей…Нынче эти золотые душевные качества — говорю о доверчивости и непредубежденности, свойственных Николаю Егоровичу, имеющее, разумеется, свой исток в христианском миросозерцании почти совсем истаяли в мире. В ценностях нового миропорядка доверчивость — добродетелью не значится. Зато недоверчивость, подозрительность, предвзятость, — упреждающая нерасположенность, — вот наши хорошие знакомые.
Казалось бы, такой человек никак внешне на тебя не давит, не неволит, а тебе все равно рядом с ними очень неуютно и очень несвободно, ты словно в тисках под неусыпным оком «камеры слежения» — его взглядом, который «отслеживает» как теперь выражаются, каждое твое слово, мимику, жест — не замышляю ли я чего против него, не говорю ли ему какую каверзу под видом самых простых слов и шутки? Тебя взвешивают, разбирают на винтики и рассматривают под микроскопом. А ты, соответственно, только и делаешь, что тщательно подбираешь слова, чтобы не дай Бог! — не обиделась бы эта «камера слежения», не выдумала бы чего на пустом месте, не перетолковала бы твои слова вкривь и вкось… И все равно, ты буквально слышишь своим внутренним слухом, что визави тебя уже засуживает, и ты не проходишь через его систему строгого контроля…
У Жуковского, да и не только у Николая Егоровича, и у других членов семьи, у бабушки моей, конечно же, и вообще у большинства людей в России в прежнее время не было нынешней внутренней душевной ожесточенности, такой постоянной готовности к превентивным ударам, способности молниеносно огрызаться, — такого недоверия ко всем и вся, при страшном доверии самому себе и собственным амбициям — болезненно разросшейся раковой опухоли эгоизма. И это тоже плод революций и разрушение прежнего христианского по духу уклада русской жизни. Хотя нечто похожее зафиксировал Тургенев в Базарове (при еще живой и доброй его сокровенной душевной глубине), а Пушкин поймал самое начало — зарождение эгоизма, который был еще настолько аристократичен, что не опускался до враждования всех со всеми: он обходился легким ледяным презрением. И лишь в середине XIX века, спускаясь по сословной лестнице, эгоизм начал перерождаться в душах человеческих в постоянную вражду, потенциальную злобу и молниеносную готовность показать свой звериный оскал всякому: «Вихри враждебные веют над нами…»
Так что Жуковским быть добрыми и великодушными было все-таки много легче. А что делать нам нынешним? А все то же, чему учит нас Новый Завет: «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6:1–2). И это: «Должни есмы мы сильнии немощи немощных носити и не себе угождати: кийждо же вас ближнему да угождает во благое к созиданию» (Рим. 15: 1–2).
Терпеть, прокрывая любовью, как учит Церковь, предпочитая, чтобы твоя душа болезновала в этом терпении, нежели принять и х, а не Христовы правила жизни.
* * *
… От Кремля всегда задувал северный ветерок. Может, дело было в реке, но, во всяком случае, бредя со своим портфельчиком в школу на Софийской набережной в то прекрасное старинное здание Мариинского училища, где воспитывалась моя прабабушка Мария Александровна Микулина, — с чудными дубовыми паркетами, лепниной на потолках, с высокими окнами и парадным вестибюлем, где непременно должны были присутствовать еще и сверкающие галунами строгие швейцары, — я зябко поеживалась. Это потом я узнала, что Кремлевский холм — самое холодное место Москвы. Так этот холодок и сопрягся для меня с некоторым трепетом, который вызывала у меня сама атмосфера школы, строгие и достойные лица учителей, наши аккуратные форменные фартучки и вообще воспитанное с детства почтительное отношение к учению.
Но был у меня и иной трепет — та самая мучительная застенчивость и робость, которая досталась мне от некоторых моих предков — ни у мамы, ни у бабушки, ни даже у прабабушки — этого недостатка не наблюдалось. Это шло по линии Жуковских — Егора Ивановича и Николая Егоровича — и пришло причудливыми генетическими путями ко мне, бедной. Почему бедной? Да потому, что помимо школы общеобразовательной в нижних полуподвальных помещениях Мариинского училища, располагалась музыкальная школа, куда отдала меня мама пяти лет учиться игре на фортепьяно. Кто-то ей посоветовал замечательного педагога — Елену Михайловну Мгеброву, чудесную пианистку, ученицу Константина Игумнова, в силу каких-то житейских невзгод прекратившую концертную деятельность и засевшую преподавать таким как я.
Это была тогда еще очень молодая и миловидная женщина, имевшая какие-то интересные кавказские корни, что несомненно отражалось на ее хорошеньком лице, но уже несколько разочарованная в жизни. У нее были нелады с мужем, из-за которого она перестала концертировать, а преподавать ей было, видимо, тягостно. Кстати, в свое время и я была вынуждена начать свою жизнь не с конкурса Чайковского, а с преподавания в музыкальной школе. Мне было восемнадцать лет и я только о том и думала, как бы улучить минутку и позаниматься не с учеником, а самой за роялем… Так что Елену Михайловну я понимала: слыша краем уха отголоски домашних разговоров, я чувствовала, что она тяготится этой работой, хотя занималась она, разумеется с нами достаточно усердно. Я ее жалела.
Подвела же меня моя патологическая застенчивость и робость: будучи в детском восхищении от Елены (так ее звали всегда у нас дома), я тем паче прониклась священным страхом с самых первых уроков у нее. А способности у меня, говорили, были весьма изрядные. А вот свободы-то у меня и не было. Вечно скованная страхом спина…
Елена очень быстро не выдержала моей тупости и начала на меня постоянно кричать. Это, конечно, был не мат, которого я тогда отродясь и не слыхала, но это была по тем временам отборная ругань: «Бездарь! Идиотка! Наказание Божие! Тупица!». Играть нормально я, конечно, при этом не могла. Полупаралич не способствует ни музыкальности, ни технике исполнения. Однако все-таки меня отобрали на первый в жизни концерт. Я играла — и удивительно! Я помню, что: этюд Лемуана. Перед выходом на сцену руки у меня были мокрые в холодном поту, я умирала…
Но почему-то сказали, что сыграла я хорошо и Елена милостиво угостила меня пирожным, хотя до этого каждый урок эти пирожные летели непосредственно в меня, и мне каждый раз стирали дома форму или фартучек…
Как же я любила ее! Это был какой-то восторг первой любви: она была маленького роста, полноватая, но легкая и стремительная, глаза ее блестели, в ней была очаровательная резкость и темперамент художника. Чувствовалось и ее благородное дворянское происхождение. Показывала она на рояле — великолепно, а пирожные — пирожные были лишь проявлением категоричности и бескомпромиссности настоящего мастера, который ну не мог слышать вялой и бездарной игры, и я почему-то совсем не обижалась на нее. Не злилась, а только любила, боялась и страдала лишь о собственном уродстве…
Елена поссорилась к тому же с моей бесстрашной матерью: мама что-то ей сказала все-таки не по шерсти. С тех пор Елена изводила меня на уроках насмешками над моей матерью. Ей не нравилось, что мама ждала меня за дверью и сухо кашляла. А ведь мама пришла с фронта с туберкулезом в открытой форме, который чудом залечили. Осталось это всегдашнее сухое покашливание… Елена сходила от него с ума. Мне было больно за маму, но и следов злости к Елене не было во мне. Только стыд и боль.
Если бы не райская любовь, которая меня окружала в семье и святая тишина и чистота отношений между мамой, папой и бабушкой, я бы могла сказать, что из детства я вынесла забитость и подавленность. Но, дорогой читатель, не спешите жалеть! Даже эта забитость не могла устранить того, что еще существовало во мне — в другом отсеке души: живости, энергии и какой-то непонятной мне самой силы. Стоило только несколько ослабеть вожжам по мере моего взросления, — в особенности после насильственного перевода в другую школу при соединении мальчиков и девочек (и это была школа поистине хулиганская! — там учился весь Московский Балчуг, имевший с еще дореволюционных времен самую дурную и темную славу), как я стала смелеть на глазах.
Вот в той школе я в первый раз дала сдачи Мишке Саутину, который долго изводил меня тем, что макал мою косу в свою фиолетовую чернильницу. Я пожаловалась маме, а она сказала: «А ты дай ему вот так» — и она показала, как. Выучка ведь фронтовая была у мамы и вообще она была бедовой девчонкой, поскольку росла со своей старенькой бабушкой и старшим братом, который ее лупил, так что приходилось и как-то учиться защищаться. А бабушка моя (ее мама) часто уезжала в долгие реставрационные командировки. Иначе им бы и кушать было нечего…
Вот я и дала Мише. С тех пор он стал моим другом. И даже спустя тридцать лет после школы он все-таки разыскал меня однажды — толстый, лысеющий, но добродушный дядя… Удар мой вышел столь красив, что Мишка влюбился, не устоял… Нам было лет по десять.
На фотографии: весна 1954 года. Софийская набережная, одноклассницы: ученицы 19 школы Москвы. Третий заморыш слева — Катя Домбровская.
…Странное у нас с Еленой Михайловной было душевное несходство — возрастную разницу сейчас в рассмотрение брать не надо, возможно, мы теперь уже и сравнялись с ней летами по меркам земного времени. Существенно другое: я при моей отчаянной застенчивости и робости была и в раннем детстве вся внутренне нараспашку, вся в готовности любить и восхищаться и ею, и тем, что несут в себе сокровенного другие люди, благоговея перед этим великим таинством, которое именуется «человек». Да, таинством, а не тайной даже, как у Федора Михайловича, потому что человек — это процесс. А смысл человеческой жизни — преображение, возрастание в святости, уготовление и совершение своего второго рождения во Христе, то есть использование жизненного времени на осуществление этого второго рождения — уже для жизни вечной.
Достоевский был несомненно прав, называя человека «существом переходным», учитывая цель его жизни и свойство — постоянную изменяемость. Однако изменяемость и изменчивость, как точно замеченное свойство, и замеченное не психологами, а великим крестоносным опытом святых отцов-подвижников, как мы убеждаемся, соседствует парадоксально с константой наследственности, правда при самом широком спектре ее проявлений. Изменчивость, непостоянство состояний человека, некая импрессионистская его переливчивость, если представить душу в красках…
Мне досталось какое-то особенное наследственное парадоксальное свойство: назовем его сдержанно, не «любовью» (а хотелось бы именно так), но «интересом» или «влечением» к другим человекам, выражающимся в преобладающей во мне открытости при, тем не менее, глубинной внутренней скрытности. Совершенно очевидно, что это было не мое собственное, а переданное мне свойство и во мне получившее дополнительный импульс, хотя я все же не могу припомнить, у кого из родных я могла заметить действие подобного импульса?
Любовная расположенность к людям и детская доверчивость, неподозрительность была только у Николая Егоровича, как проявление его подлинной душевной чистоты и исполненности его чистого сердца добротой, но моего импульса у него все-таки не наблюдалось, да и как бы он с ним смог сочетать свое истовое служение своей науке!
Николай Егорович являл собой образ исключительной красоты: он имел безупречное воспитание — то есть органично усвоенную меру во всем, всегда равновесие и гармонию, всегда ровность и свет, и даже за столом, как говорила бабушка, можно было сидеть и просто смотреть с наслаждением, как он ест, — настолько все было красиво, правильно, просто… В нем не было никакого надлома, внутреннего запинания (как повторил когда-то о Достоевском словцо Толстого, кажется, Страхов). В Николае Егоровиче не было никакого подполья — совсем-совсем ничего от героев Достоевского, — светлая, добрая, живая, детски-чистая сказочная Святая Русь, человек в чистоте и простоте сердца предстоящий перед Богом, верующий Ему безоглядно и принимающий из Его рук жизнь такою, какой Он ему давал… И никаких тебе рефлексий при невероятной мощи созидательного творческого ума.
Пожалуй, наилучшим портретом Николая Егоровича было бы платоновское определение красоты как слиянности тела, души и ума, внешне-телесного и внутренне-душевного, — как некоего целого, зиждимого принципом меры, гармонии и равновесности, но главное — красоты, пронизанной любовью.
Казалось бы, сколь проста эта мера и эта слиянность для принятия их нашим умом, а вот как попробуешь примерить на себя, или лучше — посмотреть на себя в свете т а к о й личности, так сразу и услышишь, как вопиет к Небу твоя собственная неуклюжая изувеченность…
* * *
Импульс же мой при унаследованной мною от прадедов застенчивости и робости заключался в какой-то странной моей нацеленности (или устремленности, жажде) жить двойственной жизнью: и своей, и вовне — жизнью других. Вспоминая раннее детство свое и прогулки по замоскворецким переулкам, я уже писала, что меня до странности притягивали к себе полуподвальные окошки осевших особнячков-стародумов. Мне надо было туда заглянуть, мне надо было то, тамошнее, ихнее житие вкусить и, хотя бы в мгновение, самой его прожить, — но почему? Зачем меня притягивала чужая жизнь? Словно своей у меня не было. Была. И эта обращенность вовне меня самое сильно тяготила, она мне мешала: будто чужая жизнь сама насильно в меня вторгалась. Но что тут поделаешь, коли уж так тебя запрограммировали…
Мне порой даже казалось, что себя у меня — нет. И я существую как некий служебный дух, весь ориентированный на другого (других). Я и не желала и одновременно желала (помимо своей воли) другого (других) любить, познавать, внимать их устроениям, переживать с ними, как невидимка, рядом и х жизнь, вернее тайну неповторимости личности каждого в ее божественной красоте. А открыв эту красоту, мне, разумеется, болезненно (для моих глаз) вскоре высвечивалась и некрасивость, наросты и наслоения, которые мешали глазу видеть Божью красоту, и я тогда могла воскликнуть вместе с пушкинским Сальери в гневе:
Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэля…Лучше бы я этих некрасивостей вовсе тогда не видела, потому что не могла инстинктивно не тянуться убирать их. Но чтобы снимать наросты — и я очень не скоро, увы, это хорошенько осмыслила, нужно было самому пройти через многие Голгофы, и, сняв не одну шкуру с самого себя, научиться, любя Божию красоту, любить терпеливо и сострадательно ее вместе с теми «наростами». При этом учась так любить, я не раз от этих наростов сама заражалась, пока не поняла и еще одну истину — чужие некрасивости нам не страшны, если у нас к «чужим» чистейшая любовь (а не эгоистический протез любви) и молитва. Она хранит и тех и тех…
А пока я была словно паразит при чужих жизнях. И в то же время — вот парадокс-то! — лично для себя, изначально и всежизненно оставалась я по устроению своему «монотипом», одиночкой. Обращенность во вне, к другим — это существовало во мне как моя «работа», моё своеобразное служение, куда меня кто-то, не спросив на то моего согласия, поставил, а «моно» — это было моей собственной сущностью и сердцевиной, моим праздником и драгоценным отдохновением, моим личным таинством и тайной, моей радостью и надеждой, моим сокровенным миром, о жизни которого никто ничего не знал, кроме Единого.
Меж тем за открытость и еще хуже — откровенность — меня часто укоряли, а порой и крепко били. «Да как ты можешь принимать этого и того?! Да почему ты так хорошо разговаривала с той-то, когда она — враг (идейный, разумеется)! Да зачем ты рассказала то или то о себе? И кому?!! Различай духов…».
И какое же несчетное количество раз укоряла я сама себя за собственную свою эту «нараспашку», но поправить дело получалось плохо…
Не даром говорят «во отцах», что Господь долго не дает нам устраниться от какого-то своего недостатка, в особенности, смешного и уязвимого в глазах мира, для того, чтобы мы из-за него постоянно имели возможность терпеть неприятности и унижения, пока не обретем навык смиряться и этим унижениям, по возможности, радоваться, и уж не мстить никому даже в мыслях. Когда вся максимальная польза от нашего терпения этой собственной слабости в самих себе исчерпывается, когда мы поистине смиряемся со своей негожестью, Господь отнимает от нас этот бич или, точнее, молот от нашей головы, и мы освобождаемся от одного из крестов нашей жизни. Нет, не мы освобождаемся, а Бог нас освобождает. И все это еще и для того, чтобы пригасить в нас цветение наихудших искушений: вспышек самодовольства, самомнения, ну, и гордости, разумеется.
По прошествии времени я все-таки малость научилась свою обращенность вовне держать при себе, не подавая виду, хотя она со мной, как-то преломившись, все-таки осталась, и даже косвенно повлияла на рождение этой книги.
* * *
Елена Михайловна была полной моей противоположностью. Она была абсолютно свободна в своих проявлениях, и эта свобода сверкала фейерверком, да еще при ее темпераменте и стремительности, и звонким эхом отражалось в ее фортепианной игре. Инструменту принадлежали не только ее руки, она была сопряжена с ним всем своим корпусом и существом, чему, кстати, все-таки успела научить в детстве и меня. Играла она напористо, уверенно, смело, пылко, и даже тогда, когда нужна была предельная, мертвенная сдержанность глубокого largo, я всегда слышала, ч т о сдерживало это музыкально воспроизведенное состояние душевной летаргии.
И не ходила она, а летала на своих тонких каблучках, оповещая вестибюли и коридоры нашей школы (а потом, между прочим, школа наша переехала в знаменитый старинный, видевший Пушкина «дом Фамусова» на Пушкинской площади) мелким дробным pizzicato о своем приближении — вся устремленность, изящество, энергия. И при этом вот такой человек был застегнут на все пуговицы и совсем не только по отношению ко мне. Я-то действительно была мелкая сошка.
Сейчас, уже безотносительно нежной памяти Елены Михайловны, я думаю о том, что же все-таки такое представляет собой эта напористость… И видится мне в истоках ее роскошное явление энергии в о л и, распространяющейся из душевных недр человека в окружающий мир, на других людей, явление духа творчества и власти, и даже, возможно, в какой-то мере воинственного инстинкта захвата. Иными словами, несомненно, что это — явление силы.
Хорошо ли, легко ли человеку, в котором кипит э т а сила, притом человеку закрытому наглухо, и хорошо ли миру от э т о й силы, — это еще вопрос. Во всяком случае, вспоминая Елену в цельности сокровенного ядра ее личности и пытаясь передать это ее свечение, динамику и полет, я и сейчас испытываю нечто вроде ликования, которое сродни сопереживанию красоты музыки или еще лучше, излившемуся из сердца восторгу Берендея в дивной «Снегурочке»: «Полна, полна чудес могучая природа!».
Но вот память навеевает мне иные картины, рисующие мне иные красоты, перенося меня в иную, невидимую оком реальность, тем не менее все же слитую с нами живыми токами бытия…
* * *
…А вспомнился мне как-то услышанный от Духовника сон, который приснился одной старенькой матушке-схимнице. Жаль, что теперь я уже его не очень подробно помню, но суть, надеюсь, передать смогу…
Приснился ей, старенькой и уже совсем неотмирной… рай. Дивные, великого размера цветы вокруг, зелень чистоты и свежести неописуемой, а цветки такие, как на земле не сыщешь, — невиданные благоуханные красавцы, и ни один другого не повторяет. Она идет меж них, любуется, а они головками к ней клонятся и просят ее без слов: «сорви меня!», «возьми меня!»…
А дальше птиц видит: они рядом кружат в оперении сказочном, и припевают ей: «возьми меня и съешь меня»…
Но вот доходит она до ручья — хрустальные воды, цветущие берега, а в водах огромные рыбы плавают, переливаясь и играя всей радугой цветов, красавцы перламутровые… И вдруг и они к ней головками выпрыгивать вверх начинают и опять же просят её проникновенно так: «ну, съешь меня», «ну, возьми меня, ну, съешь меня!» и — прямо в руки к ней прыгают…
На том сон тот и оборвался…
Вот оно что, подумалось мне тогда… Вот как, оказывается, мы жить должны и какими быть, чтобы в том раю поселиться когда-нибудь. Да разве ж это возможно, достижимо?
Этот матушкин рай, мне показался даже больше раем, нежели увиденный пророком Исайей: «…Тогда волк будет жить вместе с ягненком. И барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому» (Ис. 11:6–7).
Замечательно было истолковано это место Святителем Иоанном Златоустом: «Не так, чтобы изменилась природа, но нравы жизни: волк не изменится в агнца, но, оставаясь в диком состоянии и имея господство по храбрости, он, тем не менее, не будет причинять смиренному вреда».
Пророку был открыт образ райского примирения, преодоленных разделений мира. А матушке — то, к а к, каким путем только и возможно преображение волчьего нрава: самоотвержение, а не равноправная, в лучшем случае, «справедливая» дележка: и тому помочь, но и себя, родного не забыть…
* * *
Но вернусь к моим главным героям этой большой главы: двум братьям: Ивану и Николеньке. Николай был робок и застенчив и издетства изведал чувство подавленности от собственной никчемности, от слабостей своих и сопутствующих им неудач. А Иван этого счастливо избегнул. Он с самого начала был не робкого десятка, держал себя просто и свободно, умел показать свое отличное воспитание, свое comme il faut, умел нравиться, умел и выказать себя с лучшей стороны. Все удавалось ему.
Вот только хотелось ему при этом еще большего… Он в гимназии да и потом в университете был озабочен тем, чтобы выглядеть настоящим аристократом, потому что всей душой стремился к высшему обществу, старался сдружиться с знатными соучениками в гимназии, войти в их тесный круг, страдал при этом от сознания, что его семья скорее бедна, чем богата, что отец служит управляющим у Зубова, не обладает титулами и не может дать старшему сыну такое содержание, какое бы тот хотел иметь. Его постоянно мучили самолюбие и гордость, хотя внешне поводов к тому, как у Николеньки, которого все дразнили, учителя нередко перед классом срамили, у него не было: Иван сам подбрасывал хворост в свой костерок…
На фото: Прежний вид Мариинского училища, в здании которого помещались в пятидесятые годы XX века общеобразовательная школа № 19, а в нижнем этаже — музыкальная школа, где и преподавала Елена Михайловна Мгеброва. А слева — училищный храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы Марии.
Если бы можно было вспомнить тот миг, когда протянутая к тебе Рука вызвала тебя из небытия к жизни… Почему сей важнейший миг так и должен оставаться для нас неведомым? Какое отчаянное положение. Если бы он был ведом… Тогда с самого начала ты бы знал и не смел бы никогда забыть, что Кто-то тебя вызвал и одарил этим бесценным и страшным даром — жизнью, даром, сколь великим, столь и коварным, данным тебе вовсе не для наслаждений, но для совершения великой борьбы с самим собой ради второго настоящего твоего рождения.
Если б ты знал… Тогда б было тебе легче соотнести эту жизнь с Дарителем, вопрошая его: что же ты хочешь от меня? Что мне делать? Какой путь — именно мой? Я правильно его выбрал? Ту ли Ты мне начертывал дорогу? По ней ли я иду?
Как было бы хорошо всё знать изначально. Кто ты, куда идешь, вернее, куда и зачем послан, и в чем твое личное жизненное призвание. А то ведь, не успел оглянуться, как родители тебя, несмышленыша, отдали учиться… в балет, а тебе бы всю жизнь гайки крутить, да мастерить бы что-нибудь… А сестре твоей, которую нацелили на архитектуру, — ей бы только деток завести… И никто не знает, что лучше для тебя — кроме Бога. Он знает, а ты — нет. И понять не можешь: где Его дар знаковый тебе на жизнь, за который бы должен был ты ухватиться накрепко обеими руками и ни за что не упускать, а где прихоти твоей слабой и падкой на соблазны души. Впрочем, у Бога и само понятие «призвания» ведь в не в измерениях нашего человеческого приземленного плотского мудрования значится. У Бога-то все просто: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф. 6: 33)».
Однако правда и то, что в стародавние времена праведные люди знали, как библейская Ревекка, которая вопрошала Господа о тех двоих, кто бились во чреве ее и, получив ответ, еще до рождения их на свет, знала, кто из них будет настоящим первенцем, и что все произойдет вопреки очевидности внешних событий — первым выйдет на свет Исав, а первородным станет, унаследовав отцовское благословение, Иаков.
Как знала Матерь Божия из прореченного Ей Ангелом, как слагала она в сердце Своем все ангельские глаголы и вещания о Сыне Своем. Как знал престарелый Захария о великом призвании будущего своего сына Иоанна Крестителя, как догадывалась об избранничестве своего дитя преподобная Мария — мать преподобного Сергия Радонежского… Как узнавали истину, вопрошая если не Самого Господа, то святых его, прежние русские люди, обивавшие пороги хибарок великих старцев, как вопрошала о «неудачнике» сыне святителя Филарета Анна Николаевна Жуковская…
А мы не только разучились вопрошать Господа, как те праведники, но давно потеряли способность слышать Его тихие ответы, потому что отпали от Господа на "страну далече", расточили все свое великое духовное богатство, которое копили наши предки во время оно, — сердечный мудрый ум, вещее сердце и живую, опытами жизни «купленную» веру, и зрящее око духовное — все извратили, и стали немощными, сами себя заперли в мешке э т о й чувственной псевдо реальности, окаменев сердцами для слышания звуков реальности иной — подлинной, духовной, вечной, где обитает Тот, от Которого зависит наша жизнь.
Как слепые кутята, бредущие в ночи по дороге жизни, ничего не видящие и не слышащие, пребывающие на самом деле в замкнутом мешке «реальности», упрямые и гордые, держащиеся за то, что «слышат» и осязают наши руки, но не того, что могло бы слышать, но не слышит и не осязает (!) наше сердце — мы забыли, да и вообще знать не желаем, что все эти небеса «яко риза обетшают, и яко одежду» свиет их Бог, «и изменятся» (Пс.101:27), и что там
…вдали, За ближайшими звездами, Тьмами звезды в ночь ушли…И вот мы мечемся и путаем, как зайцы свои следы, верим обманкам, суетимся, хватаемся то за одно, то за другое, давно потеряв из виду настоящий ориентир.
…Однажды довелось мне стать слышательницей загадочной сказочки, которую Духовник рассказывал одной маленькой девочке в день ее именин в качестве его дара-напутствия…
«Когда Рука, протянутая к тебе, вызвала тебя к жизни, — а это была Рука Бога, Он поставил тебя на прямую дорогу, показав там, в конце пути, светлую точку: Град — Царствие Небесное, которого ты должна достичь уже в этой жизни. И сказал: иди прямо туда и никуда-никуда не сворачивай, а все, что тебе будет потребно, оно есть вот в этом рюкзачке, который Я для тебя собрал на путь. Поняла ли ты меня?»
«Вот шла эта девочка по дороге, шла, видит: чудный домик стоит, вокруг дивный сад… Думает, дай зайду туда, отдохну немного, но тут вспомнила она наставления Того, Кто вызвал ее к жизни, и пошла дальше своей дорогой. Вдруг видит в стороне колодец, а в нем такая чистая вода! И страстно захотелось ей этой водицы испить. И тут уж позабыла она наставления — времени-то много уже прошло. Пошла, попила водицы, вернулась на дорогу, а там ее ждет кабанчик, шерсть дыбом, глаза кровью налиты, на девочку готов броситься, — как же она припустила! Еле убежала, — он ей пятки доставал. Натерпелась страху, из сил выбилась, времени много потеряла на кабанчика — целая треть жизни, оказывается, прошла. А ведь, не уклонись она в сторону — кабанчика бы страшного и не встретила бы на своем пути. Но и дальше вновь приключилась с ней беда: кушать ей захотелось, а у дороги в стороне — стол видит с горячими пышными хлебами, а про рюкзачок-то девочка и совсем уже забыла, — подумаешь, рюкзачок! — даже и не заглянула в него, а ведь там все потребное должно было быть для нее собрано. Когда же наелась она досыта хлебов тех, да на свою дорогу прибежала, — видит: дороги-то и нет: лютым огнем полыхает вся та дорога: не затушив пожар не выбраться ей дальше… Когда же измученная и израненная, она с огнем, наконец, справилась, оказалось, что уже и две трети жизни ее миновали, а идти-то все труднее — сил совсем не осталось…»
* * *
Сколько раз думала я с тех пор: что же было в рюкзачке, который для м е н я был собран Отцом Небесным? Но вместо ответа яснее ясного вставали перед глазами мои утраченные пути: кабанчики, огнь и воды многи, слезы и скорби, сраженья из последних сил с какими-то немыслимыми обстоятельствами: «Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души моея. Углебох в тимении глубины, и несть постояния: приидох во глубины морския, и буря потопи мя. Утрудихся зовый, измолче гортань мой: изчезосте очи мои, от еже уповати ми на Бога моего» (Пс. 68:2–5).
…А в рюкзачке том были не просто хлеб и вода, а ничто иное как Хлеб Небесный и Вода Живая — святые Заповеди Божии, в которых жизнь и свет, в которых Сам Господь: «светильник ногама моима закон Твой, и свет стезям моим» (Пс.118:105), которые, если бы следовать им, никогда бы не дали никому свернуть с пути, не привели бы к великим скорбям и мукам, удержали бы от соблазнов и искушений, которые искони рядились перед человеком в роскошно-сияющие одежды псевдо добра…
Ну, понятно, поколение рождавшихся в эру безбожия — в XX веке… Но отчего те, кто рождался в середине XIX века, те-то отчего столь легко отбрасывали в сторону Божий напутный рюкзачок, как, если уж не отбросил сознательно, то позапамятовал о нем раб Божий Иоанн, с юности искавший того, что дано ему не было, и не принимавший со хвалением Богу того, что само шло ему в руки?..
* * *
Колин кружок друзей в гимназии составлял оппозицию одноклассникам «аристократам»: Якову Несвицкому, Владимиру Оболенскому и Алексею Неклюдову, сидевшим на первой парте и пользовавшимся в гимназии парадным подъездом. При аристократах были дядьки, платье им разрешалось носить свое, из тонкого сукна, а не казенное; за ними подъезжали собственные выезды, и учителя подбадривали их своим снисхождением.
Ваня, напротив, все-таки изо всех сил тянулся к завидной ему жизни «аристократов» — он сумел подружиться с мальчиками из весьма видных в свете семей: Офросимовым, Смецким (которого Коля тут же прозвал Свинтаржевским) и юным графом Голенищевым-Кутузовым. У последнего Иван часто бывал в гостях, щеголяя там своим великолепным французским и срывая аплодисменты сестер за вирши своего сочинения. Но все это было для него слабым утешением: ни в отрочестве, ни в юности, ни в последующие годы не было душе его никогда покоя из-за самолюбия, которое правило его сердцем, делало его «несытым», вечно ищущим чего-то иного, только не того, что вокруг него есть. Да и как было не распуститься этому ядовитому цветку в душе у мальчика, первенца, столь способного и быстрого умом, красивого и вполне развязного? У Вани не было той смирительной острастки, что пережил Коля в первые свои 10–12 лет жизни.
Вот как писал о пансионной гимназической жизни Иван Жуковский сестре Маше в Орехово:
«Chere Marie! Что скажу тебе, моя милая? Жизнь наша так однообразна и скучна, что право писать даже грустно. Если сравнить нашу жизнь с твоею в деревне, то тебе скучно, а нам еще скучнее. Все часы досуга поглощены занятиями. Одна мысль быть в Университете или, иначе сказать, добывать себе кусок хлеба независимо от других, занимает все мое существование. Трудись, трудись, трудись, — вот слова, которые мне нашептывает какой-то дух Эдема в тишине нашей пансионерской спальни. Я пишу письмо, все спит вокруг меня. Слышу беспокойный храп моих товарищей, слышу носовую музыку дядьки. Лампа тускло говорит на потолке, бросая какой-то тусклый полусвет вокруг меня…»
Этот тусклый полусвет газовой лампочки мне представляется неким зрительным символом всей жизни Ивана Егоровича. Отчего так бывает, что дает Бог все нужное — способности, сообразительность, условия для их развития, а в человеке словно нет точки опоры: его взгляд мечется и ищет, ищет что-то?
В отличие от Коли, в котором довольно долго было что-то детское, наивное, Иван взрослел быстро. Он видел себя в образе разочаровавшегося в жизни Печорина, хотя в Орехове в веселии и уюте родной доброй среды все печоринское из него мгновенно выветривалось. Иван витал в облаках — ему трудно было сосредоточиться на ком-то и на чем-то вне самого себя. Но я не уверена: был ли его эгоизм действительным для него внутренним средоточением, да хоть бы на точке своей собственной личности?
Почему-то представляется внутренний мир самолюбивого эгоиста вовсе неотцентрованным — какой-то вечной прострацией, отсутствием чувства реальности и уж тем более сознательного самопопределения в ней: наше «я» — наверное, именно так устроен Богом человек, в принципе не может стать действенным реальным центром нашей внутренней жизни. Напротив, когда внутри центр — Бог, тогда в Боге оживает и наше подлинное «Я», которое реально только в этом обращении внутреннего ока на Творца — Небесного Отца.
Ваниной стихией были фантазии и романтика. Он был неудовлетворен жизнью вечно, но при этом не имел силы характера и энергии здорового упрямства его младшего брата. Мечты его были куда как просты: он хотел от жизни… самой жизни, только гораздо более комфортной, яркой, светской, богатой, свободной, насыщенной впечатлениями и развлечениями… Но все каждый раз сводилось к тому тусклому полусвету лампочки…
Приведенное выше письмо было написано Иваном в ответ на письмо сестры Маши — старшей из детей Жуковских. Иван и Маша были особенно дружны и близки. Между ними было всего три года разницы, и они были душевными наперсниками друг другу.
Вот что писала брату Маша тем поздним октябрьским днем, сидя под вечер при свечах у камелька, слушая боковым слухом позвякивание спиц в руках няни, потрескивание березовых полешек в печи и уютно прегревшегося на ее коленах домашнего воспитанника ее кролика.
«В деревне глубокая осень, листья облетели, пруды замерзают. Я много гуляю. Вчера была в «Долине слез», села над самым обрывом, Володя бегал вокруг, Фигаро издали следил за ним. Кругом было тихо-тихо… Ты помнишь наш прощальный вечер? Долго мы сидели здесь у огня. Помнишь, как мы смеялись над Колей, когда он, вися над обрывом, ломал сучья и с песней кидал их в огонь? Много мы говорили о прошедшем и будущем…».
Много бы и я дала, чтобы посидеть тогда поздней осенью в Орехове над обрывом рядом с моей прабабушкой — девятнадцатилетней тогда Машей, послушать эту особенную предзимнюю тишину жизни мирной и еще более замирающей, жизни тихой, покойной, одинокой, уже ничего не ждущей, не прислушивающейся к быстрым токам крови, а жизни как бы пребывающей в покое вечности и самое себя созерцающей, к чему-то и во вне — не в себе — прислушивающейся. Много бы я дала, чтобы услышать, как они говорили вместе с Иваном о будущем, чтобы я могла бы взять Машу за руку и сказать ей: не печалься — не будет забыта твоя скромная тихая жизнь, не будут забыты и печали твои, и труды, и светлое твое сердце, Машенька. Пройдет более ста лет — тебя уже давно не будет на этой земле, но будет еще биться на ней сердце, которое прольет слезу о твоих слезах, и с любовью приголубит родную душу твою, предстоя с нею перед Господом…
И Мария Егоровна, и Иван Егорович в моих воспоминаниях всегда будят какое-то особенное пронзительное соболезнование. Мне жаль их, так и не узнавших полноты распирающей сердце радости, той радости, которую никто у человека отнять не может, той радости, которую дарует нам иногда Бог туне, в ответ на встречное жаждание Его нашими сердцами.
Маша осталась девушкой. Жила жизнью семьи. Хотя она очень любила Ивана — довелось ей стать хозяйкой и устроительницей жизни дома брата Николая, который многим был ей обязан: теплотой, уютом, сочувствием и сопереживанием всего того, что было его собственной жизнью. Маша заменила ему любящую и понимающую хозяйку, которая так любила всех друзей Николая Егоровича, всех привечала. Благодаря Маше Николай Егорович при ее жизни (а прожила бедная Маша недолго — всего 54 года) никогда не знал одиночества.
У Ивана была семейная жизнь — два брака. Но ни первый, после которого он овдовел, ни второй не дали ему чувства полноты жизни. Он занимался юриспруденцией, но любви к этой деятельности не испытывал, его сердце все время простиралось куда-то поверх профессии, и даже помещичье хозяйствование (а имения обширные благодаря богатым приданным его жен, у него имелись) — его не влекло: Иван не имел врожденной помещичьей тяги к земле; жизнь его шла даже и поверх семьи, детей — всем этим заведовала деятельная супруга, с которой он разошелся, несмотря на то, что были чудные дети — сын Жорж — будущий морячок, герой Цусимы, и Машура — тихая религиозная девушка, впоследствии ставшая игуменией на Святой Земле. Последним пристанищем Ивана — был «сердечный друг» — некая овдовевшая дама из рода князей Львовых…
А пока Машенька пишет Ивану в Москву в пансион при IV Гимназии:
«Скоро Михайлов день — знаменитый праздник у тети в Васильках. Все соседи съедутся, завидуй мне: я увижу деревенский зимний праздник и в следующем письме опишу тебе все подробно. Pauvre Jean, не скучай, еще два месяца, а там и праздники и вы приедете к нам. Уж и повеселимся же мы. Обещают сделать нам гору. Будут живые картины, катанье на санках. Вы пойдете на охоту. Твое ружье ждет тебя. Терпи и надейся…».
Милый дом. Орехово. Вот мамаша и вся семья вместе, недалеко и смиренный добрый отец, — вот — вот услышим мы все знакомый звук его мягкорессорной коляски… И вот все в сборе — все делятся своими новостями, малыши прыгают вокруг отца, мамаша отдает приказы няне Арише, — любимый старинный издавна заведенный обычай жизни. Родные стены, родные голоса за чайным столом, общие радости и общие надежды…Сколько ж лет ты, Дом, хранил тепло жизни семьи, а семья берегла тебя. Скольким невыплаканным слезам ты давал утешенье, баюкал души ласкою любви, связавшей многих в единое живое целое, где каждый бесконечно нужен и дорог другому, где тебя всегда услышат и пожалеют, где не будут вить из тебя веревки и скручивать в бараний рог твою душу, где тебе все верят и твои неудачи оплакивают вместе с тобой, где твои интересы — интересы всех, а интересы всех — твои интересы.
Что же это за великая и спасительная земная тайна семейственности, семейственности любви, теперь совсем забытая тайна жизни, не иначе как Самим Богом дарованное великое утешение изгнанному из Рая Адаму в этих бескрайних вселенских пустынях космоса для сохранения его сердца, для воспитания его души, — благая почва для сеяния всего доброго, для перенесения трагизма вечных разлук и горьких утрат. И это тоже «кожаные ризы», в которые Любящий Отец облек изгнанников для жизни на этой земле, дабы не погибли от отчаяния.
Велика тайна семьи… Настоящей семьи, где жизнь жительствует любовью всех ко всем и между всеми, где устрояется некий даже замкнутый мир со своим языком и привычками, со своим строем и тоном и звуком — со своей мелодией. Каждый чувствует в семье присутствие этой ограды и в той или иной степени догадывается, что за нею мир живет совсем в ином ритме и поет совсем другие песни. Здесь зона добра и любви. Там — все совсем иначе. Здесь — действительно Малая Церковь. Там… впрочем, теперь все мы — там…
А тогда и даже много позже, чуть ли не сто лет спустя той прежней ореховской жизни, ограда конечно была и не была одновременно: входная дверь никогда не запиралась, замок был давно сломан, на новый не были ни денег, ни времени-сил. Обшивка дерматиновая давно сползла к низу и дверь ею шамкала по полу непередаваемым старческим приплюскиванием. А шамкать ей приходилось безпрерывно: вот средний сын идет из школы — а с ним двое дружков и все — сразу на кухню: на винегреты и котлеты к маме. На кухне хохот и шум-гам и доверительные шутки с ребятками, а тут и старший сын подтягивается со своими товарищами, которые сначала поразвалявшись в волю на кровати сына, тоже чапают на кухню — борщ кипит, винегрет еще не весь съеден — все шутят, теперь уже звуча молодыми басами, смеются друг над другом и разговор крутится вокруг школьных дел, в которые посвящены абсолютно все, — и в первую очередь мама, но и бабушка, которая тут уже подтянулась все к тому же круглому столу на кухне, где уже непонятно как разместилась большая братия мальчишек, но и ей весело со всеми — она человек общительный, на слово острый: Марьванна вне конкуренции в глазах этих долговязых и прыщавых, уже обросших пухом басовитых мальчишек. Она пьет чай, два ее костыля лежат рядом, и ей, несомненно тоже очень хорошо со всеми: здесь любимый старший внук и вся его братия, которой тоже перепадает часть ее безмерной к нему любви.
Наконец, и главный критик подтягивается на кухонную сходку: младшая дочь, жестко тянущая на поводке-веревке покорную, все терпящую (хотя она и с характером — ой-ёй-ёй!) старую и умнейшую спаниэль Тяпу. Дочка насупленная, строгая и вовсе не боящаяся этой веселой оравы, — она, пятилетняя, сразу всех расставляет по местам. Ей подается куриная ножка, но она делает кислую мину и на ножку бросается несметное количество так и не насытившихся винегретами и котлетами рук… Как же хорошо! А дверь все шамкает и шамкает. И только ранним утром, когда часов в пять мама бежит на ту же кухню, сгребя в охапку машинку Erika, с кучей рассыпающихся листов с приклеенными со всех сторон языками-вставками, чтобы настучать в бешеном темпе статью в номер, дверь еще помалкивает. Дымится кофе, от которого еще не брыкается сердце, пианистические пальцы лупят по клавишам, а мысль несется вскачь еще быстрее и кажется ей, что от машинки летят брызги — как хорошо! Скоро все встанут, все съедят, разбегутся по своим местам, соберется и она, чтобы отвести в редакцию свою «нетленку» — а в дороге — в этот дивный майский день выскочив из троллейбуса № 1 у Александровского сада пролететь какую-то часть пути пешком, вдруг ощутив в себе какую-то неохватную силу — ноги едва касаются асфальта. Высокий каблук — ничуть не помеха, — она летит, и чувствует легкость своего полета со стороны, как Анна Каренина видела со стороны блеск своих глаз в темноте…
Но проходят дни, и начинают падать со стен фамильные портреты… вдруг неожиданно растекается по старинному зеркалу трещина, пропадает старая собака, срывается из киота древняя икона, умирает мама: жизнь, жизнь, отчего рушишься ты? Почему не желаешь помедлить ради тех, кто так любил, ради немощных, кто не может оставаться один без семьи и без нее непременно погибнет?!! Где же твой покров небесный, семья? Почему вдруг стало так холодно, космически холодно, так отчужденно, отчего оставшиеся разбежались, кто куда, попрятавшись по своим углам, и никто никому словно и не нужен и старик-брат не приходит проводить в последний путь свою старую любимую сестру…
Почему все стали столь чужды друг другу? Почему даже встретившись, разговор столь трудно клеится и сколь бы ты не старался быть любезным, ласковым и внимательным к другому, слова ничего не могут срастить — нет гнезда, все разметано, все распалось, разлетелось по миру пронизывающими ветрами вселенной.
Остается то, что остается, — даже не фотокарточки, а неисходная боль как память сердца. Здесь вернуть нельзя уже ничего.
Иллюстрация: И. Левитан. Владимирка.
К последним классам гимназии Иван стал сникать, лениться, тяготиться учением и всей этой гимназической жизнью. Он даже оставался на два года в одном классе и почти «догнал» Колю, получив аттестат всего за год до Колиного окончания. Занимаясь стихотворством и сочинительством повестей, он, однако, почти никогда не заканчивал их, — и мысль, и сердце его утекало куда-то дальше этих стихов и повестей, ведь он их сочинял, — а сердце свои «сокровища» хранило, по всей вероятности, где-то в иных краях — не в предметах этих повестей… И кто знает, что это были за сокровища?
…Душевно и умственно окрепнув после благословения святителя Филарета, Коля, напротив, стал стремительно двигаться в учебе вперед. У него была энергия и терпение, укрепленное столь же стойким упрямством в достижении поставленных целей. Ему была интересна математика — он испытывал сладостное чувство, каждый раз одолевая ее неприступные высоты. Он уже начинал жить и любимой потом во всю жизнь механикой — руки сами просились что-то конструировать, придумывать, переустраивать… Коля чувствовал, что все это — его, и мог сказать о себе: хлебом не корми, дай позаниматься любимым делом…
А к сему и трудолюбивый был очень юноша Николай и ответственный: он рано, познавший унижение и горечь неудач, насмешек, чувства собственной предельной немощи, обретя силу от Бога, не стал гордым — словно его душа выработала раз и навсегда противоядие от нее. Коля в с е г д а помнил, от Кого, ниспал ему его дар. А в силу неэгоистического здравия сердца, умел понимать, что не только ему одному нужно отменно выучиться, но и его семье, родителям, отцу, страдавшему в отдалении от семьи, матери, столь самоотверженно их любившей, и несший столько трудов и забот ради образования сыновей.
В старших классах Жук и Щука уже сговорились, что станут инженерами. Для этого надо было ехать учиться в Петербург — в Москве в то время инженерного училища не было. Коля написал матери, прося совета и благословения, но получил очень резкий отказ: во-первых, содержать в другом городе одного Николая не было средств. Да и отпускать далеко не хотелось, а главное, подросли Валериан и младший Володя, их надо было отправлять в гимназию, с условием, что они будут жить вместе со старшими братьями. Анна Николаевна не могла рискнуть поручить их Ивану (как же изменились ее мечтания!). Теперь она рассчитывала только на помощь Коли.
Николай принял отказ матери со смирением, хотя и пытался ее уговорить — очень ему хотелось учиться на инженера! И — остался в Москве. Друг Щука решил из солидарности тоже не ехать в Петербург и вместе учиться в Университете. Николай закончил гимназию с серебряной медалью.
В Университете Коля горел наукой, и жизнь его кипела, была переполнена через край любимыми занятиями и дерзновенными пробами и поисками себя в науке. А ведь ему еще приходилось зарабатывать себе на жизнь — бегать по урокам — по 50 копеек за час да еще из одного конца Москвы — в другой в ветром подбитом зимнем пальто да на голодный желудок — питались очень плохо. Кстати, это пальтецо одновременно служило ему и матрацем.
Жили братья в меблировках «от жильцов» в доме Малютина все в том же районе Арбата: «Мы живем в том же доме Малютина под покровительством того же Шмелева и над сапожной чисткой того же Сергея».
Комнатка Коли называлась «шкафчик», настолько она была мала: «Квартирой я окончательно прошибся, хотя комната моя на первый взгляд довольно посредственна, но вход в нее решительно невыносим: мебель весьма бедная и вообще она имеет много неудобств. Задатку хозяйка получила 5 рублей. Но сильно желает получить и все остальные…». Но нет: это не были «жалобы турка», никак! Это был чистый реализм, бодрый, боевой и даже воинственно-веселый.
А Иван все боле погружался в уныние, которое становилось постоянной тональностью его самочувствия. Он и тянулся к светскому обществу, но из гордости, в виду своей бедности отдалялся от богатых товарищей. На юридическом факультете он учился хорошо, но не из любви к науке, а в надежде сделать карьеру и выйти из бедности. Ивана пишет сестре:
«16-го или около того в декабре месяце приеду к вам (в Орехово). Хорошо бы, если бы исполнилась хоть 10-ая часть Ваших предположений. Надеюсь повеселиться и отплатить этим весельем за скуку теперешней жизни. Ты не поверишь, Мари, какая тоска, знакомых никого нет, а так много свободного времени, что страх. Я, конечно, не считаю Афросимовых, да я туда почти и не хожу, а так же не принимаю в рецепт и Оболенских, Леоньевых, Матюшенко — ты знаешь, какое у меня платье — в летнем пидчажке не покажешься в декабре в салонах аристократов… Да это всегдашняя скучная песня. Наобещал тебе много, а писать нечего. Твой брат И. Жуковский».
Спустя некоторое время Иван посылает Маше «отчет» о своей жизни в стихах:
«… Довольно, поговорим лучше о чем другом. Начнем с себя: — Без надежды, без желаний, Без пустых воспоминаний. Без любви. Без веселья. Без печали. Глупо, пошло протекали Дни мои. — Это отчет за сентябрь и половину октября».Но вот в руках моих другой «отчет» — письмо Николая Егоровича, адресованное матери Михаила Щукина, где он вспоминает свои и друга Щуки студенческие годы:
«…Помните, Ольга Ивановна, наше московское житие? Пречистенский бульвар и Сивцев вражек, как бывало, оторвавшись от зубрежки, мы сидели с Мишей у окошка и наблюдали уличные сцены, которые, как нарочно затеваются в немалом изобилии. Помните гуляния по Пречистенскому бульвару, соседку с несметным количеством собак и надоедную кузню. Когда я иду мимо Вашей квартиры, мне все это вспоминается, уличные лужи напоминают мне разные приключения с водой, которых было так много против наших окон, мясная лавка — кот матроска… и много разных мелочей, которые, впрочем, с удовольствием вспоминаешь».
До самых преклонных лет у Николая Егоровича оставалась детски чистая душа. Его радовал всякий пустяк, он всегда был благодушен и в мажорном настроении духа. О своих переживаниях он в письмах никогда не писал — не был эгоистом. Вот как описывает Николай в письме к Марии Егоровне свое посещение дальней родственницы, которую у Жуковских носила наименование «Лилиша» — имя ее было Елизавета Адольфовна:
«…Много поблудивши по широкому двору графа Толстого, я попал, наконец, в какую-то кухню. На вопрос «здесь ли живет Елизавета Адольфовна Петрова», мне отвечала какая-то рожа, что никакой Лизаветы Петровны здесь нету. На спасение мое явилась какая-то длинная рябоватая девка и сказала мне, чтобы я следовал за нею.
Поднявшись по парадной лестнице, я очутился в приемной, обо мне доложили и впорхнула Лилиша. Раскланявшись с ней, мы взошли в залку, здесь принесли свечи и я увидал, что эта залка была весьма хорошо убрана и уставлена цветами.
Залка стала еще миниатюрнее, но и еще милее, когда в нее вбежали две маленькие барышни. Вера и с ней какая-то Маша. Эта Маша блондинка и очень миловидна, хотя мне больше нравятся большие глаза Веры. Они умчались в гостиную, а я остался тарабарить с Лилишей и все это, разумеется, на французском диалекте. Разговор зашел так далеко о какой-то дружбе вроде любви, что я решительно перестал понимать французские фразы, которыми прыскала Лилиша и совершенно некстати говорил по временам русское «ну» или французское «oui».
Наконец разговор несколько позатих, потому что подбежала Вера и стала угощать меня конфетками; но тут случилось другое весьма и весьма неприятное обстоятельство: выбрав шоколадную завертушку, я поднес ее ко рту — однако, недремлющий бес, я уверен, что это его проделки, налил в нее ликеру; и когда я давнул конфетку между пальцами для того, чтобы с большим удовольствием съесть ее, дьявольская жидкость брызнула мне в лицо и потекла по щеке. Лилиша усмехнулась, Верочка как то удивилась, глупый Саша захохотал во всю глотку и повис у меня на штанах. Если бы не быстрота платка, я наверное, мог бы считать себя умершим. После этого обстоятельства, к удовольствию моему, разговор как-то не особенно затягивался; Лилиша сообщила мне, что ей дали эту Машу на воспитание, что скоро приедет к ней еще какая-то барышня и потому она думает занять весь верх Толстовского флигеля и нанять англичанку, так как она сама этот язык немного забыла. Из всего этого я заключил, что Лилиша пошла в гору. После этого я простился и сопровождаемый просьбами заходить и еще какими-то непонятными французскими фразами, ушел домой».
При возвращении после каникул домой перед Николаем Егоровичем всегда вставал ряд тяжелых вопросов: взнос платы в университет, взнос в пансион за младшего брата Валериана, которого на его-то ответственность и отправила Анна Николаевна учиться в Москву, а еще устройство жилья на зиму, недостаток обуви, зимней одежды и т. д. — и все это ложилось на его юные плечи. Иван принимал мало участия в студенческом хозяйстве, презирая бедность, он не делал ни малейшего усилия, чтобы улучшить свое и братьев существование.
Вот отзвуки тех лет в письмах Николая Егоровича домой:
«Видите, как часто я стал писать Вам, впрочем это письмо, если можно так выразиться, вынуждено существенною необходимостью, — пишет он отцу 16 сентября 1866 года. — В четверг я прихожу на лекции — меня не пускают, потому что я не имею билета; я отправляюсь в правление, но там прошение мое не принимают, ибо нет свидетельства. Конечно, это все сущий вздор и пустяки, мой любезный друг Должиков, снисходя ко всем обстоятельствам, дал мне временный билет, с которым я могу ходить в университет сколько душе угодно. Но вот в чем главная вещь: я узнал, что прошения принимаются только до I-го октября; от этого, собственно, я пишу это письмо и прошу милого папашу выхлопотать, как можно скорее, это дурацкое свидетельство. Очень боюсь, чтобы это письмо не пролежало тысячу лет на станции; я был так усмотрителен, что в своем первом письме не сказал Вам о своем намерении писать часто и тем побудил чаще посылать на станцию…»
И следом:
«…Прошение об освобождении от платы я подал; только мне пришлось написать в нем, что свидетельство о бедности моей будет выслано на днях в правление университета. Совершенно не понимаю почему оно еще не пришло туда. Лист в библиотеку я получил, короче все университетские делишки свои обделал…»
В промежуток между этими двумя письмами случилось происшествие с невзносом платы в гимназию за Валерьяна, грозившее ему исключением. Николай Егорович сейчас же пришел на помощь брату и геройски, несмотря на приближающиеся холода, заложил свою шубу, чтобы выручить его:
«Дай Бог, чтобы Вы получили оба мои письма разом, потому что все написанное о Валерьяне в первом письме есть сущий вздор.
Валерьян приходящий, деньги за него взнесены. После таких восклицаний, начну свой рассказ с надлежащей последовательностью.
Когда я взошел в прихожую 4-й гимназии, то был в самом же начале огорошен извещением, что директор болен и что он едва ли примет к себе на квартиру. Что было делать. Я пошел на верх в надежде, правда, самой шаткой, добиться чего-нибудь от Фишера. Подхожу к этому дурню и спрашиваю, можно ли видеть Петра Михайловича, нет нельзя, отвечает он мне. Вдруг при этих словах мимо нас, подобно стреле, мелькнул сам директор и скрылся в учительской. Со сжатым духом подошел к нему, он встретил меня грозными словами: «Ваш брат исключен и за просроченные месяцы с Вас следует взыскать 75 р.с.». Опомнившись от такой пули, я стал всячески замасливать его, говорить, что, вероятно, Валерьян останется пенсионером… Директор был неумолим, затвердил одно: «нынче порядки другие и никаких замедлений во взносе денег не допускается». Впрочем, он, наконец смилостивился и объяснил настоящим образом, в чем дело. Завтра, т. е. 30 сентября будет совет и всех пенсионеров и своекоштных, не внесших денег, исключат, причем, конечно, будут требовать взноса за пропущенные месяцы. Итак, действительно Валерьян должен быть завтра исключен и 75 р. с нас станут требовать. Но вот в чем спасение: совет будет в два часа, а до двух можно внести за Валерьяна 150 р. или 15 р. О первом нечего и говорить, да если бы и имели 150, предпочли бы внести 15 р. Но вот государственный вопрос, откуда достать их. У меня только 4 рубля. Когда мне директор сказал, что самое лучшее, что он мне может посоветовать, это явиться завтра по утру, подать прошение о переводе Валерьяна в своекоштные (он по знакомству позволяет это сделать без всякой доверенности) и внести 15 р., я был даже, можно сказать, скорей огорошен, чем обрадован. Нужно было в 9 ч. вечера до 9 утра отыскать где-нибудь 11 рублей.
Выйдя из гимназии, я пошел тихо по улице и стал размышлять. Из товарищей никого кроме Шмека я найти не мог, а обратиться к нему было для меня невозможно. О тетке нечего было и думать, зная ее скупердяйный характер. Оставалось извертываться самому. Вдруг мне разом пришли в голову две мысли, и только они пришли, то я стал считать все дело совершенно выигранным.
Первая мысль была идти в Лукуте и взять у него 5р. (за ним было 4 урока). Вторая — идти к Шмелеву и заложить шубу рублей за 7 (чтобы оставить у себя 1 р.). Обе мысли сбылись, как по писанному, в моем портмоне лежат 15 р. и завтра чем свет все дела будут обделаны. Я совершенно спокоен душей, хотя на дворе стоят довольно сильные холода, а графское пальто не только не греет, но ужасно холодит. Также совершенно покоен я в том отношении, что на моей постели одни доски покрытые простынею. Моя неудобная квартирка, конечно, не имела хозяйского тюфяка, а своего я все как-то не покупал и потому спал на шубке. Шмуль содрал с меня 70 к. к проценту, но что значило это с 75 р. штрафа.
Перестану хвастать. Попрошу здесь, чтобы на мою долю выслали особых 7 р. 70 к., потому что взять мою шубу нужно, по возможности, скорее. Шмуль, видя мою неопытность, взял с меня расписку, что имеет полное право продать мою шубу по истечении месяца…
Жду братьев в субботу или в воскресенье… Квартирку для нас троих буду искать все эти дни.
Много Вас любящий.
Н. Жуковский»
Сохранилось еще одно письмо из тех студенческих времен Николая Жуковского. Он пишет в нем о неприятностях между Егором Ивановичем и Леонтьевым, в чем было дело точно не установленно, но очевидно Леонтьев протестовал против необходимых, по мнению Егора Ивановича расходов по управлению имением и не принял оплаченных счетов. В пятой главе мы вскользь уже поминали этот случай — Егор Иванович был прекрасным управляющим — он отечески относился к тому, что было ему вверено — и к земле, и к крестьянам, он не умел «выкачивать» изо всего предельную выгоду, в ущерб благосостоянию крестьянства, в ущерб плодородию почв — это было умеренное, здоровое и совестное хозяйствование. Но так или иначе хозяину нужно было нечто другое…
Николай Егорович писал по этому поводу отцу:
«Милый и дорогой наш папа,
Нам передана была мамашей неприятная история Ваша с леонтьевым. Наш общий совет: разорвать Вам с ним всякие отношения, такие люди, как он не умеют ценить истинных и ичестных заслуг. Бросьте Леонтьева, милый папа, после того, что он сделала, честный человек не может служить ему. Притом же Ваши лета и Ваше здоровье не позволяет Вам быть ответственным слугою за надутого пустого аристократа. Вы слишком нам дороги, папа, и слишком больно нам думать о всех тех неприятностях, которые Вы получаете ради нас и для нас… Мама рассказывала также про Крузенштерна. Это добрый и кажется, честный старик, то же, что он Вам предлагает великолепная штука, только немного рисковая. Не лучше ли Вам гарантировать себя хоть маленьким жалованием. Впрочем поступайте, как Вам будет угодно. Главное, больше покоя и удобств для Вас, милый папа, а это самое главное, самое искреннее наше желание. К тому же мы (я с братом) почти на дороге. Через какие-нибудь полгода придет наша обязанность покоить и лелеять Вас так, как Вы нас лелеяли и поили.
Бог милостив, папа, все устроится к лучшему. Мы бы хотели, чтобы Вы совсем бросили всякие чужие занятия, но в настоящую минуту этого пока нельзя, еще у нас подвязаны крылья, да и Вы слишком любите хозяйственную деятельность, а Орехово не может, конечно, удовлетворить это любви. Так что ради этой любви и ради только ее одной сойдитесь с Крузенштерном; поле широкое, папа, для проектов и улучшений; Крузенштерн не скажет, что рига слишком хороша, зато Крузенштерн и не подвергнется риску быть избитым пастухом.
Решайтесь, папа, а Леонтьева бросьте, это мы все Вас просим; пожалуйста, не бойтесь, просить будет, да Вы то, ради Бога, бросьте свою мягкость и откажитесь на отрез.
Да благословит Вас Бог, милый папа, да даст Он Вам твердость и бодрой решимости.
Многолюбящий Вас Ваш сын
Н. Жуковский.
Если у Вас есть счеты с конторой, то уплатите выкупными или даже заложите Орехово. Но во всяком случае и даже лучше, если он будет требовать сильно, дайте формальный вексель на год или больше. Это мы уплатим сообща, папа, не безпокойтесь. Мы все, слава Богу, здоровы и все Вас целуем. 1868 год. 2 января».
Николай был искренне уверен, что окончив университет, он сразу сможет зарабатывать и тем облегчит жизненные ноши родителей. Но прошло почти 3 года, пока он смог встать на ноги и взять на себя все заботы о семье.
Весною 1868 года оба брата Жуковских кончили университет. Иван был оставлен при университете кандидатом прав, а Николай и друг Щука окончили кандидатами математических наук. Опять всплыла мечта поступить в Петербурге в Институт Путей Сообщения — так был переименован Инженерный корпус, который в свое время оканчивал Егор Иванович. Материальные дела семьи к тому времени поулучшились — Егор Иванович остался управляющим у Оболенских, а так же и у помещицы Нарышкиной. Николай надеялся, что он тут уже близок к заветной цели стать инженером. Однако в Петербурге ему пришлось очень трудно — он совсем не знал черчение. К тому же климат явно не пошел ему на пользу — пришлось оставить институт и вернуться на Ореховское молоко и готовиться к защите магистерской диссертации в Московском Университете, которую, скажем мы, забегая вперед, он блистательно защитил.
Начиналась новая страница жизни — мощное, красивое восхождение к вершинам науки. Пришел определенный достаток и в семью, хотя все-таки Егор Иванович не отказался служить управляющим имением Новое Село в Тульской губернии у сына Ивана, который женившись на состоятельной вдове князя Гагарина, обрел немалую собственность и нуждался в управителе.
Это означало еще большее удаление Егора Ивановича от семьи и Орехова, от любимой супруги. Но подрастали еще и младшие дети — Валериан, Володя и отроковица Верочка. О них и об Орехове, тоже нуждавшемся в заботах и поновлениях, болела душа Егора Ивановича и Анны Николаевны, которых вновь ждала разлука…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой — слева — направо: Николай Егорович Жуковский — студент Университета, Егор Иванович Жуковский и Иван Егорович Жуковский — кандидат права. А так же здание Корпуса Инженеров Путей сообщения в Петербурге, который окончил Егор Иванович, образец мундира учащегося в Корпусе, остатки рельсов той Нижегородской дороги, которую строил Егор Иванович после окончания Корпуса.
Глава 6. Странничек
…Вот уже и калина за моим деревенским окном начала наливаться… А в Орехове калины я что-то не помню: может, где на деревне и росла, но в усадьбе ее не было. Зато помню и многие годы с детства искала встречи с незабвенными цветками (нет, плодами, плодами, конечно…) того удивительного рода кустов бересклета, которые так же, как и роскошную сирень, и жасмин высаживал у стен ореховского дома прапрадед Егор Иванович Жуковский в середине XIX века. Дожили прадедовские посадки даже до времен моего послевоенного детства, и я помню, с каким трепетом я забиралась в гущу этих очень старых разросшихся кустов и не могла наглядеться на красоту ягод. Для меня это было нечто неземное, чудное, каким-то тайным образом связанное со всем духом и образом Орехова. Тем более, что мне и тогда говорили, что все это — посадки моего прапрадеда — Егора Ивановича Жуковского — и огромные сирени, правда уже вырождавшиеся к моему появлению в ореховском мире, и жимолости и необыкновенной красоты жасмин, который резали и ставили благоухать в дому…
Мне часто рассказывали о дедушке, — я хочу теперь оставить в стороне все эти "прапра" (собственного деда я не видела — он за 37 лет до моего рождения оставил Россию и судя по карточкам, присылавшимся из Америки или из Парижа, это был очень моложавый и красивый джентльмен. Но то дедушка Егор Иванович…). Он скончался в 1883 году, но образ и дух его всегда пребывал в Орехове, пока там еще жил кто-то из оставшейся дедушкиной семьи. Поразительно: это был самый тихий человек из всех, кого я только знала за всю жизнь (и даже заочно из предков), тихий не внешними манерами, молчаливостью или сдержанностью реакций, не той тихостью наружной, которая, как правило, если затронуть пусть невзначай в глубинах этого "тихого" нечто, относящееся к неприкосновенной сфере его самолюбия, то тут не только вся тихость эта закончится, но и познакомишься с оказывается весьма крепкими «бицепсами» самозащиты, а и пуще того: иной раз и рык услышишь от такого тихони.
А дедушка Егор Иванович был тих изнутри, в самых своих глубинах. В нем не было зла, кажется, совсем. Его сердце не способно было не только носить в себе самомалейшее зло, но и видеть зло, учиняемое не только ему (тут он был терпелив) другим — не случайно еще во времена его молодости, первых лет брака с Анной Николаевной и их начальной жизни в Орехове, он запретил охоту.
Мне вспоминаются многие образы добрых русских помещиков, без охоты жизнь свою не мысливших, — да хоть сын Егора Ивановича — Николай Егорович — человек, огромной доброты, мягкости, великодушия, а как любил охотиться… Вот читаю, к примеру, в бабушкиных записках описание обстановки кабинета Николая Егоровича, где на настенном ковре или в охотничьем шкафу описывала она все надлежащие охотничьи принадлежности ("у Николая Егоровича везде, где бы не жил, всегда пахло порохом, кожей, и душистым мылом Брокара") и среди них — непременный, заслуженный ягдташ «со следами крови убитых охотничьих трофеев». Я всегда содрогалась, читая эти строки, и в детстве, когда мне кто-то из ореховских охотников преподнес в качестве подарка и игрушки пушистую заячью лапку, я помню, что и в руки ее взять не могла от ужаса…
Вот и дедушка мой Егор Иванович был такой же. Нынче над ним могли и жестко посмеяться, но тогда окружали его люди истинно добрые, светлые, чистые и понимающие, хотя не все и не до глубин: и они не отдавали себе в полной мере отчета, что это был особенный, отличный ото всех человек. Даже тогда, в те благословенные времена особенный. Даже для таких любящих и целомудренных душ как Анна Николаевна или его собственные дети. При всей их доброте им было далеко до Егора Ивановича, который молчаливо признавался всеми в семье все-таки несколько необычным и немного странноватым человеком.
Он не мог видеть, когда в Орехове появлялся кто-то с ружьем — Егор Иванович не мог бы как Лев Толстой с творческим наслаждением описывать взгляд затравленного на охоте и раненного, еще живым привязанного к седлу волка. Не мог видеть предсмертные содрогания подстреленного вальдшнепа. Сколько раз было: возвращаются сыновья вместе с крепостным тогда еще дядькой Кириллой Антипычем с охоты с ягдташами, полными дичи, — усталые, голодные, победоносные, перебивая друг друга рассказывают о своих охотничьих подвигах. Анна Николаевна слушает рассеянно, но лицо у нее довольное: ох, какое блюдо велит она приготовить из настрелянной дичи! Старшая Машенька все хлопочет, чтобы ей непременно аккуратно засушили крылышко селезня на шляпку, учитель мальчиков — Альберт Христианович — потирает руки, предвкушая, как он в следующий раз тоже пойдет на охоту, и один только Егор Иванович молчит в уголочке, никак не разделяя общего возбуждения: он смотрит на свесившиеся головки убитых птиц. И на лице его огорченном — сокрушение и боль.
Не из соображений умственных, филантропических у него это было, — просто такая вот присуща ему была острота переживания чужой боли — где бы она ни встретилась.
Но однажды произошел трагический случай…
Ехал один крестьянин с возом хворосту, у него было заряженное ружье, подъезжая к воротам усадьбы, он издали заприметил Егора Ивановича и поторопился сунуть ружье под хворост. Задел курок и ружье выстрелило. Крестьянин был ранен и вскоре умер. На Егора Ивановича сильно подействовал этот случай. На месте происшествия он соорудил часовенку с иконой святителя Николая Чудотворца и неугасимой лампадкой, и с тех пор больше не запрещал носить открыто ружье, и потом не препятствовал сыновьям стать рьяными охотниками. Но в душе он не одобрял ни охоту, ни употребление в пищу животных. Он сам не ел мяса, правда никогда не требовал себе отдельного стола, старался, чтобы для других это было незаметно. В одной из записных книжек его среди заметок типа: осмотреть печи и трубы у крестьян, определить Герасима в работники, написано — «сыскать коновала полегчать поросят, — не следует из корысти мучить животных».
Такое же благоговейное отношение было у дедушки ко всему живому — не говоря о детях (об этом позже), — к растениям, к земле… Он был удивительный сельский хозяин и, работая управляющим в больших имениях, он мог там развернуться во всю ширь своего сердца в его заботе о людях, о земле, о водоемах, о растениях… Сколько труда и сердца вложил он в Орехово! Многие годы и после него дети его и внуки ухаживали за садом, за дивными цветниками, в которых росли выписанные им со всего мира старинные центифольные розы и «папашины георгины», и, наконец, эти дивные кусты, под сенью которых я так любила проводить время в своем сказочном ореховском детстве.
* * *
…Для меня тогда не было большего чуда, как эти небольшие кусты бересклета с сережками, в виде многоярусных подвесок, с очень ярким, нежно алым, удивительной чистоты и яркости цвета круглым основанием, с изысканно розовой коробочкой-зонтиком над ним, и, в конце концов всю композицию завершающей агатово черной, будто лакированной ягодой, подвешенной на этом алом и розовом, — сложное, изысканное и, несомненно, восхитительно победоносное творение.
Наверное, воздействовало на моё очарованное этими кустами подсознание еще и то, о чем предостерегала бабушка: эти красавицы сережки-ягоды были, оказывается, очень ядовиты. Кто-то называл их за то «волчьим лыком» (в то время как «волчьим лыком» именуется совсем другое растение), кто-то «сорочьими очками», кто-то «ягодами малиновки», а кто-то и Божьими глазками. Это был «бересклет священный» (Euonymus), или как его чаще звали в наших владимирских краях, — мересклет. И что-то таинственно-влекущее звучало для меня (и до сих пор звучит) в самом этом слове: бересклет-мересклет…
«Темное слово», — сказал мне в ответ на мои вопрошания этимологический словарь. Конечно, темное, потому что у всякого древнего и подзабытого слова есть и свои тайные вещания, и своя собственная жизнь, которая относится не только к чему-то на поверхности лежащему — скажем, если наименование растения, так тут все из области ботаники. Никак нет…
У береслета-мересклета в его имени как-то странно преломлялось и его для чего-то ему данное свойство ядовитости, и его красота, и какие-то еще созвучные и еще более отдаленные обертона смыслов. Мерекать — у Даля, — о чем-то думать, гадать, смекать, угадывать и… бредить. Мерет — древний злой дух, нечистый. А еще морок, мрак, морочить, мерещиться, сумерки, — любимейшее мое в детстве слово, с которым связано было самое удивительное время суток и соответствующее ему занятие — сумеречничать… Состояние переходное, пограничное, — какая-то пауза покоя в непрерывной суете и напряженной толкотне жизни, затишье и природное, когда медленно и плавно начинают подкрадываться от углов и ложиться на все окружающее таинственные тени, когда жемчужно мягчеет и переливается свет, — не сон, не явь, не день, не вечер…
Зачем и для чего эти сумерки и райская благостность их красоты даны человеческому сердцу? Для чего, для кого так украсил Господь этот малый куст, и все л и л и и п о л е в ы е, и всех зверей и птиц, фантастические оперения которых (изо всех экзотических стран) так любила рассматривать я в детстве в одном изданном с редким совершенством еще до революции альбоме?
Вот и мой прапрадед, дедушка Егор Иванович, тихий, мягкий, никогда никому не то, что не помешавший, но и ничего не взявший от жизни, а только отдававший, любивший всю жизнь безоговорочно и преданно свою Ниночку (так он любил называть Анну Николаевну), — почему он так лелеял этот бересклет, выписанный им из каких-то дальних мест, старинные центифольные розы, которые высаживал везде, где бы не жил, детей, в которых души не чаял, — и своих и не своих: в Орехове он в крепостные еще времена устроил детский садик и ясли для крестьянских ребятишек, а потом, уже в 70-е годы поселившись управляющим у сына Ивана под Тулой в Новом Селе возился с ними, занимался, привлекал к своим интересным трудам, и, главное, собрал при усадебном храме Успения Пресвятой Богородицы по отзывам изумительный, поистине ангельский детский хор из крестьянских ребятишек, с которыми сам занимался пением, регентовал вплоть до самых последних дней своей жизни, когда уже дойти до храма он не мог, а его туда под руки подводили… Там у этого теперь разрушенного почти полностью храма, и нашел он последнее свое земное упокоение.
И его томила и испытывала красота Божиего мира… Почему? Для чего? Не для того ли, чтобы человек, все ниже и ниже опускающийся в земные недра, оземленяющийся по мере скончания веков, не совсем запамятовал, что есть подлинная красота и Кто за красотой. Чтобы человек мог соизмерять с нею, недосягаемой и совершенной, ничтожность своих гордых, ребяческих потуг, свою немощь и полную зависимость от Творца?
Помню, как однажды при случайно брошенном взгляде на бесстрашную белку, устроившуюся на соседней сосне, на умильную и складную ее мордочку (а она и на меня глянула в тот миг своими поистине прекрасными очами), вдруг совершенно явственно и мощно сверкнуло сквозь это живое и трогательное окошечко ослепительное сияние Божественной Любви и сказало мне: только Она, Любовь Божия, могла сотворить такое существо и такую мордочку, только Она могла при этом пронизать и напечатлеть и здесь, и во всех Своих творениях Себя, Свою Любовь, Свое истинное согревающее и милующее весь живой мир тепло, Божественную ласку, Божественное Добро, чтобы отныне и навеки всякое дыхание — и бессловесные! — хвалило бы Господа, Создателя своего.
…А что же человек?
* * *
Ослепительно смелое сочетание тонов и форм бересклетовых подвесок не только очаровывали меня, но буквально подавляли, как только может подавлять подлинная нерукотворная красота мира, которую человек не может лишь только «п е р е ж и в а т ь» («переживание красот» — какое затоптанное общее место в человеческом лексиконе, столь часто бездумно и механически повторяемое, но не выражающее ничего дельного) и тем более п е р е ж и т ь.
Красота подавляет? — быть, может, выскажет недоумение привыкший к привычному читатель. И тогда я с готовностью пущусь в объяснения: разве не важно понять, почему так происходит, почему не правильно не только переживать красоту, но почему невозможно ее пережить, и что же тогда происходит на самом деле в душе человека при встрече с красотой мира, пусть и не со всеми, но с душами особо восприимчивыми, глубоко чувствующими и не только самоё красоту, но и принавыкших к слышанию своих собственных глубин.
Разве в самых донных глубинах своих не слышим мы в этой нерукотворной подлинной красоте мира (где она еще осталась) — в ы з о в а, обращенного к нам, и беспокойной потребности каким-то действием о т в е т и т ь на этот вызов? То ли эту красоту во что-то претворить, то ли как-то ее у п о т р е б и т ь (нарвать цветов, поставить в доме, притащить к себе камни, красивые куски деревьев и пр.), то ли ее преобразовать, или, на крайний случай, ее худо-бедно и з о б р а з и т ь (чем, увы, большей частью и исчерпывается неосмысленный творческий порыв человека, зиждущийся на самоуспокоении, что, мол, и этого вполне достаточно, и это, мол, уже дело весьма достойное и нужное — отобразить, запечатлеть)… Все, что угодно, но только, увы, не самому этой красотой Божиего мира в н у т р е н н е п р е о б р а з и т ь с я, расслышав в ней ее внутреннее слово к нам обращенное, ее призыв к нам о возвышении и восстановлении нашего ч е л о в е ч е с т в а до высоты п о д о б и я небесному Первообразу, а не только до промежуточного уровня сочетания с этой, явленной миру, крохотной частицей красоты, превысив и ее совершенство, приближаясь к совершенству Божественного Первоисточника.
А иначе красота Творения для человека — лишь мука, неразрешимый диссонанс, вопль, терзающий его сердце и совесть обличением собственного б е з — о б р а з и я, напоминание бесконечной далекости нашей от Бога и Божественного Первообраза. И вот что мне тут же, между прочим, подумалось и вспомнилось — старинные протяжные народные русские песни и их несравненная, неподражаемая и неповторимая нигде в мире задушевная красота. Задушевная — за душу берущая. Но чем берущая?
* * *
…Между прочим, не «долю горькую» оплакивали, ропща на судьбу и Бога, как это со времен Белинских трактовали отечественные непрошибаемые атеисты, а именно эту свою о т б р о ш е н н о с т ь, свое без-образие выплакивало чуткое и отзывчивое к Божественным зовам красоты мира сердце великого народа Святой Руси в своих хватающих за душу заунывных, протяжных песнях. В этих песнях жил покаяльный дух народа, дух, которым когда-то и отличались настоящие русские люди от всего остального довольного собой мира. Не прост народ наш был, широк, с могучими противоречивыми задатками, но жил и спасался он вот этим только покаяльным духом. О том и Достоевский писал, что судить о народе надо не по его поступкам, а по тому, что он почитает за идеал. А Идеалом был Христос: «Научитесь от Мене, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11:29).
Пели простые мужики-пахари и сыны боярские, пели и разбойники — пел Опта, от которого по преданию и началась Оптина Пустынь, пел и Пугачев, зная, что ждет и не минет его и царская виселица и Божий Грозный Суд; пели странники, калики перехожие, вкладывая в песню свое и своего народа великое т о м л е н и е д у х а, которое, видать, слышал и благословлял Бог, коли возвышал нередко те песни разбойничьи, тех певших и слушавших до высоты п л а ч а д у х о в н о г о, из которого (и которым!) и вырастали великие русские православные подвижники и святые.
Не слова здесь были главными, а отзвуки сокровенных «воздыханий неизглаголанных», дух, в котором изливалась та самая русская скорбь о своем греховном несовершенстве и смиренная к Богу молитва; и был этот дух по природе своей не сопоставим с настроениями той протестантской самодостаточной праведности, которую так старательно насаждали на Руси ее европейски образованные хозяева и б л а г о д е т е л и…
Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати, Что заутра мне, доброму молодцу, во допрос идти Перед грозного судью, самого царя…Так выпевала сердце свое Русь с незапамятных времен и, казалось, что будет она так петь всегда и что невозможно заглушить и уничтожить эту песню, оборвать эту струну, этот долгий протяжный звук, который так явно слышал и Гоголь в «Мертвых душах», и Чехов в своем вырубаемом «Вишневом саде» — этом исполненном любви и правды реквиеме по России, в котором звук лопнувшей струны долго слышался на фоне глухих ударов топора, сад тот вырубавшего.
Оборвалась струна, но не устал топор. Наступил XX век, и умолкла русская песня, а с ней почти совсем изжился и тот искренний, горячий, покаянный и вместе смиренный дух русского народа.
Где теперь могли бы услышать и мы вместе с Тургеневым, как пел черпальщик с бумажной фабрики Яшка-Турок, которого потрясенный писатель услышал в кабачке в Колотовском овраге в середине века XIX, в местах вовсе не отдаленных от Оптиной пустыни…
«Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны»:
Не одна-то ли, да одна, ай, во поле дорожка, Во поле дороженька, эх, во поле дороженька. Не одна-то ли дороженька, ай, дорожка пролегала, Она пролегала, эх, она пролегала. Эх, частым ельничком доро… ай, дорожка зарастала, Она зарастала, эх, она зарастала. Молодым-то ли горьким, ай, горьким осинничком Её заломало. Эх, её заломало. Как по той ли по дороженьке, ай, по той ли дорожке Нельзя ни проехать, ой, да ни проехать, ни пройти…Еще умели по-русски петь протяжную народную песнь, отзываясь на т о чувство, и Шаляпин, и Обухова, и Лемешев, — у них еще в крови жили наследственные духовные гены. Но это были уже последние певцы, последние носители, — или уже только слышатели и исполнители? — покаянного духа Христовой Руси.
* * *
…И в нашей семье был один особенный, всеми любимый, но таинственный человек, в котором еще жил в своей подлинной чистоте т о т дух, хотя человек этот был по происхождению своему, конечно, не из разбойников-ушкуйников, не из мужиков-пахарей, а из самых что ни на есть типичных старосветских помещиков, о которых еще Гоголь писал. По духовным же своим корням происходил он из рода смиренных русских странничков, что в котомке за плечами носили Евангелие да сухари, а в сердце — молитву Иисусову. И он тоже прошел по жизни так тихо, так сокровенно, как тот о с е н н и й м е л к и й д о ж д и ч е к из старинной русской песни (то ли Дельвигом в народе позаимствованной, то ли народом у Дельвига), смиренный шелестящий шажок которого подслушать можно лишь припозднившейся осенью, по рану в октябре, в отходящем в умирание предзимья печальном лесу.
«Простой барин» — величали Егора Ивановича ореховские мужики. А я назвала Егором — Георгием — в честь дедушки своего первенца…
На фото: ветка с плодами бересклета
…Расскажу о том, как познакомились Егор Иванович и Анна Николаевна Стечкина.
После странной самовольной женитьбы еще не достигшего совершеннолетия брата Якова на Эммочке (воспитаннице или побочной дочери его отца) и сердечной драмы Вареньки Стечкиной (влюбившейся в учителя, которого братья тут же изгнали) Анете вовсе не хотелось, да и невмоготу уже было оставаться в Плутневе, ведь там появилась еще одна — и теперь уже главная хозяйка дома — жена брата Якова.
Удивительная девушка была Анна Стечкина — такое душевное здравие, такая духовная рассудительность к 22 годам, уравновешенность и твердость в своем христианском взгляде на жизнь — трудно было тогда (да и не только тогда!) сыскать подобную девицу, столь рано (в 18 лет) осиротевшую, но ничуть не растерявшуюся в жизни.
Ранней осенью 1839 года, взяв с собой обеих младших сестер, Варвару и Софию, Анна уехала из Плутнева, как оказалось навсегда, сначала в Тулу, а потом в Москву, куда переселилась семья Северцовых — опекунов детей Стечкиных. Там, в Москве Господь и свел пути молодого инженер-поручика Егора Жуковского и девицы Анеты Стечкиной.
У Северцовых была ложа в Большом театре. Аннета с сестрами начала выезжать с тетушкой Маргаритой Александровной Северцовой (она была двоюродной сестрой ее отца)в свет. В театре и приметил Егор Иванович сестер Стечкиных. Аннета сразу очень ему понравилась, и он бросился искать общих знакомых, чтобы быть представленным у Северцовых. Вскоре общие знакомые нашлись, Егор Ивановича представили, и он стал часто бывать у них в доме…
Выпускник Корпуса инженеров путей сообщения, прапорщик Егор Иванович Жуковский в это время уже служил на постройке шоссе Нижний — Москва, на участке дороги Владимир — Болдино. Орехова еще и в поминах не было, Аннета еще была Стечкиной и все сердечные переживания ее были пока повернуты вспять: к родному Плутневу, к судьбам братьев и сестер, хотя на Егора Жуковского и она обратила свое внимание. Однако благий Промысел уже творил, прорисовывал и устраивал будущую жизнь этой несомненно Богом благословленной пары, о чем свидетельствуют события нескольких предыдущих лет…
Еще в 1833 году перед окончанием Корпуса Егор Иванович был командирован не куда-нибудь, а во Владимир, где он должен был явиться в распоряжение управляющего инженерными изысканиями Корпуса в этой губернии майору Энгельгардту. Долго хранился в семье подлинник этого приказа по Корпусу, на обороте которого была сделана приписка рукой Егора Ивановича: «1833 года мая 10-го дня в 5 часов утра выехал из С.Петербурга во Владимир с прапорщиком Ф. Пселом». С этого дня Владимирская земля стала для Егора Ивановича Жуковского второй родиной (свою колыбель — Полтаву ему пришлось оставить еще отроком, когда его увезли в Петербург для поступления в Корпус).
В 1833 году Егору немногим недоставало до 20 лет. Анете тогда было всего лишь 16. Время еще терпело…
Во Владимире Егор Иванович вскоре сделал немало добрых знакомств. Среди многих местных помещиков, с которыми он завел дружбу, был и граф Валериан Николаевич Зубов, сыгравший такую видную роль в жизни его будущей семьи: ведь Зубов-то, как мы уже рассказывали, и сосватал молодым супругам Жуковским, их будущее родовое гнездо — незабвенное Орехово.
Встретив Анну Стечкину, Егор Иванович сразу и безоглядно ее полюбил. Он был несомненным однолюбом. Между прочим, и дети, и внуки всегда подчеркивали благородную, утонченную и даже величественную красоту Анны. Анна Николаевна так и осталась единственной любовью всей его жизни до самой кончины Егора Ивановича в конце 1883 года. Прожили они вместе в согласии, мире, любви и святом друг ко другу уважении, ни разу даже слегка не поссорившись, о чем свидетельствовали все их дети, — целых 43 года.
Но это все было после, а в 1839 году Егору Ивановичу, скромному и очень застенчивому молодому человеку, к тому же весьма небогатому и не очень родовитому в сравнении с Анетой полтавскому помещику было очень непросто осмелиться подступиться к ней с предложением руки и сердца. Решился же он тогда, когда сумел придумать изящную и в то же время обтекаемую форму, в которой ему было бы не так страшно вопрошать Анну о чувствах ее к нему.
Указывая на свои карманные часы луковицей, на крышке которых эмалью была изображена дама и рыцарь у ее ног, он спросил: «Может кавалер остаться или должен уйти?» — «Может остаться», — к неописуемой его радости сразу очень твердо ответствовала Анна, и стала с той минуты его невестой.
Достойна удивления эта решимость юной Анны. Она ведь была не из породы легко увлекающихся капризных девиц, чьи привязанности и увлечения зависят от частых передвижений стрелок барометра. Значит, что-то важное для себя она сумела углядеть в этом молодом, скромном и небогатом поручике, что заставило ее доверить ему свое сердце? Свидетельств о том никаких в семейных анналах не осталось. Несомненно, Анета, дорожившая славными преданиями древнего рода Стечькиных, понимала, что партию она делает не выгодную, что жизнь ей не сулит впереди ни светских радостей, ни развлечений, ни даже спокойного достатка, но выходя за Жуковского, она обрекает себя на всежизненный нелегкий подвиг служения мужу и семье.
Не могла она не обратить внимания и на мягкий, застенчивый нрав Егора Ивановича. Обычно таковые мужчины настораживают невест, которым свойственно искать того, за кем они будут чувствовать себя как за каменной стеной. Тут было что-то иное…
Как говорил когда-то наш Духовник, девушка, принимая решение о будущем браке, должна руководствоваться ответом на главный вопрос: куда о н ее поведет. Несомненно, Анна была уверена, что ей предлежит жизнь с глубоко верующим, духовно-чутким, щепетильно порядочным и редкой душевной одаренности человеком. Все это она, не смотря на свою молодость и полную неопытность, на отсутствие рядом мудрой советницы-матери сумела сама увидеть, понять и принять.
Мудрая Анна сделала свой выбор: она всецело доверилась сердцу Егора Ивановича…
Брат Яков, шокировавший всех своею самодурной женитьбой, тем не менее, не преминул презрительно и высокомерно высказаться по поводу брака сестры с «каким-то инженеришком», да еще и совсем небогатым, но, все же, судя по метрической выписи, поручителями Анны на свадьбе были «из дворян канцелярист Яков Николаевич Стечькин вместе с братом, неслужащим дворянином Александром Николаевичем Стечькиным».
Брак Анны Николаевны и Егора Ивановича был совершен в Москве, 31 января 1840 года, в Троицкой, что в Зубове Церкви. Начиналась история новой молодой семьи и что-то предвещало им будущее?
* * *
Родился Егор Иванович в 1814 году в семье полтавских, воспетых Гоголем, старосветских помещиков, небогатых и не очень знатных — род Жуковских был записан во II книгу дворян Полтавской губернии, но имевших, тем не менее, весьма богатое историческими воспоминаниями семейное прошлое.
Жуковские жили в своем имении Русановка очень дружно, размеренно, возможно, даже и очень однообразно, но главное — очень тихо: в провинциальной патриархальной простоте, уюте и любви. В Русановке помимо Егора и двух его младших сестриц проживала тетка Егора по матери — овдовевшая Варвара Кулябкина, брат матери Антон Тышкевич с семьей, а вскоре присоединился к ним и Иван Тышкевич.
Отца Егора звали Иваном Алексеевичем. Он был отставным майором, отличившимся и награжденным за храбрость в войну 1812 года, теперь же давно превратившимся в располневшего на варениках да на украинских колбасах степного помещика, который еле натягивал свой старомодный мундир времен Государя Александра I, отправляясь к обедне в церковь. Остальное время он посасывал свой длинный чубук, лежа в тени тополей небольшого садика перед домом и, возможно вспоминал славные сражения, в которых принимал в былые времена участие. При Шевардине и Бородине, при Вязьме от 22 октября 1812 года, о чем свидетельствовали уже много позднее выбитые на мраморных досках списки отличившихся воинов на стенах Храма Христа Спасителя, где и Жуковские фигурировали; вспоминал и свое участие в походе русской армии на Париж, из которого вернулся не один, а с молодой красавицей-женой Марией.
Быть может, вспоминал он и славные предания своего дворянского рода, начало которому положил некто Иван Жук, старинный полтавский казак, проживавший в Полтаве в первой половине XVII столетия.
…У Ивана Жука была дочь Александра — ставшая игуменией Будищенского женского монастыря (1679), и сын Феодор — полтавский полковник. Он уже именовался Жученком.
Федор Иванович Жученко слыл на Полтавщине человеком весьма влиятельным. По своему богатству и значению, как свидетельствует Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, Федор Иванович принадлежал к небольшому, но влиятельному кружку местных полчан, руководившему остальной массой казачества. В июле 1659 года впервые был избран полковником. После этого он еще несколько раз был полтавским полковником, а в последний раз — с 1682 года по 1691-й. Старшая его дочь Любовь Федоровна была замужем за Василием Леонтьевичем Кочубеем, а младшая, имя ее, увы, неизвестно, за Иваном Искрой. И та, и другая стали вместе с мужьями активными участницами заговора Кочубея и Искры против Мазепы. От Любови Кочубеевой остались у Федора Ивановича внуки — Федор и Василий, которые теперь уже продолжали другой род и именовались Кочубеями.
По мужской линии род Жученко продолжил племянник Федора Ивановича Петр Тимофеевич, сын его младшего брата — Тимофея. Этот Петро был полтавским полковым сотником, затем полковником, а позднее сорочинским сотником. Сына его звали Яковом, а внука, ставшего священником, звали Григорием. С него-то и взяла начало ветвь рода, которую стали звать Жуковскими.
Полковник Федор Жученко владел селом Жуки под Полтавой, которое вписалось в историю России, поскольку именно в этом месте происходили важные события войны со шведами. Но еще до войны в июне 1708 г. уже престарелому Жученку пришлось претерпеть великую скорбь: оба его зятя, Кочубей и Искра, пытавшиеся обличить перед Петром I предательство Ивана Мазепы, были зверски пытаны, а затем переданы тому же Мазепе на расправу и им же казнены. После столь тяжких переживаний старик Жученко прожил не более года. В декабре 1708 г. гетман Скоропадский подтвердил ему его маетности (имения) — село Жуки и слободу Никольскую, а в следующем году Жученко умер, оставив имения свои внукам.
Вот несколько строк из истории Н. И. Костомарова о событиях тех незабвенных дней…
* * *
«…Вдова несчастного Василия Леонтьевича, как мы уже говорили, ограбленная, увезена была в Батурин и содержалась там под строгим караулом. В самое критическое время, когда Батурину угрожало разорение, въехала в Батурин какая-то черница в повозке, крытой будкою. Содержавшиеся в Батурине вдовы казненных Кочубея и Искры были кем-то предуведомлены об этом, вышли переодетые вместе с меньшим сыном Кочубея, Федором, сели в повозку под видом черниц и выехали из города, а дочь Кочубея Прасковия с прислугою, переодевшись в платье простолюдинки, вышла пешком и соединилась с остальными за городом. Так освободились они и уехали в село Шишаки, маетность пана Кулябки, женатого на одной из дочерей миргородского полковника Апостола. Оттуда пробрались они в Сорочинцы, маетность Апостола. Там уже находился старший сын Кочубея, Василий, с женою; туда съехались и другие родственники. Пробывши в родном кругу несколько дней, они разъехались: Василий Кочубей с женою, тещею и своею сестрою, Анною Обидовской, уехал в Крылов, а вдова Кочубея и сестра ее, Искрина, с давним приятелем дома Кочубеев, Захаржевским, поехали в Слободскую Украину и остановились в Ровненском хуторе на Коломаке, принадлежавшем Искре.
Туда приехал родственник их, (отец — прим. мое. — Е.Д.) Жученко, и привез письмо от Меншикова, писанное из Конотопа к сыну казненного Кочубея, такого содержания: "Господин Кочубей! Кой час сие писмо получишь, той час поезжай до царского величества в Глухов и возьми матку свою и жену Искрину и детей, понеже великая милость государева на вас обращается".
Мать немедленно послала в Кременчуг звать сына, а сама, в ожидании, отправилась с Искриной к старому родителю их, войсковому товарищу пану Жученку, жившему в Жуках, в 10 верстах от Полтавы. (…) Обе сестры из Жуков уехали в Харьков, а оттуда пробрались в Лебедин, в главную царскую квартиру, узнавши, что царь уже находится в этом городе (…) По царскому повелению гетман Скоропадский дал универсал, которым возвращались вдове Кочубея с детьми и ее сестре, вдове Искры, оставшейся бездетною, все маетности покойных мужьев с некоторою прибавкою новых».
…А теперь несколько слов о том, что творилось во время разгара Полтавской баталии в Жуках, куда в церковь была передана перед тем как святая реликвия окровавленная в пытках и на плахе рубаха Василия Леонтьевича Кочубея, где и хранилась она до середины XIX века. Ныне той церкви в Жуках давно уже нет, да и рубаха пропала; правда уже в наши дни поставили в Жуках небольшой деревянный храм в память о тех знаменательных событиях.
Именно в Жуках была ставка Карла XII. Шведы применяли здесь тактику выжженной земли: три хутора, стоявших напротив села Жуки, были в целях обеспечения безопасности монаршей особы сразу же сожжены, а их жители изгнаны из обжитых мест.
…После победоносной битвы царь-победитель осматривал воинскую добычу. «При разборе вещей было найдено несколько святых икон, обращённых шведами в шахматные доски. Одна из них и поныне хранится в с. Жуках, Полтавского уезда, — писал в своих «Записках о Полтаве и её памятниках» в 1902 г. В.Е. Бучневич. — Икона эта деревянная, липовая имеет 12 вершков длины и 9 ширины. На ней заметны следы изображений пророка Даниила и патриарха Иакова с виденною им во сне лестницею. /…/ Под иконою в рамах (на которой шведами вырезана шашечница для игры в дамки) на синей бумаге написаны следующие стихи, составленные протопопом Иваном Жученком в 1780 году:
В пепеле забвения все час погребает, О чесом писания нам не возвещает. Сего ради судихом в память написати, Кто и когда сей образ дерзнул обругати. Недостоин имени доброго Мазепа, Ивашко, пришед от адского заклепа. Той, оставив Господня Христа Всероссийска, Петра Великого, той сам короля свейска Приведе с оружием в Россию малую, Имея в сердце своем, коварный, мысль злую. О, кто исповест тогда пролития крови, Беды, страх, гонения и ужас суровый! Лютры церкви святыя в тюрьмы превращаху, Подножия и дамы (шахматные доски) с икон сочиняху, С икон подгнети котлам и до груб иконы, С икон, увы, помосты делали под кони. Тогда и та икона пострадала святая, Юже в дамы пречерта рука проклятая. Ликуй, убо, стадо красно Христово, Имея других святых, начертанных ново, Патриарха с пророком: тии свои раны Предлагающе Богу, сохранят от брани Благочестиво царство, а Императору Всероссийскому Петру, по земли и морю, Способствовать будут во всяческом деле, Соблюдая здравие Его все да в целе. Того врагам каменем пророк сотрет главу, Лествицею Иаков возведет и в славу».«Существует предание, — продолжал В.Е. Бучневич, — что Пётр I пожертвовал 12 рублей на елей для лампады перед этой иконой». В тот же день гетман Скоропадский произвёл нападение на штаб-квартиру Карла XII в Жуках. Не вполне удачное казачье дело довершил на следующий день, 15-го, блестящий генерал-лейтенант русской службы Карл Эвальд фон Рённе. (…) 16 июня услышав из доклада, что русские войска переправляются на правый берег Ворсклы не только выше (как это было намедни), но и ниже Полтавы по течению, он, вскочив на коня, унёсся к деревне Нижние Млины…».
* * *
Как и потомки Жученок — Жуковские, так и матушка Егора Ивановича Мария Михайловна, урожденная Тышкевич, ее сестра Варвара Кулябкина, дядья Антон и Иван Тышкевичи были людьми твердого благочестия и горячей веры. Когда десятилетнего Егора увезли в Петербург для поступления в Корпус инженеров путей сообщения, мать и тетка неустанно наставляли его в своих письмах держаться строгого благочестия, не заводить сомнительных знакомств, не брать в руки карты, исправно молиться…
И Тышкевичам, как и Жуковским, было что вспоминать из семейной истории…
Семья Марии Тышкевич принадлежала к одной из ветвей графского рода Тышкевичей русско-литовского происхождения. Родоначальником слыл некий Тышка, живший в первой половине XV века. Потомки его были воеводами подляскими, смоленскими, брестскими, один из них получил в Польше графский титул. Другой потомок Тышкевичей был послом в Риме, потом епископом виленским (-1656 г.); Антоний Тышкевич (-1762 г.) стал епископом жмудским. В честь епископа Антония был назван и дядюшка Егора Антон Михайлович Тышкевич.
Вся родня Марии Михайловны и она сама были людьми хорошо образованными, просвещенными, и очень строгой набожности. Мария Михайловна была крещена в Православии, ценила связи своей родни с высоким духовенством, и даже красивый почерк ее писем — отличный славянский полуустав XVIII века, о многом бы сказал наблюдательному читателю.
Среди близкой и дальней родни Марии Михайловны действительно имелись видные православные иерархи, родством с которыми в семье очень дорожили. Среди них Митрополит Киевский и Галицкий и всея Руси Иосиф II Солтан. Его мать Василиса была из рода Тышкевичей. Митрополит вместе с князем Константином Ивановичем Острожским (-1530 г.) действовали в пользу Православия рука об руку. Князь выгодно представлял церковные ходатайства митрополита Иосифа. В частности вместе они предъявили королю Сигизмунду I ряд учредительных и законодательных актов его коронованных предков, прося подтвердить все права, какие от начала христианства принадлежали митрополиту Киевскому и русским епископам по Номоканону, — по всей широте восточно-православного церковного права. Акт Сигизмунда завершался наказом всем властям: «не чинить кривды митрополиту Киевскому и епископам и в церковные доходы и во все справы (т. е. дела) и суды духовные не вступаться». Было отменено запрещение строить православные церкви и починять старые. Русское влияние тогда в польско-литовских землях вообще заметно возросло.
Сестра Марии Михайловны, Варвара, — тетка Егора, имевшая на него особенно большое духовное влияние, о чем свидетельствуют ее письма к нему в Корпус, последовав за сестрой в Полтаву, вышла там за одного из Кулябок, также принадлежавшего к известному старинному полтавскому дворянскому роду.
Муж Варвары приходился близким родственником-потомком знаменитому архиепископу Санкт-Петербургскому и Шлиссельбургскому Сильвестру (1701–1761) — в миру Симеону Петровичу Кулябке, внуку гетмана Даниила Апостола и двоюродному брату святителя Иоасафа Белгородского (Горленко), с которым они шли по иерархической лестнице церковных послушаний, можно сказать, рука об руку. Кулябки с давних пор состояли с Жученками в родстве и не один раз пути их перевивались.
Епископские хиротонии двоюродных братьев Сильвестра (Кулябки) и Иоасафа (Горленко) состоялись почти одновременно: Иоасафа назначили на Белгородскую кафедру, а новонареченного епископа Сильвестра на Костромскую. Последние десять лет своей жизни владыка Сильвестр в сане архиепископа управлял Санкт-Петербургской епархией. Жил он в Александро-Невском лавре, в уединении и подлинной простоте, без всякой пышности и роскоши. По свидетельству современников, Высокопреосвященный Сильвестр был искренне благочестив, строго соблюдал монашеские уставы, часто совершал богослужения. В свое время считался знаменитым богословом: ученики иначе не называли его как «золотословным учителем». По отзыву одного из исследователей, он «был живым преподавателем живого слова с церковной кафедры». Красноречие его было простым и душевным.
Известен замечательный портрет архиепископа Сильвестра работы А.П. Антропова в архиерейском облачении, с посохом и панагией, с родовым гербом Кулябок на темном фоне. Фигура грузная, — это последний год жизни владыки. Благословляющая рука, мягкость, задумчивость несколько усталого взора, за которым читается глубина и молитвенная смиренно-монашеская отреченность, — таким предстает пред нами владыка Сильвестр…
Святитель Иоасаф Белгородский преставился в 1874 году. Прославление его в лике святых состоялось 4 сентября 1911 года.
* * *
В это полтавское семейство и вошла еще совсем юной девицей Варвара Тышкевич. Здесь и сложился ее характер, ее духовные представления, а ко времени своего вдовства она стала уже сама стала духовно умудренной старицей. Вот в таком богатом преданиями и благочестивыми традициями окружении родился и воспитывался в первые десять лет своей жизни Егор Иванович Жуковский, и видно, крепкую же он получил с детства закалку, поскольку одинокая его жизнь в Петербурге в Корпусе с 10 до 20 (с 1824 года по 1835 гг.) лет не повлияла худо на устроение его души: он сохранил и чистоту, и веру, и свой врожденный, от отца взятый мягкий и кроткий нрав. Хотя как тут не подивиться! В то время почти все столичное общество — шагу ступить было некуда! — теряло себя в разрушительных мистических сектах — от хлыстовства — до масонства (хотя и запрещенного к тому времени) и сохранить веру молодому человеку было поистине делом великим и без Божиего содействия просто невозможным.
Сохранилось одно замечательное свидетельство о нравах и стиле жизни полтавских дворянских семейств круга Жуковских и Кулябок, которое я не могу отказать себе в удовольствии привести здесь, тем более, что оно принадлежит перу весьма талантливого бытописателя — знаменитой знакомой Пушкина Анны Павловны Керн (урожденной Полторацкой). В раннем детстве она жила в Лубнах под Полтавой не один год и именно в то время, которое приходилось на первую четверть XIX века, и хорошо знала быт и нравы этой среды… Даю слово Анне Павловне…
* * *
«Лубны в это время были наполнены отличными людьми, даже по образованию не слишком запоздалыми. Городничий был Артюхов, очень образованный человек, не портивший нашего кружка. Аптекарь казенной аптеки — старый-престарый Гильдебрандт, очень добрый, почтенный немец, и его жена, радушная и отличная хозяйка, подобно которой мудрено было встретить. Они жили открыто, были очень гостеприимны, и гости наполняли их дом постоянно. Стол был такой лакомый и изобильный, какой теперь трудно встретить. Так было и у дочерей их, из которых одна была за Кулябкою, другая за Новицким, а третья за Пинкорнелли, бывшим впоследствии городничим в Лубнах. У этой последней обеды доходили до изумительной роскоши. Во всех этих семействах чистота в домах была такою, какой я не встречала никогда. Пинкорнелли не ел никаких других птиц и животных, кроме белых, и говорил: "Que diable, ни про что знать не хочу, мне чтобы все было…" И действительно, являлось все.
Кулябкины были образцовые супруги, и хотя жена была лютеранка, а муж ее православный, но она с ним ездила к заутрене даже в трескучие морозы и соблюдала все посты. При этом говорила: "Мне неможно не ехать к заутрене, милочка-душечка, когда мой Николай Иванович едет… а потом мы вместе кофе пьем…" Кофе подавали им в разных кофейниках, на том основании, что первая чашка бывает лучше, и чтобы не было никому из них обидно. Их завтраки отличались изобилием и необыкновенною чопорностью. Несметное количество различных пирожков и много закусок, домашних и купленных, в особенности водки были верх изящества и разнообразия и красовались в граненых графинах, на которых были красивые надписи, вырезанные из бумаги ярлычки — "кардамонная", "горькая", "мятная" и проч. Гостям приходилось отведовать их хотя по капельке, но пьяных я никогда не видала. Кутеж не был тогда a l'ordre du jour {в порядке вещей (фр.).}. Случалось, что отдельные личности на праздниках были розовее других, но больше ничего.
Добрейшая хозяйка этого радушного дома была до того чопорна и до того прюдка {от фр. prude — притворно добродетельный, преувеличенно стыдливый, недоступный.}, что закрывала даже шею платочком от нескромного взгляда. Этот, однако, платочек был вымыт в шафране, чтобы оттенял белизну кожи на лице. Спавши на одной кровати с мужем, она укрывалась отдельно от него простынею и одеялом…
У нее однажды сделалась рана на ноге, пригласили доктора, он нашел нужным осмотреть рану, и его заставили смотреть в дырочку на простыне, которая была повешена через комнату, на больную ногу, тщательно закрытую платками, кроме того места, где была рана. Любовь ее к мужу внушила ей одеть его могилу ползущим по земле густым растением с мелкими ярко-зелеными листиками, называемым в Малороссии барвинком. Это было очень красиво и заставляло думать, что в доброй ее душе была поэзия…
Все эти три семейства отличались, кроме хлебосольства, чистоплотности, еще такою деликатностью, какой трудно встретить в нынешнем распущенном и плохо воспитанном поколении… Вот поэтому-то с этими добряками приятно и привольно было жить и более просвещенным, чем они, людям. Одна из этой семьи не делала замечаний мужу из деликатности даже тогда, когда он смелыми оборотами доводил семью до разорения, на том основании, как говорила она впоследствии сыну, что все имение принадлежало ей.
Подобных этим было много и в Лубнах и в уезде. Моя семья со всеми ими водила хлеб-соль».
* * *
Из Русановки Егору Ивановичу в Петербург обычно писала или тетушка, или матушка, а отец всегда делал только приписки в конце письма:
«Милый Егор, когда будешь ехать, привези мне легавую собаку, которая бы выносила уток. Теперь остался без собаки, Трезор мой сдох, а у нас уток пропасть — то беда, что собаки нету… и когда можно будет, пороху фунта два. Это для меня великий гостинец будет. Целую тебя заочно, твой любящий отец», — писал Иван Алексеевич Егорушке в 1835 году.
Хозяйничала в доме Мария Михайловна, женщина очень тонкой чувствительности, духовная, ума острого, при этом явно не полтавского уровня образованности, но, как утверждала ее правнучка, она же моя бабушка Катя, — властная. Не к отцу, а к матери обращался Егор с просьбами о присылке денег. При всем том Марья Михайловна была очень горячая и любящая мать: она очень страдала в разлуке с сыном — ее письма исполнены нежности, ласки и очевидной боли.
Когда Егор Иванович женился на Аннете Стечкиной, он продал тетке свою часть родового имения, тем самым как-то совсем обрубив свои полтавские концы. В течение последующей своей жизни, он мало поддерживал полтавские связи, тем более, что родители его отошли ко Господу в конце тридцатых годов. С другими Жуковскими — дядюшками Николаем Алексеевичем и его детьми и потомством Григория Алексеевича, которые занимали высокие сановные посты в Петербурге, были изрядно богаты, Егор Иванович отношения поддерживал более тесные и долгие, но и они постепенно совсем сошли на нет.
Не будет ошибкой сказать, что всего себя он отдал своей супруге Анне Николаевне, воспитанию детей, Орехову, своим хозяйственным трудам, как будто до всего этого у него жизни и вовсе не было. Поистине о Егоре Ивановиче можно было сказать, что он в точности исполнил Заповедь Божию о том, что «оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:5).
Однако вышло так, что жизнь Егора с его обожаемой Анетой — Ниночкой (как он ее называл) вылилась в цепь непрерывных разлук и расставаний, что приносило им обоим немалые и порой очень горькие страдания, но все же не могло ни на йоту поколебать их единства…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой слева направо и сверху вниз:
Домик Кочубеев в Батурине, где содержались под стражей вдовы казненных Кочубея и Искры; Портрет В.Л. Кочубея; Петр I — победитель шведов; вид Полтавы конца XIX века.
…А теперь подошло время попристальнее всмотреться нам в лицо и характер Егора Ивановича, и, быть может, чуть приоткрыть дверь в сокровенные уголки его души. Несмотря на нежную любовь и глубокую почтительность к нему Анны Николаевны и детей, Егор Иванович прожил жизнь так до конца не вовсе узнанным и понятым даже в своей родной семье человеком. Так грустно и сочувственно говаривала моя бабушка и, полагаю, имела на то основания.
Егор Иванович никогда и никому не навязывал тот внутренний строй жизни, которым жил сам, никогда ни на кого не давил своим «я», не р а с п р о с т р а н я л с я. И я понимаю, почему: тут дело шло о самых глубоких и заветных струнах души — о вере. Здесь и крылся самый корень духовного несходства проживших свой век в мире, согласии и любви Анны и Егора, и впоследствии духовной разности детей и внуков.
Словно встретились две струи в едином потоке вод, но полностью не слились, как не слились и не смешались вполне с истоками и притоками и озерными покойными водами струи Волги, ход которых я однажды с волнением наблюдала, стоя на очень высоком обрыве у деревни Коковкино по-над озером Стерж, в которое как таран вливалась уже очень сильная струя молодой Волги — рыже-красная, железистая со своим собственным, выделяющим ее на спокойном озерном фоне не шуточным внутренним напором, устремленностью вперед непрерывно прикипающих, бурлящих каких-то внутренним напряжением волн.
Это было совсем недалеко от истока Волги, где с замиранием сердца, обронив в еле заметный прозрачный ключ не одну потрясенную сыновнюю слезу, можно было проследить это еще детское пока что начало зарождающейся силы — в мелком, прикровенно мерцающем перламутром осинничке и обилье изумрудных трав, среди которых, встав на колени, можно было, поклонившись долу, услышать в этом крохотном, но очень шибко бегущем ручейке-дитяте тона будущего подлинного голоса великой Волги. Пусть это был еще совсем приглушенный младенческий рык, но в нем, несомненно, уже звучал зачаток еще не распустившейся, не раскинувшейся на всю Русь могучей силы, присущей с первого мига рождения, с первой капли голосу Волги-реки.
Анна Николаевна верила Богу в детской простоте без рассуждений. Все истины веры жили в ней незыблемо, слово святой Церкви было для нее непререкаемым законом. И никогда и ни на минуту вера не была в ней колеблема. Как, где, от кого она переняла эту духовную крепость — загадка. Надо думать — это было у нее врожденное, принятое от многих поколений глубоко верующих предков золотое наследство, но, возможно, что и ей одной был вручен столь великий Божий дар.
Всю жизнь свою Анна Николаевна свято чтила память святого митрополита Московского Филиппа (Колычева), к которому очень близко восходила ее родословная по женской линии. По ее рассказам, родоначальник Стечкиных был потомком легендарного боярина Кучки, который владел землями у Москва-реки еще до основания самого города, и который по летописным свидетельствам крепко повздорил с Владимирским князем святым Андреем Боголюбским.
Внуком (или правнуком) этого самого Кучки был Андрей Стецка, женатый на боярышне Стрешневой (в это время Стрешневы значились думными дьяками, а возвысился род позднее, когда первой царицей новой династии Романовых — женой царя Михаила Феодоровича Романова стала Евдокия Стрешнева). За Андрея Стецку выдали или дочь или внучку полоцкого стольника Стрешнева. Имя первой Стецкиной — тогда так писалась и произносилась эта фамилия, до нас не дошло.
За их-то сына Петра и была отдана самим царем Иоанном IV Грозным племянница (или внучатая племянница) опального святителя Филиппа. Произошло это вскоре после почти полного уничтожения рода старинных новгородских бояр Колычевых, которых за близость к князьям Владимиру и Андрею Старицким почти всех жестоко казнил царь.
Анна Николаевна чрезвычайно дорожила своей древней близостью родовому корню святителя Филиппа. Он был самый высоким семейным идеалом, почитание которого всегда жило в поколениях Стечкиных и Жуковских и, что удивительно, даже и в сердце скромнейшего Николая Егоровича, который начисто был лишен склонности к тщеславию и тем более к хвастовству. Но, тем не менее, он нередко рассказывал о своем святом предке самым близким своим соратникам и ученикам, делясь этим как чем-то дорогим, любимым, заветным, о чем хочется говорить с душевно близкими людьми. Этот факт свидетельствовал, в частности, один из самых близких Жуковскому учеников — В. П. Ветчинкин (в своих воспоминаниях об учителе в редком ныне сборнике «Памяти профессора Николая Егоровича Жуковского». М. 1922 г.)
Анна Николаевна поминала и близких родных святителя Филиппа. Чтили и отца святителя — славного боярина Стефана Ивановича Колычева-старшего, и мать его — страннолюбную инокиню Варсонофию (в миру Варвара), родного дядю святителя — убиенного боярина Иоанна Иоанновича Умного-Колычева, племянника (по семейной версии — брата) Бориса, потомков Колычевых и, в частности, праведного Григория Семеновича Колычева, жившего и похороненного в селе Ворсине под Москвой.
Анна Николаевна любила рассказывать о семейных древностях своим юным внучкам. А те, в свою очередь, любя эти рассказы бабушки о старине, жили уже всецело в с в о е м времени. Все старинное как бы примерялось на мерку их жизни, с т и л и з о в а л о с ь, претваряясь в повести и рассказы Веры Жуковской под старину (чем так увлекался Серебряный век), в историко-познавательные интересы Катеньки Микулиной-Домбровской. Для Веры, которая в семье считалась сугубо религиозной, тема родства была все же скорее подпиткой собственной «самости», а для Кати — скорее археологически любопытным, «занятным», как тогда выражались, артефактом. И то, и другое представляется мне н а ч а л о м о т ч у ж д е н и я и от живой связи времен, и от душевно близкой цепи родства, и от глубинного соборного церковного чувства единства в духе и вере. И тем более — ни та, ни другая о тайнах наследственности вообще мало задумывались: скорее всего, потому, что их самопознание развивалось не вовнутрь, не вглубь, как бы должно было — в Боге, а во вне — в сторону их внешнего самоопределения в реальном мире.
Сын Петра Стечкина, женатого на Колычевой, Порфирий был женат на дворянке Сверчковой, их сын Яков служил в стрельцах при Алексее Михайловиче, а сын последнего Николай служил в потешных войсках императора Петра I. Был послан на учение заграницу, а, вернувшись, женился на дворянке Анне Мосоловой, имел от нее трех сыновей, из которых остался в живых Андрей, сын которого — опять Порфирий, военный, много поспособствовал восхождению императрицы Екатерины II на трон, за что был щедро награжден, в том числе и имением Плутнево Тульской губернии и… мягким знаком, собственноручно императрицей вписанным в его фамилию: Стечькин, — начертала она в дарственной грамоте. И Стечкины так довольно долго писались, пока правила русской грамоты не взяли свое.
В Плутневе и родился Яков Порфирьевич Стечькин — прадед Николая Егоровича, у которого было трое детей — сын Николай (отец Анны), сын Иван, в молодости погибший от несчастного случая — шаля с друзьями, он вздумал стрелять по старинным портретам, одна пуля, выпущенная им в портрет кого-то из предков, натолкнулась на металлическую скобу в кладке стены, отрикошетила, и убила его наповал. Ему было лет 16 тогда. Эта картина хранилась в Орехове во времена моего детства на втором этаже, и бабушка рассказывала мне сию горькую историю. Я боялась одна заходить в ту пустынную комнату, у меня сжималось от ужаса сердце и я, маленькая, странным образом, думала о неутешном горе матери и всей семьи. Сердце мое помнит те чувства и по сей день…
Третьей была дочь Александра, которая, как мы много ранее уже рассказывали (в главе «Век Анны), была отдана замуж за самодура-помещика Лаговцына, того что хотел заставить попа крестить ягненка, а потом насильственно увезенная матерью Настасьей Григорьевной обратно в родительский дом. В первые годы своего замужества Анета переписывалась с тетушкой Александрой, видно, очень горемычной и Анетой любимой, поскольку письма те были очень нежными.
Кстати говоря, свидетельства и родословные документы часто спорят друг с другом, иногда встречаются и необъяснимые разночтения (даже в родословных таблицах, составленных разными потомками) и даже несомненные ошибки, которые я встречала в росписях дворян Тульской губернии. Но здесь я передаю все так, как мне передавала моя бабушка. А ей — сама Анна Николаевна. Было бы непростительной ошибкой пренебрегать семейными преданиями, — ведь не случайно такие замечательные русские ученые-историки, как генеалог Л.М.Савелов и С.Ф. Платонов приравнивали устные предания к историческим источникам. Нередко именно предания часто определяли духовно-нравственный вектор жизни многих поколений, — во всяком случае, тех членов рода, для коих эти предания были живыми и действенными идеалами, своеобразными внутренними цензорами поведения.
Именно в преданиях жило своеобразие родового лица, благодаря преданиям сохранялась внутренняя преемственность и единство рода. Безнравственно было бы предавать их забвению, поскольку на них зижделась и родовая честь, действовавшая в сердцах потомков как неотменное жизненное обязательство перед памятью предков и укреплявшая страх эту память унизить и осквернить. Ну, а то, что родовыми святыми воспоминаниями многие злоупотребляли, начинали гордиться и приписывать себе самому достоинства великих предков, так это давно в людях было обозначено простым и кратким словом — грех.
Но вернемся к главе семьи Жуковских — к дорогому и немного таинственному Егору Ивановичу Жуковскому, у которого, как мы знаем, были свои родовые старины, однако он по великой своей скромности как-то не вносил их в жизненное пространство своей семьи. У него на самом высоком и первом месте всегда стоял Господь Бог, потом долг перед Отечеством и семьей, а все остальное как-то меркло и уходило на дальний план воспоминаний. Помимо всего прочего тон в семье задавала Анна Николаевна, и он не мешал ей в этом: промеж супругов не было несогласий…
* * *
Егор Иванович ходил в мягких сафьяновых неслышных сапожках, носил накладочку на рано облысевшей голове, утверждая, что ему без нее холодно, никогда не ел мяса, но отнюдь не показывал того за столом, — для себя отдельного стола никогда не просил. Был трогательно добр и чувствителен к чужому горю. Никогда не отказывал никому в просьбах. Носил старомодные широкие галстухи, брился, оставляя широкие украинские усы. Зимой носил обшитую барашковую венгерку и высокие сапоги. Любил выйти рано утром и по морозу обойти до рассвета все свое хозяйство. Никогда не курил, избегал спиртных напитков. Был всегда добродушен и приветлив, что, несомненно, унаследовал его любимый сын Николай.
Безмерно любил свою мудрую и твердую характером Ниночку (Анну Николаевну), которая всегда утешала его в минуты слабости и уныния, записывал за собой каждый день в тетрадочку свои оплошности и грехи, и вообще вел строжайший покаянный дневник, ни в чем не давая себе спуску.
Это был человек сокрушенного сердца, которое, как свидетельствует пятидесятый псалом царя Давида, «сердца сокрушенна и смиренна Бог не уничижит». Жизнь в семье Егора Ивановича протекала ровно и спокойно, чего нельзя сказать о его внутреннем душевном состоянии — он несомненно ощущал некое несоответствие и жизни окружающей, и своего собственного устроения Божиему христианскому идеалу, к которому стремился. И не случайно мы в этой главе вспоминали протяжные русские народные песни с их горьким сокрушенным духом — тот же самый дух жил и в сердце Егора Ивановича. И среди многих и многих был он таковой — один. Он жил среди своих любимых духовных книг — читал Библию: и на церковно-славянском, и на латыни, сравнивал с переводами на немецком и французском, углублялся ненасытно в святых отцов и в Слово Божие, которое питало его, насыщало, открываясь ему своими разными драгоценными гранями. Он переписывал и собирал молитвы из отеческих книг, иногда сочинял молитвы и сам. Всем сердцем стремился жить строго по Заповедям Господним и очень жестко и нелицеприятно судил себя самого за несоответствие.
Долго хранились в семье его записные книжки, где он тщательно отмечал все свои недолжные помыслы и поступки. Почти все записи начинались воплем отчаяния: «Господи, спаси ны — погибаем!»:
«16 ноября 1844 года. Блудные мысли; непризрение бедного; суета мирская помрачила возношение и память о Боге»
«27 ноября и 28 — уныние, осуждение, леность на угождение Господу; ни единого доброго дела. Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!».
Если это были записки, которые можно было бы назвать исповедальными — ибо несомненно все эти прегрешения он нес в церковь, к своему старцу на исповедь, то в других книгах он, разграфив их на каждый день месяца, а каждый день на две половины — в первом столбце перечислялись добродетели, а в графьях отмечались ежедневно крестами или нолями их выполнение.
Добродетели перечислялись следующие: «Терпи, сколько возможно молчи, воздержание, целомудрие, порядок, деятельность, незлобие, опрятность, спокойствие, смирение…». Почти все графы были заполнены нолями, и лишь очень изредка встречались кресты.
«Много и самых разнообразных благ испрашиваем мы у судьбы; истинно только одно — тихое, кроткое довольство души, которое приходит независимо от забот житейских, независимо от горя и радости. Это истинное благо», — записывал он свои заветные мысли. — Станем дорожить временем, потому что каждая его минута — труд, а в труде насущный хлеб».
И тут же среди этих записей и строгих духовных самооценках высказывает Егор Иванович свое трогательное отношение к любви:
«Летние цветы пышны и роскошны, но отчего всего милее маленькая медуника, которая первая выглядывает из оттаявшей земли? (первая любовь)».
У Егора Ивановича первой и последней любовью была его «медуника» — обожаемая жена, которой он всегда оставался верен, хотя Анна Николаевна в отличие от него, мистика в самом высоком и подлинном смысле слова, в твердыне своей непоколебимой веры всегда оставалась реалисткой. Эти два мира, — так говорила моя бабушка, — невозможно было примирить полностью. И потому Егор Иванович понемногу замыкался в себе, избегал высказывать свои убеждения даже в мелочах, и если что-то в семейном быту его огорчало, большей частью он просто молча уходил…
По словам бабушки, Егор Иванович обращался за духовным окормлением к одному из великих старцев Оптиной Пустыни, но, к великому моему сожалению, в семейном архиве не сохранилось сведений о том, к кому именно из старцев в Оптиной обращался Егор Иванович. Над своей научной биографией Н.Е. Жуковского бабушка Екатерина Александровна работала в конце 30-х гг. Понятно, что само то время не давало возможности углубляться в такие подробности; но надо признать и другое: интереса живого к таким деталям особо и не было. Духовные лица в семейной переписке упоминались лишь вскользь, настолько их присутствие в жизни воспринималось как нечто обыденное, привычное и уж никак не грозящее своим почти полным исчезновением…
В качестве иллюстрации — изображение цветка Медуники — первого вестника весны ореховских лесов, милый образ трогательной супружеской любви и верности, и чистой души героя нашего повествования.
Возможно ли в наши дни встретить человека, подобного Егору Ивановичу? Сколь ни напрягай воображение, но вряд ли нарисуется современное ему подобие… Где встретишь нынче такую трогательную доброту, кротость, душевную чистоту и полнейшее бескорыстие в отношении к жизни и людям… А притом был и штабс-капитан, и широко образованный, опытный и мыслящий инженер, дворянин с безупречными, хотя и скромными манерами, отличный, вполне рациональный и очень усердный сельский хозяин. И при все том — детская чистота…
Сын Егора Ивановича — Николенька — перенял от отца эту мягкость и детскость, — она слышалась и в его добродушной веселости, и в способности радоваться даже самым, что ни на есть, пустякам, и в его всегдашней сердечной расположенности, приветливости ко всем, и даже в его высоком голосе при большом росте и весьма могучем телосложении, и в этой смешной редкостной рассеянности гениального ума, вечно погруженного в свои думы и не способного концентрироваться на подробностях обыденной жизни, эти вечно забываемые ключи, перепутанные даты и адреса в письмах, и прочие курьезные вещей, о которых ходили в студенческой среде анекдоты и прибаутки. Но притом — и я, надеюсь, книга моя развернет и эти страницы, — это был по сути дела добрый ангел всей семьи — никто как он не умел приласкать горюющего человека, никто как он не умел опередить своею помощью даже просьбы о них — а это ведь и есть живое Евангелие! — фактически он стал вторым отцом для своих меньших братьев и сестры Веры — Николай Егорович выдавал ее замуж, устраивал ее семейную жизнь, писал ей во Владимир, где поселились молодые, чуть не каждый день трогательные письма, когда Верочка ждала деток, он же и покупал для маленьких нужную амуницию — а ведь уже был уважаемый и известный в мире ученый, профессор, сидевший над своими формулами двадцать пять часов в сутки.
Рассеянностью Николая Егоровича любили попользоваться… Один и тот же студент по нескольку раз мог приходить сдавать трудный экзамен, или один и тот же молодой человек приходил сдавал экзамены за других, правда, иногда они смешно и нечаянно попадались, — Бог ведь шельму метит.
Однажды один студиозус несколько раз приходил к Николаю Егоровичу сдавать экзамен и каждый раз безнадежно и с треском проваливался. Жуковский слушал всегда его молча, грустно опустив голову… Однако при последней попытке, он вдруг как-то встрепенулся и сказал: «Странно: вот уже который студент приходит ко мне сдавать этот курс, и все четверо или пятеро отвечают одинаково плохо, и у всех троих одинаковая заплатка на носке правого сапога… Что бы это значило?».
Несколько извозчиков всегда поджидали Жуковского у ворот его дома на Мыльниковом: «К нам, к нам, Николай Егорович, — зазывали они, — у нас по сорок, больше не берем!», на что профессор рассеянно им отвечал: «Больше пятидесяти не дам». А затем, расплатившись вперед, тут же забывал и об этом, и в конце пути вновь доставал кошелек, чтобы расплатиться еще раз. Но московские извозчики Жуковского уважали, и редко кто позволял себе дважды попользоваться щедростью этого трогательного старика в длинной шубе, старенькой бобровой шапочке и огромных ботах, направлявшегося читать свои лекции…
Удивительно, но у других детей Егора Ивановича этой черты детскости не было. Не узнавалась она и ни в ком из внуков. И вот только в моей маме (правнучка) во всю ее жизнь эта редкостная черта присутствовала очень заметно, хотя она могла быть и бывала и очень строга и, порой, непреклонно властна. Да простит меня читатель за нескромность, — но и у пишущего эти строки автора, во всю жизнь, которая по классическим меркам уже почти исчерпала названные в Псалтыри сроки, сохранялось и по сей день еще не исчезло странное внутренне самоощущение, что все вокруг… взрослые, а данный автор — нет.
Привыкнув к особенностям маминого нрава, я нередко ловила себя на том, что в нормальных людях, не таких как она или в особенности как Николай Егорович, я ощущала их «нормальность» как некую внутреннюю, но реально ощущаемую мною тяжесть, которую определить словесно не просто. Вот перед вами ребенок, и с ним говорить легко и весело. А теперь перед Вам взрослый человек со всеми своими амбициями, предрассудками, самомнениями, устоявшимися привычками, «любимыми взглядами» и даже заморочками (по-научному — установками) во взглядах на жизнь, и, общаясь с ним, если хочешь избежать ненужных осложнений в отношениях, старайся виртуозно лавировать меж всех этих подводных камней, чтобы и самому не нарваться на рифы, и, главное, не задеть болевые точки собеседника, ибо за этим непременно последует обострение и взаимное огорчение…
Странно, что люди с годами забывают самих себя в детстве — не специфически детские состояния, ощущения вроде смешных казусов, но абрис собственной души, своей личности, какой она может открыться нам при внимательном погружении в самих себя. Между прочим, на сей счет определенно высказался князь Сергей Евгеньевич Трубецкой в его книге «Минувшее», где он признался, что не видит никакой грани между своей «детской» и «взрослой» психологией с самых первых лет вплоть до того момента, когда он уже ближе к концу жизни писал эти мемуары, определенно чувствуя единство собственной личности на протяжении всего своего существования…
О том же самоощущении всежизненного душевного единства своей личности вне зависимости от возраста и старения, между прочим, писал Иван Бунин, никогда не отдалявшийся от общения тайн инобытия. Лучи «невечернего света» окрашивали все, о чем бы он ни думал, к чему бы ни устремлялось его сердце, погружавшее все, о чем бы он не писал, в тайну времени — в тайну жизни, неодолимо влекущую к себе человеческое сердце, устремленное к истокам и Источнику жизни — Богу. Тут же в ряду стояла и великая тайна прошлого — ушедшего времени. И она притягивала к себе как смолисто черная воронка водоворота в затоне. Но вот вопрос: назад — в прошлое, или назад — в будущее? — поскольку в будущем — Вечность и ответы на все вопросы.
«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). Если идти вслед мысли о единстве личности человека с издетства, то можно сделать вывод, что потеря с возрастом глубинных черт детскости есть несомненный признак разрушения личности, что отчасти и объясняет это ощущение «тяжелости» личности тех, у кого детскости не осталось и в помине. Утрата детскости — утрата чистоты. Обретение чистоты на подвижническом духовном пути — обретение высокой простоты, несомненно, и «детской» в своих духовных проявлениях.
…Николай Егорович Жуковский был истинным сыном своего отца, только во многом гораздо более счастливым. Жизнь Егора Ивановича сложилась в непрерывную цепь самопожертвований ради семьи. Облако печали туманит в моем сердце его образ, — многоскорбный тихий страничек…
* * *
Почти на 40 лет родным домом, семейным гнездом для Егора Ивановича стало имение Орехово Владимирской губернии, которое они с Анной Николаевной приобрели на ее приданное в 1840 году. Правда, Егору Ивановичу так и не удалось никогда пожить в своем уютном родном гнезде Орехове подолгу и всласть. Служа в отдалении, — сначала на строительстве шоссе, потом управляющим в соседних имениях, а еще позже — до конца жизни — управляющим у старшего сына в имении Новое Село, что на берегу реки Шат в Тульской губернии, куда к нему приезжала Анна Николаевна, как только была возможность, и изредка дети, занятые своими жизнями, Егор Иванович в собственной своей любимой семье мог бывать только наездами. Болезненно, но терпеливо и в молчании переносил он эту свою оторванность от родных ему людей, но исправить было ничего невозможно. Анна Николаевна, — рачительная и строгая хозяйка, еле сводила концы с концами, а четверых сыновей надо было учить и выводить в люди, потому и отказаться от заработка управляющего чужих имений Егору Ивановичу было никак нельзя даже и тогда, когда с начала 70-х гг. взял на себя заботу о семье Николай Егорович. Но ведь до профессорского жалования было еще очень далеко, так что Егор Иванович до конца дней своих трудился. И все-таки первые 35 лет семейной жизни, пока не пришлось уехать в Тулу к Ивану, Егор Иванович был к семье ближе, служа в имениях Владимирских…
Из Покрова Владимирской губернии. 1842 год. Зима.
"…Покойной ночи, Нина, я в Покрове знаю, что скоро ты займешься убаюкиванием ангельчика нашего. Я слышу твою милую песенку. Душа души моей, как сладко любить тебя, в разлуке в особенности познается это восхитительное чувство. Не скучай, Нина, все делается к лучшему и для самой пламенной любви недурно иметь маленькие разлуки, это масло к возбуждению пламени. Спи спокойно — перекрести за меня доченьку нашу — Ангел Господень да будет над вами…
Обожающий тебя Жорж".
В письмах детей Жуковских не так часто, а то и вовсе не упоминается отец — не потому, что не любили — любили и чтили, а потому, что участия в семейных «трудах и днях» он принимал редко. Тем ценнее, проскальзывавшие в письмах и воспоминаниях строки, посвященные Егору Ивановичу. Как, например, в частично цитированных в 5 главе воспоминаниях Веры Егоровны Микулиной (урожденной Жуковской) — прабабушке автора, которая вспоминает зиму 1869 года, — удивительно счастливые святки, когда все члены семьи оказались в сборе — возможно, это был один из последних таких счастливых семейных дней — последующие зимы Николай Егорович уже служил в Москве и с ним была Мария Егоровна и Верочка-гимназистка, и часто Анна Николаевна — вот уж истинная странница! — начиная с 1858 года до конца жизни — более 50 лет (!) вынужденная метаться из Орехова в Москву, из Орехова и Москвы — во Владимир или Тулу, потом в Киев — туда, где жили ее дети, и, конечно, к Егору Ивановичу.
А на святках 69 года Господь собрал семью в Орехове… Слово Вере Егоровне:
«Этой зимой в Орехове собрались все братья — приехал Ваня, Колюшка и Володя, Варя зазимовал в VII классе, жил с нами в Орехове и готовился к экзаменам. Приехал и папа из Жерехова, я его как сейчас вижу в коротенькой беличьей шубке, когда он выходил на крыльцо и звал меня «Веренок, беги скорее гулять по морозцу, пойдем к коровкам на ферму». Я всюду бегала за ним.
Братья ходили на охоту, убили огромного волка. Папа им устроил на большом пруду высокую ледяную гору. По вечерам подвешивали на ветках елок цветные бумажные фонарики. Под нависшими шапками снега на ветках светились разноцветные огни. Катались с горки до поздней ночи. Вся деревня собиралась на пруд. Раз мы страшно перепугались: бежит к нам какой-то мальчишка и кричит: «Николая Егоровича подшибли». Я так и обмерла, бросились мы с Машей на пруд, видим, Ваня ведет Колюшку, а тот еле шагает… Его подшиб сзади Герасим. Коля вздумал прокатиться «вертышом» на подмороженном решете, а Герасим налетел на него сзади на салазках и ударил его полозом в спину, оба кувыркнулись в снег, к счастью «черненький» (так звала Верочка Николая Егоровича) не сильно ушибся. Я помню, как плакала, еле уняла меня няня Ариша…»
С августа 1870 года Николай Егорович — ему было 23 года — вступил на первую ступень своей научно-педагогической деятельности — он был принят учителем физики 2-й Московской женской гимназии. Жалование было маленькое, но Николай Егорович смог нанять на Плющихе в приходе храма Смоленской иконы Божией Матери в доме Королевых квартиру и перевезти семью в Москву. В это время Иван Егорович получил место следователя в Волоколамске, куда взял собою младшего брата Володю. Валериан отбывал воинскую повинность. Переезд в Москву, расставание с Егором Ивановичем (оставшимся в деревне) и трудное финансовое положение семьи описывает Анна Николаевна в своем письме к Егору Ивановичу:
«Милый друг Егор Иванович,
Я доехала с Верком очень хорошо, хотя довольно долго искала квартиру. Всех наших нашла здоровыми. Ваня страшно спешит, ныне он весь день ездит по закупкам, в четверг или пятницу уезжает непременно и берет с собою Володю. Ваня думает приехать за своими вещами в начале ноября, не более как на 2 дня. И к этому времени, с Божией помощью, и ты будешь здесь (это не случилось… — прим. авт. — Е.Д.). Приехавши сейчас же истратила 4 р., заплатила в лавочку, дала 1 р. Арине в адресную. У меня еще нет кровати и ныне еще я буду спать на полу. Дом очень тепел, не знаю, будет ли у нас тепло наверху.
Рояль и вся провизия доехали великолепно. Привезли с собою уток 10, не боясь, что они испортятся. Птица очень жирна и я боюсь, что когда вы ее запрете, она похудеет. Привози масло и творогу. Вообще все хорошо, что есть дома. Не знаю, как просуществую до 1-го — постараюсь. Маша просит всепокорно прислать все варенье и соленье, уложив все поаккуратнее. Милого Валериана не раз вспоминала при вынутии рояля. Если возможно, купи масла фунтов 20 в Семеновском. Яйца превосходно доехали а потому покорно просим доставить 100 штук в муке. Мне предлагали многие. Довольно о хозяйстве — побеседуем о другом. Умоляю тебя — не печалься — я не могу забыть твои слезы — на разстовании. Трудно нам, друг, будем молиться и Господь поможет нам устроить деточек. Будь покоен, я буду молиться о тебе, Дорогой мой — не могу забыть тебя, ты все предо мною с твоим всесокрушенным горем. Если было бы возможно, я одну половину себя оставила в Москве, а другую у твоего дорогого любящего сердца. Верь, милый мой, и здесь на земле твои заботы оценятся…».
Разлука с семьей легла тяжким бременем на сердце Егора Ивановича. Заработка Николая — 400 р. в год — не могло хватить на большую семью. Иван Егорович еле обслуживал сам себя. К тому же он взял с собой Володю. Но ничего из этого не вышло: Володя был очень хрупкого здоровья и не могу учиться в гимназии. Анна Николаевна предполагала, что жить в Волоколамске — тогда почти деревне, укрепит его здоровье. Володя пишет матери и просит разрешить ему приобрести карманный микроскоп (Егор Иванович называл Володю «мой профессор зоолого-ботаник»), а также прислать ему его книгу с рисунками разных жуков. К сожалению годы учения Володи совпали с самыми трудными в материальном отношении годами жизни семьи и ему не смогли дать правильного образования. Не попал после гимназии в университет и Валериан — он вынужден был искать место канцеляриста. Николай Егорович места себе не находил, видя, как измучились родители, изыскивая возможности для того, чтобы поставить на ноги детей. Егор Иванович должал по мелочам, запутывался и не видел выхода. Вот какое письмо направила ему Анна Николаевна — жена премудрейшая (сохраняю почти всю орфографию, пунктуацию и, разумеется, лексику):
«Дорогой мой папчик Жорженька, друг мой,
Все существо мое потрясено было твоею горестью. Куда девалась моя крепость и энергия. Ты печалишься, а я не с тобою. Целую ночь я не спала и ныне раненько ушла к обедне. Да поможет и укрепит тебя дорогого. О чем иже тосковать? От чего отчаиваться? Не всегда ли мы несли эту тяготу, в пирах ли в роскоши, или в карты разметали детское достояние: все для них, для деточек-кормилец, с нуждою, с тяготою для себя отдавалось им. Жив Бог и они воздадут нам сторицею. Не будем мы как неразумные земледельцы оплакивать огромное количество семян, кинутых весною в землю. Жатва будет богата. А у нас какие богатые всходы. Сын — товарищ прокурора, другой — магистр, третий к осени непременно будет иметь место, потому что исправляет должность товарища столоначальника, четвертый идет отлично, даровитый будущий профессор. А отец плачет, что он задолжал мало-толику. Стыдись и не гневи Бога, а воскликни с благодарностью: «Откуда мне сие, недостоин есмь». Он, соделавший такое чудо (здесь Анна Николаевна вспоминает чудо в Капернауме: «Сотник рече Иисусу: Господи, несмь достоин, да под кров мой внидеши: но токмо рцы слово, и исцелеет отрок мой» (Мф.8:8) — прим. мое. — Е.Д.) не возможет помочь тебе уплатить кому следует — тем более, что так болезненно это.
Возстань, воспрянь и воспоем вместе: «Тебе Бога хвалим, тебе, Господа, величаем» (здесь А.Н. цитирует Песнь хвалебную свт. Амвросия Медиоланского: «Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем. Тебе Превечнаго Отца вся земля величает…» — прим. мое. — Е.Д.). Жатва близка обильная».
Вот какова была Анна Николаевна — бабка ее пожар тушила сидя на пороховой бочке, а она много выше взяла, нежели «коня на скаку» останавливать — она никогда не падала духом, не унывала, имела неколебимую веру в Промысел Божией и этой верой укрепляла тех, кто был рядом с ней. Вот она — и была истинным образом русской женщины. Мне всегда мнится в ней нечто царственное, древнее, византийское возможно, она была глубоко права, чтя превыше всего родство со святителем Филиппом, Митрополитом Московским — не от святого ли печальника земли Русской она унаследовала эту крепость духовную? А сын — чистоту и невероятной силы конструкторский дар, которым славился предок игумен Соловецкий Филипп (Колычев), оставивший после себя на острове чудеса инженерной мысли XVI века, которые дожили и до наших дней. Воистину неисповедимы пути Господни! И сколь разнятся они от путей человеческих…
В качестве иллюстрации: старая Покровка — Москва, начала XX века. По этой улице каждый день сначала на извозчиках, а после революции пешком каждый день отправлялся Николай Егорович читать лекции в Университет или на Почтовую улицу в техническое училище, или в Политехнический, или в Кущино — в новопостроенную лабораторию… Многие годы жизни связывали семью Жуковских с этой старинной московской улицей, живя в квартире на Гусятниковом переулке, а потом на Мыльниковом…
Отчаяние — грех смертный, и православный человек греха этого пуще геенны боится, потому что он и есть — живая геенна, а если, упаси Бог, подступит к сердцу таковой безысходный душевный обморок, то спешит тот скорбный человече скорее припасть ко Спасителю и Матери Божией в покаянии и молитве о свышней помощи…
Только всякий ли раз сумеет человек распознать в недрах своей смятенной души, где скорбь великая, а где, обессиливая душу, эта скорбная мука уже перелилась через край в омут безнадежного отчаяния, вытолкнув его из океана Божией жизни в область смерти духовной…
Но черезо все должен пройти человек, сохранить бы только ему доверие Богу.
…Я не знаю, как сумел пережить добрейший Егор Иванович кончины близких, — не осталось о том воспоминаний, ведь он почти всегда пребывал в стороне, и к тому же в глубокой своей молчаливости, никогда к своим страданиям ничьих взоров стараясь не привлекать. Как перенес он безвременную кончину любимого своего сына Володи, — удивительно талантливого, непритязательного юноши, так тихо и кротко, в глубокой сердечной тишине смирения принявшего свою участь, — мы не знаем. Володе бы в хорошую московскую гимназию, да в Университет по редкостным его способностям, — он был и рисовальщиком дивным, — его мастерские зарисовки растений и живого мира напоминали тончайшей своей техникой и изысканностью графику Дюрера, и в своих занятиях ботаникой и зоологией уже в отрочестве Володя достиг высокого университетского уровня. Но досталась ему иная стезя: учился дома, нередко пребывая вдалеке от матери и отца, здоровья был очень слабого — милый, грустный лик, для чего ты вошел в этот мир, отчего так рано оставил его, — Верочка-сестрица младшая, дифтерит перенесла, выжила, а ты, намучавшись в тяжкой болезни, тихо угас в канун церковного праздника Зачатия праведной Анны, — небесной покровительницы матушки Анны Николаевны, и празднования иконе «Нечаянная Радость».
…Был очень холодный декабрьский день. Ты отходил, а рядом металась в кризисе младшая сестрица, для которой ты был чуть ли не самым любимым и близким человеком — «няней Володей». Ты один вместе со старенькой няней Аришей пестовал ее, совсем маленькую, в Орехове, когда матушка вынуждена была жить со старшими братьями в Москве, на жизненное становление которых были положены все семейные возможности и силы.
И вот Веренок, — прабабушка моя — выжила, ты же отошел ко Господу, будто своей кончиной ты «выкупил» ее (и только ли ее?) долгую жизнь. Слышала я, слышала, как однажды про Божественные весы и меры жизни говорил мне когда-то Духовник… Говорил со значением, применительно к судьбам родных мне людей, и хотя речь шла несколько об ином, но близок был подход и мысль: "Вручая одному человеку золотое приданное Веры, другому-то, возможно, Бог в то же время такой силы и жизненной опоры не дарует, а то и лишает вовсе…». Духовник говорил со значением, и, как всегда, смысл сказанного был много глубже слышанных слов.
«И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? — Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42: 1–6).
…Насколько может смертный человек прозирать в тайну сердца другого, настолько очевидным было Володечкино врожденное душевное добро — удивительная чистота и кротость, в которой он еще и преуспел, превзойдя отца и брата Николая, все же очень живого, веселого, деятельного и на земле крепко укорененного, рожденного для созидания в этом мире.
Непостижимая человеческому уму «логика» Божия, величайшее таинство жизни — Промысел Божий о наших судьбах: вот уж кто из семьи Жуковских прошел по жизни подлинным странником, никого не задев даже в мыслях, так это ангел Володя.
«Бог никогда не приемлет ничего из того, что не связано с добродетелью и истиной, и попускает Он только то, что связано с ними», — говорил святитель Григорий Нисский. — «Он попускает, что забираются из жизни преждевременно младенцы, а иногда, если Он преследует какую-то другую цель, попускает нечто иное».
Верочке еще предстояло замужество, рождение детей, внуков и правнуков — вплоть вот до меня, теперь молитвенно тебя, Володя, мой милый мальчик-прадед, поминающей, и в сердечных глубинах верящей в твое молитвенное предстательство за твоих потомков, правда, столь, увы, на тебя непохожих.
Хотелось бы мне услышать твой живой голос, заглянуть в твои все же печальные глаза, утешить и приласкать тебя, оказаться рядом, когда ты оставался зимами в Орехове один с малышкой сестрой, старой няней и верным сеттером Фигаро. Ведь я теперь на много старее тебя и внуку моему старшему нынче почти столько же, сколько тебе было тогда, когда ты оставил своих любимых на земле. И у него, чем-то очень на тебя похожего, в глазах такая же в глубины упрятанная и, быть может, даже самим им не осознанная боль, какая бывает, пожалуй, только у юных и чистых сердцем и очень добрых мальчиков, когда не на крыльях пролетают они по верхам свою молодость, а идут по ней с ранней ношей на раменах и с очень нелегкими для юного сердца бременами.
За молитвы твои, блаженный рабе Божий Володенька, да помилует Господь раба Божия Дмитрия, твоего дальнего потомка…
Хоронили Володю в Спас-Андрониковом монастыре. Туда часто хаживала Анна Николаевна ко службам, когда жила на Садовой улице в доме Морозова, что на Земляном валу, имея к этому монастырю особенное прилежание и любовь.
Я же долго ведать не ведала, что именно там ты был похоронен, и когда впервые сколько-то лет назад пришла туда, о тебе и не вспоминала, и не надоумилась поискать следов твоей могилки. Впрочем, ничьих следов там почти совсем не осталось, — все смело с лица земли жестокое время и безбожные люди.
Только из сердца моего никто тебя не вытеснит. Бог даст, свидимся…
* * *
Странное у меня было — с самого раннего детства, да и позже — всегда — ощущение прежней русской жизни. Сердцу оно давало знать о себе сильно и явственно, но запечатлеваться никак не желало, мгновенно ускользая из рук и, главное, даже из сердца: мол, не будешь ты этим ни с кем делиться. Узналось тебе что-то, — вот и знай себе… Но, тут, поминая Володю, это странное ощущение какой-то особенной хрупкости, жалкости и пронзительности минувшего бытия вновь напомнило мне о себе. Возможно, ныне люди несравненно чаще, внезапно и гораздо чудовищнее гибнут в бесчисленных авариях и катастрофах, в стихийных бедствиях — товарняк сметает с пути автобус со школьниками, в мирное время рушатся стены домов, внезапно пресекаются жизни молодые, и Силоамские башни погребают под собой не восемнадцать, а сотни, тысячи, сотни тысяч душ, совсем не готовых к встрече с иным миром.
Но тогда это было все же несколько иначе… Смерть становилась делом обыденным, с которым верующие сердца покорно смирялись, и по осмысленности веры, и все-таки по живости надежды на жизнь Вечную, и потому, что семьи были большие, и частой гостьей была в них хозяка-смерть. Привыкали… И сколько же было в том смиренном привыкании вековечного — от Адама, — тихого вселенского человеческого горя, и истинной — в Боге! — печали, — не потому ли так трогательны старые кладбища — с дивными плачущими ангелами на каменных надгробиях, с эпитафиями, сочиненными любящими сердцами близких, за душу берущими чужого прохожего человека…
И даже скромные покосившиеся голубцы крестьянского погоста — и там нисколько не глуше всегда звучала для меня эта пронзительная нота: нота любви и сострадания. Почему же на старых кладбищах она звучала много сильнее и совсем в ином ключе, нежели на нынешних новых?
Осмелюсь утверждать дерзкое: не такие люди, и не так тогда умирали, нежели теперь, потому и отзывается душа любовью, молитвой, светлой печалью, потому и слышит сердце ту давнишнюю панихиду у края свежей могилы, тот плач и ту молитву…
«Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоются от трудов своих, и дела их идут вслед за ними (Откр. 14:13).»
…Вспоминаю белые кафельные печи Ореховского дома, чугунные старинные заслонки, латунные заглушки, холодок верхних пустых комнат, смотрю на липовый цвет, пролежавший с прошлого июня между старинными рамами окон, — просто скользит по ним глаз моей памяти, изыскивая и поджидая то невидимое, что за всем этим прячется, не обдаст ли вдруг меня некая мысль или образ, откуда-то извне навеянный и скрытое от меня невидимое объявит?
Вот и сейчас мнится мне в бесцельном этом созерцании, что они, прежние, тогда в XIX веке, «умирающие в Господе», были вообще как-то ближе расположены к пограничьям жизни и смерти, чем мы, нынешние, все пугающие сами себя апокалиптическими временами, хотя апокалипсисы наши, как правило, не во вне, а внутри нас. А прежние наши со смертушкой знакомы были накоротке и встречались чаще. Горячки, дифтериты, чахотки, водянки, — мучительная духота занавешенных окон, какие-то никчемные микстуры с ярлычками, беспомощная медицина, и… «Смерть жатву жизни косит, косит…».
Пятерых детей младенцами похоронили Егор и Анна. Крещенных, несомненно, младенцев, но в переписке нет даже упоминания их святых имен. И как мне это прискорбно…
Когда мои дети были маленькими и, случалось, тяжело болели, я пребывала в ужасе и отчаянии. Однажды под Керчью в крохотном рыбацком поселке, в котором не было никакой медицины, никакой связи — лишь два раза в день автобус, — заболел мой младший сын — он был еще совсем маленький, года четыре, а в тот день его слегка прикусила собачка, которой он показывал, как цыган на гору едет — поднимал шерсть на холке. Песик был местный и неприхотливый, — взял, да слегка и тяпнул. А к ночи малыш мой стал умирать… Я думала — столбняк… Делала, что могла — было это уже давно — не одно десятилетие назад. И в один момент мне вдруг ясно стало, что он действительно может умереть, и я, тогда еще не церковная, сказала Богу, что отрублю себе руку, если к утру мальчику моему не станет лучше. И сделала бы я это, но вот чудо: под утро стала у сынка спадать температура, он пришел в себя, перестал бредить, — оказалось, что просто съел он что-то не свежее…
Конечно, такой обет был почти безумием с моей стороны, но не рассудок произнес его, а материнское сердце.
И я потому не могу представить, как умирали эти маленькие детки Егора и Анны, как выносили из дома их гробики, как жили дальше, как умели молчать об этом горе, и что оставалось потом в родительском сердце…
Каждый уход близкого человека в мир иной оставляет ощущение страшной зияющей пустоты. Человек — каждый — оказывается, занимает в этом мире очень много места: не в физическом мире, но в духовной реальности, — сердечные думы, любовь, заботы и нежность к кому-то, свет глаз, доброту, какие-то особенно искренние слова и дела, бывшие Богу угодными, весь бездонный мир этой личности, ее воспоминания — ее радости, ее юность и надежды, ее слезы и скорби, ее молитвы, наконец, ее собственные переживания отношений с Богом… О, это целая история длинною в жизнь и даже дальше. И если бы люди могли рассказывать о себе только эту историю, если бы они ее хорошенько знали и запоминали, то других бы на самом деле только эта история и интересовала бы. Как бы насыщена, полна и озарена была бы смыслом наша жизнь…
* * *
Бедный Егор Иванович даже не смог приехать на похороны сына — письмо пришло с опозданием, а он, как всегда, был в отлучке от семьи — в ту зиму в Орехове он жил один, вел хозяйство и вероятно, управлял одновременно одним из соседних имений. Как он пережил пришедшую к нему горькую весть, — Единый Господь знает. Эти годы были для Егора Ивановича очень трудными, о чем, между прочим, и свидетельствовало письмо Анны Николаевны, то, где она приводила слова из молитвы святителя Амвросия Медиоланского, стараясь утешить и поддержать Егора Ивановича, укрепив его надежду на Бога.
Долг, о котором упоминала Анна Николаевна, — порядочная весьма сумма денег, — был взят у двоюродного брата Егора Ивановича Степана Григорьевича Жуковского. Пришлось же прибегнуть к такому займу вот по какой причине…
Вычудил в очередной раз старший сын, Иван Егорович: увлеченный просьбами одной юной красавицы, он поручился за ее отца — грека по фамилии Лемандрик. Грек Ивана надул и сбежал. Залог пропал, а так как у Ивана денег не было, залоговую сумму он занял, и ее пришлось срочно возвращать — все это подвело и без того сложные денежные дела Жуковских, что называется, «под монастырь».
Разумеется, спустя некоторое время Егор Иванович выплатил долг сына, но семейное безденежье обострилось, и он стал искать какие-то новые пути спасения семейных средств. Он даже готов был пойти на то, чтобы оставить Орехово, и уехать жить в плодородную харьковскую губернию, где процветал на огромных плантациях сахарной свеклы очень богатый помещик — двоюродный брат Степан Григорьевич. Ему было отправлено Егором Ивановичем такое вот письмо:
«Мне необходимо теперь принять самые деятельные меры, чтобы заработать копейку. Для этого остается единственное средство — переменить место. Искренне благодарю тебя за любезное письмо твое и что ты обещаешь приискать нам имение в аренду…».
К счастью переезд не состоялся. Братец Степан Григорьевич — сахарный миллионер остался при своих миллионах, Жуковские при своих насущных нескончаемых нуждах. Кто или что предотвратило этот переезд — я не знаю. Предполагаю, что все-таки Анна Николаевна постаралась, — не могу представить ее себе «сахарной» харьковской помещицей. Не поступало, разумеется, из харьковских краев и братской бескорыстной помощи, даже лишнее и говорить о том. С какой стати, — изумится иной читатель, — будет богатый брат что-то жертвовать безвозмездно бедному брату? Правда, никто ни на какие жертвы в семье Егора Ивановича и не рассчитывал. Тем более, что жизнь уже готовила новый и довольно неожиданный поворот событий, Егору Ивановичу предстояло отправиться жить в тульскую губернию в имение «Новое Село», что на берегу реки Шат, которое получил в приданное за женой Иван Егорович. Он к тому времени получил назначение товарищем прокурора в Тулу и вскоре там, наконец, нашел то, что так долго искал: молодую, знатную и богатую невесту, — вдову князя Гагарина, — княгиню Варвару — Вавочку, как стали звать ее в новой семье…
Коллаж работы Екатерины Кожуховой: портрет Володи Жуковского — 19 лет, незадолго до кончины; Спас-Андроников монастырь в Москве, где Володю похоронили; фрагмент старинного кладбища в этом монастыре, ныне не существующего.
«Вначале бе Слово» (Ин.1:1)… А мы еще сомневаемся: уходит из жизни какое-то явление (понятие) — умирает слово, или же наоборот: умирает слово, а вслед за ним исчезает из жизни понятие-явление?
Так и со «странничеством», явлением старинным, и, наверное, преимущественно или даже исключительно русским, проникнутым духом нашей веры и духом движимым. О, сколько можно было бы собрать бесценных сокровищ от русской истории и культуры только под одним покровом этого изумительного слова. И какая бы открылась широта и долгота, сколько бы мы могли почерпнуть для самих себя, нынешних, — поглядев на себя глазами тех русских, давних, кто носил в себе это самое загадочное странничество…
Что же такое было русское странничество? Не в нем ли и хранится ключ к «загадке русской души», которая для Западного человека совершенные потемки? Хотелось бы все-таки угадать его исток и то, почему на Руси именно вжилось это дивное явление, которому сегодня нет аналогов. Бродяжничество — это ведь совсем, совсем другое…
Конечно, свою силу возымели над душами наших предков огромные русские пространства, бесконечные пути-дороги и та воля вольная, которыми насыщалась до краев русская душа. Да и где же еще так помолиться, как не в дальнем, одиноком и неспешном пути…
Но вот тут же рядом, со времен Руси Киевской спасались великие подвижники веры в глубоких пещерах — Киево-Печерской или Свято-Успенской Святогорской Лавр, или в святых пещерных песках Псково-Печерского монастыря…
Этим-то небесным человекам уже не был потребен широкий полевой путь «меж колосьев и трав», не лелеяла их босые ноги нежная пыль родимых проселков, не манили их сменяющиеся очертания бескрайних былинных еловых лесов с их заповедными темными озерами посреди чащ, — этот огромный завораживающий взор и сердце древний русский мир, сгусток неведомой человеку жизни, наш первый и главный русский «кормящий ландшафт». Вся сердцевинная Русь была еловым лесом с лиственными оборками, и только много позже пядь за пядью превращал человек их в поля и степи.
Впрочем, именно леса и заменяли пещеры монахам Северной Русской Фиваиды. Что в пещерах, что в Египетской пустЫне, что в лесной глухой пУстыни… Преподобный Сергий сразу ушел в лес, и почти все его ученики облюбовывали себе в непроходимых лесах, а то и в дуплах молитвенные пристанища. Таковых не влекли сменяющие друг друга и ускользающие вместе с облаками к неземным пренебесным пристанищам дали, не пленяло чье-то одинокое окошко, светящееся в ночи…
Святые опытно знали, что все настоящие дали, и свет, и тепло — в сердце человека.
Эти люди, нет, земные ангелы и небесные человеки, странствовали в духе, погружаясь в бездонные глубины своих сердец, давно уж распростившись со всем земным, человеческим, суетным, — всем тем, что отвлекало бы их от Божественного желания — влечения к Богу. Все земное — пустое, полое, не освященное сердечной устремленностью к Богу, теперь не только стесняло бы им пространство сердца, чающего иные дали и эти дали у ж е вкушающего, оно бы мучило, томило и даже убивало бы их своей мертвостью.
Не случайно преподобный Иосиф Волоцкий отказался повидаться с матерью-монахиней, пришедшей навестить его перед смертью в его монастырь. Не случайно отревали эти смиренные и ласковые даже до зверя лесного старцы усилием могучей своей воли все таковые и нежно-душевные воспоминания о привязанностях жизни земной: о родителях и милом детстве, о первых волнениях и ожиданиях юности, переполненной предчувствиями…
Предчувствиями чего? Любви? Но ведь большей частью ожидания нас всегда жестоко обманывают. Достаточно обернуться, чтобы убедиться в том, что только лишь те ожидания и предчувствия были прекрасны, которые таили в себе хоть в малой искре стремления неземные. Воплощения никогда не могли совпасть с тем дивным волнением сердца, с тем, что чаяла и как бы уже прозревала в свои свежие годы душа, потому что дар воплощенного в жизни совершенства человек утратил в момент грехопадения, променяв его на плод вЕдения добра и зла.
Могло ли полученное смешение родить человеку и в самом человеке и вокруг него что-нибудь подлинно совершенное? Вот вопрос, который меня почему-то стал занимать не так и давно… Вот подвижник: он, влекомый несокрушимой силой к Богу, бросает все внешнее и все внутреннее мирское и уходит в лес жить и служить Одному только Богу. Но вот рядом с ним — писатель, предположим, Достоевский… Он никуда не уходит, хотя и его сердце влекомо огнем Живой Истины, и ей одной он только жаждет служить. Бог ведь не даром дал ему веру, но и особенное сердце, расширенное многими страданиями и испытаниями — только скорби, таинственным и рационально непостижимым, но духовно в вере и живым богословием постигаемом образом очищают и ширят человеческое сердце, мало-помалу уничтожая в нем адскую змею эгоизма. Такое сердце постепенно научается вмещать в свою любовь весь мир и прозревать в сердечные глубины человеков.
Почему Достоевский так любил картину Клода Лоррена «Ацис и Галатея», которую называл по-своему «Золотым веком»? Не античная идиллия виделась ему в ней, а утраченный человечеством Рай, о котором где-то в глубинах сердец хранится некая прапамять. Таким, как Достоевский, Бог благословлял дар особенно острой и чуткой памяти об утраченной высоте и какие-то словно давно знакомые отрывки воспоминаний — deja vu, и понимание, что именно эта память и всевает в чуткие души некое непонятное беспокойство, странные стремления к странствиям — как наземным, так и внутрисердечным.
Для таких избранников Божиих, как Достоевский, эти странные воспоминания о вроде небывшем, это святое беспокойство, которое они умели услышать в других людях, не становились предметом осуждения как «кровяные» и сугубо душевные и даже, якобы, вообще не духовные. Люди, обладающие особыми творческими дарами, пытались всю эту гамму ощущений не только воспроизвести, но и распознать их духовную природу. Слыша эти «странные» ощущения, томления духа в других, художник воспроизводил не только их, но и сживляя со своими собственными еще более острыми ощущениями «миров иных», освещал их перед читателем глубоким своим духовным «распознаванием».
Человек ведь духовен по природе. Он таковым создан Богом. И это и есть в нем его образ Божий. Но все-таки еще не подобие Божие… Подобие, — то есть не убить в себе дух, но дать ему жизнь и возрастание, чтобы стать поистине «осуществленным» духовным человеком, — мы должны завоевывать с Божией помощью за время, отведенное нам на земную жизнь.
…Те же, у кого были только некие способности при полной утрате (или отсутствия дара?) способности слышать голос этой таинственной внутренней прапамяти, неизъяснимую тоску — святое беспокойство об утраченном «Золотом веке» и связанной с этой памятью ненасытной устремленностью туда, где «за далью непогоды, есть блаженная страна», — всего того, что и называется и с к а н и е м Б о г а, — те ничего на самом деле не творили. И не могли сотворить. В лучшем случае они сочиняли картинки к «волшебному фонарю». Он радовал их уже одним тем, что показывал всем то, что и так было всем знакомо. «Ловко воспроизвели, как на фото!».
Услышать, уловить это святое беспокойство, усиленное покаянным плачем о своем несоответствии, о своей вековечной утрате, как в творчестве, в искусстве, так и в обыденной жизни, — значит, увидеть большую глубину в человеке, услышать подлинное лицо его боли, — у каждого она может быть по-своему приодета, но все решает исток и вектор устремления этой боли, — к Богу ли, о Боге ли, по Богу ли?
Не одна-то ли, да одна, Ай, во поле дорожка, Во поле дороженька. Не одна-то ли дорожка, Ай, дорожка пролегала, Она пролегала. Эх, частым ельничком доро… Ай, дорожка зарастала, Она зарастала…* * *
Последние годы Егора Ивановича не принесли ему ни благополучия, ни житейского покоя. Устраниться туда, куда влеклось его сердце, — к любимой семье — ему было никак нельзя. Да и при всем при том, он все-таки оставался деятельным человеком. В поте лица он любил трудиться. А тут, наконец, сын Иван Егорович, наконец, женился, и, получив в приданное за женой обширные имения, призвал к себе отца в качестве управляющего.
Удаляться от Орехова, от семьи, от Анны Николаевны, ведь и по соседству с Ореховым еще водились богатые имения, а значит, он мог бы служить и там, — было больно. Однако свое решение перебраться к сыну в «Новое Село» Егор Иванович принял, исходя из интересов благополучия Ивана и желания помочь ему устроить новую жизнь.
…Не осталось теперь в Тульских краях и следов того имения «Новое Село», что на берегу реки Шат, где предстояло доживать последние восемь лет жизни Егору Ивановичу. Разрушен почти до основания храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в давние времена предками владельцев имения — дворян Астафьевых, из рода которых была невеста Ивана. В этом храме Егор Иванович всегда молился, регентовал им созданным хором крестьянских детей, занимался его благоукрашением, — много дивных утешительных молитвенных минут пережил он в этом храме, а потом и упокоился за его алтарем, не дожив немногим до своего семидесятилетия. Могила Егора Ивановича сохранилась только в карандашном наброске Анны Николаевны в ее письме из Нового Села детям.
К слову сказать, и в Ореховском доме никогда не бросались в глаза следы бытия первого его хозяина. Не сохранился его кабинет, и сейчас я бы спросила у бабушки, а был ли он вообще? Нет о нем упоминаний ни в письмах, ни в воспоминаниях, мол, вот де кто-то из детей занял папашину комнату…
Оставались цветники, еще долго радовавшие глаз и поддерживавшиеся детьми и отчасти внуками; всего лишь одна фотография, немного писем и записок, — и все. Но и то немногое, что осталось, говорит: и молитвенные дневники, о которых уже знает читатель, и письма Егора Ивановича, которые я здесь ниже еще приведу, и вот такие на первый взгляд, простенькие записки, которые он писал для самого себя, а, оказалось, что писал он их словно в ответ на мои размышления.
Когда-то давно я читала эти записки, скользя глазами по строкам, по тексту, который не вызывал ни вопросов, ни возражений, настолько он был в моем понимании «правильным», и я потому даже не собиралась вставлять их в мой «Подстрочник к помяннику». Но вот что-то заставило меня опять обратиться к этой тетрадочке, и когда я открыла ее в очередной раз, передо мной вдруг ожила каждая буква и каждая мысль, — все окрасилось и обрело силу ощущением присутствия человека, который отошел ко Господу за 62 года до моего рождения и почти за 130 лет до мгновения, когда я пишу эти строки. Мне открылось, что все написанное было не просто словами, но жизнью, опытом и сутью Егора Ивановича, и что каждое слово и мысль в этих записочках уже были его собственным д о с т о я н и е м, — тем, что стяжал за жизнь милый дедушка; и то еще открылось, что строки эти были написаны словно… для меня.
Видно не случайно нынче потянулась рука к той заветной тетрадке, уже давно отложенной в сторону…
«Слава в Вышних Богу и на земле мир!
Сладостно и утешительно произносить слова сии, только с восторгом чистой души можно воспевать Творца Всевышнего и никакое удовольствие земное не может пролить столько утешений в сердце наше как удовольствие небесное; как велик человек, ощущающий все прекрасное, видящий во всем Бога и как ничтожен он в своих плотских помышлениях. От высокого к низкому, от славы к ничтожеству — одно мгновение.
Блажен верующий и непрестанно ищущий в сердце своем Бога. Несчастлив, ниже пресмыкающего червя, человек в страсти — без веры и без Бога — нет жизни, без чистоты душевной нет утешения мысли, нет восторга, нет вдохновения и никогда не воскликнешь:
Слава в вышних Богу и на земле мир!»
А потом решила я и еще одну записочку дать, — уж очень она оказалась близка к теме и завершению рассказа о дорогом мне страничке, конца которого ждать уже и не долго:
«Заря восходящего солнца.
Прекрасен Божий мир, но еще прекраснее жизнь за гробом. Какой восторг, сколько радостей сердцу при виде зари восходящего солнца. Какая кисть художника в силах изобразить все тени этой зари. Если так хорош свет солнца, то каков же может быть Свет Самого Бога и с чем сравним блаженство праведника, который насладится сим светом в будущей жизни».
* * *
…Выбор сына в семье благословили — вдовая княгиня Вавочка Гагарина казалась завидной невестой. Но брак этот счастливых ожиданий семьи не оправдал.
Судьба Варвары Гагариной напоминала судьбу бабушки Ивана Егоровича — Глафиры Кондратьевны Стечкиной, выданной в 14 лет замуж. Анна Петровна Астафьева, мать Вавочки, была нрава крутого и необузданного. «Гром и молния» звали ее в семье… Как только она появлялась у молодых, из ее комнат летели звуки пощечин и злобные крики: «Рупь, три, пять, пять!..». Это Анна Петровна в приступе бешенства била по щекам своих горничных, а затем, считая себя добродетельной и справедливой, откупалась от горничных за каждый удар рублями: и она, видать, не совсем была лишена весьма своеобразно понятого страха Божия.
Вот эта-то Анна Петровна и выдала свою дочь Варвару еще совсем полуребенком за развратного старика князя Гагарина. Не долог был этот брак, но след оставил роковой…
Овдовев, Варвара согласилась с д е л а т ь с ч а с т ь е молодого и блестящего Ивана Егоровича Жуковского, уже служившего к этому времени товарищем прокурора в Туле. Вавочке красоты было не занимать стать, да к тому же она, помимо своих родовых астафьевских имений получила весьма солидную часть состояния покойного князя по завещанию.
Жизнь молодые повели насыщенную…
«Милый Папа. Вчера мы получили Ваше письмо, за которое оба с Вавой Вас искренно благодарим. Вы пишете, что приедете в Новое село к 1-му сентября. Это немного рано. Я думаю, что до того времени еще не уедет от нас Анна Петровна, а до ее отъезда я не нахожу политичным Вам приехать. Здесь вообще представляется много затруднений относительно перемены управляющего и относительно многого другого, что необходимо политиканить с этой милой bell mere (тещей — прим. авт.). В самый день ее отъезда Вы получите от меня телеграмму и тогда поспешите к нам. До этого же извещения не двигайтесь с места. Поверьте, что так будет лучше… Вавочка все такая же милая, как помните, была в Орехове и на нее, мою голубушку, можно положиться — не изменит. Я впрочем, своей политикой приобретаю все больше и больше прав…»
Увы, полагаться на Варвару было невозможно: наверное, не так уж и трудно было приметить первые тревожные признаки ее нервного расстройства, даже и тогда, когда она выходила за Ивана Жуковского. Однако жених витал в облаках, старшие Жуковские, пребывая в отдалении, были удовлетворены хорошей партией сына и тоже, видимо, надеялись, что теперь-то судьба их первенца сложится покойно. Возможно, Анна Николаевна надеялась, что этот брак каким-то образом отзовется и на судьбах младших детей. Впрочем, сие — лишь мои домыслы, так как о том ни одного упоминания, ни в переписке, ни в воспоминаниях не встречалось. За исключением эпизода, связанного с замужеством младшей Верочки. Тогда ставший очень состоятельным старший брат Иван, сделав широкий жест, пообещал подарить Вере на свадьбу 400 рублей (что ныне было бы равно примерно 400 000 рублей), правда, оговорив, что вручит подарок через месяц после свадьбы. Однако подарок так и не был сделан, ни через месяц, ни через год. Бабушка моя этот случай записала, правда, от себя ничего не прибавив. Было, мол, так — и все, хотя тонкий сарказм в строках ее прочитывался. Возможно, эту скрытую усмешку огорчения она слышала в устах своей матери — Веры Егоровны, которая так и не получила обещанного.
Выдавал замуж Верочку и потом всегда и во всем помогал ее семье, мужу и деткам ее второй отец — Николай Егорович — за год до Верочкиной свадьбы в 1883 году тихо угас в Новом Селе Егор Иванович.
Новая жизнь Ивана начиналась довольно суматошно и вроде бы весело, хотя Егору Ивановичу, водворившемуся в Новом селе, приходилось вовсе не сладко: наезжала и подолгу живала, всем распоряжаясь по-хозяйски, грозная Анна Петровна Астафьева. Судя по отголоскам в переписке, она притесняла тихого и кроткого Егора Ивановича. Он страдал молча, но Анна Николаевна, разумеется, чувствовала все…
«Размолвка Вани с Анной Петровной очень меня расстроила, — писала мужу Анна Николаевна осенью 1877 года. — Как это он, такой благоразумный, потерял терпение, и как ты не скрываешь, но я по твоему нервному почерку прочла, что и тебе не легко!..»
Ну а со старшим сыном отношения установились теперь совершенно практические: не отец и сын, а хозяин-сын и его управляющий — отец:
«Милый Папа,
Посылаю Вам Тихона пешком, так как старых лошадей я пока оставляю здесь. Вавочка моя повела совсем «светскую жизнь», сегодня у нас опять целый дом гостей, опять ужинают и поэтому опять требуется салат, шпинат и редиска и я обращаюсь к Вам с просьбой всего этого прислать на 9-ти часовом поезде с Дорошкой или Парменкой или с тем же Тихоном. (…) Завтра вышлете мне шарабанчик к утреннему поезду. Я еду в Ефремов в понедельник, а Воскресенье проведем у Вас — Вавочка и Таничка тоже приедут. (…) До свиданья же. Присылайте непременно салат и редиску».
Разумеется, Егор Иванович вел хозяйство в Новом селе как всегда уверенно и умело, и поставлял сыну все вовремя, но самому ему жилось не сладко. Привыкший к жизни в исключительно дружной семье, где царствовали мягкие и заботливо-предупредительные отношения друг к другу, Егор Иванович очутился на последнем круге жизни в центре вихря страстей и положение его в новой среде к тому же было не многим лучше, чем роль обычного приживальщика. Увы, этот было так, и надо было это с большим достоинством терпеть и нести Бога ради.
…Совсем недолго — «как два голубка» (по выражению Анны Николаевны) прожили Иван и Варвара в браке. Во время одного из своих припадков Варвара неожиданно для всех сбежала из Нового Села и скрылась в неизвестном направлении…
Случилось это ранней весной 1878 года. Иван Егорович впал в отчаяние. Вся семья Жуковских вилась вкруг него, утешала, ублажала… Однако искать Вавочку отправился не он, а всегда и за всех отдувавшийся, всегдашний всем помощник и выручатель, Николай Егорович.
Срочно выехала в Новое Село поддержать сына и Анна Николаевна. Оттуда она писала дочери Марии Егоровне и Николаю Егоровичу:
«Новое Село. 4 марта 1878 года.
Сейчас получила письмо ваше от 2-го. Несказанно благодарю вас, что вы меня обо всем уведомили. Не знаю, что и делать с Ваней. Колюшка, напиши ему, голубчик. Что за страдания его… Неутешно плачет… такое отчаяние — кричит: жить не хочу… А она, аспид, ничего сюда не пишет. Сущее наказание Господне!».
Анна Николаевна не могла себе представить, что Вавочка — душевнобольной человек.
Николай Егорович нашел невестку в какой-то московской больнице: безымянную и беспамятную, умирающую от дифтерита, которым заразилась она в своих безумных бегах. Ему же пришлось взять на себя большую часть хлопот Ивана по разделу имения с «громовой» тещей.
Егор Иванович в это время все так же пребывал в Новом Селе, вел хозяйство, нежно присматривал за падчерицами Ивана — маленькими княжнами Гагариными (позже, после кончины Варвары, их забрали родственники князя) и исправно отчитывался о жизни в имении сыну, как, к примеру в этом письме от 6 июня 1878 года:
«Милый Ваня,
Сдесь благодаря Господа все благополучно. Сегодня приезжал к тебе Языков, очень был любезен и весьма жалел, что не застал тебя. Я ходил с ним по саду и хозяйству, т. е. в огород и он везде находил все хорошо. Я обещал ему, что ты по приезде будешь у него(…).
Княжны живут очень тихо и день ото дня делаются милее. Теперь они заняты приготовлением фонарей — верно к Аграфеньеву дню будет елиминация (орфография письма сохранена — расставлены только кое-где знаки препинания. — прим. автора). Из Москвы привезли Шарабан и сегодня будет выбор лошадей. Выбрали левую пристяжную из белых. Аграфена Александровна ездила со мною на Красненькой, которая ей очень понравилась, но в их шабаран он станет. Походя навоз вывезли. С 14 июны с Божией помощью начнут косить з а рекой. Овес хорош, рожь тоже. Греча всходит, капуста хороша, конопля плохая. Унавожено по 200 воз. На (неразборчиво) десятин сороковых и на казенных будет 31 десятина — трава хороша. (…)
Что еще писать вам родные. Теперь установилось хорошее время и все разцветает — целую вас всех — Маму, Колю, Машу и Милую Веру — побраните ее, что она ничего не пишет.
Хитров очень похорошел, прожив здесь лето, и на всю зиму отправляется в Италию. Вследствие чего уже теперь начинает петь разные рулады…
В Куракинском лесу показался выводок волков и все боятся туда ходить, Языков говорит, чтобы их теперь не трогать и что в августе все соседи, то есть: Языков, Казаринов, Офросимов и Новиков устроят охоту с участием дам. Кн. Аграфене Александровне (вероятно родственница покойного князя Гагарина) очень понравилась идея и она желает устроить там чай. — Хорошо если бы ты приехал, пора уже и домой, надо заняться делами.
Прасковья Владимировна играет великолепно и за музыкой проводит почти каждый день. — Гуляют на воздухе большие и маленькие княжны, третья — А.В. очень похорошела, а самая меньшая — Елисавета Влад. Любительница всех животных, птиц и хозяйства почему и составляет мою симпатию. Собачка ее уже выросла большая.
Вручаю все вас Покрову Божией Матери. Целую вас и обмнимаю всех.
Ваш Папа.
Приписка на полях:
Июня 6-го поспела 1-ая дыня, которую поднесли княжнам».
* * *
Года через два неутешный вдовец Иван начал помаленьку приходить в себя: он там же, в Туле встретил чудную девушку — дворянку Ольгу Гавриловну Новикову — из семьи потомственных моряков. Отец ее, адмирал, был сподвижником адмирала Нахимова в обороне Севастополя. Мать — Мария Александровна, — женщина верующая, добродетельная, вскоре после смерти мужа, а это было уже после окончания Крымской войны, узнала о его многолетней супружеской неверности. Тогда она дала обет ради спасения мужней души и «искупления его грехов» оставить всех трех своих дочерей незамужними девушками, а самую лучшую, умную и красивую, отдать в монастырь. Выбор пал на среднюю — Ольгу. Старшая была горбата, а младшая мало развита.
Вот так, весьма своеобразно становились иной раз наши духовно просвещенные предки «щедрыми жертвователями»…
С детства готовила мать Ольгу Гавриловну к монашеской жизни… Усердно посещались церковные службы и держались посты, внушалось отвращение к нарядам и светскому образу жизни; все три сестры ходили в черном, крепко бинтовалась грудь, но вместе с тем, как рассказывала (не без тонкой иронии!) моя бабушка, девицы обучались английскому языку, изысканным манерам, — тоже на английский лад (вся семья Новиковых была поистине примером англомании) внушалось презрение «к мужикам» и брезгливое отношение ко всякой работе, кроме «broderee Anglaise» (английских вышивок) и тому подобных изящных рукоделий.
В доме у Марии Александровны Новиковой постоянно живали странники и юродивые Христа ради, звучание их духовных кантов сливалось со звуками классических сонат, разыгравшихся Александром Гавриловичем, братом Ольги, превосходным музыкантом…
Ольга была добрая и скромная девушка, целиком и полностью отдававшая себя той жизни, которую ей предназначила мать. Но, однако, встретив Ивана Егоровича, она не выдержала начертанного «курса»: полюбила его и дала согласие стать его женой. Правда, надо было еще и мать упросить…
Мария Александровна никак не хотела сдаваться, и только вмешательство старца-духовника, под большим влиянием (или руководством?) которого находилась она тогда, помогло Ивану и Ольге добиться своего. Старец (к моему сожалению, осталось без внимания имя этого старца — духовника Новиковых. Хотелось бы рискнуть предположить, что, скорее всего, старец мог быть из Оптиной Пустыни, которая от Нового Села была совсем не вдалеке — но это всего лишь предположения…) разрешил Марию Александровну от обета и благословил замужество Ольги.
Пышная свадьба состоялась летом 1880 года, после Петровок. В Новое Село поздравлять молодых отправились Анна Николаевна и Николай Егорович…
* * *
На бытии Егора Ивановича в Новом Селе второй брак Ивана не особенно сказался. У бывшей тещи — «гром и молнии» — выкупили ее часть имения, на место прежних водворились новые родственники, и их было тоже не малое число. Свои родные были в отдалении. Разумеется, новые жители Новосельские не были людьми скандальными и столь крутыми, как Анна Петровна Астафьева, однако, как мы теперь можем наблюдать из череды портретов, русские женщины, в том числе и весьма благочестивые, властью отнюдь не брезговали, умели ее держать и употреблять, и со своеволием своим особенно-то не боролись, как то заповедует нам Церковь.
А Иван Егорович, сколько не углублялся в политесы, так и не смог взять себе роль полноправного хозяина. Новая невеста была богата — одно описание бриллиантов, которыми задарила ее родня в письме Анны Николаевны, занимает полстраницы.
Уж кому кому, а Анне Николаевне предстояла действительно скитальческая жизнь — меж Ореховым, Москвой и Тулой. Да еще к тому же она требовала средств, а их большей частью не было. И, судя по всему, на то, чтобы утешить пожилых родителей, страдающих в разлуке, облегчить жизнь матери, — Иван Егорович что-то не подвигался…
12 января 1878 года Анна Николаевна писала мужу в Новое село:
«Голубчик, ведь я писала тебе, что я не имею денег. Чтобы приехать в Новое по меньшей мере надо 15 р. где же я их возьму. Коля столько сделал затрат на сестер, что мне невозможно и рта разинуть, так что январь очень труден для Коли с обязательными обедами. И ныне он с университетом празднует Татьяну. Все профессора обедают в Эрмитаже…»
Грустны, а кому и очень скучны все эти мелочи жизни, да куда ж без них? Человеку заповедано тянуть исправно ту лямку, которую ему Бог благословил, но если, как писал Егор Иванович, не просто тянуть ее, а тянуть, Бога ради, ища в этом послушании Бога, то вовсе не безрадостно, а даже очень трогательно и умилительно, и в конечном итоге спасительно.
Правда, все-то мы предпочитаем громкие дела: открытия Америк, изучения наполеоновских войн, личностей тиранов, историй предательств и подлостей политиков и громкие процессы — почему-то все таковое более интересуют нас, нежели тихо и однообразно текущие без конца и края повседневные заботы жизни. Мудры же были святые отцы, учившие монастырских трапезарей: прислуживаешь братьям за столом — зри пред собою ангелов.
…Егор Иванович постоянно тревожился об Орехове — он некоторое время даже пытался издали руководить работами в Орехове в письмах. Сохранилось одно такое письмо, написанное 21 февраля 1877 года крупным, подобно прописям, почерком и адресованное жене старосты Прохора Гавриловича Марфе Егоровне, — Гогоровне, как ее все звали, которой было поручено управление домом и хозяйством:
«Марфа,
Похлопочи, нельзя ли взять Андрея васильевского в работники, его можно взять в год или на лето до заговенья. Насчет лошади — постарайся ее переменить, съезди к дедушке Семеновскому. Не достал ли он какую поспособнее лошадку — он и денег подождет. Поряди кого-нибудь переделать ступни на балконе, что в саду, понадобится досок пять. Купи в Васильевском лесу, деньги потребуй с недоимщиков непременно — скажи, если не заплатят, то будет им отказано от аренды. Теперь шутить не будут — порядки другие.
Набей хорошенько погреб. Да как будет потеплее, поряди кого-нибудь получше переделать печку в бане — надо две стены печки из бани разломать вчистую и свод над каменкой приделать вновь, сама посмотри за работой. Глины припасите запреже. Цветы начните садить на Фоминой неделе и разнимайте поострожнее корни на две и три штуки. Чтобы земля была получше. Почаще чисти трубу, помазывай, не забывай в печке…
Береги сено, чтобы было на пашню. Если Господь благословит сеять, то овес посеять по оржанищу от кубиков 3 четверти, а к дорожке — гречу 1 четверть. Чечевицу сеять по загонам в яблонях, где была греча и рожь. Сколько пойдет картофелю, Бог даст, купи и посеешь за скотным двором, где была репа, — а по картофелю, где он был в прошлом году, попробуй посеять либо горох, либо гречу. Хлопочи, голубка, полной хозяйкой, чтобы у тебя все было хорошо. Нонче Анна Николаевна приедет рано, после Егория, поснимай навоз и цветов и почисти дорожки, да пуще всего поправь балкон и баню. Господь же над тобою, постарайся поговеть, не забывай Господа, как тебя не забудет. Если Гаврило возьмет 45 р., то можно его порядить, но лучше Андрея возьми на год.
Твой доброжелатель Егор Жуковский».
* * *
Вот и пришло время проститься нам с милым Егором Ивановичем. Совсем немного лет и дней оставалось пройти по дороге жизни тому, кто верил и знал, что смысл этой жизни не в малых и крупных ее событиях, не в громах и молниях истории, а в непрестанном искании в сердце своем Бога. И что это-то и есть главное дело жизни. А все остальное — поделье.
Егор Иванович скончался 17 ноября 1883 года в Новом Селе, соборовавшись и причастившись Святых Таин. Кончина была тихая, благостная.
Анна Николаевна писала детям 2 декабря из Нового:
«…Я каждый день у дорогого на могилке. Упокой, Господи, его милую душу. Привезу вам рисованную Александром Гавриловичем картину, или лучше сказать, набросок его могилы. Все убрала и если Бог даст здоровья, в субботу или в воскресенье приеду к вам».
Недолго прожила в Москве Анна Николаевна: 23 марта 1884 года ей снова пришлось приехать в Новое: у сына Ивана и Ольги Жуковских родился сын, названный в честь деда Егором Ивановичем.
Фото и коллаж работы Екатерины Кожуховой.
Глава 7. Незаметная жизнь. История Marie
Как таяние снегов с горных вершин, поначалу почти незаметное ни человеческому глазу, ни приборам, а после внезапное, ошеломляющее, лавинообразное, так долгое время под спудом, а потом и явно таял и разрушался в поколениях потомков Егора Ивановича и Анны Николаевны благостный строй их бытия. Бытия непростого и даже весьма печального, не изукрашенного яркими зарницами событий, не упитанного похвалами света, ни насыщенного наслаждением красотами мира, не утешенного изящными удобствами жизни и даже не вполне вкусившего теплоты простой, уютной и благой семейственности, но исполненного трудов и лишений, всяческого воздержания и строгой соразмерности бытия, увенчавшегося, в конце концов, явлением неоспоримой завершенности и глубокой исчерпанности задач их жизней. А, вернее, ж и з н и, потому что эту задачу они решали вместе, как бы телесно не были далеки друг от друга.
«Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох: прочее соблюдается мне венец правды» (2 Тим.4:7), — так подводил итоги великой своей жизни божественный апостол Павел. Но бывали, пусть в несравнимо меньших масштабах, но тоже «увенчанные» жизни и у людей совсем незаметных, ничего особенного по земным меркам не совершивших, — где родился, там и пригодился: жил просто, там и так, как Господь благословил, а не так, как хотела бы наша ненасытная душенька, но подходя к концу «течения», и такой незаметный человек мог смело сказать, что до самого дна испил они чашу жизни, и не какую-нибудь, а именно свою, и только свою, ему одному от Бога предназначенную.
Так прошли поприще своей земной жизни Егор и Анна Жуковские. Но потомки, пусть не в следующем колене, а дальше уже могли пытать — и некоторые пытали — себя мучительными вопросами: а ту ли жизнь я прожил, что мне положил Господь? М о я ли это была жизнь, или мне предназначалась совсем иная, а я своим глупым непослушанием, своими капризами и похотениями, своим покорством страстям и нетерпением потерял свою родную стезю и пошел собирать оброки несчастий на чужих путях…
Увы, и мне не раз западал в сердце этот каверзный вопрос, который в мире «деловых людей» называется упущенными возможностями. Но почему-то сожаления о рухнувших планах и не взятых «планках» не особенно сокрушали меня: находя причиной всех упущений собственные, даже напрямую и не связанные с этими мнившимися мне высотами, вины, душа моя почему-то находила (в конце концов) даже некоторое удовлетворение в этом весьма переменном токе моей жизни. «Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим» (Пс. 118:71–72). Разочарования и неудачи парадоксальным образом оборачивались духовными научениями. И этими невещественными приобретениями она начинала дорожить много больше, обретая в них малые крупицы сердечного покоя…
Не было бы сокрушительных неудач, целого склада разбитых корыт — всего того горького, что скопила жизнь в своем золотом фонде (не смейся, мил друг читатель: оказывается, и разбитые корыта могут перетянуть на весах человеческой жизни целую кучу драгоценного метала), а были бы сплошь восхождения, покорения вершин и взятия мелких высоток, — овладения тем, чего, как нам кажется, должна была бы вожделеть в этой жизни душа, — несомненно, — уж как пить дать! — книга бы эта никогда бы не написалась…
И потому из воздушного, изумительного по легкости и красоте Пушкинского предуведомления к «Онегину», я выбираю как ко мне относящееся лишь одну последнюю строку:
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Таковые «заметы» ошибок и потерь и «разбитых корыт» (ну, опять же ведь — Пушкин!) и помогают мне теперь погружаться все глубже в минувшее, где моя собственная жизнь еще, как говорили в древности, хранилась в чреслах моих предков. Эти меты и рубцы сердца, эти раны жизни, не задаром и не рассудком воспринятые Божии уроки, — наши верные Вергилии в погружениях в жизни и судьбы других людей. Мы ищем и узнаем там не только их, но и себя, испытываем природу и своих ран, повреждений и ошибок, и сравниваем, усвоялись ли ими, и как, уроки Закона Божиего…
В особенности нам нужны таковые Вергилии, когда мы оказываемся, в том времени, когда след в след Егору и Анне, исполнившим (sic!) свои жизни в ясности, простоте и смирении — то есть с м и р н ы м принятием того, что давал Бог, начало набирать силу уже во многом совсем иное духовное поколение…
От «глубоких вод» — русского патриархального и смиренного материка жизни дедов оно сначала инстинктивно и бездумно, а после, казалось бы, сознательно и осмысленно, а на самом деле в глубочайшем помрачении ума яростно отталкивало лодки своих жизней. Что изменилось? Я объясняю это изменением вектора воли — у старших Жуковских она от рождения была п р е д р а с п о л о ж е н а быть обращенной к Богу с готовностью все в жизни творить и воспринимать в соизмерении с нею и со святым Законом Его.
У дедов глаза веры были обращены в Вечность. У внуков, начавших незаметно для себя терять веру и ее ориентиры, уже рождавшихся, осмелюсь предположить, с неким уроном, не восполненным родительским воспитанием, проглядевшим начинавшуюся духовную порчу потомства, — взгляд погрузился во в р е м е н н о е. Соответственно тому они стали и терять способность слушать и слышать волю Божию о себе. На место Божьего гласа приходило свое: Я так хочу…
Но человек ведь — д у х о в н о е, «сверхвременное существо» (Н.О.Лосский), тесно связанное со всем миром, не только в его настоящем, но в прошлом и будущем бытии, способное непосредственно постигать все виды и стороны безбрежных глубин бытия. И это в нас неустранимо. Потому даже потеряв веру, мы не в силах окончательно уничтожить в себе эту, пусть еле пульсирующую, но, тем не менее, все-таки живую ж и з н ь д у х а, и голос его, подспудный, еле слышимый, неразличимый, но, увы, возбраняющий нам быть счастливым з д е с ь, отдавшись в рабство молоху времени, вне устремленности к Богу, к своему Отечеству в Вечности, мы совсем не слышать тоже не можем. Правда, чаще всего мы просто не понимаем, ч т о это за мучающая нас и томящая, мешающая нам насладиться э т о й жизнью до краев, сила…
Незримо живущий в человеке дух всегда неотразимо напоминает нам о себе и влечет нас отсюда — туда, ходатайствуя о нас «воздыхании неизглаголанными» (Рим. 8:26).
И пусть помраченные ум и воля потерявшего веру человека, голос духа своего слышать не желают, устраивая себе подобие счастья здесь, оно все равно не достижимо, а разлад и горький раскол личности при такой упорной духовной глухоте, обеспечен. Увы: человек, утративший о духе понятие, токи его и сигналы воспринимает вкривь и вкось, и, как безумный, все глубже и глубже погружается в омут жизни, где уже до адской бездны — рукой подать…
* * *
Что было причиной постепенного помрачения веры в сердцах следующих за Егором и Анной Жуковских поколений? Усилившееся давление безбожной среды — набравшего силу всеобщего отступления от Бога, изменившего климат и соотношение сил в обществе? Участившиеся примеры вольного переступания Заповедей и церковных канонов в личной жизни самых авторитетных верхов общества? Ослабление нравственного иммунитета людей, теряющих способность стоять против искушающих их страстей? Неосмотрительность воспитателей, упускавших из виду духовную пользу детских душ, духовное оскудение церковной жизни? Причудливая игра духовно-нравственной генетики, или же все-таки предел долготерпения Божия, попустившего ниспадение почти целого народа в ад безверия?
Кто знает… Судьбы Божии. Однако, думая о своем роде, я вижу, что сомнения, а вслед им неверие проникало в жизнь семьи вкрадчиво, незаметно и непостижимо. Вливался в род новый человек — добропорядочный, добрый, рассудительный, имевший и прочие немалые добродетели, но, увы, уже принявший в свое сердце отраву сомнений, а то и отрицаний бытия Божия.
Это уже были люди не того «детского» склада, какими были Николай Егорович и его матушка Анна Николаевна, — это были р е ф л е к с и р у ю щ и е личности. Простоту сердца незаметно теперь сменила сложность, ну, а таковые сложности ведь не в традициях православия, — В Боге и сложное все становится ясным, прозрачным, логичным, стройным, — простым. Сложность — сродница европейской секулярной культуры, которая как Лаокоон, задушенный змеями, совсем запуталась, ковыряясь в дебрях бездонной человеческой души, пытаясь познать человека своими силами вне Бога. И на Руси со времен Петра именно такому познанию и пониманию человека и были открыты все ворота.
Сначала — и долго! — бытие Божие впрямую не отрицалось (исключим крайности революционной Франции) — ни в романах, которые читали с упоением Татьяны Ларины, ни в жизни бытовой, ни даже в науке. Возвеличивались факты — те же историки! — а от попыток религиозного осмысления и объяснения многих сторон жизни и даже быта уклонялись, — это ведь не научно! — предпочитая а п о с и о п е з ы — фигуры умолчания; делалось это к тому же будто бы случайно, невинно, по забывчивости или по как бы стеснительности, — «ну как это я буду о чем-нибудь говорить, ссылаясь на Промысел Божий, словно старушка, — ну, как засмеют меня»?
Вот эта «стеснительность», это неприкрытое человекоугодие в государственном и личностном масштабе были отдаленным духовным результатом ползучих Петровских реформ, которые продвигаясь тихой сапой в течение двухсот лет, перекроили всю русскую жизнь и ввели в кровь русских людей страшный вирус европейского протестантского худоверия.
Ныне находятся и такие уже вернувшие себе веру люди, которые теперь с высоты своего фарисейского знания о Боге, готовы все крушить в русском прошлом — особенно в сфере искусства и творчества. И Пушкину теперь нелегко приходится от посяганий наших неоправославных патриотов: они не могут понять, каким духовным подвигом было явление его Татьяны, вдруг вживе открывшей то, что когда-то было неотъемлемым достоянием Древней Руси — смиренная, целомудренная, теремнАя женщина, верная Богу, мужу и своему слову, отличная от света (всего общества пушкинских времен), синтезом и символом которого был показан несчастный Онегин.
«Писание знает (если, конечно, мы верим глаголам Духа) об этих тайных грехах души, которые считаются равными и подобными грехам явным, поскольку и те и другие суть побеги от одного и того же корня, — говорил великий Макарий Египетский. — Ведь Писание гласит: «Яко Господь разсыпа кости человекоугодников» (Пс. 52:6) и «мужа кровей и льстива гнушается Господь» (Пс. 5:7), причисляя лесть и убийство к единому преступлению».
Не за подобное ли человекоугодие и была наказана Россия?..
* * *
Однако мы весьма далеко заглянули вперед в нашем рассказе, нарушив и естественный ход жизни и ритм нашего прихотливого шага повествования о ней. Зачем потребовалось такое забегание вперед? А затем, чтобы поглядеть на то, еще медлящее уходить из нашего рассказа и еще живое в нем п р е ж н е е (это относится к тому, о чем сейчас пойдет речь) не из оконца параллельно летящей тройки, а из врат конечно-тупиковой станции, — из наших дней — столь далеких и непохожих на жизнь семьи Жуковских в середине и во второй трети XIX века. Читатель ведь уже привык, что мы в нашем рассказе не гнушаемся подходов, занятых из века XX–XXI-го, — то zoom резко приближает к нам чей-то крупный план, на котором мы можем увидеть даже слезу в углу глаза, то широкоугольник выкладывает нам целую панораму, на которой земля открывается нам в своей заповедной сердечной грусти, а то и космический аппарат помогает нам глянуть с непомерных высот на земные пространства оттуда, где временнОе начинает терять свои собственные очертания, поглощаемое неизменным и вечным. С Богом ли мы?
Рассказ теперь пойдет о самой старшей в ряду детей Егора и Анны — о Машеньке, Марии Егоровне Жуковской, Marie, — как звали ее в детстве и юности обожавшие ее братья Иван и Коля, близкие ей по годам. Однако со временем братья незаметно переменили обращение к сестре — стали звать ее Машей. Не она изменилась, — они…
Родилась Маша летом 1841 года в Орехове. До объявления крестьянской воли было впереди еще целых 20 лет. Это немалое время становления (в особенности для девушки девятнадцатого века) прожила она при старом укладе крепостного права. В эти годы Маша была особенно близка с Иваном, который родился спустя три года после нее. С Николенькой было уже шесть лет разницы. После освобождения крестьян Маша прожила еще почти 30 лет — всего без малого пятьдесят. Недолгой, малозаметной, ничем не выдающейся, — скромной была ее жизнь. Она очень любила Ивана, бывшего наперсником всех ее девичьих мечтаний, но посвятила жизнь свою неженатому брату Николаю, которому не просто заменила отсутствующую супругу-хозяйку, но подарила ему настоящую семейную жизнь с ее радостями и уютом, с ее особенным теплом и домашностью, она сделала его дом открытым для друзей и соратников по науке. Пока была жива Маша Николай Егорович никогда не скучал от одиночества.
Была ли у Маши своя жизнь? И что она такое — с в о я жизнь?
* * *
Из Орехова сестре Вере во Владимир.
Поздняя осень 1889 года.
«Голубушка Вера, сегодня мы проснулись в охолодевших комнатах и с ужасом увидали, что на дворе снежная мятель. Значит дождались. Завтра посылаем подводы с мукой и птицей, не знаю, как доедут маленькие цыплятки — очень холодно. Очень жаль, что нельзя сейчас послать тебе корову, очень оне теперь мало доят, а две так совсем перестали… Очень я огорчена кражей у меня варенья, потому что мерзкий Филька ликует. На празднике охмелев, он стал было угощать девок вареньем, но другие парни вздули его, сказав, что он своим вареньем угодит в острог. Зато он купил себе огромную гармонику, нагло ходил садом наигрывая всякие мотивы и напевая «вот они барские бубенчики позвякивают…». Ему сошли тогда с рук обрезанные бубенцы, вот он и погреб обокрал… Посылаю 16 цыпок, 6 индеек, цыплят с курицей и два цыпленка деткам… Если б ты знала, какой вдруг завернул холод, ветер свистит с ужасающей силой, я совсем упала духом, как я теперь доеду до станции… Прощай, голубчик, целую тебя и деток».
Письмо это было написано в последний год жизни Марии Егоровны. Этой поздней осенью 1889 года у нее уже и началась вовсю ее последняя смертная болезнь — тяжкая водянка. Весной 1890 года Мария Егоровна скончалась и была похоронена на родовом погосте Санницы у Храма св. пророка Илии в селе Глухове, что в четырех верстах от Орехова. Упокоилась и она на дивной красоты холме Круче, откуда и по сей день обнимают человека со всех сторон необъятные Владимирские дали, утешающие глаз своими добрОтами — горизонтами непроходимых лесов, и переливающимися холмами, и заросшей кустарником рекой Воршей внизу.
Все теперь молчит вокруг — и погост, буйно зарастающий дикими травами и какими-то отсевками когда-то высаженных цветов, и холмы, и луга, когда-то бывшие ухоженными полями, покрытыми золотом хлебов и кобальтовой синью васильков, а ныне красиво буреющими к осени своими ковылями да конскими каштанами — забытые и брошенные человеками пажити…
Когда-то гудел здесь улей жизни — славилась Круча своими ярмонками на Ильин день, со всех деревень сюда съезжался народ Божий. Телег — не счесть. Бабы все нарядные — пестреющие вышивками да сарафанами цветастыми, кичками рогатыми речными жемчугами унизанными, мужики в новых рубахах, и шум, и торг конфетами-жамками, которые столь обожаемы когда-то были веселыми деревенскими девками, а еще торг шел кульками с изюмом и орехами — с гармоникой и плясками…
…А ведь народ-то подъезжал на Кручу рано-порану: на рассвете, к литургии, а уж после обедни в храме, после молитвы начиналось и гулянье, и ярмонка.
«Последование литургии бывает порану. Наченшу диакону: благослови, Владыко. Настоятелю же возгласившу: Благословенно царство Отца и Сына, и Святаго Духа, и ныне, и…» — так писалось в богослужебных книгах, и народ наш все это хорошо знал, помнил и понимал, — мне еще двадцать лет назад довелось убедиться в том, побывав на службе мирянским чином в Вологодском селе Ферапонтове, в котором несмотря на великие фрески Дионисия все никак не удавалось прижиться священнику, — и по сей день Ферапонтово фактически отдано на откуп музейщикам. А мирянки — женщины и благообразные старики вели службу уверенно и чинно, хотя голоса уже в пенье потрескивали старчески и срывались. Но серьезность лиц вызывала благоговейное почтенье.
Это мы теперь и в голову взять не можем, что народ наш был набожным, — все, за исключением мизерных единиц-отщепенцев, молились: утром и ввечеру. Многочисленные детки на коленках стояли по всем углам хат, бабы истово читали молитвы… Молились и дворянки, и крестьянки, и мужики, без креста на челе в избу не входили и ложкой, даже в ночном, на привале, уху свою святым Крестом метили…
Спит Marie на Круче родной. Рядом разрушенный храм, где всегда она молилась, где стольких особенных молитвенных мгновений удостаивалось ее сердце, где выплакала она свою скорбь, меру которой знал Един Господь, когда взял свое слово назад тот, кого она единственно любила во всю жизнь. Все было поведано Богу в этом храме. И только ли ею одной?! Здесь вся семья обретала последний покой, принимали святые имена младенцы, венчались благословленные Богом браки…
Сюда ходили пешком все деревенские — и моя молодая мать после войны — на праздничные службы и еще сохранившиеся тогда гулянья, которые помнит мое давнее Ореховское детство.
Милый храм! Смотрю я на твои развалины, и плачет мое сердце о тебе больше чем о человеке. Припала бы я к твоим старинным плитам, поцеловала бы твои бедные поруганные камни. Но ты далеко. Но в то же время и близко — как душу живую несу я тебя в своем сердце…
Коллаж работы Екатерины Кожуховой:
«Крестьянские девушки» — фотография Прокудина-Горского. Начало XX века.
Разрушенный храм в с. Глухове, где за алтарем — родовые могилы Жуковских.
…Неужели про безобразия пьяного Фильки, про индюшек и цыпок писала та самая Marie, которая в своей первой юности, году примерно в 1856-м, чинно прохаживалась по ореховскому старинному парку под кружевной амбрелькой в нарядном a la Russ сарафане и кружевных митенках вместе с гувернанткой m-lle Berte, декламируя по-французски что-нибудь из «моего Корнеля» или «моего Расина», как она обычно именовала этих французов в своих дневниках того времени… Или та романтичная девочка-подросток, что сидела на берегу усадебного пруда в «Долине слез» и мечтала о том, как будут исполняться их с братом Иваном заветные желания. А ждали они от жизни не много — ни мало — счастья…
Брату оно виделось удачного восхождения по служебной лестнице, приметного положения в свете, достатка, известности… Сестра искала в грядущем романтической любви, красивого замужества, а себя — просвещенной и блистающей хозяйкой салона — вроде знаменитой Смирновой-Россетти…
Не тем ли дышали и тысячи других юных девичьих сердец, томящихся в тиши бедных дворянских усадеб? И они ждали доброго жениха и возможности благодаря замужеству вырваться на простор жизни из малых мирков своих небольших имений, столь щедро и широко разбросанных в русских просторах…
Но могла ли посулить им все это реальная жизнь? Где было встретить им своего суженного, когда далеко не каждая девушка, как и Marie, имела возможность выбраться в Москву зимой, а если и выбиралась, то ее круг, средний, если не по родовитости, так по скудости средств, не мог предоставить девицам подобных возможностей.
Такие как Машенька, уже в юности своей были обречены на одиночество. За время, унесшееся после хлебосольных и многолюдных деревенских праздников, которые устраивали помещики средней руки — те же пушкинские Ларины, а это была первая четверть XIX века, — многое изменилось. Как и Жуковские, бывших в Орехове в тесном общении исключительно с семьей двоюродных Петровых (в эту семью вышла замуж младшая сестра Анны Николаевны Варенька), так и многие другие семьи, несмотря на относительную тогдашнюю заселенность Руси не имели обширных деревенских связей. (Еще в годы моего послевоенного детства Русская земля смотрелась относительно заселенной. Не то, что ныне: тысячеверстная пустыня, когда-то бывшая полями пшеницы, ржи, льна, гречихи, а теперь целина; луга, но не разнотравья, а монстров сорняков и лишь изредка небольшие кусочки полей, на которых ловко и споро выращивают газоны на продажу в усладу богатым дачникам, — мертвые пространства, интересующие сегодня разве что торговцев заброшенной нашей землей, да ненасытных нуворишей, алчущих «сеять» на ней свои безвкусные дворцы, особняки, бассейны, шашлыки…).
Откуда было взяться женихам в Машины времена, а тем более — в наши?
* * *
С магнатами высшего света живые семейные связи не залаживались, — высший круг всегда был четко очерчен и наглухо замкнут. К тому же имения по соседству с Жуковскими, как правило, пустовали, отданные на волю управителей.
Стремительно беднела родня — те же родовитые древние дворяне Стечкины, потомки боярские, когда-то могучие владетельные помещики, теперь в лице своенравных потомков только и норовили, как бы быстрее промотать, прокутить, спустить с молотка отцовское наследство. Стечкины навещали Жуковских и в Орехове, и в Москве, но речь там могла идти только о том, как бы молодым двоюродным и троюродным, а то и вовсе дальним своякам помочь…
В последние годы жизни Российской империи дворянство оскудело не только от полного разорения, но и от житейского одиночества, от изживания семейственности, и это одиночество и прекращение былого цветения жизни, его тоскливое, но по-своему прекрасное как осень умирание, запечатлел в своих грустных, продуваемых всеми степными ветрами рассказах Иван Бунин.
Стены Дома рушились, изъеденные древесными жучками, превращались в прах от сырости и гнили и на открытых ветрах вселенной доживали свои одинокие жизни последние осколки прежней удали, и мало кто имел счастье погреться вместе с родней у старинного камелька своих предков.
Разрушение русского уклада жизни коснулось судьбы Marie еще в малой степени, хотя и ей кроме случайно заехавшего в Орехово в гости троюродного брата жизнь не могла ничего более посулить… Ну, уж, а судьбы ее красивых, образованных и умных племянниц (Веры и Кати — моих бабушек), у которых не складывалось ровным счетом ничего, говорят о том, что не без Божиего перста так страшно и необратимо истощалась русская жизнь…
* * *
Вспоминая горькие стези поколения моих бабушек, расцвет молодости которых пришелся на годы перед I Мировой войной, а зенит на годы 20–30 уже века XX, меня не оставляет двойственное ощущение, что причиной их покалеченных судеб была не только общерусская государственно-политическая катастрофа. Подоплека ее была, несомненно, духовного толка. Словно отнято было тогда Божие благословение всем, жаждущим любви и устроения семейных очагов. Не вили гнезда тогда птицы. Не растили совместно своих птенцов, трогательно трудясь для их пропитания и роста… Случайные браки — по прихоти, по мимолетному увлечению, по какому-то рассудочному капризу, понуждаемые страхом одиночества, — возникали, как болотные огни, но так же мимолетно и бесследно рассыпались прахом, оставляя по себе не память, а шлейф горечи и ожог на душе…
Каким-то странным образом — «как трава», — вырастали при этом дети (но не всем, далеко не всем потомство даровалось…). Их уже как прежде и как положено не воспитывали (да и не имели на то никаких возможностей). Самовластные, несчастные, болезненно самолюбивые, если в детстве эти отпрыски еще и приучались бабушками к молитве, то в юность они входили уже без нравственных опор веры, зато с сундуком новейших дремучих предрассудков, которыми заражались от всеобщего смрада эпохи: горячечным энтузиазмом всеобщего конструктивизма, самодовольной верой в неограниченные силы человека, в его свободу вытворять все, чего душенька только не пожелает…
Повзрослев, они готовы были воспроизводить свою жизнь и дальше, бронируя свои духовные болезни в последующих коленах…
Конечно, главные вины можно предъявлять той лавине, что с бешеным ускорением понеслась с заоблачных высот прежней русской жизни, сметая и круша все на своем пути, но ведь на Суд Божий все приходят не «лавинами», а по одиночке… А потому где, в какой момент, по чьим неосмотрительностям, из-за чьих ошибок или наследственных, не выправленных, не уврачеванных духовно-генетических сбоев начали таять вдруг эти великие снега вершин, — вопрос вовсе не праздный, хотя и трудноподъемный для слабого человеческого рассуждения. Еще и потому трудный, что ответ, напрашивающийся словно сам собой, шепчет нам не о лавинах, но о почти не видимых, еле заметных, даже «невинных» с нашей современной точки зрения уклонениях — о малых каплях, которые камни гор точат. А мы привыкли — в силу грубости нашего ума, ворочать глыбами. А ведь то яблоко, которое, отведав, Ева подала Адаму, оно ведь тоже было с виду не велико. Но изуродовало человека, а через него и весь мир.
* * *
…Неужели это была та самая Marie, которой младший братец Николенька семи-восьми лет (а Маше — 14) посвятил свою пробу пера — все дети Жуковских с раннего возраста рано начинали приобщаться к писанию стихов, но со временем как-то незаметно переходили на прозу. Стих уже не шел…
Однако Николай Егорович, уже, будучи чуть ли не профессором Московского Университета, разменяв пятый десяток лет, все-таки тряхнул стариной и написал в Тулу своим маленьким племянникам, детям брата Ивана — Жоржу и Машуре, заболевшим корью, чудесную балладу под названием «Свадьба в болоте», которую хоть фрагментом, Бог даст, и мы в нужное время читателю представим. Но пока… вернемся лет на тридцать — из 80-х годов XIX века назад, в Машину юность: в середину пятидесятых, когда восьмилетний Николенька сочиняет одно из первых своих стихотворений — трогательное посвящение любимой сестрице:
К тебе Как белая лилея Душа твоя чиста И розы пышнее Твоя красота. —- — Еще будь красивей Моя, ты сестра, Земли будь счастливей И помни меня.Н. Жуковский.
Машенька в свои четырнадцать-пятнадцать лет была миловидной, хорошо воспитанной, серьезной и весьма развитой отроковицей и вполне могла поспорить своими манерами и тщательной образованностью со сверстницами в том же Смольном Институте. Она прошла с учителями курс естествознания, курс риторики, занималась усердно алгеброй, чудесно рисовала. Она изучала историю — и не только по книгам…
Был в то время в Орехове дворовый человек по имени Захар, доживавший свой век на краю деревни. Захар мог много кое-чего порассказать. Он со своими господами Всеволожскими (владельцы пустоши Орехово до Жуковских) бывал в Питере еще во времена императрицы Екатерины II. Видел Государыню в золоченных каретах разъезжавшей по Невскому, видел Суворова, когда тот приезжал в соседнее Жерехово к своей дочке, бывшей замужем за Николаем Зубовым, а в 1812 году он с маленьким барчуком Михаилом Всеволожским был застигнут Московским пожаром, и еле выбрался оттуда в Орехово. У этого-то Захара вечно обивались деревенские дети, любили посидеть там и барчуки. Захар учил ребятишек по славянскому букварю и Псалтири грамоте. Сидит Захар на печке, ковыряет кочедыком лапоть, а ребята твердят нараспев: «Веди-от-во; рцы-от-ро; твердо-аз-та-ворота»…
Маленькие Жуковские называли Захара Захарикусом и очень его любили. И ему, наверное, разумеется, после матери-отца дети Жуковские были обязаны своим прекрасным энергичным, полнозвучным и полноводным русским, в котором был сбережен живой церковнославянский корень, — язык молитвы, язык Библии, Священной Истории от сотворения мира, всегда питавший язык повседневности, придавая и ему поистине безграничную вселенскость и мощь, широту восприятия мира во временах и пространствах и могущество глубокого проникновения в тайну человека.
Этим-то языком и окормлялись дети Жуковские и другие подобные им русские барчуки, пребывая с детства в живом и тесном общении с простонародьем и самой деревенской жизнью, имевшей в себе многие патриархально-библейские черты. К слову: в семьях ореховских крепостных не только дети — родителей, но и родители — детей (!) величали на «вы».
Но погибли усадьбы, погибли деревни и святые Божии церкви, и начал оскудевать и вымирать русский язык…
* * *
…Машу считали в семье художницей, — рисовальный дар достался в наследство особенно ей и младшему брату Володеньке; отменно говорила она и писала по-французски, — с раннего возраста занималась языками с детьми сама Анна Николаевна, а потом и приглашенные учителя — в их числе и гувернантка-француженка m-lle Berte…
Не удержусь здесь от небольшого и грустного отступления по поводу старинного русского обычая брать к девочкам гувернанток-француженок, которых к последней трети XIX века сменили miss…
Если читатель помнит из самых первых наших глав рассказ о послевоенном московско-ореховском детстве автора сих страниц, он может себе представить, что старинный окрас и старинное достоинство быта при бабушке Екатерине Александровне неукоснительно сохранялось, хотя на дворе и были совсем уже другие послевоенные времена, и мы были бедны как корабельные мыши. До сих пор в бумагах бабушки я нахожу клочки с записями расходов на питание (клочки, потому что бумаги не было — ее, как и все другое, экономили, берегли — этому бабушка хорошо принавыкла еще с революционных времен): мясное — отцу и немного «маленькому Катюшку», и редко бабушке и маме, и все в самых скромных масштабах и ассортиментах, при том, что готовилось все очень аккуратно, за стол садились в одно время, подавалось все чисто на старинных хороших тарелках, да и готовилось все тоже по заведенному обычаю старины — просто, чисто, умеренно, не остро, без смешений, — разве только винегрет приветствовался…
Покойный дядюшка Кирилл Иванович (-1997), только в последние свои годы, овдовев и распечатав восьмой десяток, начал употреблять в пищу лук и чеснок. Это был его последний протест против старости и «рутины», — он всегда являл собой парадоксальное сочетание барственности и традиционности и модернистского конструктивизма, которым заразился в юности, — повадками и характером он немного напоминал толстовского старого князя Болконского, а раньше — упаси Боже, если бы ему жена подала бы кристально прозрачный бульон со следами плавающего лука или положила бы лук с чесноком в котлеты или салат…
Лук и чеснок считались не русской пищей и притом плебейски не русской. Не щи, ни каша, которыми питался простой народ, не чесночились. А потому и вчерашний барин предпочитал пустую картошку или гречневую кашу, или старинные щи любым чужеземным разносолам. Можно в этом убедиться, перечитав того же Бунина: описание еды — редкий гость в его рассказах. А вот любовь к старинной простоте быта, как национальная, и в то же время изысканно дворянская черта, объединяющая воедино крестьянскую и дворянскую эстетику жизни, — это пожалуйте — читайте через строку.
Так и остатки канонов старинной русской кухни, которая весьма отличалась от европейской своим, я бы сказала, диетически-сдержанным подходом. Не случайно же в одном из своих рассказов Иван Алексеевич Бунин вскользь упоминает как несомненную примету московских весен, ажиотаж холеной фешенебельной московской публики, несущейся в «Прагу», чтобы отведать первой молодой картошечки со сметаной и укропом…
Соусов не употребляли, — разве бешамель? — любимое мое, кстати, в детстве словцо. Да и вкус у бабушкиной этой бешамели получался волшебный, мне так и не удалось его повторить. Хотя какие тут трудности?
…Ветвится мой рассказ, как запущенный и давно необрезанный куст, разрастающийся летораслью безнадзорно в разные стороны, от ветки — ветка, а от той еще и еще ветка… И вижу все это разрастание и сокрушаюсь тому, что не в силах с ним совладать, и, тем не менее, вновь отдаюсь соблазну допустить и еще одну веточку, вспомнив по ряду еще одно заповедное бабушкино изделие: изюмник, как она сама его называла, а по-настоящему же — мазурек. И где-то еще будет местечко, чтобы вставить про изюмник и всю сопутствующую ему ауру семейных воспоминаний?
* * *
Дело в том, что после первых лет жизни во Владимире и Одессе отрочество и юность бабушки — вплоть до замужества прошло в Киеве на Большой Житомирской (передвигались в связи с перемещениями по службе отца), в доме с замечательным садом, спускавшимся под гору… Катя очень любила Киев, и Киев отвечал ей тем же, оставив в самых глубинах бабушкиного сердца свою яркую отметину: и сам град, каким он когда-то был, и его овеянные преданиями горы и священные холмы, и Днепр, и сам воздух, и базары, и украинская мова, и яркие костюмы жинок… Было в бабушке что-то несомненно вдохнутое Киевом и оставшееся в ней навсегда: чуть побольше, чем у других внутренней свободы, широты и звучности чувств в молодости, чуть больше простоты (никогда не посягающей на принятое и усвоенное строгим воспитанием), скрытая, сдержанная пружиной умной воли горячность, — трудно это нечто, чувствуемое мною, облечь в слово: разве что «н а р о д н о с т ь»? Или, точнее, внутренняя с и л а, присущая в исконном и глубоком смысле этому понятию?
Бабушка моя была человеком Древней Руси, своего рода княгиней Ярославной — по мощи и широте ее сердца, сокрытых и в глубинах души. Она была человеком еще Домонгольских времен, когда народ еще не был так истоптан чужим сапогом, когда несметные унижения и слезы, тяжелая поступь истории и жестокости последующих правлений, пригнетавших и постоянно испытывавших, насиловавших русскую душу еще не иссушили и не смирили ее горьким смирением, не истощили ее первородных молодых сил…
Богатое и яркое киевское бабушкино начало содержало в себе и такую житейскую мелочь, как любовь к цветастой роскоши Киевского базара, к щедрым развалам природных даров УкрАины, к сухим вареньям, от которых рукой подать до столь крохотного предмета нашего внимания под названием… мазурек, поскольку именно в нем обильно принимали участие сухофрукты, орехи, всевозможные пряности-духИ, и тому подобное, — все вроде просто, но не без хитрости.
Мазурек этот (или изюмник), пирог западно-украинского, польского происхождения, незаметно стал участником и свидетелем важнейших событий в жизни семьи. Бабушке и ее сестре Вере изюмник удавался бесподобно. Хуже — маме, и, наверное, еще хуже, особенно с годами — мне. Этот удивительный пирожок по семейной традиции требовал к себе очень внимательного и даже благоговейного отношения — неспешности, тщательности и какого-то легкого душевного подъема, какой бывает у хозяйки, когда ее сердце кого-то особенно трепетно ждет.
О нашем мазуреке есть даже строки в одном из рассказов Веры Александровны, бабушкиной сестры, в ее книжечке «Вишневая ветка», которая посвящена «памяти Георгия». Это рассказ о том, как девушка в старинном своем родовом имении ждет приезда жениха-моряка на побывку к Рождеству, и печет для него, разумеется, собственноручно, свой заветный пирог мазурек. В этом рассказе тети Веры столько близких и не то, чтобы просто узнаваемых, а незабвенных для меня подробностей запечатлелось, что, впервые увидев его в свои зрелые годы, я пришла в такое смятение, словно мне принесли телеграмму, отправленную мне кем-то из… 1905 года.
«Вишневая ветка» Веры Александровны Жуковской, вышедшая в 1918 году (издательство «Задруга») в нашем архиве, к сожалению, не сохранилась, но ко мне в руки она все-таки «пришла» самым чудесным образом, когда я начала работать над своей книгой. Кстати сказать, так было не только с «Вишневой веткой», — очень многое вдруг, будто случайно открывалось мне, само падало в руки: сведения, фотографии, документы… Словно кто-то там был заинтересован в том, чтобы мое повествование состоялось и было бы оно возможно более полным и истинным.
Сама-то я верю, что это были (и есть!) те самые «воздыхания окованных» и молитвы праведных и наша незримая и вечная взаимосвязь друг с другом. Но сможет ли и захочет ли верить тому и в то мой читатель — я знать не могу. Мое дело писать все, как на духу, или, как часто говорила мне моя бабушка — стоя перед читателем и главное перед той правдой, которая доверена м н е, и которую должна сказать Я, — навытяжку: «как лист перед травой».
* * *
«Вишневая ветка» — это подлинная хроника событий пережитых нашей семьей и самой Верой Александровной, потому вымышленные имена героинь рассказов я здесь опускаю, — так ли уж они важны, ведь я знаю, что так все и было, как пишет бабушка Вера, лишь чуть-чуть обыгрывая романически сюжет. И потому здесь именую истинную героиню Веру — Верой.
…Вот, как и в жизни, красавица писанная, легкая, длинная, молодая и сильная, летает она по Ореховскому (а какому же еще?) старому дому, из комнат — в людскую, и — обратно, опять в кухню, толчет миндаль, утихомиривает разошедшихся малышей-братьев, растирает желтки, подсаживается на минутку к креслу старенькой своей бабуни, с которой на пару они зимуют на сей раз в Орехове, а то падает на колена перед угольником с иконами… Но вот она уже вновь в людской у огромной русской печи следит за тем, как готовят гуся, командует девушками, убирающими комнаты, достает из сундука праздничную белую скатерть-шитье работы крепостных, приданное бабушки, — чуть ли на сто персон раскрывалась она! А сердце ее трепещет, замирает, падает… Она ждет своего жениха Жоржа, выглядывает на крыльцо, подставляя свои горящие от печного жара щеки колючим царапинам метели, — вот-вот загремит колокольчик и к заснеженному дому подлетит тройка, а в ней — в парадной треуголке — родной, веселый, долгожданный…
Но веселый и долгожданный и великими слезами омоленный, такой вроде бы бесшабашный, но в глубинах своих такой печальный, ибо с самого начала знал что погибнет, — уже полгода как покоится на ледяном дне Цусимского пролива, под саваном свинцовых вод.
…А вот и Катя, Верина сестра, и она тут же… Тихо наигрывая старинный вальс, она тоже думает о нем, но молчит, и никто не знает, ч т о она думает и к а к она его помнит. И она об этом никому не говорит. А ведь этот вальс — и я печатлею этот миг, — она играет спустя пятьдесят лет с тех дней, — скажем в году пятидесятом XX столетия, и звучит он для нее не томным минором забвения, а живой былью — безнадежным горем тех, кто под духовой оркестр встречал на Казанском вокзале Москвы редких сынов, мужей и братьев, вернувшихся с Японской войны, и не находил среди них своих близких. Тут даже и тихо танцевали некоторые. Но это было кружение скорби, кружение неотвратимости и непоправимости случившегося. Кружение как некий ритуал, плач…
Вся серединная простая Россия медленно, монотонно, обреченно и молча кружилась тогда под этот вальс:
Спит Гаолян, Сопки покрыты мглой… На сопках Маньчжурии воины спят, И русских не слышно слез…* * *
…А еще всегда заглядывали у нас в книгу Елены Молоховец, тоже, между прочим, киевлянки, всю испещренную пометками и расчетами, которые делала мама, когда к праздникам жарилась курица, пеклись пироги или ставились куличи, а то и по самым простецким кулинарным поводам, когда продуктов было всего-то раз — два, да обчелся. Маринадов, пришедших к нам с Балкан, у нас не водилось, заготовок не делали (из чего?) — разве что несколько баночек варенья, сваренных по очень старинным рецептам, — эта «варенишная» книжечка до сих пор цела, как и Молоховец — мама мастерски переплела ее в свое время и сделала ей из дешевых обоев великолепную обложку. Замечу к слову: дядя мой упомянутый Кирилл Иванович Домбровский, строгий носитель традиций, когда женился вторым браком, тут же потребовал, чтобы все в доме готовилось по Молоховцу и сам отыскал у московских букинистов для жены эту волшебную книгу. И надо сказать, что супруга его Мария Павловна в совершенстве справилась со своей миссией. А ведь она была из коренной крестьянской сибирской семьи. Родители умерли от холеры когда она и сестрица были еще совсем малы. Туго им пришлось у родни. И две девочки пешком, побираясь, отправились в Москву. Машеньке было лет 10, а Вере — 12–13. И дошли. Вера устроилась работать, выучилась сама и выучила сестру — Маша стала очень хорошей, виртуозной, серьезной монтажницей на «Центрнаучфильме», а Вера всю жизнь проработала на авиационном заводе, имела награды.
А тетя Маша, выйдя за такого капризного барина, как мой дядя, сумела обрести все то, чтобы быть ему под стать: простой, приветливо-сдержанной, аристократичной, всегда скромно, но доброкачественно одетой. Она научилась всему, что требовалось, чтобы вести дом так, как привык к тому муж. И вкус его стал ее собственным вкусом — она могла безошибочно выбрать и чашку, и шерсть для свитера мужу… А он очень гордился ею и высоко ценил ее крестьянскую породистость и благородство.
Царствие Небесное и Вам, дорогие мои, последние мои старики, — Кирилл, Мария, Вера.
* * *
«Варенишная» книжица была много старее «Молоховца» и несет в себе отзвук подлинных красот и оттенков родного старинного быта — одно варенье ставится на колодезной воде, для другого воду берут с родника, ягоды отстаивают на ледниках, добавляют какие-то загадочные коринки… Варенья из всевозможных корочек, пастилы, — Белевскую особенно помню, яблочную! — читать о которых — только зря слюнки пускать, конфекты из фруктов, сушенья, настойки-наливки и пр. заготовки, уложенные в аккуратные коробочки с вощеной бумагой…
Эту книгу я перечитывала много раз и не только в детском возрасте и представляла себе все эти процедуры проделывающей не только Пульхерию Ивановну — верную супругу Афанасия Ивановича («Старосветские помещики»), но и мою милую прабабушку Марию Егоровну Жуковскую, ставшую в самой сердцевинке хозяйственной жизни семьи, сумевшую сосредоточить в своих руках все старинные уменья, что принесла с приданным из Плутнева Анна Николаева, и те, что прирастились к ним в последующей уже Ореховско-Московской жизни Жуковских. Вот уж кто был гением очага, так это Мария Егоровна. Но гений этот не был богом гурманов и сластолюбцев, богом изысков и преувеличений, — это был бог семейного мира и уюта.
У Марии Егоровны все переняла Верочка — ее младшая сестра, родившаяся через двадцать лет после Marie. У Верочки все переняли ее дочки — мои бабушки Вера и Катя. Но вот мама моя хозяйничать сама не очень любила, полностью придерживаясь вкусов и умений бабушки, но сама она была человеком искусства (вторая по духу М. Голубкина) и потому часто повторяла, правда, без какой-либо досады, а так, полегку: мол, не надо было ей замуж выходить и меня рожать — служение искусству нельзя делить ни с кем и ни с чем.
…Говорила мама это в своей мастерской, где замечательно пахло глиной и пластилином, который она размягчала на допотопном обогревателе. Пластилин плавился, тек, все вокруг было запечатлено пластилином: и какие-то старинные медные и латунные кувшинчики, мисочки, удивительные мамины стамески из каких-то редкостных пород дерева, изготовленные какими-то заповедными мастерами из прежних «секретных» русских промысловиков, иностранные книги по искусству — моя любимая залепленная пластилином и засохшей глиной библиотека, тысячеватная лампа без абажура под нашим высоким потолком, чтобы можно было лепить в очень ярком освящении, всевозможные циркули, ножовки, ореховский очень старинный топор (каркасы и стойки для крупных работ мама чаще всего сбивала сама), мотки проволоки, маленький репродуктор по которому своим страдальческо-мистическим, запредельным голосом, в котором я всегда слышала какой-то скрытый стон, будто со мной о т т у д а говорил голос самого ушедшего времени, — читала «для меня» Андерсена печальная Мария Бабанова; старинный шкафчик красного дерева (!), перемазанный засохшими масляными красками, тут же и тюбики с дивными названиями цветов, ну, и, наконец, маленькая девочка лет четырех или пяти на скамеечке у окна, рядом с этим историческим обогревателем с открытой огненной спиралью, листающая толстенного немецкого Дюрера или что-то пытающаяся слепить из пластилина.
Бабушка моя долго хранила «шедевры» моей лепки (с использованием и детского цветного) — фигурки любимых гоголевских героев Иван Ивановича и Ивана Никифоровича, — шла подготовка к юбилейному 1952 году, в котором Гоголю исполнялось сто лет со дня смерти, а любительнице его героев — должно было исполниться семь лет.
Рискну — не без страха и сомнений! — пуститься в еще одну отрасль моей леторасли: скажу несколько слов, давно скопившихся на сердце о Гоголе, уж коль рассказ привел нас к его тогдашнему юбилею. Тем более, что в описываемые времена мама как раз и работала над памятником Гоголю по заказу Калуги. Гоголь у мамы выходил мягким, сказочным, — Гоголем «Вечеров на хуторе…», хотя сама мама преклонялась перед трагическим образом Андреевского памятника Гоголю, стоявшего (и стоящего) в Москве на Арбате (ныне — во дворике на Никитском бульваре, рядом с домом, где он и скончался). А наш, мамин Гоголь, казалось, даже чуть-чуть мечтательно улыбался, словно ум его пребывал или «уходил в мистическую плоскость», как говаривала мне бабушка, рассматривая еле заметные линии моей детской ладошки…
* * *
Мне и по сию пору этот образ Николая Васильевича очень мил — о доброте Гоголя, кажется, мало писали, — разве что его родня? — а у Николая Васильевича был истинно славянский мягкий нрав. Из этого нрава он и обращался к своим друзьям в «Выбранных местах…», за которые мир его все так и не перестает костерить на все корки, приписывая ему нечто холодное и гордостное, фарисейское, с того самого момента как «Выбранные места» вышли в свет.
С другой стороны — и раньше, и особенно теперь, во времена православного неофитства, находились многие, кто хотел нет-нет, да и «вытащить» напоказ гоголевских демонов в доказательство его собственного демонизма. Это так эффектно, приписать самому писателю всех его чертей, — можно подумать, что без Гоголя они не существуют…
Существуют, и еще как. Так почему бы духовно чуткому писателю не обнажить и таковой духовный срез жизни?
Наставления и назидания Гоголя шли от простоты любящего и Россию, и людей очень доброго славянского сердца. Только вот поучаемые не любили и не умели этого принять, по причине, несомненно несовершенного, высокомерного и гордостного своего устроения. Что, как не гордыня в нас так не любит, когда нас поучают, не она ли начинает ерепениться, спеша выкрикнуть, мол, мы и сами с усами! Гордые упрекают другого (вовсе не столь гордого) в гордости. И как больно это всегда наблюдать даже со стороны. Соболезную Николаю Васильевичу: много кровушки у него попили ревнители.
Вот почему мне много ближе слово Блока о том, что Гоголь любил своего Держиморду. Драгоценная тонкость мысли стоит за этим суждением, написанном в полемическом ожесточении против духовной ограниченности приземленных, политизированных критиков-материалистов, против фантома критического реализма, вытеснявшего чуть ли не целый век из русской жизни подлинный духовный, христианский реализм, против критиков, которым чужды и неведомы тайны православного мирочувствия в его сострадающем отношении к грешнику, что есть лакмусовая бумажка истинности нашего христианства. Все это несомненно жило и в душах таких художников как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Бунин — да и вся русская культура была освещена именно этим мирочувствием. Испепелив его, нанесли страшный духовный урон духу. Не случайно ведь, что даже те, кто все-таки пришел нынче к Богу, несут в себе следы этой тяжелой и непримиримой жестоковыйности.
Разве можно не любить те образы человеков, о которых пишешь, которые встают в памяти твоей как живые: виденные, припоминаемые, схаченные писательским оком прямо из жизни? И разве в них нет ничего, что свидетельствует об остатках Света? И мог ли православный писатель не отзываться на этот свет добрым своим сердцем? Вспомним, как защищал Гоголь свою Коробочку, сравнительно с ее столичной сестрой, как трогательно угощал Плюшкин остатками зачерствевшего (освященного!) кулича? Везде и во всех умел Николай Васильевич найти этот Свет и сострадал человеку, который сам в себе о нем забыл.
Тут, в писательском сердце (в духе!) и сокрыта была главная жемчужина — обличать и поучать с подлинным теплом и любовью сердца в чистоте и полной бескорыстности намерений. И вся русская культура, даже в самых сатирических своих проявлениях, всегда была одновременно и добра, и милосердна, и великодушна, и согревала человека, уча видеть и в насельниках «мертвых домов» человеческое, особенное, — неустранимые до конца остатки Божиего.
Но явилось новое племя людей — не воспринявших с молоком матери ни духа православия, ни духа своей Родины и потому о добродушии имеющего отвлеченные понятия. Вот они-то и стали цепляться к тому, что на поверхности — к словам — ничуть не будучи способными слышать того, что жило и дышало «за» словом.
Не удержусь привести пример, как доктор филологии и профессор, всегда заявлявшая о своей «неоспоримой» православности, разбирала шедевр Чехова — рассказ «Студент». Уцепившись за авторское слово о том, что студент семинарии Иван Великопольский, шел в Великую Пятницу домой… с тяги, госпожа профессор подвергла остракизму и все остальное и в рассказе и в самом Чехове. И дивное сидение в уже затемневших холодных мартовских сумерках Ивана с двумя крестьянками на огородах у костра, и воспоминание всеми тремя как грелся вот так же апостол Петр у костра почти две тысячи лет назад, и его отречение, и живые слезы простой бабы, и это ощущение единства и несомненно пребывающей во времени вечности, и последующие волны радости, истинной благодати Духа Святаго, накрывшего уходящего от них Ивана в подтверждение слов Спасителя: «Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреде них» (Мф 18:20), — все это прошло мимо сердца современного православного (!) критика-профессора филолога, возжелавшего уличить Антона Павловича в его малоцерковности на примере этого гениального рассказа.
«А где это, позвольте узнать, пребывал сей студент — семинарист вместо церковной службы в Великую Пятницу?!!»
«Пребывал»… А Господь взял, да и осиял его благодатью совсем ни за что, даром!
* * *
…К 1952 году я уже осталась без гувернантки-француженки. Горе мне: я не помню, как ее звали! Но зато и сейчас вижу перед собою madam как живую. Конечно, она и жива у Господа, и ее же имя Ты, Господи, веси, но я-то не могу теперь молитвенно помянуть ее так, как просило бы мое сердце. Где-то в самой далекой нетронутой глубине памяти мелькает что-то, имеющее в себе звук «ж»: Жаклин? Женевьева? Жанна?
Великая вещь — имя… И как только нынешние родители решаются так обделить своего ребенка, избирая им имена не по святцам, обрекая человека после крестин на некую двойственность жизни: так много значит для человека его святое имя.
…Наша с Маринкой, моей названной сестрой (нам было лет по пять, и ты, читатель, возможно, помнишь из первых глав, как не хорошо мы баловались и мучили в Орехове мою бабушку и какой след вины это оставило во мне), madam была весьма пожилая — лет около семидесяти женщина, очевидно немало перенесшая за свою жизнь в России в XX веке — коренная француженка. У нее были крашеные хной редкие волосы, какая-то старомодная темная одежда, — я помню, что на ощупь чувствовался крепдешин, какие-то тоже темные кружева, — что-то тонкое, жесткое, помню чудесно грассирующую речь, и запах пудры, которая маскировала ее морщины.
Мы занимались по принадлежащим madam французским книжечкам с чудными цветными рисунками, первыми моими свидетельствами о жизни заморских стран. Из них я узнала о существовании поистине la belle France: девочки в деревянных сабо и особенных белых или красных фламандских шапочках или кружевных чепцах и косынках, повязанных на груди, старинные французские деревни, дома и риги, амбары, сложенные из валунов, низкие крыши, ярко промытая зелень аккуратных полей вокруг, крупные крестьянские лошади-першеронцы в яблоках…
Мы быстро научились болтать по-французски, читали тоже совсем неплохо, родители были в восторге: нас экзаменовали, и мы с удовольствием исполняли для них мелодичные старинные французские песенки, от которых веяло, как и с книжных картинок, милым уютным ладом старины, который ловко завлекал к себе наши души: вот, мол, где было счастье-то, вот где было здорово…
Догадывался, додумывался и вкус горячего французского хлеба и сыра, и вкус густого молока из кувшина… Много позже совсем из других книг без картинок полезла скверна жизни, которая скрывалась за этими славными французскими песенками и живописными домами из валунов, но я так и не научилась совмещать то и то: та Франция — из старинных детских книжечек, и ее же «взрослая» жизнь, — эти два знания существовали параллельно, как существовали два мира, к примеру, в «Отверженных» Виктора Гюго. Не зря ведь так любил эту книгу Достоевский.
Никогда бы не захотела я прервать занятия с madam, но мы с Мариной — две маленьких жестоких проказницы — страшно мучили ее, изводили. Мы были неуправляемы. И я в этом участвовала словно против воли. Вот оно, человекоугодие во всей своей прелести, вот оно врожденное предрасположение ко греху, — а ведь исповедь для детей по церковным канонам начинается только в семь лет. Бедную старушку мы изжили.
Французский я забыла меньше, чем за год… «в совершенстве». Но не забыла старенькую madam, ее бедность, ее беспомощность справиться с двумя отвратительными девчонками, которые, несмотря на явные успехи во французском, превращали время занятий с madam в оргию — насколько это возможно в возрасте четырех-пяти лет.
Разумеется, если бы мы занимались поодиночке, ничего бы этого не было. Но родители нас объединили по причине денежной скудости. Вообще же стоило бы задуматься, отчего два маленьких человека — один тихий и послушный, а другой общительный и покладистый вместе превращались в солидную угрозу для человечества. Что касается меня, так это было несомненное отступление мое перед активностью Марины. Кровь из носу мне нельзя было отставать — надо было и перехлестнуть! Но это было все бессознательно — инстинктивно.
А теперь, спустя целую человеческую жизнь, я могу признать, что испытываю неловкость в обществе людей очень напористых, и властных, особенно людей с агрессивной волей, которые, не замечая того, запросто вторгаются в душевную сферу другого (разумеется, я не говорю здесь о тех, кому сознательно, по любви и доверию отдаешь себя в послушание), и предпочитаю или уклоняться от близкого общения с ними или не заострять противоречий между нами, ведь малейшее отторжение или сопротивление с моей стороны почти наверняка выведет такого человека из колеи, а то и взорвет. Оказывается, напористые и властные люди на самом деле много чаще слабее иных скромных тихонь, поскольку их амбиции и уверенность в себе подпитываются не из чистого источника и имеют в себе некий злой корень, которых их же и делает столь уязвимыми и ранимыми. Медицине этот ядовитый корень известен давным-давно, — гордыня, которая толкает людей властвовать над другими, но при этом «снедает» тех, в ком живет…
* * *
Почему так притягательны были для меня, еще совсем маленькой и потому непредвзятой в своих пристрастиях эти старофранцузские мирные картинки деревенской жизни? Не потому ли, что с них смотрело на меня некое совершенство образа жизни, облекшегося за многие столетия в некую полностью соразмерную душевному строю народа форму? «Дух творит формы», — говорил знаменитый хирург и святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Эта форма, этот особенный старофранцузский жизненный уклад отзывался в моем сердце и влек к себе.
Уют! Вот оно магическое и очень таинственное слово… Нужно ощутить в полной мере холод бескрайних миров вселенной, трагические реалии земного бытия человека, хоть разок, хоть на краткий миг прикоснуться к смертной муке разлучения души с телом, чтобы понять и оценить, что значат старые стены родного дома, любящая семья, древний строй и стародавние обычаи жизни, — чувство устойчивости и неизменности, противостоящее краткосрочности и хрупкости нашего бытия.
Да… Противостоящее, — но ведь лишь на время, до того момента, когда все это будет мгновенно отрезано от нас перед нашей встречей с Богом совсем один на Один — лицом к Лицу.
Милый, теплый угол, ограниченный стенами и близкими людьми посреди всепожирающей бездны… Иллюзия? Да, но такая же, как и «кожаные ризы» Книги Бытия, в которые облек Господь Адама и Еву, изгнав их из Рая на землю, — иллюзия относительная, потому что — врЕменная. Семейственность, относительная отграниченность человеков в том числе и друг от друга, феномен семьи и Дома, где и стены волшебно помогают, старинный уклад жизни, соединяющий нас с нашей большой семьей — бесконечными поколениями «родного народа» — эта отграниченность ведь тоже дар Божий, дар безмерной Отеческой любви Бога к человеку, желавшего укрыть его от лютых ветров и пространств космоса, и спасительная помощь Адаму, чтобы смог он как-то перебыться в этой земной жизни, в которой трагизма на его долю и так хватает. Одни тернии, и волчцы, которые рождает ему в ответ на его труды возделываемая земля, да тернии и волчцы собственного изуродованного грехопадением сердца, которые оно неустанно, как некая фабрика, производит человеку на горе: страстные дела и слова, мысли и похотения, безумные судороги сменяющих друг друга и разнонаправленных рывков воли. Да смертушка одна — нет-нет, да и норовящая промелькнуть где-то совсем рядом, чего стоит…
Дом, семья, уют, — а очень древнее это слово (в латышском — «крыша») обозначает ни что иное, как «укрытие», «убежище», «приют», подаренные Богом человеку для защиты его немощи и хрупкости, его сиротства в космосе, которое настигло его, утратившего свою райскую царственную ипостась (центра мира, царя и владетеля вселенной) и удалившегося от Отца на «страну далече» (Притча о блудном сыне).
Космос необъятен — человек теперь стал мал и слаб, и нужны ему соразмерные его теперешней земной малости рамки бытия, из которых он, тем не менее, должен непременно вырасти, восстанавливая свое подлинное, не временное, но великое вечное достоинство. Это не просто отвержение быта (не двусмысленная интеллигентская безбытность), это перерастание человеком узких рамок быта, преображение и возведение его во всех сторонах к Первообразу, к Божественному Подлиннику, к жизни настоящей, вечной, подлинной.
В этой точке сопряжения «быт — бытие — Вечность» происходило испытание и «взятие проб» произволений человеческих: куда устремлено наше око и где сокрыто сокровище наше: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 19–21).
Ну, а странничество? «Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума», — Пушкин, как не имевший Дома с детства, знал цену человеческой потребности уюта и тепла, и пытался обрести его на протяжении всей недолгой жизни, но обрел его не с красавицей женой, а только в глухой деревне с бескорыстно и чисто любящей его няней. Михайловское и Болдино — вот они — «обители дальние» «трудов и ч и с т ы х нег», куда «давно усталый раб, замыслил я побег», вот та точка,
где духовная оседлость — образ жизни — могут сочетается с духовным странничеством — образом мысли. Условие сочетания — л ю б о в ь, не только созидающая уют и стены Дома, но и не стесняющая духовной свободы человека, если душа стремится взмыть к Богу.
…А тут еще — у Пушкина, — и осень: некое высвобождение от насилия чувственности, великая отрада и небольшое отдохновение человеку от поврежденной его природы, от плоти, вечно воспротивляющейся всем нашим желаниям, влекущим нас «к Сионским высотам».
Так что все сходится: странничество — в лучшем и высоком его выражении, — есть перерастание человеком своей вынужденной и немощной, но все-таки неотвратимой потребности в крыше и уюте, в теплых стенах прежде, нежели оборвется нить его земной жизни; преодоление своей немощи в поисках лучшего и совершеннейшего, — любви Небесного Отца и пребывания в Его Свете и Тепле, в Его обителях: «В дому Отца Моего обители многи суть» (Ин. 14:2).
* * *
Нет, дорогой читатель рассказ про Машеньку — Marie отнюдь не брошен, жизнь ее еще развернется перед нами, тем более, что все эти ветвистые отступления имеют самое непосредственное отношение и к ней, к ее судьбе и облику. Ведь именно она в течение тридцати лет создавала и хранила в семье Жуковских удивительный мир уюта и тепла, в котором креп и мужал талант ее брата, в благорастворении воздухов которого воспитывались младшие братья и сестра, мира, который успокаивал и родителей, и еще многих и многих людей вокруг, — так и вижу я эти вполне зримые расходящиеся круги тепла, которые излучал дом Жуковских, в сердце которого (и сердцем которому) пребывала незаметная и «негромкая» Маша. Круги тепла, до сих пор — через полтора столетия — согревающие и отдаленного ее потомка…
Коллаж и реставрация старых фотографий выполнены Екатериной Кожуховой.
Слева — направо: Вера Александровна Жуковская, урожденная Микулина, в 1903 году в Орехове в русском сарафане.
За ней следом — Екатерина Александровна Домбровская, урожденная Микулина (сестра) тем же летом на ступеньках веранды Ореховского дома;
Далее: дочь Екатерины Александровны — Мария Ивановна Домбровская, скульптор, в процессе работы над бюстом деда — Н.Е. Жуковского — конец 50-х гг.
Первые два фото снимали сами Вера и Катя Микулины в 1903 году, а Марию Ивановну снимала известный фотограф Елизавета Игнатович.
…Прежде чем рассказывать о дальнейшей судьбе Marie, добавлю еще несколько слов о тех расходящихся «кругах тепла», про которые мы говорили выше…
Есть тепло — душевное, а есть — духовное. Церковь это различает. От святого или хотя бы усердно подвизающегося в духовном делании и освященного человека исходит тепло. Это тепло — святитель Феофан Затворник называл его «огонек», — живая Любовь Божия, восшедшая в сердце человека и освящающая его и согревающая на вселенских сквозняках, — теперь уже постоянно живет в сердце подвижника и не может не излучаться на окружающий мир. «От избытка сердца говорят уста» (Матф.12:34). Человек, даже верующий, но верующий скорее только рассудком, головой, но не живым духовным знанием, опытом, приобретенном в смиренных трудах над своей душой, — такой человек, как правило, излучает холод.
Духовно опытные люди умели распознавать природу и источники этих излучений. Давнишняя, прежняя русская жизнь имела в себе это Христово тепло, этот неугасимый огонек в своем народном сердце и она это тепло несомненно излучала, независимо от того, были ли это великокняжеские покои или крестьянская курная изба. Еще в избе-то и потеплее было…
Не это ли имел в виду Гоголь, когда в полемике с холодными позитивистами-западниками говорил о том, что пусть на Руси и было недостаточно света, зато тепла много было. Слово «свет» в данном случае было употреблено в понимании позитивистов, для которых «свет» — это атеистическое «европросвещение», культ человека и культ человеческого позитивного знания, культ «видимого» и полное пренебрежение к тому невидимому, которое познает, любит и чтит верующий человек.
Это тепло передавалось на Руси по наследству, этим теплом согревались и освящались младенцы еще в материнских лонах. Тепло это святило весь быт, внутрисемейные и внешние отношения людей, являло замечательную с в я т у ю простоту в поведении людей, а между духовным теплом и простотой в Боге есть самая, что ни на есть, непосредственная и прямая взаимозависимость. И тепло и простота — следствие духовной очищенности души от чуждых ей демонов, духов: «насельников»-паразитов, которые когда завладеют чьей-то душою, то оттуда на мир дышат леденящим холодом своих демонических энергий. И дело это в жизни вполне заурядное, на каждом углу ныне встречающееся. Только, если раньше, в старинной России, преобладало тепло, то нынче, несомненно, преобладает с большим перевесом холод, даже в, казалось бы, основательно верующей церковной среде. Вот почему не принимает душа дифирамбов современному состоянию нашего народа, даже воспеваемых из самых лучших побуждений: мол, унижен, народ русский, — надо дух поднять. Чтобы поднять дух, надо не замыливать народу глаза, а знать правду о нашем духовном состоянии и тех страшных духовных повреждениях, которыми обернулся для нас XX век. Нельзя крайне тяжело больному все время говорить, что он здоров и прекрасен. Пока не умрет благополучно… Лучше сказать с любовью правду и помочь восстановить свои былые силы.
…Есть такая древняя молитва Святому Духу — ее нашел один старинный, воспитанный в очень светлом духовном окружении, православный человек в Киево-Печерском Молитвослове издания 1876 года:
«Душе благий и истинный! Прииди ныне с высоты святыя Твоея и вселися в ны, отыми от нас сердце каменное, и даруй нам сердце плотяное, — и благодатным веянием Твоим потреби в нас тлетворныя страсти, и дух правый обнови во утробах наших, да облагодетельствованнные Тобою, мы единодушно воскликнем: видехом Свет Истины, прияхом Духа Небеснаго. Ему же со Отцем и Сыном подобает Всякая Слава, Честь и поклонение. Аминь».
Вот именно «плотяными», теплыми, отзывчивыми и были когда-то сердца нашего народа, разумеется, не в поголовном его исчислении, а, как говорят социологи, в выборочной совокупности, которая может довольно правдиво свидетельствовать и о состоянии целого.
Духовная благодать, несомненно, может передаваться в качестве залога добра и по наследству, хотя при этом действует, как того сама хочет. Но если человек нерадит о ее преумножении, а как тот Евангельский раб, закапывает свой единственный, полученный от Бога талант в землю, то не только благодать от него отымается, — «Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится; а у неимеющего отнимется и то, что имеет…», но и человека такого нерадивого ждет худой конец: «А негодного раба выбросьте во тьму кромешную; там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25: 14–30).
То, что происходило в духовном средоточии русской жизни в течение ста лет от второй половины XIX века до середины века XX, можно охарактеризовать как сначала медленное, а с первых лет XX века — стремительное истаивание тепла, угашение огня русских сердец. Благодать еще медлила в конце XIX века, еще действовала словно по инерции, но она не преумножалась — вера и ж и з н ь п о в е р е разошлись, перестали питать друг друга, а XX веке эта благодать начала оставлять наш народ. Да, был «момент истины» в годы Великой Отечественной войны, было начато воскрешение духа народа, но по мере погружения в материальное, по мере восстановления быта, а то и комфорта, духовное, как не имеющее глубоких корней в себе, — они были, увы, вытравлены! — тоже быстро истощилось.
Внутренний холод и подвел народ к началу роковых девяностых. Народ, потерявший духовное тепло и даже память о нем, сам готовил себе петлю…
* * *
Д у ш е в н о е тепло может быть производным от д у х о в н о г о источника — огня Веры и Любви, а может и не быть. Разницу легко опознать: душевное тепло, несомненно, вас обманет, как только будут затронуты самолюбивые личные интересы «душевного» человека. Источение тепла сразу прекратится и из-под обманчивой маски задушевности выглянет мертвый оскал несгибаемого эгоизма, который, пожалуй, и задушить вас запросто не задумается…
Возвращаясь к истории Мари и семейной жизни Жуковских во второй трети XIX века, замечу: не это пресловутое душевное тепло царило там, но подлинное, струящееся из источников духовных — из чистоты сердец, исполненных живой, теплой, несумненной веры во Христа, сердец, где пребывал уже и Сам Господь. А в доме, в который приходит Христос, просрамляются, изгоняются и уничтожаются демонические излучения зла: «…Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2 Кор. 6:14–16).
Анна Николаевна была строга, но всегда ровна, спокойна, тверда, и при этом ни грана злобы не было в ней и не вздымался гордостно ее дух, и не воздвизалась в ней злоба, раздражение, высокомерное к кому-то презрение: все дети и внуки знали, как она внутренне справедлива и добра. Не вила в ней гнезда злоба…
Мягок, рассеян, крайне добродушен был Николай Егорович, по-доброму весел — никогда не спорил и не ссорился с обидчиками. И когда грубо и неприлично поступил с ним меценат Рябушинский, на деньги которого, но под полным научным и практическим руководством Жуковского и его учеников создавался авиационный центр в Кучине (ныне ЦАГИ им. Жуковского в городе Жуковском) — Рябушинский имел на него свои коммерческие виды, ему нужны были прибыли, а Жуковскому развитие авиации в России, вступавшей в мировую войну. Потому Рябушинский хотел, когда уже дело было крепко устроено, отделаться от бескорыстного Жуковского причем самыми неблаговидными способами, — Николай Егорович, перед которым однажды закрыли двери станции, просто сказал ученикам: «Пойдемте отсюда».
Жуковский не только помогал всем вокруг, кто просил и кто не просил, — он помогал не только материально, но, прежде всего излучением тепла, сострадания, любви его отзывчивого сердца. «Не тесно», не тесно было множеству людей в его сердце, оно словно еще и еще расширялось с каждым годом, вовлекало в себя все больше и больше имен, охватывало разные сферы жизни…
Не случайно, в наследии Жуковского огромное место занимают изобретения вещей, имеющих прикладной характер — от чулочно-вязальных машин и тому подобных приспособлений в молодости, до нахождение гениальных решений для переустройства московского водопровода, разрешения сложнейших теоретических задач в строительстве подводных лодок, в артиллерии — в зрелости. Это отдельный рассказ и мы к нему еще вернемся впереди в четвертой части нашего повествования, которая будет называться «Русская Цусима». Там мне хочется на примере научной судьбы Николая Егоровича посмотреть, как была востребована вся эта гениальная широта русского гения, чистая и бескорыстная жажда служения Родине, когда уже весь почти русский небосклон затянули грозовые тучи и все барометры показывали на «шторм», а то и на «бурю»…
Такой же как брат — по сердцу — была и Машенька, хотя она и не имела столь мощного, руководящего и движущего всей ее жизнью импульса к научной, творческой, или к какой-то иной деятельности, подобного тому, который владел всеми летами и днями ее гениального брата.
И вот здесь я подхожу к одному очень важному для меня перекрестку — отношению моей бабушки к судьбе Мари в ее устных и письменных воспоминаниях, где образ Марии Егоровны действительно смотрелся несколько блекло, печально, или же — умаленным?.. Мол, будучи разносторонне способным, и довольно творческим человеком Маша не стремилась к поискам «своего правильного пути» (любимое выражение бабушки), своего д е л а, своего творческого самораскрытия в жизни.
Разумеется, бабушка с любовью, уважением, с глубокой почтительностью вспоминала свою тетушку. Но вот критерий, избранный ею для подведения неких нравственных итогов жизни, меня настораживал. И не потому, что был он нов, а потому, что был он стар и вездесущ, потому что и я росла и воспитывалась под несомненным дамокловым мечом этого критерия, — или своего рода правИла жизни, который учил различать «состоявшуюся» жизнь от «не состоявшейся». И, если развивать этот подход до логической завершенности, то надо было бы мне в заголовок этой главы вынести не слова «незаметная жизнь», а «несостоявшаяся жизнь», ибо не отвечала судьба Мари этому критерию, этому правИлу.
И все же можно ли назвать чью-то незаметную жизнь несостоявшейся, если человек прожил ее, посвятив ее заботам и служению своим ближним, даря им заботу, уют, тепло, не очень-то думая о себе при этом, — то есть обрел свое «самораскрытие» в полном «самозакрытии» ради самоотдаче ближним?
* * *
По этому правИлу, которое было принято не только во времена молодости бабушки, а это было начало XX века, но и много раньше (я обозначила бы это время серединой XIX века), успешность в жизни обозначалась достигнутыми высотами в науке, творчестве, в созидании, в общественной деятельности и политике, наконец, в возвышении по сословной лестнице. То есть во всем том, что делалось среди человеков, для человеков и в глазах человеков, но всегда ли в глазах Божиих? Безоговорочное принятие обществом этого критерия свидетельствовало о том, что фактически свершилась на Руси смена веры: новым богом стало западное просвещение с е г о «светом». Уж коли просвещение науками — свет, коли человеческий разум — бог, так и достижения человеков на этом поприще — вот он и есть тут самый подлинный смысл жизни. А смысл жизни как устремленность к Богу, послушание и уподобление Ему, уже тогда был обществом утрачен. Хотя молитву «Отче наш» и слова «Да будет воля Твоя» ежедневно повторяли почти все. «Флакон» благочестия был уже пуст, только стенки еще хранили аромат былых благовоний…
В то время для большинства образованных и воспитанных девушек, стремившихся к собственной деятельности, а не только к устроению своего семейного быта, выражение «свой путь» обозначало действительно нечто иное, а именно: поиск какого-то интересного и полезного, внесемейного занятия. Это могли быть и занятия чистой наукой, и медицина, и педагогика, и художественное творчество, и общественные работы, благотворительность, — что угодно — только долой из четырех своих стен! И многие ли из наших дедов и прадедов способны были (впрочем, как и теперь наши современники) задаваться вслед за Пушкиным, вопрошавшим еще в 1828 году, вопросом: а есть ли благословение Божие для меня идти по э т о м у пути, заниматься э т и м делом? Спасительно ли оно для меня? И вообще: чего хочет от м е н я Господь?
Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью Из ничтожества воззвал, Душу мне наполнил страстью Ум сомненьем взволновал? Цели нет передо мною: Сердце пусто, празден ум, И томит меня тоскою Однозвучный жизни шум.Мало кто задавался вопросом: для чего я буду заниматься тем или иным делом, как задавался им, к примеру, молодой студент — будущий священник Павел Флоренский в те самые годы, что и мои молодые бабушки, искавший своего пути:
«Все заняты отметками, экзаменами, — писал он матери в 1907 году, — цепляются за какую-нибудь «специальность», не желая понять, для чего она и каков смысл всей работы».
Сам о. Павел мог жить и работать, и заниматься чем-то постольку, поскольку в этих занятиях обретался высший религиозный смысл человеческой деятельности, который в ответе Пушкину обозначил в своем стихе святитель Филарет Московский:
Не напрасно, не случайно Жизнь от Бога мне дана, Не без воли Бога тайной И на казнь осуждена. Сам я своенравной властью Зло из темных бездн воззвал, Сам наполнил душу страстью, Ум сомненьем взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною! Просияй сквозь сумрак дум — И созиждется Тобою Сердце чисто, светел ум!Хорошо ли жить без осознания смысла — сомневались многие, скорбели и метались, но выход найти уже не умели и бежали, движимые комплексом пушкинского Алеко или как толстовский Федя Протасов к цыганам, к революционерам, в столоверчения, в историко-ностальгические эстетские забавы (Серебряный век), в эротику без берегов, в софиологию, в хлыстовство, — куда угодно и во что угодно, но только не к Богу — Подателю жизни. Ведь Податель тут же сказал бы: «Сыне, даждь Ми сердце твое…» (Прит. 23:26). А отдать сердце — повлекло бы за собой и отдание и сАмостной своей волюшки, а еще и, принятие Креста — воли Божией, а затем следование за Подателем жизни, за Христом — на Голгофу, без которой не бывает пути человекам к воскресению.
Голгофа и… домашний уют? На какие дальние, долгие и, казалось бы, несопоставимые концы растянулась нить нашего повествования. Да так ли уж они далеки друг от друга? И после кончины Марии Егоровны, дом очень долго стоял тем незримым «заводом», что пошел от нее. И даже ныне, в стихии совсем другой жизни, других людей и другой России, не вовсе умерло то, что созидала Маша. Дух семьи, обозначившийся на тех опорах, что шли от Анны Николаевны, — он еще жив и теперь — пусть он пребывает лишь в моем сердце как вполне живая реальность. Маша живет во мне. Но чтобы и она и многое другое, о чем я пытаюсь рассказать на этих страницах из прежней русской жизни не совсем ушло вместе со мной, — а я чувствую предельную исчерпанность того, былого, которое никакими искусственными средствами и героическими усилиями и подражаниями отдельных человеков не удержать, ибо нужен тут и «кормящий ландшафт» — а пойди, найди теперь цветущие поля, колосящуюся рожь с синим морем васильков, поешь старинный русский хлебушко, услышь былую певучую долгую русскую речь вместо рваных, запинающихся и спотыкающихся и хихикающих обрывков, — нужна и «сигнальная наследственность» — образцы поведения (близкие!) матери-отца, как минимум они должны были бы быть ровнями по происхождению, воспитанию, традициям, духу, дедушек-бабушек, выкристаллизованные традицией, как выкристаллизовывается язык человека и лик природы, — да где ж теперь это сыщещь? — и нужно предать эту память сердца бумаге…
* * *
… Когда Анна Николаевна в 1858 году повезла Ваню и Колю из Орехова в Москву поступать в гимназию, семнадцатилетняя Маша тоже поехала с ними. Была снята небольшая, но уютная квартирка вблизи Арбатской площади. Маше пригласили дорого преподавателя фортепианной игры, учителя по вокалу — у нее был чистый и приятный голос, был взят напрокат рояль. Учитель мальчиков Альберт Репман праподавал Маше обширный курс естествознания. Она серьезно изучала историю, литературу, правда, как и многие другие девушки ее круга, дальше Корнеля и Расина программа занятий обычно не шла. Расцвет русской классики (а великие уже почти все ушли из жизни к этому времени — Пушкин, Жуковский, Гоголь, Лермонтов…). Достоевский уже давно издал и «Белые ночи» и «Бедных людей» и уже возвращался из каторги… Но русский духовный реализм еще не коснулся тогда юного сердца Мари, покоренного иными веяниями…
Впрочем, все-таки в том, что Marie не читала «Евгения Онегина» я не могу быть полностью уверена. Как жаль, что не у кого спросить! А ведь совсем недавно все было еще совсем рядом, только обернись и позови кого-то из близких: «А как ты думаешь, родная?»
…Но могла в то время еще и не прочесть «Онегина»: немало искусительного было бы воспринято со страниц пушкинского «романа в стихах» столь молоденькой, деревенской и воспитанной в строгом благочестии девушкой, воображение которой всецело пребывало в области романтических химер, а ум — в безысходно-тяжеловесном морализаторстве эпохи Французского Просвещения. Хотя уже в начале своего пути, Маша чуть ли не буквально повторила Татьяну…
Одна надежда была на добрый наследственный духовный залог ее сердца…
Машенька в Москве, как и в Орехове вела свой дневник. Там она записывала — и восторженно — обстоятельства своей московской жизни: грезились выезды в свет, будущая открытая, сулящая радостями жизнь. Вот запись о первом в жизни посещении оперы вместе с Анной Николаевной и братьями, о прекрасной ложе бель-этажа на «Аскольдовой могиле», вот описание сложных туалетов, заказанных ей в Москве, но… как-то молниеносно все это пошло прахом… Надо было помогать мамаше по хозяйству, продолжать учиться, помогать Коле готовить уроки, чинить и порой шить одежду братьям — впоследствии Маша сама мастерски обшивала всю большую семью: швейная машинка стала неразлучной подругой ее жизни.
Первые месяцы московского бытия показали, что светская жизнь в Москве явно не по средствам Жуковским. Сама Анна Николаевна нередко лишала себя обеда, лишь бы удовлетворить молодые аппетиты детей.
Решено было отдать мальчиков в пенсион при гимназии, а Машеньке вместе с матерью возвращаться в деревню.
И потекли одинокие безрадостные зимы…
Единственным развлечением были редкие поездки к двоюродным братьям и сестрам Петровым в Васильки или их приезды в Орехово. Вот Машино описание в письме к брату Ивану зимнего праздника 1860 года:
«В Михайлов день, лишь только я проснулась, заметила, что в доме праздник. Люди то и дело бегали по коридору, в доме происходила большая суматоха. В деревне празднество начинается рано и оказалось, что я проспала половину. Ты знаешь, что я встаю по городскому a midi. И так я не видела, как приезжал священник с крестом и приходили мужики с поздравлением и брагой пьяной. Когда я вышла, в зале накрывали длинный стол к обеду. Ждали много гостей, но приехали по-деревенски только половина, да и то с исключением. Обед прошел как все обеды. К вечеру готовили живые картины и как я в них участвовала, то скоро оставила гостиную. Ярко освещен был наш маленький театр. Когда я одевалась в легкий костюм Руфи с венком колосьев на голове, невольно вспомнила я Москву, театры… Наш декоратор употребил все искусство и картины были великолепны. Зрители в восхищении кричали бис. Я хотела, чтобы ты видел меня, мой Ваня, говорят, я очень хороша была в картинах. Скоро гости собрались в залу, меня просили петь. Задумчиво села я у рояля и голос звучал то весело, то грустно, все смолкли, столпились вокруг меня и я пела долго, долго, все, что было у меня на сердце отразилось в моем пении… Когда я кончила, Madame D. в восторге жала мне руку… Все гости по деревенскому разошлись в десять часов. Посуди, милый Ваня, можно ли кончать вечер так рано!»
На сердце у девятнадцатилетней Marie действительно уже лежала немалая печаль девичьего горя…
* * *
Еще за три года до описываемого деревенского праздника, в 1857 году, когда Машеньке было еще только шестнадцать лет, приезжал в Орехово троюродный брат Жуковских со стороны отца — поручик Николай Степанович Жуковский, отец и вся семья которого проживала в Царском селе, была очень и очень состоятельна и высокочиновна. Николай к тому времени уже стал блестящим военным, но человеком легковесным, как считала бабушка. Машенька провела с ним чудесные дни летом 1857 года в Орехове, а потом они виделись еще и в московскую зиму 1858 года. Машенька полюбила молодого поручика, который сделал ей предложение. Но против этого брака, к тому же очень резко высказался отец Николая Степановича — аргумент был выложен сокрушительный: отсутствие приданного у Маши. Кончилось тем, что молодой и блестящий поручик не долго думая отказался от Маши и взял свое слово назад.
Не то Маша: она не отказалась от своей первой и последней любви, осталась навсегда безутешной невестой и дала перед Богом обещание никогда больше никого не любить и не выходить замуж.
Остался на память кружевной листочек с ее собственноручным себе приговором:
Судьба на век нас разлучила, Нам не сойтися никогда Она на миг соединила И разлучила навсегда. …………… Твоей я на земле не буду Назначен жребий нам иной, Но век тебя я не забуду, На небе вновь ты будешь мой.Мария Жуковская.
Вот как вспоминал те события очень неподкупно честный их свидетель и участник — Николай Егорович (Коле в тот год исполнилось 10 лет). Передаю его рассаз по записи моей бабушки…
«Однажды в Орехово пришла телеграмма, извещающая о приезде в Ореховом по пути в полк гусара Николая Жуковского — троюродного брата Коли, Вани и Маши. Гусар действительно приехал: блестящий, будто начищенный, с саблей, со шпорами, с превосходным французским выговором. Каждый день того лета превратился в Орехове в праздник, а Машенька на глазах расцвела. Только Коле не нравился троюродный брат: хотя тот уже почти месяц гостил в Орехове, Коля никак не мог к нему привыкнуть, дичился и избегал его. Особенно после одного случая, свидетелем которого он стал, когда при Коле Николай Степанович дал сапогом в зубы своему деньщику Федьке за то, что тот недостаточно проворно разувал его. «Запорю!» — кричал гусар. Коля запомнил, что глаза у троюродного брата в тот момент стали оловянными, а Федька стоял на коленях, втянув голову в плечи, и по губе у него сочилась кровь…
Коля чуть ли не бросился на гусара, но тот, увидев реакцию мальчика, рассмеялся и крикнул Федьке: «Пшел!».
Другой раз Коля сидел в парке в «Аллее задумчивости» на высоком суку старой липы с книжкой, где он любил потихоньку ото всех заниматься. Вдруг до него донеслись голоса — слезать было уже поздно и он стал невольным свидетелем объяснения Николая и Маши.
— Marie, chere Marie! — Судьба моя в ваших очаровательных ручках, скажите, неужели мое пламенное чувство не достойно взаимности? Скажите — да! Я буду любить вас до гробовой доски. Будьте моей женой. Мы преодолеем все препятствия. Я похищу вас…
Он обнял и поцеловал Машеньку. Она вскрикнула, закрыла лицо руками и убежала, а Николай Степонович посмотрел ей вслед, одернул венгерку и пошел что-то насвистывая в противоположную сторону.
Спустя некоторое время по дому разнесся слух: Николай Степонович сделал Маше предложение, но родители ему отказали (мол, и Маша молода, и родственники все-таки, хоть и дальние, и приданного-то у Маши нет). Маша ничего не ела, не выходила из комнат и все время плакала. Она уверяла, что не может жить без него и так просила отца и мать, что те, наконец, уступили. Отслужили в зале молебен и обручили жениха и невесту.
Через несколько дней Николай Степанович, заняв под честное слово у Егора Ивановича на дорогу, уехал и обещал, устроив свои дела, вернуться, обвенчаться с Машенькой и увести ее в Петербург.
Анна Николаевна засадила дворовых девушек шить приданое. Мари порхала счастливой невестой, все ее поздравляли, а время проходило… Сначала он писал часто, потом все реже, и, наконец, письма прекратились Глубокой осенью неожиданно принесли письмо. Он в отчаянии вынужден лишиться своего счастья по независящим от него обстоятельствам (после узнали, что нашел себе богатую невесту).
На горе Маши смотреть было невозможно. Отец пытался ее утешить, говоря, что во всем нужно видеть волю Божию и ей подчиняться со смирением.
Поручик вскоре был обвенчан с очень богатой купеческой дочерью по имени Маргарита, вышел в отставку и перебрался в свое огромное харьковское имение «Товальжановка», которое окружали тысячи гектаров полей сахарной свеклы, приносившей огромный доход. В немногих письмах из Товальжановки, свекла занимала самое почетное место.
Шли годы. В Машиной жизни уже ничего не менялось. Но любовь свою она видно долго не могла и не хотела забыть. Она смирилась, принята с покорностью то, что решила сама и запечатлела в своем стихе, проявив при этом недюжинную силу характера, нравность, как тогда говорили, мужество и упрямство, — поистине Стечкинские черты, переданные ей матерью, а той — предками (вспомним бабушку Анны Николаевны — знаменитую Настасью Григорьевну, командовавшую тушением пожара со второго этажа дома, под которым были пороховые погреба…).
Мари и Николай еще встречались изредка, по случаю и писали друг другу. Сохранился черновик письма Маши — Николаю, который, несомненно, был отправлен, так как сохранился и ответ на него — очень длинный и велеречивый. Ну а в каком виде был отослано Машино письмо, насколько оно отличалось от черновика — мы знать не можем. Но и черновик о многом говорит, хотя бы о том, что ей все же хотелось хоть так, на расстоянии разбудить его прежние чувства…
«Здравствуй котик милый, большое спасибо за твое ласковое письмо; вот как ты далеко теперь. Хорошие люди мы с тобой котик, два года ничем не изменили наше чувство, мы все так же дружески расположены друг к другу. Я рада поделиться с тобой мыслями, все рассказать тебе милый. Мы все еще живем в Москве. Наш дом очень хорош; летом весь зарос деревьями и сад большой. С тенистыми аллеями, оранжереей и беседками, там мы тепло принимаем гостей и живем как на даче. Я опять весела и здорова и тебе приятно было бы увидеть меня (злюка ты, когда увидимся, опять в далеком будущем?).
Нашлось мне и серьезное дело: сестре Вере взяли маленького товарища Сашу, и я стала учить двух детишек. Ты, может быть, скажешь, что это скучно, но я так рада занятиям делом.
Теперь расскажу тебе мои романы, только не ревнуй меня, потому что главное лицо все же ты. Последнее время мне часто приходилось встречаться с Г…. Я видала его у знакомых и у нас, но мне и в голову не приходило, что я произвела на него сильное впечатление, как вдруг он удивил меня признанием. Наговорил он очень много и, наконец, предложил руку и сердце. Другие хвастают своей победой, для меня это было просто наказание, изволь образумливать человека, который совсем потерял голову, а я знала, как горяча его молодая голова и как пострадало его самолюбие от моего отказа. Лучше было разом кончить. Я сказала, что не свободна, что давно люблю другого, я говорила с увлечением, мне опять вспомнилось пережитое с тобой счастье, вспомнился ты, милый: как смеет другой любить меня, как смеет говорить мне это. Я без жалости смотрела в его бледное лицо и когда он тихо спросил: «Вы никакой не дадите мне надежды, я твердо ответила — никакой»…
Бедная Мари… Не могу сомневаться, что эпизод с «образумливанием» влюбленного поклонника был Машей сочинен: у нее и раньше, и здесь очень заметна была в дневниках и в письмах ее молодости литературная заимствованность оборотов, построения фраз и сюжета… В особенности на фоне ее более поздних семейных писем, написанных прекрасным, живым, простым и сильным русским языком и, как я уже раньше говорила, очень напоминающим стилистикой записки пушкинского Ивана Белкина. Сама старинная Россия с ее жизнью, настроениями, чертами быта и особенной теплой манерой разговора зазвучит вскоре в ее семейных письмах. Но тут другое: остатки переписки с возлюбленным — последняя ее дань жизни искусственной, выстроенной по мертвым канонам романтизма и бывшей потому химерой. Бесконечно жаль ее молодую душу и сердце, немало пострадавшее в этом горьком искушении молодости. Можно ли было его избежать? Или же эта история — тоже несомненное действие благого Промысла Божия, не разрушающего, но и такими неисповедимыми путями созидающего и воспитывающего душу человеческую, приводя ее на тот самый путь, по которому и дОлжно было бы ей следовать…
* * *
Письмо Мари было все-таки отправлено Николаю, поскольку на него был получен ответ, который Маша хранила всю жизнь и оно даже до меня дошло, хотя семейный архив повергался страшным испытаниям, к тому же многое, что не имело прямого отношения к жизни Николая Егоровича, казалось в те времена бабушке никому не нужным и целые пачки писем я находила разорванными пополам и мучительно искала потом их половинки. А эти два письма и даже конвертик, в котором пришло к Маше ответное письмо теперь помещика Николая Жуковского дошли до меня в целости и сохранности…
«Здравствуй милая, дорогая Мари! Искренно, от всей души благодарю тебя за весточку, она меня чрезвычайно обрадовала, так что я прочитывал ее несколько раз с постоянным наслаждением… Очень радует, что здоровье твое хорошо и что ты всегда проводишь время хорошо и с пользой.
Но вот что: драгоценная моя Мари, меня не радует, мучит и заставляет часто грустно задумываться, — это твое положение, которому причиной я, насколько можно разобрать и вывести из твоих же действий разговоров и писем. Я причина твоего несчастия, грустной жизни… Но Боже, помоги мне все разъяснить ей, что я не виноват в такого рода обстоятельствах, этому Бог свидетель… Не говорил ли я тебе и в твоем же доме, что я не могу достигнуть этого счастия, что мой папа не дозволяет этого совершить и еще по очень многим уважительным причинам, которые тебе должно знать очень хорошо, так как у нас были относительно много раз самых ясных дружеских разговоров об этом деле.
Так для чего же ты хочешь сделать меня виновником твоей одинокой грустной жизни, твоего несчастия? Разве только потому, что я сочувствую тебе, люблю тебя как брат, друг, да еще и больше того? Но я всегда поступал честно, благородно, по чувствам порядочного человека, чтобы ты не беспокоила сердечка своего. Я всегда говорил тебе и писал как друг как брат, а ты действовала всегда сердцем своим иначе. Мари, я не виноват.
У меня есть к тебе покорнейшая просьба, она заключается в следующем, напиши мне, что ты отменяешь свою обвинительную резолюцию и что ты дашь слово, если это возможно и тебе сделает предложение порядочный человек, то ты выйдешь за него. Если ты этого не сделаешь, то ты увидишь, что я сделаю над собой.
Милая Мари, прошу от всей души меня извинить, если письмо тебе не понравится и обеспокоит.
Не сердись, ангел мой… Итак, дружок, прошу тебя, напиши мне поскорее еще на Воды. Я здесь пробуду до 1 или 5 августа, по выздоровлении я, может быть, отправлюсь в Вену… Папа и мой управлющий пишут мне, что дела мои идут хорошо. Здоровье мое улучшается. Скука здесь отменная. Товарищей и хорошего ничего нет.
Прощай, целую твою прелестную ручку и остаюсь искренним и верным другом твоим.
Н. Жуковский».
На письмах Мари и Николая Степановича нет дат. Но судя по тому, что упоминается мальчик Саша, которого взяли в Орехово, чтобы маленькой сестре Марии Егоровны — Верочке не было одиноко, письма эти можно датировать примерно 1867-68 годами. Маше в то время было уже около 27–28 лет…
Кстати, это мальчик Саша Завадский, которого Веренок дразнила «адским Завадским», потому что он живьем, не пользуясь эфиром, накалывал бабочек в свою коллекцию, а Веренок потихоньку их всех выпускала на свободу, потом же прячась от Саши за елками кричала: «А они теперь Бога хвалят!» — этот-то Саша впоследствии стал преданным учеником Николая Егоровича. Сын его — Юрий Александрович тоже вырос вблизи семьи Жуковских, дружил с молодежью Жуковских — Александром Микулиным и моими бабушками, и стал впоследствии очень известным театральным режиссером, внеся свой весомый вклад в историю русского театра.
Никаких предложений в эти годы Маши не наблюдалось. Она уже всецело рука об руку с матерью занималось домом, семьей, жила еще в основном в Орехове, держа под неусыпным надзором все деревенское хозяйство Жуковских. Впереди у нее был переезд в Москву в дом брата Николая, где суждено ей было стать доброй, рачительной и светлой — по всему семейному строю жизни — хозяйкой…
Ну, а то ее решение, та «обвинительная резолюция» в виде ее волевого отказа от личной жизни — это все-таки был каприз, навеянной романтикой, пример стечкинского упрямства или что-то иное?
У меня вертится еще один ответ и я его скажу: может быть инстинктивно, но она не последовала в форватере безнравственного отношения к жизни, которое явил блестящий и богатый братец-гусар, но своим поведением восстановила Божий порядок — быть верной слову и Божиему обручению — стоять в добродетели до конца. А что другой не верен — так он будет свой ответ держать перед Богом. Не случайно он так рьяно уговаривал ее выйти замуж за порядочного человека. Значит, все-таки знала кошка, чье мясо съела?
На Коллаже работы Екатерины Кожуховой — портрет Марии Егоровны Жуковской — единственно оставшийся от нее, подлинные письма ее и конвертик, надписанный рукой гусара, от нее отказавшегося.
…Поразительна все-таки эта живучесть некоторых родовых черт. Вот «настойчивость», — назовем эту черту так, — о чем говорит она, то и дело вспыхивающая в коленах родах? К примеру, у Marie, мягкой и послушной девушки, я слышу звучание этой узнаваемой стечкинской струны, не той настойчивости, что нагла, приступчива и неотвязна, лишь бы кого-то поиспользовать в своих целях, а для себя что-то непременно ухватить — ни в коем случае. Мари была скромная, хорошо воспитанная, выдержанная девушка, начисто лишенная и следов житейской агрессивности и инстинктов стяжательности. И все же нечто настойчивое, упрямое в ней все-таки было…
«Она так плакала, так стенала и просила, что родительские сердца не выдержали и Машу с гусаром Николаем в Орехове обвенчали…». Какую, однако, силу должна была проявить семнадцатилетняя Marie, чтобы вопреки строгой и обычно непреклонной в своих требованиях матери, коей, несомненно, дочь всегда оказывала послушание, тут все же умудриться настоять на своем.
…Трижды благословлялся крестным знаменем жених, трижды невеста, надевались кольца в знак вечности и непрерывности брачного союза, в знак отдания себя на всю жизнь друг другу, а Господу обоих нераздельным образом… Батюшка произносил молитву, в которой испрашивалось у Господа благословение и утверждение обрученным, вспоминались ветхозаветные Исаак и Ревекка, благословлялись кольца благословением небесным, сообразно с силою, которую получил через перстень Иосиф в Египте, прославился Даниил в стране Вавилонской и явилась истина Фамари…
«И десница раб Твоих благословится словом Твоим Державным и мышцею Твоею высокою», — говорилось в молитве, когда кольцо — символ обета вечной верности возлагалось на пальцы правых рук обручников…
Каково же было Мари после всего столь благоуханного и желанного, когда все так безобразно рухнуло, сознавать, что сама она своеволием своим устроила себе эту западню. Только сознавала ли?
Анна Николаевна несомненно пережила большое потрясение, когда не устояв перед слезами дочери, она впервые в жизни дерзнула оказать насилие над Божественной волей, благословить то, чему не было Божиего благословения, что захотелось бедной ее девочке в ы р в а т ь из рук Божиих…
Именно так, как порыв гнева Божия, истолковала она потом то, что случилось во время обручения. Священник только еще начал говорить обручальную молитву, вознес высоко крест, и вдруг с треском в страшном ураганном порыве ветра (которого пять минут назад и не было вовсе) разлетелись в залу балконные двери — словно какая-то материализованная и живая сила ворвалась из бушующего сада в их мирное и благолепное действо…
Вот почему, не имея на то письменных свидетельств, я почти уверена, что не одна Мари принимала то роковое решение сохранить верность своему обручению, оставшись вечной одинокой невестой без жениха, в старых девах. Анна Николаевна не могла не понимать, что на овечке ее уже была поставлена Божия метка, и слово верности тоже было Машей дано… Так что уверена: и мать и дочь избирали этот всежизненный крест для Маши в обоюдном согласии.
Не даром говорят во святых отцах, что все наши кресты вырастают на почве наших собственных сердец.
Стойко приняла случившееся юная Marie. И это тоже была родовая черта: стоицизм, который бабушка моя не без основания называла реализмом. Впрочем, православные искони именовали сей «стоицизм» (тоже разновидность настойчивости) или реализм — «смирением» перед Лицом и волей Божией.
* * *
Было и другое в обычае — замолчать горькое и негожее, не распространяться много о нем… Многое, многое так замалчивалось, о чем теперь посетуешь, — куда как больше пользы в реализме, если ищешь его с любовью и состраданием. Хотя бы в назидание для другого поколения. Святость, достигнутая в этом грешном мире без великой брани не так назидает, как тернистый путь, как преодоления немощи человеческого естества, как нахождение выходов из таких трудный жизненных коллизий, как та, что приключилась с Машей. Не умалчивали бы — может, помогло бы это внучкам Маши не повторять ошибок самоволия? Но они, увы, повторяли.
Теперь, когда шаг за шагом ход событий в памяти моей воскресился в своей реальной и осмысленной последовательности, я гораздо резче вижу рядом с Мари и моих бабушек-сестер — Веру и Катю, их матушку и мою прабабушку Веру Егоровну, самую младшую из детей Жуковских, а вслед за ними и мою маму, и себя, и своих детей…
Вспоминая тех, кто был ближе ко мне, кого я помнила и любила, — и даже прабабушку Веру Егоровну Микулину (урожденную Жуковскую) — ее я узнала «как живую» из множества сохранившихся писем, — читался даже почерк, то аккуратный, то нередко уж слишком беглый, — любимица семьи могла позволить себе немного небрежности и торопливости; я догадывалась о ней из рассказов и реплик бабушки — почему-то все помнится до мелочей, из которых столькое усматривалось благодаря внутренней интуиции родства, что теперь мне и увидеть Веру Егоровну было бы даже не столь необходимо, чтобы сказать, что все эти женщины, мои прабабушки и бабушки, да еще и моя мама, — все они имели большое внутренне сходство. Особенно бросались в глаза упрямые стечкинские подбородки, свидетельствовавшие о той самой настойчивости, об упрямстве, о наличии сильной воли, которую кто-то из родных даже назвал однажды стальною.
Абрисы лиц были разными, — бабушка Катя более походила на свою бабушку по отцу — француженку Екатерину Осиповну Микулину, урожденную Гортензию да Либан, которую она, впрочем, никогда не видела; мама моя тоже имела в лице заметные черты этой родовой линии; бабушкина сестра, Вера Александровна — напротив, была в Стечкиных, — она очень походила на Анну Николаевну, на мать, на Машу, но во всех звучала одна и та же струна, которая напоминала о некоей наследственной силе и даже твердыне характеров.
Об этой силе — «звериной» — рассуждал Иван Бунин в своем «Освобождении Толстого». И ему не случайно виделось у Толстых, Горчаковых, Трубецких, Волконских и в других русских древних родах присутствие некоей из ряда вон жизненной силы. Зоркий Бунин писал о простонародной телесной крепости, широкости и даже подчеркнутой неуклюжести костяков иных представителей этих родов. Какой-то даже атавизм усматривал он в их крепких породах. Несомненно, что Ивану Алексеевичу здесь виделась некий вопрос, отвечать на который он не спешил, а просто примечал, про себя делая все же выводы. А читатель — уж как хочет…
Стечкины, да и Жуковские, Микулины — атавизмом телесным никак не страдали: все были отменно выточены Божественным резцом. Но и тут нельзя было не приметить следов еще долго не иссякавшей природной силы, когда-то подлинно могучей, богатырской…
Одна знаменитая Настасья Григорьевна Стечкина — бабка Анны Николаевны (мне — четырежды прабабка), необыкновенной силы, воли, властности женщина чего стоила… И потомки ее: тот же братец Анны Николаевны — Яков, к которому крепостных на исправление посылали: упрямства неодолимого, наделенный к тому же богатырской силой, страшным весом и ростом за два метра, который своеволием своим надломил-таки судьбу рода, женившись в шестнадцать лет на воспитаннице своего отца — скорее всего, своей побочной сестре. Богатство было скоро им и братьями проиграно, поместье продано, потомки уже остро бедствовали и многие из них жили совсем как разночинцы, искали внутренней моральной компенсации неудач в каких-то странных увлечениях — в том числе и в революционной деятельности… Как будто революция могла залечить те или какие-либо другие раны… Но именно этот род дал особенно талантливых людей — и Николая Егоровича — Стечкина по матери, и его двоюродных братьев и их потомков — замечательных конструкторов, врачей, писателей…
Сила была несомненно родовой чертой и она то и дело возгоралась в ком-то, быть может, даже внешне и хрупком, заявляя о себе то самодурством и своеволием, или как в Анне, твердо и праведно ведшей почти век большой семейный корабль по житейскому морю… Или как в Николае Егоровиче, которому сопутствовала и стечкинская физическая мощь при столь же неисчерпаемой доброте, и гениальная по дерзновению и широте охвата пространств могучая мысль.
Или та удивительная самоотверженность, восходящая к не женской удали и бесстрашию, скрытым огнем горевшим в сердце моей бабушки…
Крайне упряма была бабушкина сестра Вера, сломить ее было почти невозможно — коль решила, так намертво. Но вот у бабушки Кати это родовое упрямство и сила были управлены от себя в сторону — во вне: только она могла во время войны почти в шестьдесят лет лютыми морозными ночами, среди тех страшных непроходимых Оболенских лесов одна, по снежному насту тащить на себе саночки с чуть ли не тремя пудами картошки за 30 километров во Владимир, — в госпиталь, — для дочки и сестриц. Да еще и ликовать на свободе в эти ночные часы одиночества и даже петь, и радоваться чему-то — простору, воле, своей силе, от которой вроде уже совсем ничегошеньки и не оставалось… Тесно чему-то в ней было, тесно и в четырех стенах, хотя никто, как она, не умел согреть самый негодный ветхий домишко и усластить самое скудное полуголодное житие своим заботливым и ловким хозяйствованием. Как эта рвущаяся и готовая хлынуть на простор сила совмещалась с живущим в ней же гением очага, с ее всегдашним крестом приютительницы, кормительницы и обогревательницы всех, — объяснить не умею.
…Бывает: ни ростом человек не вышел, ни житейских слав не стяжал, да и здоровьем никудышен, а нет-нет, да и ударит, да подкатит к сердцу его эта таинственная и страшная гостья, — мол, все могу! полететь, вот сейчас — полечу…
Откуда и зачем, с грохотом набивая своим всесокрушительным ветром паруса души, отдирая человека от земли, выдергивая его из зон тяготения, врывалась в сердце эта сила? Куда звала, куда и на что должна она была излиться, куда понести тебя, если бы ты отдался ты ей без огляда?
«Вот так сейчас полечу!» — говорила на балконе лунной ночью у Толстого юная Наташа Ростова. Молодость — только ли? Но сам-то Толстой, какие в старости являл чудеса живости и силы: внутренней и внешней: никому не угнаться было за ним…
Полнота жизни той силе звание? Зов Божий, обращенный к тебе — таинственный и мощный, — та волна благодати, что захлестывала апостола Павла: «Все могу о укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил.4:13)?
Но что на земле может дать выход такой силе? Песня? Любовь? Плач? Молитва?.. Только живой мукой может прокричать она о себе — мукой, ищущей и не обретающей земных исходов, и не решающейся никак искать нездешних троп…
Не всегда, не сразу человек обретается соразмерным Дару Небесного Отца. Долго мается, колеблется и стенает, запрягает да запрягает, пока, наконец, не вырвется на п у т ь. Но если уж вырвется… то помоги ему Бог.
* * *
К 1861 году на Машиных надеждах на устройство личной жизни была поставлена окончательная жирная точка. И она стала постепенно принавыкать к своему новому образу — хозяйки дома и центра семьи.
Теперь надо было устраивать потихоньку московское житье. Иван и Коля к концу шестидесятых годов уже заканчивали университет. Все теперь в их жизни кружилось вокруг Маши: товарищи — студенты, молодые преподаватели и их сестры, — все тянулись в приветливый дом Жуковских.
Сначала Маша еще некоторое время жила в Орехове и там, конечно, зимами скучала, лишь изредка наезжая навестить братьев, но спасала ее природная общительность, и легкий веселый нрав, присущий всем Жуковским. Приезжая в Москву, Маша становилась тут же главным поверенным в делах братьев и всех их ближайших приятелей.
В 1870 году она приезжала в Москву на святках и основательно там позадержалась — чуть ли не до Великого Поста. Иван по окончании университета ждал места товарища прокурора, Николай занимался, готовился к магистерским экзаменам. Квартирку братья сняли маленькую, но уютную — опять же на Арбатской площади. Туда к ним и прикатила Маша, которая вот что писала в Орехово родителям:
«Я провожу время довольно хорошо и думаю пожить еще неделю в Москве; я сполю на кушетке в кабинете, а братья на старом месте, так что если Варя (младший брат — Валериан Егорович — прим. авт.) приедет, всем будет место. Деньги у меня еще есть, а после деревенской скуки всюду находишь веселье. Если вы все еще думаете говеть, то лучше всего в последних числах этого месяца. Иван едет в Коломну, а я ворочусь домой. Всем же поместиться в этой квартире невозможно.
Теперь мне жить очень спокойно. Татьяна служит хорошо. Братья очень ласковые. К будущему воскресенью, т. е. к 15-му напишу, когда за мной выслать. О моем времяпрепровождении расскажу, когда увидимся. Берегите мои цветы. Машинку я еще не купила, хожу к тете учиться шить, это не так просто, как я думала. Ивандра много занимается, он купил себе очень красивый кабинетный стол. Клиентов к нему ходит много. Коля совсем записался — целый день сидит с сочинениями.
Прощайте, дорогая мама и милый папа. Позвольте мне покутить еще неделю».
Знатно «кутили» младшие Жуковские и Маша как всегда от братьев не отставала…
Зимой 1872 года, наконец, Николай Егорович был утвержден в должности преподавателя математики императорского Московского Технического училища, читал он еще физику на женских курсах, а так же получил должность учителя II женской гимназии. Он писал своему другу Щуке:
«В материальном отношении я устроился довольно изрядно (получаю 15 000 руб. в год) и могу спокойно заниматься делом, то есть изучением механики… Я живу почти у самой женской гимназии».
…Это была первая относительно спокойная в материальном отношении зима. Поселились Жуковские на Садовой в доме Морозова. При квартире был сад, где могла гулять маленькая Вера. Николай Егорович приобрел первую свою мебель — шкаф красного дерева для книг, обеденный стол, буфет… В Москве жили вместе — мамаша (наездами — она все время металась между Москвой и Ореховым, так как очень тосковал без семьи Егор Иванович) и Мария Егоровна, Володя и гимназистка Верочка.
Осень 1872 года Николай Егорович познакомился с молодым ученым Федором Евпловичем Орловым, вскоре знакомство переросло в дружбу семьями — долгие годы, вплоть до кончины Федора Евпловича Жуковские очень тесно, можно сказать, родственно дружили с Орловыми.
Все хозяйство в доме взяла на свои плечи Мария Егоровна. Ей в то время уже исполнился 31 год. Она принимала гостей, вместе со старенькой няней Ариной Михайловной готовила незатейливые ужины, обшивала всю семью, освоив в совершенстве машинку и искусство шитва.
Было нечто особенное, что-то исключительно уютное, чем этот дом притягивал к себе. Братья привезли из Орехова любимых охотничьих собак Николая Егоровича — флегматичного пойнтера Немо и нервную Маску. Верочка каким-то образом провезла с собой в корзине пару маленьких зайчат, которых поселили в комнате Марии Егоровны. Кроме того, у Маши везде было множество прекрасных цветов — сумрачно было даже от зАстивших свет вьюнов. Цвели розы.
Николай Егорович всегда сидел далеко заполночь над своим заваленным рукописями столом под зеленым абажуром вечно коптившей керосиновой лампы, которую поздними вечерами приходила задувать Анна Николаевна, иначе Николенька мог до утра засидеться за работой.
— Мамаша, опять Вы мне фукнули лампу! — протестовал он на самых высоких и тонких нотах своего голоса, однако вставал и шел ложиться спать. Тут-то послушание было всегда безоговорочным…
…В тот день Маша устала: были гости — как и всегда друзья-математики: добродушный Минин, Громеко, Зилов, Ливенцов, молодой астроном Церасский. Пришли завсегдатаи — очень близкие Николаю Егоровичу еще с гимназических времен однокашники Шиллер и Преображенский. Приходили всем семейством вместе с мамашей Орловы, Приезжали из Плутнева двоюродные братья и сестры Стечкины. Заглянула и Сашенька Заблоцкая — двоюродная сестра и единственная всежизненная любовь Николая Егоровича. Она тоже осталась не замужем, занималась переводами и очень успешно, сблизилась с Гликерией Николаевной Федотовой — знаменитой актрисой Малого театра, и вскоре стала ее другом и компаньонкой. Николай Егорович впоследствии, когда уже жил на Мыльниковом переулке, любил вечером чуть ли не каждый день пройтись к ним чайку попить, благо и Федотова тоже жила поблизости на Чистых прудах.
Весь вечер Мари разливала чай, — не сосчитать, сколько стаканов крепкого «Жуковского» чая проглотило веселое общество. Она шутила с Церасским, подкладывала всем отменного нянечкиного пирога, расспрашивала Щукина о здоровье матушки, занимала девиц… Приобретенные Машенькой новые высокие канделябры погружали лица друзей в золотые окружья-нимбы света.
Историческая покупка — знать бы, сколько лет они будут храниться? Только до революции — двадцать, тридцать, сорок лет? А потом куда-то исчезнут, как исчезло почти все остальное… Кому-то потом они вот так же согреют вечера?
Маша несумненно знала, что только тот может оценить эти, после стольких лет жестокой борьбы с нуждой и великих трудов первые скромные житейские приобретения, кто сам успел побывать в положении Робинзона, кто слышал, как «воет ветр ночной», кто познал скудость, потому что тот, кто
… слез на хлеб свой не ронял, Кто близ одра, как близ могилы, В ночи, бессонный, не рыдал, — Тот вас не знает, вышни силы!А знающий порадовался бы вместе с нею и этим кругам света от свечей на высоких знатных канделябрах, купленных на первое жалование брата, и теплу кафельных печей, и даже новому большому самовару.
Прости нас, Господи, ведь мы еще здесь, мы еще погостим, поживем, погреемся…
Эти канделябры у Жуковских всегда в течение более чем полувека выносили к гостям, а гости были здесь частые и всегда те, которым было о чем поговорить в простоте и немудрености, без ужимок и в сердечном расположении. И сама семья была трогательно дружна, и если кто приникал к этому дому, то непременно надолго, если не навсегда погружаясь в эти окружья света и любви, чувствуя себя очень близкими и дорогими для хозяев людьми.
…А потом все собирались у рояля Машеньки, пели хором; под предлогом повеселить маленькую Верочку устраивали шарады и шумные игры. Все были еще очень молоды…
Но большей частью в доме было тихо, и все были заняты своими делами. Ровно отбивали шаг русского времени негромкие часы в гостиной. Оно и впрямь тогда никуда не спешило. С утра Маша ходила к обедне, потом с Ариной Михайловной на базар, строчила на машинке в своей комнате. Николай Егорович занимался, если был дома, а, выходя к обеду, — почти всегда в полнейшем благорасположении ко всем и ко всему, он, потирая руки, обычно говорил: «У-у! Какая еда!..». Однако он вовсе не был гурманом, хотя вкусно поесть любил, но радовался как дитя всему, что посылал Бог, и потому кормить его тоже было превеликим удовольствием. За столом он обычно шутил с маленькой Верочкой, выспрашивал у нее про все ее гимназические дела, про занятия и про подружек, и про их детские шкоды…
Неженатый брат, незамужняя сестра… Где-то рядом спят маленькая сестренка и младший брат… Пока мы все вместе — что нам эта поздняя осень? Что нам холода и сырость? Что нам бесприютность? Вы — моя крыша, близкие сердцу моему, вы — моя ограда и стены, и вот еще и те листочки, где задержалась, где приютилась моя мысль, а в ней проник на бумагу и Божий огонь — ему бы только вырваться на свободу! Вот пролью я его в мир — и возрадуется сердце мое…
Какое все-таки укромное счастье наш домашний мир… Да не задуют свечу его ветры холодных пространств. Ветрами улицы называл их Василий Васильевич Розанов: «Покрепче, покрепче затворяйте свои двери на улицу!», пытаясь укрыть и сберечь свою изломанную жизнь, свою семью и кучу белобрысых дочек от этих сквозных ветров. Но возможно ли было сделать это? Укрыл ли? Не детская ли это была наивная мечта, — вот ты построил из стульев и одеял шатер — и вот ты теперь скрыт ото всех… Ты — Робинзон Крузо… И тебе так хорошо в своем маленьком шатре.
* * *
…Как я любила в детстве и по сей день люблю эту совершенно магическую книгу. Почему никто не написал до сих пор о ее великой тайне? Почему тайну эту даже не пытались разгадать? Как в диких холодных и безжизненных пространствах хаоса начинает строиться и заново обзаводиться бытом заброшенная человеческая жизнь — как в хаосе строится космос. И почему все это так неотразимо узнаваемо, так несомненно верно звучит? Нет, тут уже человек не из хаоса в космос перебирается, тут он уже из космоса в «огород» отгораживается. Превращает космос… в делянку. И вот тут-то она самая жизнь-то человеческая земная и начинается…
Как насчет делянки, господа философы?
Человеку непременно нужно отгородиться и загородиться. Но кто скажет, почему и от чего и от кого? От диких зверей и враждебного мира? Но в этом ли секрет сладости отеческого «дыма»?
Не потому ли так мил человеку его угол и его очаг и малый свет от него, что именно в этом ограниченном мире ему удобнее уйти в себя, в свои душевные глубины: сначала в какую-то чуть ли не бывшую прапамять, потом в реальность, а потом, содрогаясь как всегда от реальности, увиденной словно страшную Изергиль в дезабилье, и спасаясь бегством от нее, — а потом и в то, чему имени он еще не знает… Amor fati? влечение к смерти? к погашенной свече Танатоса? Или, наконец, возвращение к Отцу через муки еще одного неминуемого рождения заново — теперь уже в жизнь вечную?
…Первые несколько семян пшеницы — из них вырастет делянка, потом поле, и, в конце концов, твой хлеб… Дикая коза даст молоко, попугай явит речь — и улыбнется тебе мир, способный еще отзываться на человеческой взгляд любви и сострадания. Сколько раз это было проверено на птицах — они слышат, когда о них говорят: «ты моя милая, моя ласточка, ты маленькая моя…»… Я голублю ее, а она поворачивает головку и глазки ее осмысленные, выжидающие, прислушивающиеся — говорят со мной. «Всякое дыхание да хвалит Господа», — пою я ей, и она слушает, и мы вместе ликуем, чувствую, что и между нами двумя — столь разными, — присутствует и Некто Третий…
Мир крохотный и безграничный… Твой любимый угол, твой «огород», и вольные пространства, в которые рвется, которых жаждает твой парус… Кто изъяснит сию антиномию…
…Как хорошо сидеть за своим письменным столом под старой зеленой керосиновой лампой, зная, что тебе никто не помешает, но при этом ты и не один, — за стеной верные сестрицы, старая няня, вокруг тихая старинная и, кажется, вечная допожарная Москва и нету еще, нету даже в зачатках ни «нежной поступи надвьюжной», ни «снежной россыпи жемчужной», ни ветра — «на всем Божьем свете», ни «злобы, грустной злобы», что «кипит в груди»…
Почерк твой совсем неразборчив — сбиваются формулы, летят и толпятся, налетают друг на друга — но какая же сладость, какая оторопь и волнение крови, когда вдруг оживают написанные тобою знаки, начинают приветно светиться тебе новыми смыслами, открываться тебе, вспыхивать, пульсировать, — словно скрытое в них и тобою теперь открытое (угаданное) и раньше всегда принадлежало только тебе одному; когда внезапно начинает звучать, греметь на всю вселенную для тебя тобою же и написанное, да так, что сам ты вот уже слезами готов облиться и уже не над вымыслом, а над сердцем своим, высказавшем себя, — что и кто может заместить человеку эти дивные минуты? Любовь? Успех? Ничто земное здесь никогда не заменит человеку счастья выпущенной на великие пространства вселенной живой крови его человеческого сердца, которое он должен всегда отдавать, чтобы жить.
Отдавать, отдавать, отдавать…
Преступник тот, кто отворачивается от даров любви, не хочет принимать их из-за своей гордости и скудости души, скручивает кулачки и прячет ручки за спиной. Только бы не принять дара, — а вдруг с ним на тебя перейдут чужие грехи, а вдруг обо мне подумают, что я чего-то не имею? А вдруг?.. Как та усердная прихожанка, которой в дар протянули старинное Евангелие, а она мгновенно припрятала свои ручки, не ведая в своем усердии главного, что п р и н я т ь дар — есть еще более великий и совершенный д а р, чем самое дарение. «Сотворите любовь, — говорили древние отцы, — примите дар».
…Человек не берет, но вселенная твой дар принимает, — слышишь? Вот отзывается она тебе эхом пространств: значит, твоя частотка попала в резонанс, и у тебя ненароком сказалось то, что мог и хотел в ту секунду воспринять от тебя этот безумный, бездонный и загадочный мир, а главное, то, что хотел услышать от тебя Хозяин и Творец этого и всех остальных миров — Бог.
В твоей ли власти были эти минуты или ты в их?
* * *
Фотографии и коллаж Екатерины Кожуховой.
…Конечно, образы родных стен и уюта отчего дома, как укрытия и убежища от ветров вселенной — читай, «от смерти», — нам гораздо ближе образов ничьих свободных продувных пространств. Осенних расклизлых русских дорог посреди русских заброшенных пустынь, бывших когда-то любовно ухоженными полями, посреди бесконечных порубок, хаотически заросших бородавками бездарных кустарников, но не лесом, не благородным лесом! — посреди лесов, превратившихся в буреломы, в которых присутствие человека распознается лишь на опушках наличием растерзанных помоек …
Достоин ли современный человек уюта, который так старательно для себя самого созидает, или нынче как раз и подошло время скитальчества и странничества — как внешнего, так и внутреннего, — как бы выспросить о том у Господа?.. Но таков крест падшего человечества, что свободен он жить и продвигаться до конца жизни лишь на ощупь, обдирая колена и руки, и лица, и надрывая сердца, и только лишь праведная истовость и искренность поиска Божиего вознаграждается от Господа подсказками. Тому, кто не слушает и не слушается, зачем ему и говорить?
…А тогда — во времена Машенькиного хозяйствования, во времена благословенные — семидесятые и восьмидесятые годы XIX русского века действительно царил этот особенный уют в таких семьях, как Жуковские — и в Орехове, конечно, и в Москве, хотя своего дома и не имели, а снимали подолгу, редко меняя квартиры от хозяев. Уют жизни держался на столпах невидимых — на душевных опорах и сводах, на сердечных излучениях людей и всего строя их взаимоотношений.
Этот строй созидался столетиями жизни в стихии Православия: в постоянном помятовании «милости, а не жертвы» ("пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы" (Матф.9:13); «…Милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос.6:6)), в сострадании грешнику, в покаянном настрое сокрушенного сердца, в часто неощутимом и бессознательном, но живом и действенном Страхе Божием, сочетавшем все вместе в некое нерушимое единство. Страх Божий созидал души и эти дивные отношения между людьми, потому они и излучали тепло. А это тепло и создавало атмосферу уюта, чувство защищенности жизни. На этой почве вырастали и понятия о чести, о достойном и недостойном поведении; — иными словами, мол работать и работал закон «сигнальной наследственности».
Была и бедность, — кто поспорит, — но вовсе не столь часто она доводила человека до скотства, до которого, к примеру, может опуститься современный обомжевший (и не только обомжевший) человек. Было уродство, но ему имя было дано народом соответствующее: безобразие, бесчинство, — то есть уродство лишало человека образа Божия и чина своего в этой жизни, превращало в недочеловека… И отношение народа само уже было оградой и пределом распространения этих бесчинств и скотств: важно то, как писал Достоевский, что почитает народ за идеал.
Можно сказать, что Русская земля вся тогда еще была сплошным «уютом», домом и убежищем (уют — убежище) человеку и народу, — разве что только мощно почковавшийся капитализм уже судорожно оставлял, где только можно, свои мерзкие следы — лагерные бараки — от деревянных — к кирпичным: жилье, которое и логовищем назвать-то было нельзя. И логовище и берлога лесная может согреть сердце человеку. А вот барак — никогда. Потому что не комфортом разнится жилье человеческое, как это принято думать, а совсем другими характеристиками, которые имеют свое происхождение в таинственных глубинах метафизики жизни. Курная изба в этом метафизическом измерении может излиха одарить вас теплом и уютом в отличие от усовершенствованного даже технически барака эдакого прогрессивного купца-благотворителя, осчастливливающего русскую землю этими мрачными чужестранными домовинами, а заодно подселяющего вместе с ними в светлые наши края и страшных преисподних духов лондонских трущоб…
Ну, и человек, питаемый барачным ландшафтом, вырастал соответствующий: он-то и взял слово спустя тридцать-сорок лет, и словом этим явилась пуля в лоб всей русской жизни, которая с самодовольной безмозглостью просмотрела, прохлопала, как творилось и росло это преступление, это фабричное надругательство над душами вчерашних русских крестьян, которые и так и без капитализма тысячу раз «починали» (опять Достоевский).
* * *
…А у Жуковских к концу 70-х годов назрела необходимость переселения на новую квартиру. «Сахалинцы», как именовал семью брата Иван Егорович, страшно замерзали в квартире на Садовой. 11 января 1879 года Николай Егорович сообщал матери в Новое село, куда в том время поехала она навестить Егора Ивановича:
«А у нас на дворе и в парадных комнатах страшные холода. Мы все переместились в мою, Верину и Вашу комнаты. Мари спит в Вашей комнате. Цветы перенесли в Вашу комнату. Вчера у нас был Андреев и мы просидели весь вечер у меня в комнате, где и пили вместе с сестрами чай…»
Наконец, к весне 1879 года новую квартиру нашли — на углу Немецкой и Денисовского переулка. Орловы — закадычные друзья — взяли себе второй этаж, Жуковские поселились на первом. К лету двор весь усыпала душистая ромашка, под окнами зеленела сирень, а вдоль забора по переулку высились терпко пахнущие весной тополя. Чего уж лучше!
Начался переезд, о котором в письме 18-летней Верочке в Орехово сообщает Николай Егорович:
«Милая Вера!
…У нас теперь в квартире страшный разгром: все приготовляется к перевозке; всякий хлам был отчасти уничтожен, отчасти сопровождается к вам… В твоем шкапу в верхнем ящике помещаются мои охотничьи принадлежности, сапоги и охотничье платье. Ты позаботься, чтобы все эти предметы переложили в комод, что в передней; при уборке мы нашли твой русский костюм, который Маша привезет тебе. Кроме того тебе нашелся некоторый сюрприз: няня нашла твое колечко с чугунным ободком, которое подарил Колька-рыжий (Стечкин — двоюродный брат Николая Егоровича — прим. авт.), оно завалилось в твоей комнате под карниз.(…). Хорошо что мы заблаговременно убираемся. Следующее письмо получите с новой квартиры. Карточку тебе скоро вышлю (в субботу). Не забывай твоего черненького.
Помните новый адрес…»
В этом же письме приписка Marie:
«Милая Вера, я нынче очень устала и потому не могу писать повествовательно. Мы с Аришей укладываем мебель, чтобы послать ее в деревню. Все это имеет теперь непригодный вид, но когда обобьется и починится будет недурно. Посылается «чудище» — Коля мнит поставить его даже в кабинете. Завтра начнем укладку и переезд на новую квартиру, хлопот будет много, но зато как весело будет расставлять мебель, развешивать картины на прелестной квартире…».
Вскоре устройство на новом месте было завершено и потекли, наверное, самые добрые и светлые дни в еще почти полном семействе Жуковских. Рядом были милые и неразлучные друзья Орловы, с которыми делили все горькие и радостные события жизни. Орловы и летом гостили в деревне у Жуковских. Ольга Евпловна долго вспоминала, как праздновали день ее именин в Орехове, и мы приведем эту страничку — ведь жизнь семьи, где бы она не была, сохраняет свое лицо:
«Этот день, милая Мария Егоровна и Верочка и время, проведенное в Орехове, навсегда останутся самым хорошим воспоминанием. Я живо помню, как праздновали мои именины…
Утром прогулка в лесу, пришли домой, стали убирать стол цветами; Вы, милая Верочка, сделали из зелени мой вензель; потом поездка в ущелье, которая меня немного смущает, у меня там закружилась голова и стеснило грудь… Вам, Николай Егорович, было неприятно, Вы немного рассердились, но зато вечер все изгладил, и какой чудный был вечер! Помните, после чая вынесли стол в сад. В саду тихо, темно. Иван Егорович в белой рубашке точно жрец какой варил жженку, переливая синее пламя. Мы сидели вокруг и пели пенсии. Жженка была готова, разлита по стаканам, все оживились, особенно Вы, Николай Егорович, Вы всех удивляли своим весельем, какой Вы были милый, хороший в тот вечер. Потом прогулка по саду с пляской и пением. Я готова была прогулять до утра, так мне было хорошо и весело.
Только Вам, милая дорогая Анна Николаевна, было утомительно, вы не спали целую ночь, встали в 4 часа…»
* * *
Новый 1880 год сестры Маша и Вера Жуковские встречали в новой квартире одни: мамаша осталась в Новом Селе у Егора Ивановича, а Николай Егорович только в первых числах января (все по старому стилю) вернулся из поездки в Петербург со съезда математиков…
Он переживал за сестер, которые остались одни в доме, просил матушку прислать горничную, так как Маша одна, а няня Ариша уже совсем старенькая. Но вот все вновь собрались вместе, и жизнь потекла по своему родному руслу…
По вечерам Мари с работой в руках забегала к Орловым на второй этаж, — она никогда не сидела с пустыми руками — по канве вышивала изумительные русские рубашки себе и Верочке; и Орловы спускались к Жуковским, к чайку. «Евпла» — так прозвала Машенька Федора Евпловича, а он не протестовал и все привыкли так по-свойски, по-дружески его называть, — важно усаживался в гостиной и, потирая очки, заявлял: «Ну-с, Верочка, покажите сразу все ваши штучки!». Выходил в газетой в руках, отдохнувший по своему обыкновению после обеда Николай Егорович, привычно спрашивая: «А кто тут у нас?» — и всегда, как желанного гостя приветствовал Орлова.
Заходили по вечерам и молодые техники, поклонники Верочки: высокий барон Рутцен — некрасивый, но чрезвычайно умный и остроумный; часто раздавался тихий звонок и входил молодой студент-техник — Александр Александрович Микулин. Он был товарищ по техническому училищу князя Дмитрия Николаевича Крапоткина (с сестрами Крапоткиными еще с гимназических времен дружила Верочка, а Дмитрий Николаевич считался чуть ли не первым претендентом на ее руку и сердце) и на одном из вечеров у Крапоткиных с первого взгляда полюбил Веру на всю жизнь. Впрочем, история этой любви еще впереди, а сейчас не забудем о Маше, уже стареющей девушке, которая и была невидимым центром всего этого живого и довольно веселого сообщества. У Маши, как и у Николая Егоровича, совершенно не было никакой личной жизни. Весь интерес ее заключался исключительно в хозяйстве, благополучии семьи и переживаниях ее отдельных членов — так подводила итоги Машиной жизни моя бабушка. И добавляла, что у Маши отсутствовала устремленность, подобная творческой мысли Николая Егоровича, при большом сходстве в остальном.
Для моей бабушки, Екатерины Александровны, в такой оценке-итоге жизни Марии Егоровны заключался, бесспорно, некий минус. Не сомневаюсь, что для кого-то другого здесь, напротив, обрящется плюс. Минус для тех, кто очень высоко ставит творчество в этой жизни: художественное, научное и даже просто жизненное. Но у Марии Егоровны не было даже своих детей, чтобы кто-то мог похвалить ее материнское творчество, как, к примеру, вошла в историю русской культуры Авдотья Петровна Киреевская-Елагина. Выдающаяся мать, вырастившая одна, будучи еще очень молоденькой вдовой, двух замечательных сыновей, и многим другим людям ее круга успевшая много поспособствовать в духовном воспитании и просвещении. Неужто для того, чтобы и жизнь Мари тоже чем-то выделилась в людском мире — ей надо было бы ехать сестрой милосердия на Балканы, или день и ночь заниматься делами благотворительности, написать какую-нибудь книгу вроде Ишимовой или много книг вроде Чарской, стать Софьей Ковалевской, уйти в монастырь и стать его игуменией?
А так, без всего это прожив, просто и честно — служа всем, и любя всех, никого собой не обременяя, никого не огорчая, абсолютно бескорыстно для себя, без ропота и совсем ничем не удивив свет, — неужто эта жизнь понесет на себе знак минуса?
Однако даже положительный ответ на сей вопрос не принес бы мне утешения: много ли могут значить сугубо человеческие критерии успешной, «сложившейся» жизни, плюсы и минусы, выведенные с помощью сугубо человеческих установок. Тайна останется тайной.
Вот жила Маша — 1841 года рождения. Сейчас мы приближаемся к ее кончине — не долог был век ее — всего 49 лет, да еще и не полных. Самая зрелая и деятельная сердцевина ее жизни пришлась на годы научного становления брата. Маша заменила ему подругу жизни, обеспечила покой, уют, семейный свет и тепло, чувство устойчивости, надежности бытия, которое все-таки может дать мирскому человеку только любящая семья. А когда он уже очень крепко встал на ноги — это совпало с вступлением Николая Егоровича в ряды профессоров Московского Университета, Маша начала прихварывать…
* * *
Быт этих лет и внутренние отношения семьи, которую обстоятельства разбросали по разным городам и весям, хорошо отражают письма, которых осталось от этого времени очень много — они говорят о трогательном тепле отношений, о мягкой атмосфере жизни семьи, о характерах ее членов. Все просто — предельно просто, но как этот мир отличается от того, что мы уже много десятилетий видим и слышим вокруг себя, к чему люди уже привыкли как к должному…
Вот одно очень длинное письмо Николая Егоровича младшей любимой сестре Верочке (моей прабабушке) в Новое Село, куда осенью 1881 году Верочка и Анна Николаевна отправились к болевшему Егору Ивановичу. Вот несколько отрывков из него:
«Милая моя Верочка!
Я беспокоился не получая от тебя письма и был очень обрадован получив его вчера. От души рад, что ты теперь бодра и здорова. У нас в доме образовалась такая тишина. Мне подчас кажется, что вот, вбежит в мою комнату Верочка и нашумит, и наговорит, но вместо Верочки входит Немо гордо размахивая хвостом или вскакивает на диван, опустив голову, Маска… Перехожу к описанию некоторых случаев, которые произошли в дни после нашей разлуки, когда мы вас проводили. По предложению Микулина, мы отправились домой через рельсы. Микулин хотел прямо перейти к газовому заводу, но я внес некоторую поправку в его предложение и посоветовал идти прямо по рельсам… Маша сильно заробела. Возле самого моста около стрелочной будки Микулин перешел канаву на краю дороги… я хотел последовать за ним, но в это время из под моста зашумел паровоз, в тот же миг Маша скрылась… Она со страху прыгнула в канаву и в ней притаилась. Я прыгнул за нею. Канава оказалась с водой и к счастью небольшой, — мне по плечо… Началось вытаскивание из канавы с помощью Микулина, который потащил сперва Машу, подпираемую мною снизу, а потом и меня…
Вчера в среду было тоже кое-что замечательное. С утра Маша сделала кое какие запасы: купила груш и колбасу. Я так и думал, что это не с проста и что, верно, придет Александр Александрович… Прихожу с репетиции, застаю в зале свет: сидит за чаем Маша и Микулин, а в моем кабинете, увы! — сидят Гир-Иоффе и Геренцель. Делать нечего, попросил чаю в кабинет и отдался им не съедение…»
Да, неспроста раздавался чуть ли ежедневно у Жуковских тихий звонок Микулина. Близилась свадьба его и Верочки. Весной 1884 года Микулин оканчивал Техническое училище, и они с Верой, наконец, объявили о своей помолвке. Начались хлопоты о приданном, которые почти полностью легли на плечи Марии Егоровны. Глядя на счастье сестры, могла ли она не вспомнить о своей неудавшейся семейной жизни, но только единым буквально словом и единственный раз вырвалось у Маши в письма Анне Николаевне это горькое самой о себе суждение:
«Коля сказал, что Ваня звал нас на Святую, но вы знаете, при нынешних обстоятельствах лишний расход денег был бы немыслим, а мне так хотелось побывать у Вани, всех увидать, да наверно, мы не соберемся; где уж мне, горькой, иметь какое-нибудь удовольствие…»
Верочка вышла замуж за Микулина в конце августа 1884 года, а вскоре и переехала с ним во Владимир, куда Александр Александрович получил назначение фабричным инспектором Владимирской губернии.
Вера Егоровна увезла с собою всю радость и веселье семьи Жуковских. Анна Николаевна, на полпути к своему семидесятилетию почти безостановочно переезжала — то в Тулу к мужу, то во Владимир в семью младшей дочери, которая уже ждала пополнения семьи, то в Москву к сыну… А Маша начала прихварывать. Николай Егорович старался поддержать тон прежней жизни, звал часто к себе товарищей, но постепенно скудела молодая радость, да и сам он, глубоко погруженный в свои лекции и занятия становился все менее веселым и общительным. Меж бровей появились глубокие борозды, поредели волосы над высоким лбом…
Ранней весной 1885 года Вера Егоровна из Владимира отправилась со своей новорожденной дочкой Верочкой в Орехово. А вслед ей понеслись письма трогательно заботливые письма брата и сестры…
«6 мая.
Дорогая Вера!
Посылаю тебе целую коробку сладостей, пилюль двойная порция (обещали сделать 40), бертолетовой соли 1 фунт, винных ягод, шалфею, 1 фунт шоколаду. Няня посылает тебе коробку конфет от Абрикосова — она была вчера именинница и ей принесла эти конфеты в подарок Домнушка (прислуга Орловых — прим. авт.), еще Ариша прибавила коробку разной снеди, и я никак не мог ее отогнать. Я отлично выспался в вагоне и приехал в Москву в 7 часов. Застал Ваню, который ужасно о тебе заботился и хотел даже сейчас к вам ехать, но у него были очень спешные дела в Туле… Вчера весь день проэкзаменовал, а вечером, придя домой, застал Мумию с Малышевским, которые мне-таки порядком мешали завалиться спать…
Дорогая Верочка, я очень без тебя скучаю и ночью все беспокоился о твоем горлушке, пожалуйста, берегись. Непременно пишите к нам каждую субботу, и мы будем аккуратно писать. Да хранит тебя Господь, моя милая Вера, целую тебя
Твой черненький».
Летом и Маша и Анна Николаевна уезжали в Орехово как можно раньше — в самом начале мая, чтобы загодя приготовить дом к приезду Веры с годовалой дочкой. Тем паче, что она вновь ждала ребенка: моя бабушка Катя родилась в самом конце 1886 года. А в это время — самое насыщенное лекциями и экзаменами в Москве Николай Егорович хозяйничал один, и что это было за хозяйничанье — видно из короткого письма:
«Моя временная кухарка оказалась хороша: сидит дома и весьма старательна до собак. Кормит она меня на 50 копеек — тут и ужин и сама бывает сыта».
Осень 1886 года Жуковские опять переехали: в квартиру в Гусятниковом переулке около Чистых прудов в доме Победимовой — все-таки поближе к Университету. Покинув Орехово поздней осенью, Маша писала уже с нового места:
«Доехали мы отлично. Коля взял купе первого класса, мы могли бы отлично выспаться, но я не находила отрады лежать на бархатном диване и все скучала по вас; а приехав в нашу роскошную, но п у с т у ю квартиру, я просто расплакалась, вспомнили мы как весело было переезжать, когда вы все были там. Коля еще не вставил окна и завел сильный холод, к тому же в некоторых комнатах царствовал хаос. Слугин (профессор технического Училища — прим. авт.) постоянно вертится у Коли и бесцеремонно натыкается на ящики и чемоданы. В настоящее время все приведено в порядок. Я обошла свои владения, задаваясь вопросом, что мы будем делать вдвоем в такой большой квартире?»
Теперь все заботы брата и сестры были направлены в сторону Владимира, где у Верочки должна была родиться вторая дочка:
«Милая Верочка, мы с Машей купили для детки очень хорошее пуховое пальтецо, шапочку и муфточку, которые перешлем тебе с Сашей. Сегодня у меня была диссертация Млодзиевского, в которой мне пришлось быть оппонентом, и я очень устал, поэтому не могу тебе много писать…»
Приписка Маши:
«Милая Верушка, как часто мне хочется поболтать с тобой, как это мы часто делали, забравшись к Коле в кабинет. Мы так привыкли жить все вместе, что трудно привыкнуть к мысли, что ты так далеко…».
Перед рождением второй дочери Николай Егорович особенно часто писал Верочке во Владимир:
«Милая Вера!
Живо вспоминаю я те летние вечера, когда мы тебя крестили на прощание. Как жаль, что я теперь не могу одобрить и перекрестить тебя. Радуюсь, что из твоего письма можно судить о хорошем настроении твоего духа. Завтра поутру пошлю тебе кое что для будущего детки и для маленькой Верочки. Маша никак не хотела послать розовые чулочки и башмачки, которые сама хочет надеть на детку. Кроме того у нея есть много сшитого.
Занятий у меня пропасть. Лекции, печатание статей, зачет полугодовой, диссертация Белопольского. Последняя будет вероятно очень оживленная, так как Церасский решил его съесть.
Недавно у нас был факультетский обед. Он прошел очень живо: пили за невесту Орлова, который весьма умилился и выставил 2 бутылки шампанского. Слудский под конец обеда натравил кампанию на меня, чтобы пить за мою будущую жену, но я говорил, что математикам не подобает пить за мнимую величину. (…) Прощай, дорогая, целую тебя крепко. Не заботься ни о чем; все Бог даст устроится. Акушерку надо на всякий случай приспособить владимирскую, которая лучше. Скажу, как говорил мамашин дядя: «Подожди Мириам до моих именин», а там мы с Машей к Вам приедем.
Тебя любящий Н. Жуковский».
Сохранилось и Машино письмо, написанное в те же декабрьские дни 1886 года о праздновании Николина дня (именины Николая Егоровича):
«Вечер у нас очень удался. Столовую мы устроили в моей комнате. Пришлось сделать полную перестановку декорации. Помог мне Ваня, нарочно приехав попировать у именинника, стол бы сервирован роскошно, украшен канделябрами и новыми вазочками с фруктами. Чай мы пили рядом в маленькой столовой, так что стол для ужина, убранный и разукрашенный красовался весь вечер в большой столовой, и гости заранее предвкушали прелесть ужина.
Канделябры и подсвечники любезно предложили мне Страховы и наши хозяйки, так что я расставила их, где только могла и дом сиял огнями, и гости восхищались поместительностью и красотой квартиры.
Зато Кислица (так звали Ольгу Орлову у Жуковских за капризный нрав) ежилась и кислилась целый вечер, все не по ней, но так как на ее капризы не было обращено должного внимания, то она скоро угомонилась. Котик (Летникова — прим. авт.) был очень мил и играл в четыре руки с Млодзиевским, и помогал мне занимать молодую кампанию. Ваня устроил карты, математики не очень трактовали об X-ах, и вечер прошел оживленно, а за ужином было даже весело, говорили спичи.(…) Ужин удался на славу. Даже Коля умилился и поцеловал меня. Повара мы не брали, заказывали только пирожное. Накануне я затопила плиту и сама наготовила все…
Кутежи мои, Верушка, продолжаются, вчера была на техническом бале. Я прослушала только концерт, разок прошлась по актовой зале, раскланиваясь со множеством знакомых, и воротилась домой, не соблазнившись приглашениями потанцевать…».
* * *
Осень 1888 года была для Маши еще очень деятельной. Она неутомимо трудилась: не только обшивала все умножившееся семейство, — у Веры было уже две маленьких дочки, Машенькины племянницы, но и старалась, как можно энергичнее хозяйствовать в Орехове, чтобы помочь Александру Александровичу Микулину прокормить семью. Ведь он только начал служить и на одно жалование фабричного инспектора сводить концы с концами, да еще и снимать во Владимире жилье никак не получалось. Маша была тогда еще бодра и неутомима:
«Милая Верушка, у нас совсем зима и мы с мамой изображаем путников, запертых льдами. Хотя дом тепло натоплен, но на дворе стужа и окны залеплены снегом. Я приказала вывезти санки и хочу завтра обновить путь. Плотники взодрали пол в спальне, зала уже готова, но грохот и стук они производят сильный и с шести часов будят нас. Молотьба подвигается. Каждый день молотят 5 человек, но день так короток, что более трех-четырех сотен не молотят. Я облачилась в новую шубку и целый день на воздухе. Осенний воздух очень живителен, и я чувствую себя хорошо. Индюшата живы и очень выросли, и, кажется, будут обе индейки. Телочка твоя растет, покрылась зимней шерстью. Птица разъелась на гумне и стала такая красивая. Надо переговорить с Сашей, когда мне прислать тебе гусей — они стали такие жирные; есть у меня для тебя и петушки, да дорога так плоха, что никто не берет их доставить. До свидания, милая Вера, деток целую, помнят ли они тетин садик, я часто их вспоминаю, гуляет ли Веренок в своей новой шубке? Не лучше ли Саше приехать к нам в воскресенье, а то дорога убийственная, а к тому времени выпадет снег и мы доставим его на санках. Перешли мне с Герсасимом 5 фунтов колотого сахару, по 2 фунта манной и рису.
Да еще, милая Веруша, пришли мне маленькую коробку пудры.
Милай Саша, во всяком случае, уведомь, когда приедешь».
Зимой 1888–1889 года Мария Егоровна серьезно заболела — у нее начиналась водянка. Теперь Анна Николаевна не уезжала и ухаживала за дочерью. Однако все же это был еще не конец. К лету она несколько окрепла, поехали в Орехово. Но осенью все вернулось с новой силой: лихорадка, отеки, боли… Маша была уже в таком состоянии, что ее опасно было вести в Москву, но и в деревне оставаться было невозможно:
«Милая Маша!
Я очень обеспокоился о твоей болезни и хотел ехать к вам в субботу, но письмо было получено мною среди дня, когда утренний поезд был пропущен, и приходилось ехать вечерним на одно воскресение, так как в понедельник у меня важные дела в университете. Теперь я надумал ехать к вам в будущую субботу утром, и прогуляв понедельник, выехать с тобой в понедельник в Москву, если Господь поможет тебе оправиться здоровьем. Приезжай, маша, в Москву, а то в деревне при теперешней погоде совсем расклеишься. Комнату твою мы уберем. Я думаю перенести туда плющи, а то они очень затемнили залу. Когда ты ко мне переберешься, то будем иногда собирать гостей, теперь же я сижу сиднем, ни к кому не хожу и никого к себе не призываю…»
Переезд Марии Егоровны поздней осенью по тряской дороге совсем измучил ее — она слегла в Москве в тяжелом состоянии:
«Отек у Маши настолько велик, — пишет Николай Егорович — в ноябре, что Федоров предлагает сделать зондом маленькое отверстие и спустить воду. В начале будущей недели мы свезем Машу показать Остроумову и смотря на его указания следует решиться или нет на спускание воды…».
Перед рождеством Маше сделали операцию, спустили воду, но ей не стало лучше:
«Вера, Вера, голубчик милая, уж очень я сильно расхворалась — не думала и пережить и прочно прощалась со всеми вами. После операции у меня образовалось воспаление, и теперь я еще лежу пластом, обложенная компрессами и такая жалкая и несчастная, что смотреть жалко…»
В эти скорбные дни мучительного умирания 48-летней Маши в доме Жуковских и появилась Надя — крестьянка из села Важное, историю которой мы уже рассказывали в 6 главе. Она прижилась в семье Жуковских, покорив всех своей добротой, мягкой протяжной, мелодичной тамбовской речью и длинной русой косой. Она и стала заботливой сиделкой Маши. А впоследствии — матерью детей Николая Егоровича.
…Была весна 1890 года. В середине марта, десятого по старому стилю Николай Егорович писал во Владимир:
«Сегодня выпустили Маше воду, потому что вчера вечером ее стало сильно душить. Чувствует Маша себя довольно хорошо, воду отжали сегодня чисто. Вышло, как и прошлый раз около 3-х ведер. Сейчас Маша утомилась и лежит в забытьи, но вообще на операции была бодрее чем в прошлый раз.(…) Если окажется нужным, то приезжай в Москву эти дни. Маше Бог даст, будет получше…»
Надежды Николая Егоровича, однако, не сбылись: 14 марта Мария Егоровна, пособоровавшись и причастившись Святых Таин тихо, как и жила, отошла ко Господу.
Никому никогда резкого и даже холодного слова, никаких притязаний и жалоб, никогда даже тени надутости и ложного величия дамы, — всегда сочувственность, подлинная простота и кротость, — светлое, даже радостное принятие жизни, такой как она есть…
Хоронить Машу повезли в Орехово, и обрела она покой свой на родовом погосте у храма святого Пророка Илии на холме Круче, где предстояло еще лечь рядом и ее любимой матери — еще только через четверть века — в 1912 году, и ее зятю Александру Александровичу Микулину — в 1919 году, и ее младшей сестре Вере — в 1933 году.
На коллаже работы Екатерины Кожуховой — могила Марии Егоровны Жуковской в селе Глухове у храма на родовом погосте Жуковских. Верочка и Катя Микулины — племянницы Маши.
Глава 8. Пасхальный поцелуй
…Давно уже у меня просились на бумагу воспоминания, связанные с тем, как начиналась эта книга, и как в один прекрасный момент этой довольно долгой истории начали постепенно проступать как симпатические чернила тайного письма свидетельства несомненной помощи и подсказки Божией, что и поставило точку в сомнениях автора. Господь, наверное, узрел тогда эту неуверенность и колебания, — а не запереть ли все эти письма и воспоминания обратно в несгораемый шкаф, — кому они могут быть интересны и полезны в нынешнем мире… И не лучше ли о предках своих, да и не только своих, — молиться — не больше ли им и самому молящемуся будет от того пользы?
Сколько подобных воспоминаний растаяли как дым, и — ничего: мир гонит все дальше и дальше от всего того, что было тебе и твоим предкам дорого, что они почитали добром и красотой, и вот уже глумится он над всем прежде трогательным, милым, сердечным, да над верой самой, которая растапливала русские сердца, — ввергая такого наивного автора в глубокую растерянность: с кем говорить, к кому обращаться? Для кого и для чего затевать весь сыр-бор, тем более в наши дни, когда у каждого воззрителя на прошлое — свой аршин в руках, свои пристрастия, установки, свои идеалы, позаимствованные со всех сторон света…
Это раньше, когда Россия была православной страной, все почти говорили на одном языке, и, больше-меньше, друг друга могли понять, тут уже различия шли по вертикали: кто более духовно умудрен и просвещен, а кто менее, но таблица мер и весов в сердце у всех была одна и та же. И даже лютые ненавистники этой «таблицы» (тут уж расхождение пролегало еще и по горизонтали) — эту таблицу знали или помнили неплохо и их злобная критика христианского миросозерцания была, своего рода, оборотной стороной истины. Это называли позитивизмом — критики признавали только видимое и то, что потрогать можно, а то, о чем ведала в тайне сердца душа человеческая бездонная, — для них все-то было: фьють! «Сапоги выше Пушкина» — и будьте здоровы.
Не то нынче: сколько людей, столько и… аршинов. И вот все это противоборствует, сшибается, искрит, стреляет молниями и кончается не короткими замыканиями. Тупики общения. Предел разделения людей, раздробления народа.
Так для чего было вытаскивать на люди то, что скрывала до поры эта книга? Для пресловутого самовыражения? Тем более, что и сам автор ни в себе, ни в настоящем, ни в прошлом не уверен, ему, по слову Гоголя, везде в глаза летит один д р я з г жизни, а сама жизнь, даже несомненно мирная и благая, пускай даже в земных измерениях цветущая и плодотворная, вызывает у него лишь пронзительную боль за человека, за трагизм бренного бытия потомков падшего Адама, в котором живет «семя тли» (о чем и воздыхаем мы ко Господу во второй молитве «На сон грядущим»: «…Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не предаждь мене крамоле змиине, и желанию сатанину не остави мене, яко семя тли во мне есть…»), а кроме боли и сострадания еще и страх, и туманную неуверенность в достижимости для большинства «перелетов» в светлые обители Небесного Божиего Царствия:
«Этот век Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих. Скажу тебе, Ездра, подобие. Как если спросишь землю, она скажет тебе, что дает очень много вещества, из которого делаются глиняные вещи, а не много праха, из которого бывает золото, так и дела настоящего века. Многие сотворены, но немногие спасутся (…) Тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли» (Третья книга Ездры.8:1–3; 9:15).
Как разнится капля от волны? Какие соотношения… И как здесь не заплачешь… И о себе, и о других… О других, и вновь еще горше — о себе…
Вот где средоточие жизни и точка отсчета ее, и где в этом средоточии сказано про «самовыражения», про книги, написанные неизвестно для чего и для кого? Про упоительные воспевания земных радостей… Не про то ли и пророки все вещали для нас, пытаясь предупредить об опасности умножения этих космических мириадов букв, в которых доля нужного отличается от ненужного — как капля от волны. Да еще и: нужного — кому? И ненужного — почему?
Так не в осуждение ли, и не на горе ли себе ты вновь и вновь, как тот андерсеновский Кай, складываешь из холодных и мертвых льдышек столь же холодное и бессмысленное слово «вечность»?
* * *
Однажды вдруг приснилась картинка — всего лишь на одно краткое мгновение — кусты, заросли, и кто-то пытается в этих зарослях, которые возникли на месте стоявшего там небольшого нашего дровника-сараюшки, совсем недавно аккуратно сколоченного, шебаршиться и что-то непонятное делать… Проснулась мгновенно, похолодев от страха: ни за что не хочу видеть дальнейшее! Но чего тут, казалось, было страшиться? Но это ведь так лишь по «дневной» оболочке нашего разума, а есть ведь и другие слои в наших разумно-сердечных глубинах…
Ведь и Анне (толстовской, Карениной) не случайно все попадался, а потом и виделся какой-то мерзкий мужичонка, что-то зачем-то постукивающий и перестукивающий в сочленениях вагонов… И это было страшно. И страшным завершилось. Почему же видение того заросшего кустом места, где был сараюшка и какие-то странные там хозяйничающие некто, не могло испугать?
Что это было: нечто о грядущем или о бывшем? Но дело в том, что к картинке было и словцо приложено, как-то само собой мною угаданное или услышанное: «разруха» — ненавистная разруха, мерзость запустения. «…И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан. 9:27).
Причем тут был наш маленький о прошлом годе отстроенный дровник, — какое уж он там святилище?… Но как-то так ведь и бывает в странных, не укладывающихся в рамки «нормальной» логики небесных подсказках, что мы их читаем не на «картинку» глядя, а напрямую слыша сердцем истинный смысл сообщения. Солнечное затмение перед походом князя Игоря, комета перед нашествием Наполеона… А тут — «разруха», как напоминание о чем-то, что никуда не может ни уйти, ни скрыться из памяти автора, пишущего о былом, о добром старом русском времени, о людях, об отношениях, каких давно уже не сыщешь вокруг нас, — напоминание, которое и до картинки этой тихо и монотонно, как некий пунктир, как basso ostinato, упорно и неотступно долбило в мозг: «пиши, да не забывай», «пиши, да не забывай»…
Этот пунктир отбивал свою «азбуку» с самого начала, с самого зарождения мысли о книге, заставляя даже против воли искать давний след этой разрухи и истоки ее. Потому что — хотелось мне того или нет, осозналось это сразу или потом, но книга упрямо и с самого начала тянула меня в с в о ю сторону, к одной только мысли: о Вере, о катастрофической утрате ее, и еще более трудном и трагическом ее обретении в то время, когда в России уже не будет под ногами почти ни одного твердого участка земли.
…А как бы можно было насладиться прекрасными воспоминаниями, и усладить ими читателя, если бы я не знала о конце, к которому вела цепь этих чудесных воспоминаний, благоуханных и трогательных реликвий, если бы я не видела, как безответственно изменяли Богу и как в безумной невесомости ума, отказывались от веры близкие мне люди, если бы не видела, как складывались их жизни, какие грузы возлагали они на свои потомства, если бы не знала, как умирали они, и как на ощупь шла и возвращалась к Богу я сама, какие жертвы и утраты оставались позади меня, пока в середине жизни милостью Божией я сама, сознательно, без подсказок и толчков от людей в великом потрясении и умилении сердца не вернула бы себе нательный крест, потому что крестильный мой, младенческий крестик, как я уже писала, еще давным-давно был утрачен, словно в знак того, что возвращение мое в Отчий Дом будет вовсе не легким и быстрым, а долгим, трудным и до пределов скорбным.
* * *
А было это так… Однажды в студеную зимнюю пору мы — три сотрудницы московского журнала, были посланы в 1980 году в Псков и область для подготовки специального выпуска журнала, посвященного культурной жизни (так тогда это называлось) псковщины. Замечательное это было путешествие: застали мы Семена Гейченко в Михайловском, предварительно скатившись без салазок на спинах — да прямо к крыльцу его домика кучей и подкатив, ведь скользко было, а мы за руки держались, — смеху много было на нас поглядеть. В Изборске побывали — в тишине и морозных сумерках совсем одни стояли, вспоминая древность. Между прочим, тогда я не знала, что не один мой прямой предок погиб геройски, защищая эту крепость от иноземцев, многие столетия до нас. А потом добрались мы и до Печор, где Бога славить никогда не переставал Псково-Печерский монастырь. Там-то и приобрела я себе самый простенький металлический крестик, там и надела его, им осветилась и, пребывая в блаженном счастии, вернулась в Москву. Креста я давно уже вожделела, да не знала, где взять…
Потекла моя жизнь дальше — для всех по-старому, а для меня — по-новому, и я знала, почему. Летом того же года послали меня (по моей настойчивой просьбе) в Старую Руссу, в музей Федора Михайловича Достоевского, которому из людей больше всего я была обязана возвращением крестика. А в музее встретил меня удивительный человек — тогдашний его директор Георгий Иванович Смирнов. Это был первый из здравствующих человек, посланный мне на подмогу на моем пути в Церковь.
Вот уж кто был истинно старинным человеком — так это он. Родился в 1921 году напротив дома Достоевского в Старой Руссе, там где жили близкие Федору Михайловичу люди, причем произошло это ровно через столетие после рождения самого писателя, чему Георгий Иванович придавал особенное значение. Стал историком — специалистом по античности. Преподавал в школе. Читал Достоевского и бродил по городу, который чуть ли по шагам Федор Михайлович запечатлел и зашифровал в глубоких пластах символики и метафор «Братьев Карамазовых». Стал блистательным знатоком и расшифровщиком этой символики. Во время войны геройски командовал артиллерийским батальоном. Имел награды. Освобождал Киев, был смертельно ранен в легкое и, умирая, помолился Господу, обещав, что ежели останется жив, то создаст музей Достоевского. Выжил. Вернулся, и создал музей, что стоило, конечно, сверх усилий в то время.
Партбилет свой сдал в райком в 1965 году, кажется, возмущенный «кривыми линиями партии». Перепуганный райком партбилет пожил в стол, и платил по нему сам взносы, но зарплаты Смирнову в то же время никак не платили. Как всегда: свою шкуру хранили, а чужую изводили.
К моему приезду в 80-м я не могла обнаружить у Георгия Ивановича следов продуктов пропитания. Буквально: нашла корку черного хлеба. Но он был необычайно бодр, энергичен, весел, жил молитвой Богу и Достоевским, с которым был в какой-то неописуемой близости (как мы рассматривали фотографии Федора Михайловича: «Вот, Кети, смотри — какое здесь доброе лицо у Федора Михайловича, — это вот самый он здесь!»), слушал классику и чуть — старую оперетту («Федор Михайлович не был ханжой — он любил иной раз и оперетку хорошую послушать!») на своем старом проигрывателе.
Чудо что за человек был Георгий Иванович. Меня звал «моей Самарянкой», но я как-то не могла долго взять в толк — почему? И только, когда прочла (уже после кончины Георгия Ивановича) дивное толкование святого Иоанна Златоуста на эту главу Евангелия от Иоанна — о беседе Христа с Самарянкой — что-то мне прояснилось. До сих пор этот шедевр Златоуста люблю особенной, горячей любовью, и вижу в этой Евангельской Самарянке (не в себе, дорогой читатель, — упаси Бог!) — образец пламенной христианской души на ее пути к Богу.
…Было лето, и мы вместе ходили по городу. И Георгий Иванович — а было ему тогда уже 60 лет, — все мне показывал и рассказывал, словно всегда он был рядом с Федором Михайловичем, словно он его заветный наперсник, а что это было именно так, я и сейчас не сомневаюсь… Не случайно один святой отец писал о том, что путь к подлинному постижению другого есть глубочайшее соединение с ним в созерцании — и это был святитель Григорий Палама.
Помню, сидели мы в какой-то неприглядной провинциальной столовой… Бедный, очень бедный был разрушенный в войну немцами город Старая Русса, — так у меня и остался в памяти он за 1980 год образом советского захолустья, бедности, нищеты даже, покинутости, самого голодного жития. Эх, Скотопригоньевск, Скотопригоньевск — с трактиром «Столичный город» (прямой образ языческого Рима эпохи Нерона — «Все хотят хлеба и зрелищ!» — кричит безумный Иван на суде) в центре старого города, где сидели Алеша с Иваном и где билась меж ними великая мысль о бытии Божием, где и излился в диалоге с Алешей бунт Ивана, где он возвращал свой билет Богу, вспоминая чудовищные страдания невинных детей, — каким ты стал несчастным! По-другому несчастным, хотя мы с Георгием Ивановичем вот тоже сидели в какой-то столовке, и Георгий Иванович мне рассказывал об этой столовке, что в ней витает дух Достоевского и что знакомые его ребята-художники, оформлявшие эту столовочку и очарованные Георгием Ивановичем, зашифровали вензель Достоевского в чугунной решетке: «ФМ».
Поскольку и я тогда (в меру моих робких сил) уже давно жила в глубоком погружении в личность, а не только в творения Достоевского, мы с Георгием Ивановичем легко понимали друг друга. И вот что выяснилось, наконец: сколько бы не водил он меня по Старой Руссе и ее закоулкам «памяти Федора Михайловича», все-то дороги, как оказывалось, вели к Собору, к вере и ко Христу.
Сам Георгий Иванович уже давно был подлинно верующим и совершенно церковным человеком, и он предложил, что когда я уеду, мы одновременно по утрам в восемь часов будем молиться друг о друге. И я согласилась, хотя для меня это было тогда все-таки внове. Но он-то молился исправно…
А еще мы побратались — обменялись крестами, — и нашу духовную дружбу скрепил теперь не только Достоевский, но и несомненно Сам Господь.
Я вернулась в Москву… В начале зимы главный редактор — несгибаемый большевик — случайно углядел на мне крест и с необыкновенной быстротой подскочив ко мне, сорвал его и вышвырнул в форточку. Мне долго помогали его искать в снегу, но, увы — мы не нашли крестик… Я с горя заболела, и на работу на другой день не вышла. Отчаянию моему не было предела. В то же время из школы (в этот же день) возвращался мой средний сын — ему всего-то было тогда 10 лет. А грязь была в тот день на улицах несусветная — мерзкая черная жижа. И вот мой сынок вдруг увидел в этой жиже… крест: старый, латунный, истертый, но с различимым Распятием и читаемыми первыми буквами молитвы «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…». Это был крест стародавний, кем-то ношенный-переношенный с какого-то, наверное, XIX века. Сын принес его мне, и я — ожила: кто бы мне тогда посмел сказать что-нибудь против веры и присутствия Бога в нашей жизни. Нет, меня было уже не сбить с дороги, хотя самое меня бить и трепать и молотить было потребно еще очень долго — до самого конца.
* * *
…Жили- жили, не тужили, хотя с того момента как-то особенно тяжко стали наступать и теснить мои дни скорби: и все с самыми близкими моими, любимыми… Прошло несколько лет. И вот однажды, роясь в несгораемом шкафу, — а время приступания к книге приближалось, — я уже думала о ней, обнаружила я несколько старинных иконок и дивный резной и довольно большой кипарисовый крест, который тонко благоухал. На Святой Земле из самых близких родных никто у меня не бывал, но очень верующей и церковной была бабушкина сестра Вера Александровна. Наверное, ее, — подумала я.
Годы шли, скорби росли и множились, а я все никак не воцерковлялась, сдерживаемая глупыми страхами незнания церковных правил. Влечение к храму было сверх сильное, но и косность моя, торможение мое и смерти подобное промедление довлели надо мной.
Каждый вечер проезжала я на троллейбусе мимо одной очень старинной московской церкви, и смотрела с высоты троллейбусного сидения на огоньки свечей в маленьких древних окошках… Это пламя тянуло, звало меня к себе, а я, хоть и мучилась, но все равно почему-то не шла. Однако и это преодолелось, правда с большими и, наверное, роковыми потерями времени.
Началась жизнь церковная. И вот решила я однажды отнести на молебен этот старинный кипарисовый крест, чтобы освятить его. А так же взяла святить еще два новых серебряных, прекрасной ювелирной работы знакомого художника — для подарков невесткам. Вот священник начал служить молебен, но, вдруг увидев на аналое мой кипарисовый крест, спросил: «Чей»? — «Мой». — «Да ведь это же настоящий старинный афонский крест, монахи резали! Какая красота! Его носить можно…», — добавил Батюшка.
Отслужили молебен, стал он кропить святой водой святыньки, положенные прихожанами на аналое для освящения, как вдруг раздался истошный крик: «Где мой крест? Нет моего креста! Пропал! Взяли!» — так неистово кричала одна женщина и металась вдоль нашей цепочки — народ выстроился с бутылочками за освященной на молебне водой. Женщину пытались успокоить, но она сильно кричала, и тогда я подумала: отдам я ей один из серебряных крестов, — и отдала. И женщина молниеносно исчезла. Как в землю провалилась. А я, придя домой, надела тот афонский кипарисовый крест. Прошло несколько дней и вот однажды, не успев толком заснуть, в полудреме я вдруг увидела Крест — ослепительного сияния, словно из множества алмазов, бриллиантов, и он лежал… Потрясенная этим невиданным свечением, я вскочила и побежала к дочке, мне надо было с кем-то поделиться… Это было в ночь на 21 января. А ровно через полгода в ночь на 21 июля в канун Празднования Казанской иконе Божией Матери ушел из этой жизни самый близкий мне человек…
Не выжить бы мне с этого горя, не встать, но так неоспоримо, осязаемо, помогал и направлял жизнь Бог, — разве я могла этому противиться?
Прошли еще годы и однажды совершенно неожиданно один добрый, но малознакомый человек привез мне в подарок из Иерусалима крест-энколпион с частичками святых мощей мучеников 14000 младенцев от Ирода в Вифлееме избиенных. И я еще раз сменила нательный крест — теперь мощевик. И сейчас он тоже со мной.
«Глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Мф. 2:18).
Вот такая была история о крестах. Они высились как вехи на моем пути возвращения в Дом Отч. И по этим вехам складывались и мои думы о книге: то приятие, то оттолкновение: зачем? Когда же все-таки пробил час, могла ли уже уклониться от того звука упорного и настойчивого баса, отбивавшего все время одно и тоже: «Пиши, да не забывай…». Но можно ли было что-то забыть? Можно ли было не думать и не держать в уме все эти концы и начала, эти сходящиеся в какой-то одной точке края русской жизни, могла ли не смотреть, не отводя глаз, не ища утешений, зрачок в зрачок в пустые глазницы этой костлявой старухи-разрухи. И в один прекрасный день я взяла лист и написала буквы начала: «Крестины в 45»…
* * *
…На страшных весах взвешено слово человеческое, в особенности написанное не без назидания для других. Шаг налево, шаг направо — расстрел. Потому что Тот, Кто подает слово, Кто сотворил уста человеческие, ждет, чтобы слово служило только Его делу, помогало бы вести людей в жизнь вечную, служило бы мудро и чисто, а мы бы не присваивали себе не наше, и не употребляли бы святыню для черных дел. «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).
По слову Спасителя все мы дадим на Страшном суде ответ за к а ж д о е праздное слово (Мф.12:36) — за каждое пустое, бесцельное, бестолковое, бессмысленное (как трудно писать такие слова по советской орфографии, в то время как когда-то, до революции, они писались правильно — с единственно возможной приставкой «без»), ненужное, несправедливое, лживое, неправедное, преступное, грешное, нечестивое, богомерзкое — внушенное диаволом, и даже сказанное не ко времени и не к месту, хотя, казалось бы, и доброе слово.
Шаг вправо, шаг влево — расстрел… Но вот теперь мы все ближе подходим к той роковой меже, когда последние следы подлинной и святой благости нашего православного в истоках своих и в почти тысячелетнем бытии народа уже готовы совсем исчезнуть не только с лица земли, но и из нашей памяти, когда все святое не просто подвергается поруганию, но когда мы сами уже перестаем понимать самою природу христианской святости, подменяя ее какими-то выдуманными мертвыми образцами, а на духовную жизнь прадедов и прапрадедов глядим, словно совсем чужие, — с другого берега, — вправе ли мы на этой-то меже воскрешая прошлое, умалчивать об истоках разрухи, постигшей наши русские (да и не только русские) души?
Но: шаг вправо, шаг влево — расстрел: скажешь что-то осудительное — повредишь, не дай Бог! — душе родной покойной, не скажешь — повредишь многим душам и в чем-то еще большем, в том, может, ради чего и должен был ты только и брать в руки перо и открывать перед собой этот покамест безгрешный белый лист…
И стала я думать о той разрухе и о том, о чем, памятуя о ней, надо писать, и о чем умалчивать, чем руководствоваться, делая тот или иной выбор, и чему и Кому только доверять…
На фото: Псково-Печерский монастырь зимой. В такую-то пору и был там обретен первый "сознательный" крестик…
…Прежде всего еще надо было распознать обличие этой самой старухи-разрухи — но уже не в тех привычных картинах, что окружали булгаковского профессора Преображенского в «Собачьем сердце», и самого Михаила Афанасьевича Булгакова в реальной жизни, не в закрытых парадных подъездах и в открытых и молниеносно загаженных черных ходах, — этими сюжетами разруха ограничивалась только тогда, после революции. Но дальше, дальше она уже действовала много смелее, тоньше и лукавее, проникая все глубже в недра человеческого сердца, захватывая все больше и крепче всего человека — а не подъезды, пока не стало ее присутствие почти совсем… невидимым, поскольку уже почти неотделимым от самого человека, его altera natura. Ибо она проникла в сердцевины наших душ, изменила наше зрение, проникнув в мельчайшие капилляры, а потому и не можно стало правильно видеть — ни вовне, ни внутри, ни ее — эту новую натуру — самое обнаружить.
Не в осуждение, не в порицание, но в размышление, дабы получше понять, какими мы были до разрухи и чем прежние добрые времена и «бывшие» люди отличались от времен, что наступили после разрушения нашего общего «сараюшки-дровника», пишу я эти строки. Теперь, чтобы ее, кромешницу-разруху углядеть да поймать, потребен стал весьма совершенный микроскоп, через который мы бы смотрели на каждую клеточку, ловя следы разрухи там, где никто и не подозревал бы присутствия чего-то такого недолжного…
* * *
…Несколько лет назад скончался один выдающийся ученый, между прочим, наш дальний родственник, правда, родство это обнаружило себя совсем неожиданно, и совсем незадолго до его кончины, но, несомненно и неоспоримо. Для всех он был образцом человека старинного, реликтового, «живой историей», хранящей в себе отблески той еще стародавней русской утонченной ученой культуры, образчиком традиционного поведения в науке и в повседневной жизни, манер, подкупавших многих его необычайным остроумием, свободой, самобытностью, доходящей иногда даже и до некоторой экзотичности поведения, которое он щедро являл и на своих лекциях, и в своих печатных текстах, и в общении с интервьюерами, которым все это, разумеется, безумно нравилось. Расспрашиватели буквально млели от его эпатажных приемов и разворотов мысли… Мол, старинный русский культурный человек — это так прекрасно, так модно!
Рассказывая о себе, он почти всегда, когда речь заходила о его происхождении и, в частности, об отце, непременно шутил: «папа мой был самый непутевый человек», и далее рассказывал о том, как тот, имея в прошлом венчанный брак, в 60 лет женился на семнадцатилетней девушке, его матери. А ведь этот «реликт», как утверждали биографы, был верующим православным человеком…
Встречая — и не раз! — эти суждения в печати, я не могла избежать сравнения этого оригинального и неплохо знакомого мне типа современного — а ля ретро — человека, с моим дядей, бабушкиным сыном, который в пять лет остался без отца. Я уже рассказывала ранее, что деду моему — офицеру «Дикой дивизии», сохранившей весной 1917 года верность присяге и Государю, невозможно было оставаться в России, что, вернувшись после расформирования дивизии в Москву, он и в штатском был быстро распознан, и, попав в застенки Чрезвычайки, ждал расстрела. Но чудом спасся. Сработало сразу два спасательных «устройства»: его кольцо с дивным огромным сапфиром на пальце (запомним этот сапфир, дорогой читатель, любящий тайны, которые нередко становятся явными, открывая при том еще более глубокие пласты тайн жизни и духа, — про дедовы сапфиры рассказ не за горами), которое его приятель Владимир Нилендер (тот, что потом переводил Архилоха: «Флягу бери — и шагай по скамьям быстроходного судна. /С нею и крышки скорей с емких кувшинов снимай, / Красное черпай — до самой гущи — вино: потому что / Трезвым на страже такой нам не под силу стоять!») сумел всунуть это кольцо кому-то из чинов, и ходатайство Бонч-Бруевича, которого знала еще с давних времен как этнографа-сектоведа, бабушкина сестра Вера Александровна.
Оба ходатайства были «удовлетворены», — деда выпустили как польского репатрианта; были спешно добыты документы из Варшавы, в которой он никогда и не жил, хотя и был чистокровным польским шляхтичем. Однако, собираясь уезжать из России, дед взял с собой не бабушку с малыми детьми, а другую женщину, не потому что полюбил, но потому что та была дочерью миллионера и имела «камушки», как он сам и выразился: «Не обижайся, Жука (это — бабушке), ведь у нее камушки!». Правда, истины ради, следует сказать — и я повторю слова моей бабушки, — что если бы даже не было этих «камушков», она бы никогда не уехала из России. Без нее она не могла жить. «Лутче есть на своей земле костью лечи, и нежели на чюже славну быти», — она часто повторяла слова из Ипатьевской летописи 1201 года. И дед это тоже знал и уважал…
К чему здесь это воспоминание? А к тому, чтобы сказать, что бабушка умудрилась так вырастить сына, что Кирилл высоко чтил и даже обожал отца, как и должен быть чтим отец, хотя, казалось бы, что их связывало? Детство? Нет, Кирилл родился летом 1913 года, а уже с осени 1914 года дед готовился к отправке на фронт, поступив на краткосрочные кавалерийские курсы в Петрограде при Николаевском кавалерийском училище, а бабушка жила уже с сыном в Орехове; летом 1915 дед был в Орехове на побывке, потом воевал на фронте, где получил Георгия за истовую храбрость, а позже отца и сына связывали только редкие письма из Америки, а в конце жизни деда — из Франции с оказиями; редкие посылки детских книг, карандашей, но всегда советы и житейские наставления отца — сыну. И в том, что у Кирилла б ы л отец — великая заслуга бабушки — ее великодушия, бескорыстия, наследственного нравственного инстинкта и сознательного ее выбора ради сохранения незыблемости Божественных устоев жизни…
* * *
Кирилл вырос очень порядочным человеком, подлинным джентльменом по поведению, по изысканным манерам, безукоризненно и щепетильно честным, и притом очень творческим человеком, — насколько был талантлив отец (он стал в Америке одним из самых знаменитым художников-эмигрантов, глубоким историком искусства и, в том числе и того, что называется «искусством жить»), настолько же был одарен и сын, соединивший в себе наследственность Жуковских, Микулиных и, разумеется, отца. Но вот беда — веру он не сохранил, хотя в детстве под руководством его бабушки Веры Егоровны Микулиной, Кирилл и ребенком, и подростком молился и веровал, и даже очень любил молиться, что среди подростков не так часто встречается, но, войдя в возраст юности, который совпал с переездом из Орехова в Москву (бабушка с детьми, сестрой и матерью прожила в деревне почти 10 революционных лет, претерпев все трудные времена гражданской войны в деревне за плугом и сохой), — веру скоро утратил.
У Жуковских живы были еще старомосковские связи — но теперь это было преимущественно молодая творческая художественная, театральная и научная среда: Юрий Завадский. Александр Родченко, Варвара Степанова, молодые ученики Жуковского — соратники восходившего на научный небосклон большого таланта — Александра Микулина младшего (племянника Николая Егоровича). Время модерна, конструктивизма, — оно удивительно быстро вытравливало остатки веры у тех, кто в то время был молод и не успел обрести сильных духовных опор ни в себе, ни вовне.
…Скончался дядюшка в возрасте 84 лет. И мне так и не удалось помочь ему обратиться к Богу: собороваться и принять святое Причастие перед кончиной, — соединиться со Христом. А ведь душа его металась и страдала. Он и сам говорил, что с верой у него 50 на 50: по ночам во время бессонницы он слушал по радио чтение Евангелия и обливался слезами, но сломать внутреннее упорство привычки и гордыни не мог. Он не знал и знать не хотел, что главный враг человека — темная «умная сила» — умная, поскольку духовная, этот более чем семитысячелетний старец (так называли диавола святые отцы, предупреждая человеков о том, насколько изощрен его ум) чего только не изобретет и не предпримет, чтобы помешать человеку воссоединиться на земле со своим Творцом и обрести вечное спасение.
А рядом была его жена Маша и ее сестра Вера. Все трое — старички… Маша очень хотела причаститься, но боялась действовать в обход мужа, и — не успела: смерть застигла ее внезапно, в поликлинике — она отошла, не приходя в сознание. Остались Кирилл и Вера. Вера — была старшей сестрой Маши. О них я немного рассказывала ранее — про то, как две крестьянские сиротки добрели нищенками из Сибири до Москвы, как выжили и выучились, главным образом благодаря невероятному подвигу Веры, которая заменила мать младшей сестре. Сама Вера трудилась как зверь всю жизнь на заводе. Характер у него был краеугольный. Жизнь тяжелейшая была, понятно. Но уж очень она стала жесткой и большой ругательницей всех, кто только под руку не попадался. А еще она копила. Всю жизнь и все, что только можно.
Я-то никогда не осуждала ее за это, помятуя их с Машей детство и юность, войну и тяжелый ее труд, и то, что, будучи совершенно одинокой, она все несла в дом хорошо обеспеченных Кирилла и Маши (оба работали на киностудии, Кирилл снимал научно-популярные фильмы и весьма неплохо зарабатывал, Маша была виртуозной киномонтажницей), а Вера и теперь истово служила своим любимым. Чего только не было в ее шкафчиках и дома у Веры, и у Маши! Тут были залежи сахарного песка, растительного масла, кофе, сгущенки, тушенки, — кто не переживал в жизни настоящего, страшного голода, тот не поймет. А эти девочки прошли в начале тридцатых через голодные губернии и что только они не пережили, какие только людоедства и смерти не видывали, и как только выжили сами — Бог весть…
Под конец жизни делание запасов у Веры уже приняло характер маниакальный. Себе она отказывала во всем. Любила родных, но при этом рассорилась со всеми соседями, и ее не любили за суровость, за бесконечные оскорбительные подозрения, за грубую — через край — ругань…
Когда она уже очень стала болеть (болезнь Паркинсона, диабет и многое другое), пришлось нанять сестрицу для ухода за ней. Мое предложение съехаться с дядей и Верой — дядя Кирилл возмущенно отверг. Вера жила далеко от нас. Соседки дела иметь с ней не желали. За месяц до кончины она слегла с очередным инфарктом и крупозным воспалением легких в больницу — это был неминуемый конец… И вот тут, навещая ее, я в очередной раз подступила к ней с разговором о священнике… И, к моему изумлению, Вера сразу согласилась. Мы привезли к ней и к соседке по палате батюшку. Он исповедовал их час. Причастил. Когда я вошла к ним, Вера была благостная и тихая, а потом в полубреду все называла меня мамой, которую потеряла, когда ей было восемь лет.
Но как не странно, ей стало получше, и ее выписали домой. Она лежала на своей постельке, в своей квартире, очень тем довольная. Сиделка была хорошая, опытная, внимательная, и Вера уже не бредила, была в сознании и даже пыталась шутить. Незаметно подступила кончина: тихая, быстрая, мирная, — вот только что-то весело говорила она сиделке… Та отвернулась, а Вера — уже и спит…
Попрощаться с Верой на кладбище мы пригласили и ближних соседок. Те просто ахнули, увидав ее: вместо измученной, тяжко болевшей 86-летней женщины со всегда очень напряженным и тяжелым выражением лица, лежал человек, моложавый, спокойный и светлый. «Вера! Какая же ты красивая!» — громко взрыдала соседка, которая до того клялась никогда не прощать Вере обид. Но тут все было забыто. Это действительно было живое чудо Божие.
…Когда я вкладывала в ее руки разрешительную молитву, меня поразила мягкость и теплота ее рук. Я знала, что такие свидетельства по кончине имели разве что люди святой жизни. Но Вера… Однако именно так, как Евангельский отец из притчи принял в свои объятия блудного сына, так принял Всемилостивый Господь возвращение в Отчий Дом и многострадальной рабы Божией Веры.
Не досталась эта жатва окаянной разрухе.
* * *
Скорбя о дяде, я часто недобрым словом поминаю время его и моей матери молодости, пришедшее на начало и середину тридцатых годов. Слишком много человеческих душ сгубило то веселое время и те творческие энтузиазмы и «подъемы». Нескончаемые шуточки, непререкаемый культ остроумия, эффектный эпатаж, — все это столь чуждое русскому духу, вызывающе, легкомысленное отношение к жизни, к бытию, к жизни и смерти, к присутствию Божию в жизни человека, засеялось и расцвело в послереволюционные годы и никуда, никуда не ушло потом, превратившись в наши дни в оргию всепожирающего дьавольского хохота, во всепобедительные метастазы духовной разрухи.
По видимости — да, многое тогда еще жило и сохранялось от прошедшего времени. Была еще жива настоящая Москва, со всем ее неповторимым колоритом, — а это ведь так много! Еще цвели ромашки во дворе дома Жуковских в Мыльниковом переулке, что у Покровских ворот, дворы были зелены и тенисты, хлеб выпекали по-старинному, — медлила, медлила благодать совсем оставить наши веси…
Кирилл и мама ходили в школу в Трехсвятительский переулок и там еще были у них друзья, воспитанные в прежних традициях. Гремели и позвякивали «Аннушки», на углу продавался за сущие копейки шоколадный лом крупповского и эйнемовского шоколада, старые дома, старые квартиры, старые запахи старых библиотек, старые профессора и школьные учителя, — все это сидевшее по своим углам и еще тихо сиявшее и благочестием, и светом своего глубокого подлинного знания…
Стояла еще неподалеку от Чистых прудов дивная и неподражаемой красоты церковь Успения Божией Матери что на Покровке, которой потрясенный Наполеон велел в 1812 году приставить охрану, чтобы не сожгли такую красоту и не разграбили. Именно там моя бабушка успела поднести своего сыночка Кирилла под благословение святейшему Патриарху Тихону, спускавшемуся с высокой паперти храма сквозь рвавшуюся к нему с протянутыми руками несметную толпу московского люда…
Храм уничтожили зимой 1936 и на месте его образовался пустырь, потом скверик, потом пивной ларек…
А молодежь знай свое: бегала на катки, благо близко Чистые пруды, там же и кино рядом, где сейчас театр «Современник»… Веселая была молодость у тех, кто не жил, конечно, в голодных губерниях и не брел по дорогам с протянутой рукой, как Маша и Вера, кто не сидел в местах не столь отдаленных.
Из того-то времени и вышел тот ученый, который так любил поминать непутевость отца своего, ему как раз к 30-му году было двадцать, и как же оказались живучими те его пристрастия. Он так и остался «эпатантом» во всем, и прожил так всю свою жизнь, и статьи так написал, и воспитал в том духе немало верных его стилю учеников, которые сегодня не иначе как законодательствуют над гуманитарными модами в интеллигентско-творческой среде, которая только подобный эпатаж и ценит, его продвигает, его же внутри себя и награждает: хотите, кушайте, люди русские, хотите — нет. Мы и без вас с вашими рутинными старорежимными древнерусскими «фарисейскими» правилами обойдемся. Мы наш, мы новый мир построим (построили).
В нашем мире царило другое веселье. Другие шутки, потому что принадлежали они другим людям, у которых в сердце жил Бог и глубокая вера в Промысел Божий в жизни каждого человека.
Вот ведь и Николай Егорович Жуковский умел в молодости весело подтрунить над друзьями, но не скажу — пошутить, не скажу тем более и про остроумие, — не случайно ученик его, отец Павел Флоренский так писал о своем любимом профессоре в письме матери 28 октября 1902 года:
«Были мы вчера, как собирались, в Мытищах. Там я видел довольно много интересного, а главное, интересно было побыть с Жуковским. Он замечательно милый человек, очень добрый и простой. Кроме механики, чистой и прикладной, он ни о чем не думает, и поэтому интересно послушать его, так же как интересно бывает на лекциях: чувствуется в каждом слове его, что это действительно знаток дела и, главное, относящийся к нему с любовью. Ему не наскучит выводить одно и то же, т. к. каждый раз он заново обдумывает, видит новое, изменяет по тем или другим соображениям».
Позже, 18 ноября, Павел Александрович признается в письме отцу:
«В очень многих отношениях Жуковский напоминает тебя, только он беспредельно добродушен и никогда не острит, хотя на его лекциях часто смеешься, именно благодаря его истинным остротам, которые он говорит, сам того не замечая. Мне в нем то нравится, что он никогда не ограничивает нас, а, наоборот, с чем бы к нему ни прийти, он сейчас же начинает так относиться, как будто иначе быть не могло, но требует зато основательности».
Случайно ли, что именно священник Павел Флоренский весной 1921 года отпевал и провожал своего Профессора в последний путь через всю Москву?
* * *
…Но все это — лишь присказки — впереди, хотя то и дело что-то и отодвигает его, рассказ о пасхальном поцелуе, который положил начало удивительному, счастливому и безупречному браку прапрадеда Александра Александра Микулина с прабабушкой Верой Егоровной Жуковской — самой младшей дочерью Анны Николаевны. Казалось, брак этот к разрухе отношения никакого не имел. Все в нем было очень красиво — от начала до конца, высоко, идеально, насколько может быть что-то идеальное в жизни человеческой. Но разруха, и тогда, в 1884 году уже имела самое непосредственное отношение ко всему и ко всем, действуя в сердцах людей нагло и бесцеремонно, поражая первым делом еще слегка только пошатывающуюся под первыми ударами искушений веру. Но пережить грядущие испытания начала XX века без веры было невозможно. То есть пережить-то, может, кое-как и удавалось, вот только основные выплаты по счетам жизни здесь перелагались, скапливаясь, на потомков.
…Где-то в 1906, 1907 или в 1910 году Иван Алексеевич Бунин стал свидетелем небольшого эпизода, мизансцены, которую и занес тут же в блокнотик, а спустя двадцать лет — в эмиграции — и в книгу.
…В подмосковный дачный поезд весь из вагонов только первого и второго класса кондуктор, извиняясь, вталкивает какого-то рваного и, измазанного глиной мужичонку, мол, не успел, дурак на паровоз вскочить, а у него срочное поручение. «Только до Быкова», — все извиняется и кланяется и оправдывается кондуктор. Все сдерживаются, стараются, как ни в чем не бывало, так же естественно говорить и курить, как они это делали минутой раньше, не подавать вида и смотреть в окна, — хотя все крайне напряжены и потрясены. Чем и отчего? А все тем же: слышат звук топора, который рубит вишневый сад — Россию, но происхождение и природу этого звука объяснить не могут, потому что не хотят: страшно, неподъемно, невероятно… А мужичонка, готовый в землю провалиться от всех этих белых панам, чесучевых костюмных пар, полных тел и сытых лиц, «не знает куда глаза девать, рукавом вытирает потный лоб», держа в руке сумку с чугунными брусками, гайками, клещами…
«И длится эта мука целых тридцать пять минут»…
Эти звуки топора отчетливо слышал, когда писал — примерно в то же время, когда и Бунин подсмотрел эту сцену, — свою книгу «Фабричная инспекция в России» и мой прадед — фабричный инспектор Александр Александрович Микулин, за которого вышла замуж по взаимно светлой и горячей любви Верочка — Веренок — Вера Егоровна Жуковская, ставшая отныне Микулиной. Трудно было тогда придумать ненадежнее, бесперспективнее, неблагодарнее и искусительнее для души поприща, нежели профессия ее мужа — фабричная инспекция, суть деятельности которой предполагалась в контроле за соблюдением прав рабочих на фабриках и в почти постоянных напряженных конфронтациях с хозяевами этих фабрик.
Однако к чести того времени и Верховной власти, к чести и самого Александра Александровича, забегая вперед, скажу, что на этом трудном и чреватом неприятностями (и они все-таки были…) поприще он, вчерашний студент Технического училища, рядовой инженер-механик, правда очень родовитый (Рюрикович, потомок князей Микулинских-Тверских), хотя и совершенно неимущий дворянин — кроме клетчатого пледа, шевелюры, хрустальной честности и великого трудолюбия — так вспоминала отца моя бабушка, — он не имел ничего, сумел дослужиться до чина действительного статского советника (штатского генерала по Табели о рангах) и звания камергера двора Его Императорского Величества. Правда, ботинки у этого досточтимого камергера были всегда чиненными-перечиненными, а нередко и каши просили, а при дворе он практически и не бывал, только когда вызывали в Петербург для доклада. Он не любил придворную жизнь, свет, обычаи знати. Этот Рюрикович был по душе народолюбцем, не барином. Сказала бы — демократом, да более опоганенного понятия нынче не существует. А доказать, что бывает и совсем иной демократизм, здесь, пожалуй, не потяну.
Вот только в тайниках сердца этого чУдного, хорошего, умного и доброго человека таяла вера. Тому были и многие причины в его собственной почти сиротской судьбе и образе жизни. Разумеется, он никогда сам не говорил о своих сомнениях в вере, о своем охлаждении, и себя никому не выдавал: исправно исполнял все церковные предписания, молился вместе с горячо верующей семьей, но дети его — моя бабушка во всяком случае, — это неверие очень остро чувствовали…
Александр Александрович написал классический труд об истории фабричной инспекции в России, без которого ни сегодня, ни сто лет назад не обходился ни один историк русского капитализма. Надо ли оговаривать, что сам Александр Микулин был не просто чиновником, но настоящим печальником простого рабочего люда — поприще в свете тогда весьма не популярное — нет, ни тогда, ни ныне, поскольку вот уже скоро 100 лет, как все ужасы революции осели в сознании многих миллионов мрачным пятном и на отношение к тем, кто трудился над созиданием русской мощи: оружия, танков, машин военных, и мирных, — к простому русскому рабочему, к тому, что жил в тех фабричных бараках, о которых мы писали немного ранее, к тому мужичку с чугунными брусками и гайками, который готов был вдавиться в стену в обществе чистых дачников.
Здесь пролегал главный нравственный водораздел не только в большом обществе, но даже и в семьях. Выход из русского тупика искали все, и на разных направлениях, — но только не в вере отцов.
…Впрочем, среди «чистых» в том вагоне ведь мог оказаться и Жуковский, и сам Микулин, — вечные и неутомимые труженики, бессребреники, которые тоже вполне могли ехать на том самом поезде из, предположим, Киева — в Москву или в Орехово, где обычно жила летом Вера Егоровна с детьми и Анной Николаевной.
Жуковский и Микулин были очень дружны, хотя последний и стал бывать в их доме поначалу как ученик Николая Егоровича. Но пришла любовь, и семья Жуковских приняла Микулина в свое доброе сообщество: да и кто бы смог справиться с упрямством всеобщей любимицы Верочки?
На коллаже работы Екатерины Кожуховой — семья Александра Александровича Микулина: он сам — сидит, стоит жена — Вера Егоровна (урожденная Жуковская), рядом с матерью стоит дочка Верочка, сидит Катя, а на коленях у отца — сын Шура — Александр Александрович Микулин второй — будущий известнейший конструктор авиамоторов.
Ниже — дореволюционное фото Кузнецовского фарфорового завода.
…Но прежде чем мы возьмем тонкие кисти, чтобы, окунув их в изумительные, подлинные виндзорские акварельные краски (вернее, их крохотные, еле видные остатки — этой акварелью бабушка копировала еще до войны в 20-ые годы древние фрески России, Крыма, Украины, Грузии, Белорусии, Азербайджана, от многих из них после войны на территории центральной России не осталось ничего кроме этих копий; а вслед бабушке этой акварелью работала моя художница-мама), которые подарил бабушке ее отец Александр Александрович Микулин в 1903 году в связи с окончанием Кати гимназии с серебряной медалью, — прежде чем мы начнем набрасывать портрет милой Верочки Жуковской, — юной, тонкой, высокой, темноволосой, с переливчатым вишневым бархатом глаз, с удлиненным, подстать росту, но очень нежным овалом чистого лица, — мы дадим слово ей самой.
Верочка, Вера Егоровна Жуковская, как и все в семье, была одаренной барышней, — в особенности к словесности. В течение жизни она не раз принималась за писания — такой уж была наша семья, да и старинные эти представления были тогда еще очень сильны, что надо бы девушке и к изящной словесности приникать, и что неплохо бы быть и еще чем-то кроме как супругой, дочерью и матерью — XIX век — известно, — ценил просвещенных женщин. И русские образованные жены внесли в него свою прекрасную лепту. Все начальное образование детей они, как правило, брали на себя: Закон Божий, родной язык, литература, история, арифметика, иностранные языки, музыка, рисование и даже начала естествознания — такие матушки, как Анна Николаевна и Вера Егоровна успевали в первые годы заложить в детские головы и сердца очень важные представления и понятия о жизни, привить первые навыки аккуратной, серьезной умственной работы. А репетиторы появлялись уже ближе к поступлению в гимназию. Но первое слово было за матерью.
…Сколько раз на протяжении жизни я держала в руках эти прабабушкины странички, обрывки ее воспоминаний, дневников, короткие рассказы, и как-то всегда откладывала их в сторону. Я прежде все искала им какого-то применения (вот оно современное наше устроение — скорее ищем применения!), — «Может быть, где-то напечатаю?», — думала я по своей привычной редакторской сметке, и не находила, кому бы и где это могло быть интересно. Кому в наш архиделовой, расчетливый до оскомины, наижестокий век могли бы пригодиться эти, не хочу сказать, «наивные», «дамские», нет: так пусть уж высказываются «неподкупные судьи» XXI века, — женщины-политики, женщины-критики, — надутые, резкие, самоуверенные, надменные, словно вот уже целых сто лет не снимающие своих комиссарских кожанок, где, несомненно, в каких-то внутренних анналах прячется товарищ маузер, — кому могли что-то сказать эти несовместимые с неумирающим духом революции теплые, домашние, камерные и очень личные страницы, приоткрывающие для нас, совсем других, дверь в сокровенный мир русской женщины, какой она когда-то действительно была.
…Вот трогательная записка Веры Егоровны для сына Шуры, в которой рассказывается, как долго и трепетно ждала она его появления на свет, как была счастлива его рождением, как мучилась от того, что мало было у нее молока, а он, не переставая, кричал, и как однажды припала она перед Распятием Господним в храме Живоначальной Троицы, — тогда Микулины жили во Владимире, — и как горячо молилась Господу о помощи, чтобы ей самой выкормить сына, и как быстро была услышана ее молитва и пришла долгожданная помощь.
В этой же записке она рассказывает сыну и о предках, правда она рисует подробно только трогательно-светлый портрет своего незабвенного батюшки Егора Ивановича Жуковского. Ей было 22 года, когда отец скончался, да и жил он, как мы знаем, большей частью в отдалении от семьи, но Верочка все равно любила его больше всех. Она пишет об отце своему мальчику, что дед его был глубоко верующим человеком, что и жил он по вере своей — для своих крепостных крестьян был не барином, а отцом: три дня они работали на себя, три на него. А он в свою очередь жалел их, перекрывал им крыши, всегда помогал средствами отстроиться погорельцам, сам покупал крестьянам скотину наместо падшей, возился с малыми ребятками в детском саду, который сам же и устроил в деревне, учил хозяйствовать — поскольку знал сельское хозяйство очень хорошо…
Ей хотелось, чтобы сын сохранил память о дивном его дедушке, чтобы он подражал ему в сердечности, чистоте, в милосердии… И что характерно — ни о ком из родных она не пишет столь любовно и подробно. Вот, мол, сынок, тебе мой материнский наказ, который надлежало бы тебе сохранить во всю жизнь: «Сын мой, помни наставления отца твоего и не забудь заветов матери твоей. Помни их слова всегда, сделай их частью жизни твоей» (Прит.6:20–23).
Хорошо ли мы теперь слышим родительские наказы? Да и всякие ли родители о том теперь пекутся, да и способны ли они передать своим детям нечто действительно доброе и духовное и спасительное для жизни?
* * *
…Много раз переписывала Вера Егоровна свой рассказ о зарождении их с Александром Александровичем Микулиным любви и первом поцелуе-христосовании на Пасху, навек их соединившем. Написан он был на Пасху 6 апреля 1914 года, через тридцать лет после венчания, а переписывался потом не раз и в год кончины мужа, и позже. В одном из экземпляров Вера Егоровна сделала приписку: «с тех пор ни один мужчина не прикасался к моим губам». Для нее все, что было связано с мужем и их непорочным супружеством, было значительно и свято…
«Посвящается моему дорогому, любимому мужу.
ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
На вечере у моей подруги по гимназии, Саши Кропоткиной в 1879 году я познакомилась с товарищем ее брата А. А. Микулиным. Сначала он показался мне гордым и напыщенным, но потом оказалось, что он держит высоко голову только для того, чтобы не свалилось его pince-nez. Я часто виделась с ним — и у нас и у Кропоткиных — и мы незаметно полюбили друг друга. О своем чувстве мы не говорили, но старались чаще видеться и быть вместе. Идя с сестрой или няней (одна я никогда не выходила из дома) утром в гимназию, я встречала его, идущего в техническое училище, потом он часто заходил и проводил с нами вечера. Так прошла зима нашего первого знакомства. К Светлой заутрени условились пойти вместе в церковь технического училища. Помню ясно себя в голубом барежевом (бареж — старинная лёгкая прозрачная ткань, — прим. авт.) платье с букетиком ландышей у небольшого выреза на груди. Он стоял недалеко от меня, и усердно молясь, я украдкой взглядывала на него. Заутреня близилась к концу, сейчас запоют: «друг друга обымем…» и мы можем поцеловаться; эту мысль уже трудно было отогнать, но что это!.. уже все обнимаются, сестра, брат целуют меня, подходит и он вместе с другими знакомыми и поздравляет меня: момент упущен… я машинально тушу и отдаю ему свою свечку и выхожу с ним в коридор. Мы молча идем, он закручивает мою и свою свечку и они постепенно обращаются в один большой шарик; подходят мои, одеваемся и уходим… «До свидания, до завтра…»
Утром не спится… Встаю рано, помогаю няне убирать столы. Куличи, пасха удались на славу, будет, чем его угостить. Как долго тянется утро…
Брат уехал с визитами, сестра ушла наверх поздравлять старушку Орлову, мама отдыхает, я одна, но вот его звонок, как хорошо знаю я его и сейчас еще слышу: короткий и тихий… бросаюсь в переднюю, нет побегу лучше в гостиную и встречу его там, сажусь за стол на диван… сердце стучит… он входит… «Христос Воскресе!» Встаю и через стол мы неловко и быстро целуемся и садимся, несколько мгновений от смущения молчим, входит сестра, идем пить чай, неловкость прошла, мы счастливы и веселы.
В. Микулина
Написано 6 Апреля 1914 в Киеве в день Светлого Воскресения».
Познакомились Верочка Жуковская и Александр Микулин, как уже сказано было, в конце 1879 года, а обвенчались лишь осенью 1884-го. Эти четыре года жениховства (хотя официальное предложение вовсе не так скоро было сделано, поскольку Александр должен был еще окончить Техническое училище) — стали порой ожидания, надежд и духовного взросления этой редкостной пары. И те свидетельства, реликвии, что остались от тех лет, да, пожалуй, и вся обширная переписка Микулиных за 35 лет их супружества свидетельствуют нам, сегодняшним, о чем-то почти несбыточном, идеальном, недосягаемом.
* * *
…Верочка слыла в семье всеобщей любимицей — нежная, экспансивная, грациозная, остроумная, со стечкинским взлетом бровей, и особенным свечением глаз — ведь Стечкины еще и Стечкиными-Струйскими прозывались (знаменитая благодаря шедевру Рокотова Александра Струйская, та самая о которой Н. Заболоцкий написал: «Со дна души моей мерцают /Ее прекрасные глаза», была в близком родстве со Стечкиными. Глаза у женщин Стечкиных, а потом и у Жуковских были действительно особенными), — Верочка при всех благих своих свойствах бывала и изрядно капризной.
Она с раннего детства чувствовала себя центром всеобщих забот и, в особенности, брата — Николая Егоровича, который ее обожал. Не случайно Анна Николаевна писала ей: "Веруша, береги Колю, старайся, чтобы он забыл случившуюся невзгоду. Ласкай побольше его, не хандри и не делай ему сцен. Ему и без того горько…" Это было время больших денежных трудностей). В раннем детстве, как уже писалось, воспитанием Верочки занимался покойный братец Володя, да… старый сеттер Фигаро. Анна Николаевна в то время все силы и заботы свои отдавала сыновьям, оканчивавшим университет, и тосковавшему в отдалении мужу. А Верочка была на попечении таких вот замечательных «нянь». Ее усаживали на большой ковер, а Фигаро лежал рядом. Он никого к ней чужого не подпускал, а если она уползала с ковра, то нежно, за шкирку он возвращал ее в центр дозволенного поля деятельности.
Лет девяти Верочку повезли в Москву, где она поступила в ту гимназию, в которой начал преподавать ее красавец-брат Николенька, любимец всех гимназисток и чудесный учитель физики и математики. Правда сам Николай Егорович никогда не обращал никакого внимания на свой успех у слабого пола, все это шло мимо его глубокого ума и чистого сердца, никак в нем не отзывалось. Он просто был добр с гимназистками и умел, как никто, весело пошутить, но знания спрашивал строго, поскольку и объяснять умел великолепно. Коля и стал домашним репетитором Веры. Училась она хорошо, но с детства, да и потом почти всю жизнь почти непрерывно болела — крепким здоровьем она не отличалась, и напасти следовали одна за другой, хотя и прекратились сразу после революции, об этом чуде рассказ будет впереди.
Еще со времен гимназии Вера дружила с княжной Сашей Крапоткиной, у той был брат Дмитрий, влюбленный и очень целеустремленно ухаживавший за Верочкой. Среди поклонников юной Веры Жуковской выделялся и барон Александр фон-Рутцен, инженер, однокашник Александра Микулина, будущий известный кадет и депутат 1 Государственной думы (он был репрессирован и погиб в 1937 году). Однако Верочка не только взлетом бровей походила на свою бабушку Глафиру Кондратьевну Стечкину, но и довольно-таки упрямым и настойчивым своенравием (несомненно передававшемся по наследству от самых ранних стечкинских корней — вспомним о Настасье Григорьевне Стечкиной (урожденной Нарышкиной) — прабабушке Веры).
Стоит ли дивиться причудам генетики? Вполне подлинное жизненное сочетание, казалось бы, не сочетаемого: непреклонного упрямства, своенравия, и свойственного Жуковским нежного строя души и подлинной доброты, умеющей как никто согреть и утешить нуждающихся, тех, кем, правда, в другое время непрочь и поверховодить, или «порулить», как выражался мой Духовник об этом архетипическом свойстве русских женщин. «Ты всю-то жизнь рулила-рулила всеми, а теперь вот посиди-ка сама в послушании…» — говорил он нередко пришедшим к нему новеньким уже немолодым прихожанкам, жаловавшимся на семейные неурядицы. И ведь был прав, если попристальнее взглянуть…
* * *
Анна Николаевна к Микулину относилась сдержанно. Они с няней Аришей давно уже порешили, что надо выбирать князя Дмитрия или барона, — мнилась им блестящая партия для их любимицы. Однако Верочка, никого не спрашивая, дала слово преданному Микулину, и они решили сохранять свою тайну четыре года, пока он не окончит техническое училище и не получит место.
Однажды Александр нарисовал Вере картинку — закрытую дверь, и сказал: «Эта дверь откроется через четыре года». Какие удивительные совпадения и сходства в деталях, дорогой читатель: «Может ли рыцарь остаться или должен уйти?» — спрашивал Егор Иванович юную Анну Стечкину в 1839 году, показывая на эмалевую картинку на луковице своих часов, а теперь, сорок лет спустя, Саша Микулин вопрошал так же свою избранницу… Вот ведь и у Толстого Левин в таком же духе объясняется в любви и делает предложение Кити. Какая стыдливость, — дитя чистоты и целомудрия, какие трепетные отношения, какое уважение к личности другого и его свободе выбора…
Тем не менее Анна Николаевна долго ни о чем не подозревала, а Верочка вела свою линию: мечтала пригласить Микулина на лето в Орехово. Она писала Анне Николаевне в Новое Село весною 1880 года:
«Дорогая моя мамочка!
Спешу поскорее поделиться с Вами моей радостью: я выдержала экзамен из русского языка и получила 12 — за год, — за сочинение 12 и 12 за ответ, вообще же выдержала на славу. Теперь же я отдыхаю и скоро опять сяду за занятия. Я жду с нетерпением лета. Если господу будет угодно, то мы проведем это лето очень весело. К нам обещал приехать Орлов, Андреев, барон Рутцен и еще один человечек молоденький и хорошенький, имя которого позвольте умолчать, хотя Вы его видели и хорошо знаете… Ах, хотя бы поскорее приходило милое лето!»
Надежды Верочки сбылись: Микулин был среди приглашенных; пикники, охоты, прогулки — устраивались чуть ли не каждый день. «В одни ворота въезжают, в другие выезжают» — добродушно ворчала Анна Николаевна.
Когда же пришел час разговора с матерью, то Верочка высказалась на удивление смело: «Пусть барон останется при своем баронстве». Николай Егорович не смел и не мог перечить любимой матери в устройстве своей личной жизни, не то Верочка: она уже, воспитанная не в такой строгости и твердости, — удила в связи с трудными обстоятельствами были вынужденно спущены во время ее детства, могла позволить себе поступать по-своему.
Главой семьи Вера Егоровна, конечно, не стала, — им был, несомненно, молчаливый, замкнутый и потому всегда казавшийся строгим Микулин. Дети его побаивались, хотя он никогда никого не наказывал, — авторитет отца действовал как-то сам собой: Александр Александрович излучал какую-то особенную серьезность, собранность, свидетельствующую о внутреннем достоинстве, о несомненной высокой порядочности, — поистине царственное благородство при столь же несомненной скромности и глубокой внутренней тишине. Это ощущали все — не только дети. Микулина уважали, кто только имел с ним дело. Это был образцовый человек — муж разума, действительно древний русский дворянин, достойный потомок своих пращуров Рюриковичей — святого благоверного Князя Михаила Тверского (приходившийся племянником святому Благоверному Князю Александру Невскому), замученного в Орде, и супруги его святой благоверной и преподобной княгини Анны Кашинской. Ветвь его рода исхода от славных князей Микулинских-Тверских, много послуживших Отечеству на военной и дипломатической службах. И при всем при том в доме Микулиных всегда царил культ матери — Веры Егоровны. Так любил, берег и ценил ее муж. Потому несколько своенравной и упрямой Верочке не пришлось, выйдя за него, ломать свой характер. Да и получилось бы что из такой ломки при ее постоянных болезнях?
Микулин стал бывать у Жуковских все чаще и чаще… И как-то быстро вписался в атмосферу семьи Жуковских: ему там очень хорошо дышалось. Рано лишившись матери (ему было всего 8 лет) он, как и младшие братья его и младшая сестренка Машенька (ее в семье называли Манечкой) вынуждены были воспитываться в казенных заведениях, он не знал, не помнил почти материнской ласки, тосковал по семейному уюту, батюшка Саши был довольно суровым, непростым по характеру человеком, а у Жуковских он нашел и уют, и заботу, и настоящее тепло — причем в великой мере.
Жуковские тоже быстро привыкли к Александру Александровичу, который вскоре стал, чуть ли не первым помощником Марии Егоровны, завоевав ее симпатии своими необыкновенными способностями ко всяким работам по домашнему хозяйству (Николай Егорович, шутили близкие, и гвоздя вбить не умел).
«Вот придет Микулин и повесит шторы, починит замок» (прибьет, исправит, наладит…), — говорили у Жуковских. У Микулина были золотые руки, и он действительно приходил, чинил, налаживал, исправлял…
А время текло и убыстрялось, и самое главное — двигалось в нужном для Веры и Александра направлении.
* * *
Летом 1882 года впервые в Орехове гостила маленькая сестрица Александра Микулина — Манечка. Ей в ту пору было лет одиннадцать.
Отношения тайной невесты Микулина с его маленькой сироткой-сестрой, которая воспитывалась в московском Мариинском училище благородных девиц (в том здании, напомню, на Софийской набережной против Кремля училась и автор этих строк, о чем повествуется в первых главах книги), — эта страница жизни Веры Егоровны Жуковской заслуживает более пристального взгляда. Часто ли таковое теперь встретишь, чтобы двадцатилетняя невеста (да еще необъявленная!) взяла под свою полную сердечную опеку и заботу маленькую сиротку — сестренку жениха и делала это столь серьезно, сердечно, последовательно и с рассуждением:
28 Марта.
Милая моя Манечка
Я слышала, что ты плохо учишься и даже, может быть, не перейдешь в другой класс. Очень огорчает, дитя мое, это известие. Ты не маленькая и можешь понять, как важно тебе хорошо учиться; если ты перейдешь, тебя возьмут на казенный счет и этим ты облегчишь труд твоему папе и ему будет хорошо и покойно жить. Знаешь, милая Маня, что к каждому человеку Господь посылает Своего Ангела, чтобы он охранял его, и у тебя есть такой Ангел Хранитель. Видя тебя ленивой, он отошел от тебя и с грустью смотрит на тебя. Помолись ему, дорогая моя, чтобы он не отходил от тебя и помог бы тебе в твоем желании быть примерной и хорошей девочкой. Сделай, милая моя, над собой усилие и обрадуй нас всех твоим прилежанием. Теперь у тебя есть учительница, старайся слушать ее внимательно и хорошенько учить уроки. Не долго осталось до лета, а летом, если ты будешь хорошая девочка, я возьму тебя в деревню и ты проведешь его еще лучше, чем прошлое. Постарайся хорошенько и Господь поможет тебе. Он увидит твое раскаяние, твое старание загладить прошлое и пошлет тебе разум. Представь себе, как грустно твоей маме видеть тебя неленивой и знать как ты огорчаешь своего папу, который теперь болен. Брось лгать, это гадкий порок, мешающий тебе походить на своего Светлого Ангела. Целую тебя, мое дорогое дитя, и надеюсь, что ты исправишься. Зато как тебе легко и весело будет после трудов отдохнуть в Орехове. Еще я хотела сказать тебе: не слушай ленивых и дурных девочек и старайся отходить от них и поменьше говорить с ними. Да сохранит тебя Господь Бог! Крещу тебя. Помоги тебе Матерь Божия начать новую жизнь и быть хорошей девочкой. Папе твоему, Слава Богу! Лучше. Ответь мне сейчас как получишь мое письмо.
Собери аккуратно твое белье и первый раз, как придет к тебе брат, отдай ему. У тебя 4 рубашки, 4 кальсон, 2 юбки и 6 пар чулок.
Целую тебя.
Вера Жуковская.
«10 мая.
Родная моя Манечка!
Мы уезжаем 17 мая; тебя привезет Коля или твой брат в конце мая. Надеюсь, милая, что ты перейдешь в следующий класс. Мы не берем тебя с собой, потому что очень холодно и мы боимся, что ты простудишься в сыром доме. Заяц и Туська(котята)здоровы и едут с нами; ты их увидишь уже в деревне. Захвати с собою все, что у тебя есть твоего и привези непременно французский и немецкий учебник. Не печалься, милая, скоро увидимся. Если будет холодно, когда ты поедешь, надень теплую юбку; я ее тебе посылаю вместе с другими вещами. Целую тебя и люблю. Будь умницей.
В. Жуковская.
1882 г. 18 Сентября.
«Дорогая моя Маничка!
Как поживаешь ты, родная моя. Обещала писать, а от тебя нет ни словечка. Напиши мне обо всем, что тебя интересует. Я так привыкла к тебе, что мне было скучно спать одной. Вчера из деревни приехала Варвара и рассказывала, как Сабаня и Муша (щенки) скучали, как они бегали и выли, а Сабаня все царапался в нашу комнату. Твой Тусё здоров и весел, он постоянно сидит у меня в комнате. Ему очень скучно без тебя. Он приходит ко мне на плечо ласкаться и грустно мурлычет видя что это не ты. Кисточку на хвост он уже отрастил и стал очень мил. Любимая моя деточка, будь умницей и не ленись и не капризничай. Не слушай дурных воспитанниц и будь от них подальше, а постарайся найти себе подругу тихую и хорошую, которая бы тебя полюбила. Прощай милая. Будь здорова. Да хранит тебя Бог. Молись, родная, хорошенько Богу.
Любящая тебя Вера Жуковская.
Тусё целует тебя и любит. Вот Туськина лапка: обведена…
6 Мая.
Милая Маничка! Не печалься, что мы тебя сегодня не взяли. Тебя возьмем очень скоро; жди терпеливо и будь умница. Вещи, которые тебе принес вчера брат, береги и не надевай, чтобы белье было чистое для отъезда. Платье застегивается назади. Целую тебя.
Вера Жуковская.
Твой Туся жив и здоров. За тобой приедет моя няня. Будь умницей, дорогая. Привези с собой все, что у тебя есть своего.
1884 год. 25 марта.
Милая девочка Маничка!
Поздравляю тебя с днем твоего рождения — желаю тебе хорошенько учиться и перейти в следующий класс. Брат тебе принесет все, что нужно для вышивания. Выбери себе узоры и вышивай для русской рубашки. На рубашку надо вышить пять полос: две на рукава, две на плечи, и одну на грудб. Постарайся, родная перейти — это так необходимо. Целую тебя и желаю быть сегодня веселой. Уже недолго до лета…
Вера Жуковская.
Хотелось бы мне еще и еще цитировать эти письма, сшитые во внушительную тетрадку самой Манечкой, — с нею неустанно всю жизнь переписывалась Вера Егоровна, а брат Александр всю жизнь терпеливо и заботливо опекал, хотя характер у Манечки вытанцевался очень непростой, и супругам Микулиным бывало еще как нелегко с ней. Личная жизнь у Манечки не сложилась. Окончив Консерваторию, она преподавала фортепьяно в разных городах, и отличалась мнительностью, всегда считала себя обиженной на всех и на все — на мир, на судьбу… Во второй половине жизни увлеклась спиритизмом, правда, потом, говорят, это порочное увлечение совсем оставила. Как бы то ни было, она сберегла всю эту бесценную переписку до наших дней, а прожила Мария Александровна 94 года.
И я еще вернусь к микулинской — уже супружеской — переписке, а сейчас мне хотелось бы сказать об этих дорогих мне людях то и так, что и как я не умела сказать и самой себе раньше, что я не умела доосмыслить и назвать сколько-то лет назад, но когда теперь мне вдруг это «нечто» открылось явно и убедительно, я не могу не поделиться с читателем…
* * *
И я, как и все в мое время, искала в прабабушкиных листках и письмах или литературных совершенств и признаков таланта, оригинальности форм или языка, или смысловых глубин и подтекстов, или хотя бы любопытных подробностей тогдашней жизни, но там всего этого, чем так дорожит наш практичный век, спешащий скорее пускать подобные «листочки» прошлого в дело, на службу своим авторским амбициям, — всего этого там совсем и не наблюдалось…
Передо мной лежали странички, излучающие бесхитростность и необычайно нежный, мягкий свет, приоткрывающие для нас редкий, а ныне просто и реликтовый строй женской души. Чистоту и детскую простоту, которая ходит с ней об руку, простодушие, и неотъемлемую от него ласку, — милые черты, которые еще успели запечатлеть в своих женских портретах в неблизкие нам времена великие русские рокотовы, боровиковские и тропинины…
…Как быстро вытеснил и истоптал этот нежный тип холодный и жестокий рационализм, превратив женщину в умную, четкую и резко работающую машину, но, отнюдь не приблизив ее дух и природу и к другому высокому образу или типу женщин, которых святые отцы издревле именовали «мужемудрыми женами». Интеллект не равен мудрости. Не была интеллектуалкой святая премудрая дева Феврония, покорившая и перевоспитавшая своего князя Петра. Так же и великие равноапостольные жены: святая благоверная Киевская княгиня Ольга, просветительница Грузии Нина, святая Мария Магдалина… В отличие от тропиниских жен они были еще и «мужемудрыми» — то есть, как говаривала в древности (IVвек н. э.) святая преподобная мать Синклитикия: «по естеству я жена, а по помыслам — муж», — хотя и сохраняли при том и свою любовь, и ласку, и чистоту. Только любовь и ласка были у них уже перерожденными в подвиге — не душевными, а духовными. За великую любовь к Богу они были облагодатствованны столь же великими Божиими дарами, подлинными сопутниками святости. Но сила их (духовная) в немощи совершалась: в чистоте, кротости, терпении, смирении и жертвенной любви к ближним.
Таковыми Русь помнила и почитала святых благоверных княгинь — вдову князя Дмитрия Донского Ефросинию Московскую, мученицу верности святую Иулианию Вяземскую, преподобную Анну Кашинскую, преподобномученицу Елисавету Феодоровну… Такими были и еще очень многие русские женщины всего каких-нибудь 150 лет назад. И опять же — светили они миру, согревали его своими сердцами и в дворянских усадьбах, и в крестьянских дворах. И не только благочестивая старина говорила о себе в них, но больше всего хранимая свято Вера, которая все и всех ставит на свои собственные Божии места: мужчин делает настоящими мужами, женщин — христианскими женами. А как начинает ломаться и подтачиваться вера, так и женский тип сразу — быстрее всех, — теряет вои светлые черты, переменяется до неузнаваемости… Не случайно же Достоевский говаривал, что женщине без веры совсем жить невозможно. А он-то хорошо знал и любил этот женский образ сокровенной красоты, пришедший на Русь вместе с Верой Христовой.
* * *
…Подходило к концу лето 1884 года и вместе с ним и Успенский пост. Потянулись на юг над полями ореховскими треугольники журавлей, косяки перелетных птиц… А в Орехове готовились встретить Крестный ход, который всегда по традиции — в память о чудесном избавлении Орехова от холеры, совершали в последнюю среду Успенского поста — «Успенскую среду». Ход двигался от Глуховского храма к Орехову, с частыми остановками и молебнами. Служили молебны и в Орехове (целых пять!) после чего отцу Павлу и причту подавался завтрак.
Готовились встретить крестный ход с вечера. Распоряжалась Анна Николаевна — ведь она была молитвенным столпом семьи. Переставлялись в зале стулья к окнам и простенкам, застилались они вышитыми старинными полотенцами, чтобы на них ставить образа. Верочка украшала стулья цветами, плющом и рябиной — зала превращалась в подобие храма. Приносили старинную меру, полную семенами ржи, приготовленными к севу. В рожь обычно ставили выносной крест, чтобы освятить первые горсти посева. Утром за Красные ворота выносили столик, покрытый салфеткой. Выходила Анна Николаевна — ей уж в ту пору было 67 лет, за ней шло все семейство, домашние, гости, исключая повара Евгения, который пек огромный постный пирог к завтраку. Все шли к воротам, где уже гурьбой собирались все деревенские ребятки. На плотину большого пруда «Кубики» (за деревней), в котором поили и купали лошадей — вода там была очень чистая, — выставляли мальчишку глашатаем. Крестный ход проходил мимо Кубиков. Но вот прибегал глашатай: «Идут! Несут!..»… И вот уже все слышали: «Многомилостивый Господи, помилуй нас!».
Служили быстро: иконы несли очень тяжелые, древние, несколько верст, а еще предстояли молебны на углах сада и на деревне. Почти все становились на колени, встречая Крестный ход и святые иконы. Среди них сияла позолоченным окладом древнего письма Казанская икона Божией Матери, которую издавна у нас сугубо чтили как покровительницу нашего рода: когда-то давно еще прапрабабка Веры Егоровны воздвигла в честь этого образа Богоматери храм в Алексинском уезде Тульской губернии, откуда родом была Анна Николаевна, и хранились в памяти рода множество случаев чудесной помощи от этого образа. Потому и молились в особенных случаях именно перед этой иконой Богородицы.
Была так же и древняя икона святого Власия — покровителя земледельцев, письма замечательного, и конечно — икона Анны Николаевны «Господь Вседержитель», перед которой она всегда горячо молилась по утрам и ввечеру. Был список и чудотворной московской святыни — иконы Божией Матери "Взыскание погибших" — не только для меня она имела всегда особое значение, но, как недавно я убедилась по документам, и для бабушки Веры Александровны (старшей дочери супругов Микулиных)…
А спустя еще немного времени, после Успения пресвятой Богородицы и третьего Спаса, который празднуется в память о перенесении из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа (убруса) Господа Иисуса Христа — Спаса «орехового», как его любовно именовали в народе (наступало время сбора орехов), — венчали рабу Божию Веру рабу Божию Александру. И было это, конечно, в Орехове, и сестрица Манечка несла шлейф теперь уже сестрицы-невесты…
…Однако прежде чем мы, веселясь о молодых, которых соединила великая, редкая любовь, поспешим, скача и ликуя, по Ореховскому парку вслед свадебной толпе в этот на редкость жаркий и солнцеликий осенний день, скользя и хрустя яблоками, летящими нам под ноги со всех ореховских яблонь, под благоуханным ливнем лепестков осенних роз и «папашиных георгинов», чтобы потом скорее бежать к большому столу в квадратной аллее родного парка, под «липы вековые», где уже на старинных скатертях-самобранках лежат-отдыхают, ждут-недождутся народа те огромные глянцевые пироги чудо-повара Евгения «на четыре угла», дышущие, пышущие, только из печи, которыми сейчас будет потчеваться не только семья, но и вся деревня, да и кое-кто из Глуховских, по-старинному славя жениха и невесту песнями подблюдными, свадебно-застольными и протяжными, русскими, неизбывными:
Ох, да что лета-алы соколы по вйшению, Да по зелё-ёоному орешиничику. Ох-ы, да по зелё-ёному орешеничику… Ох-ы, да он искал-ы себе лебёдушку. Ох-ы, да он искал себе лебёдушку, Ох-ы, да хорошу, ох, лебёдушку. Ох-ы, да хорошу, ох, лебёдушку, Ох-ы, да хорошу душу Егоровну……Однако прежде чем мы насладимся этими светоносными картинами, нежным румянцем, темными прядями и сияющими счастьем глазами невесты, проникновенной серьезностью сдержанного жениха, обществом добрых Анны Николаевны и Николая Егоровича, прислушаемся к тихой беседе двоюродных сестер, прежде чем на старый парк ниспадут густые тени ранних августовских сумерек, а в деревенских улицах-«порядках» растают последние звуки гулянья, — мы совершим, дорогой читатель, мысленные перелеты во времени — на тридцать, а потом и на сто лет вперед — в совсем другую жизнь, к совсем другим людям, и к другим песням-радостям, — к потомкам тех счастливых молодоженов…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой слева-направо: Александр Александрович Микулин (прадед автора), семья Микулиных: Отец — действительный статский советник Александр Федорович Микулин (прапрадед автора), его сыновья (слева-направо) — Дмитрий, Александр, Иосиф, дочь Мария, а над ними — портрет покойной супруги и матери — Екатерины Осиповны Микулиной (урожденной Гортензии де Либан) — прапрабабушки автора, скончавшейся в родах в 1870 году. Фотография сделана около 1880 года.
Справа — Вера Егоровна Микулина (урожденная Жуковская).
…У нашей героини Веры Егоровны не было и тени даже сокровенных претензий на мудрость: вся ее сердечная жизнь была отдана любимому мужу, детям, близким. Она, по типу своему женскому, по сердечному устроению принадлежала к редкому и диковинному теперь, былинному роду тех древнерусских женщин, что и Игорева Ярославна. Уверена, что не случайно, но при этом и совершенно непроизвольно повторила Вера Егоровна знаменитый Ярославнин плач из «Слова о полку Игореве»: «Полечю зегзицею по Дунаю, омочю бебрян рукав в Каяле, утру князю кровавые его раны», в своей притче о ласточке, написанной в те скорбные дни, (или вскоре после них), когда вдали от нее умирал ее любимый супруг, — прадед мой Александр Александрович Микулин.
…Это было весной 1919 года — последней и самой холодной и горькой весной Микулина. Вся его 35-летняя деятельность по охране прав и условий труда рабочих была перечеркнута. Если Царь эту честную, мужественную и нелицеприянную, неудобную для власть имущих (в этом можно ни секунды не сомневаться) деятельность, да еще в предгрозовой атмосфере предельно накаленных полярных интересов наградил Микулина высокими чинами, званиями и орденами, то революция лишила его заработанной пенсии и выкинула на улицу. С превеликим трудом Микулин, с его прекрасным инженерным образованием, знаниями и огромным опытом (он знал изнутри в точности всю картину фабричной жизни чуть ни не во всех губерниях центральной России) едва сумел устроиться в статистический комитет на какую-то жалкую должность, которая давала ему одно преимущество — листок бумаги, который мог помочь ему быть не сразу расстрелянным на путях-дорогах жизни.
Весной 19-го он ездил в Орехово к Вере Егоровне и дочери Екатерине Александровне, оставшейся с двумя малышами: внуку Александра Александровича Кириллу Домбровскому было уже 6 лет, а внучке Майе — всего 3 года. Бабушка моя Екатерина Александровна, взвалила на себя, вернее сказать, мужественно приняла на себя, как Крест, непомерный груз — с небольшого участка земли (от небольшого стада осталась корова и старый Копчик — верная безотказная лошадка) прокормить мать, отца, сестру Веру Александровну, совсем ослабшего от голода семидесятидвухлетнего Николая Егоровича, тем не менее пешком ходившего через всю Москву в университет, чтобы прочитать лекцию двум-трем студентам, его детей — двадцатипятилетнюю хрупкую Леночку, умиравшую от чахотки (ей оставался жить год) и Сережу девятнадцати лет. Кроме того, к Жуковским-Микулиным, а теперь и Домбровским (бабушка Екатерина Александровна с 1912 года носила фамилию мужа) прибилась оставшаяся родня — все кто как мог, пытались добираться к Орехову из охваченных огнем южных и центральных губерний — осиротевший подросток — сын Микулина 2-го, генерал-лейтенанта Иосифа Александровича Микулина, брата Александра Александровича, скончавшегося в 1916 году от тяжких ран на фронте; двоюродная родня — Петровы, и еще какие-то не близкие знакомые бабушкиной сестры Веры Александровны, бежавшие с детьми из польских губерний, и просто осиротевшие дети знакомых…
Вот где можно было с полным правом представить себе образ Ноева Ковчега — под Ореховским кровом. А «Ноем» назвать бабушку Екатерину Александровну, которая одна изо всех могла и умела пахать, сеять, жать, собирать, молотить (старинным ручным цепом XVIII века невероятной тяжести на молотьбе в одиночку не работали даже крестьяне, а она была одна, лишь изредка кто-то один приходил на помощь), держать огород — ей было тогда 34 года. Позже в анкетах бабушка писала об этом времени: «с 1914 по 1924 работала в поле». Уже тогда от непосильной физической работы она сорвала свое некрепкое сердце и всю оставшуюся жизнь много страдала от этого.
Это была каторжный, истовый труд одного человека ради того, чтобы выжили дети, старики. А помощников у бабушки тогда не было — только мать Вера Егоровна, которая после революции каким-то непонятным образом почти совсем перестала болеть, откуда-то пришли силы. Малышей, деток Кати, она взяла на себя, да и все домашнее ведение хозяйства, прокорм всех, — она тоже трудилась день и ночь, умудрялась собирать какие-то сливки и сбивать немного масла для Жуковского и Леночки, — и Катя возила эту нехитрую деревенскую провизию голодавшим московским родным…
Еще в начале 1917 года Николай Егорович и Александр Александрович передали почти всю принадлежащую им пахотную землю и лес крестьянам Орехова, оставив себе небольшой участок земли и усадьбу при доме. По ходатайству Николая Егоровича ВЦИК РСФСР за его заслуги перед Родиной дал охранную грамоту на дом, усадьбу и участок земли в Орехове, где он родился и вырос и написал большую часть своих научных работ, что не мешало в дальнейшем теснить семью Жуковского и грозить ей расправой, но об этом позже.
Летом 1919 года Николай Егорович приехал в Орехово вместе со своими детьми — Леной и Сережей. Очень обрадовало 73-летнего ученого, что «у Кати хозяйство в полном порядке». Он одобрительно улыбался, видя, как она сама выезжала на косилке косить клевер, или вставала на заре и косила косой траву на лугу в усадьбе. «Вся в отца пошла», — говорил Жуковский. — «Саша всегда сам любил работать в поле».
Благодаря тому, что Вера Егоровна с самого начала революции взяла на себя дом и детей, Екатерина Александровна, дочь ее, не только в совершенстве освоила сельские труды, но и умудрилась за эти годы обрести профессию и кусок хлеба для прокорма всей семьи, — свое любимое дело: овладеть тончайшим искусством реставрации древнерусской живописи — икон и фресок, причем настолько хорошо, что вскоре заняла Екатерина Александровна Домбровская достойное место среди шести лучших реставраторов России, а это были знаменитые мстерские потомственные мастера-старинщики, строго хранившие тайны своего искусства, а также и крупных искусствоведы, как например, учитель бабушки Александр Иванович Анисимов.
Именно в те годы, но уже почти перед войной, у Екатерины Александровны появилось звание, вернее, прозвание: «бабушка русской реставрации» — так величали ее друзья-коллеги в аналог с «отцом русской авиации», которым, как известно, был назван Николай Егорович.
В те-то времена Александр Александрович, служивший теперь в Статистическом управлении и живший в Москве на квартире у дочери Веры, и старался, чем мог помогать своей жене — Вере Егоровне и Кате. Поезда уже почти не ходили, и каждый раз он добирался до Орехова с большими мучениями — на перекладных, с многочасовыми ожиданиями, всегда продрогший, измученный и измокший. Однажды он так сильно простудился, что, вернувшись в Москву, слег с двусторонним воспалением легких…
* * *
Он умирал, и знал об этом, и наказал всем Жуковским не говорить Вере Егоровне о своей болезни до самого последнего, — всю жизнь он ее, болезненную, поистине свято берег. Когда же она узнала о крайне тяжелом состоянии мужа, то сын повез ее из Орехова в Москву, но не сразу к отцу, а сначала к Николаю Егоровичу, и там она еще какие-то дни мучилась и билась как птица в клетке, потому что к мужу ее не пускали: боялись за нее…
Поражает эта трогательная семейная забота друг о друге — ведь какое же нужно иметь сердце, чтобы так беспокоиться и жалеть, так дорожить и беречь друг другом в семье!
«Береженого Бог бережет» — бесконечное число раз слышала я от бабушки эту старинную пословицу (несомненно, она была и нашей семейно-родовой пословицей). Много позже я и эту бабушкину привычку подвергла анализу — мне крайне нужно было все увидеть не с точки зрения личных пристрастий, привязанностей и даже семейных любовей, но только в свете Божиих Заповедей, в свете учения Церкви Христовой, что для меня означает — объективно и непререкаемо.
Обретение настоящей ж и в о й веры (а это уже весьма высокая ступень на пути духовной жизни, потому что приходит живая вера — сердечная — долгим опытом жизни во Христе и, конечно, благодатной помощью Божией) должно естественным образом приучать нас полагаться всегда и всецело на Бога, предавать — и безоговорочно, — свои жизни и жизни близких в Его Руки, в Его волю — «благую, угодную и совершенную» (Рим.12:2), уповать на Его милосердие и заступление. Как поет святая Церковь в Великой ектении «…сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим».
Однако слышалась мне и глубокая правда в этой пословице: если Бог дарует молитву молящемуся, совершенство — подвизающемуся, то и помощь Свою Он сугубо посылает тому, кто и сам старается изо всех сил беречь дары Божии. А разве не великие дары Божии — наши близкие, и вообще все то доброе, необходимое, что мы имеем?
Думаю, что когда-то из такого мирочувствования, из полноты русской душевной ласковости и мягкости (сегодня напрочь утраченной) и родилась эта пословица, а не из недоверия Божией любви и заботе. Да, таким и было по природе русское сердце когда-то в истоках своих, задолго до времен русских революций, которые и свершились-то только потому, что до крайности удалось довести обиду, а потом и одурманивание и озлобление народа, у которого, к сожалению, всегда были веские основания для отчаяния и протеста. Но ужасы и зверства русского бунта отнюдь не могут отменить великого явления русской духовности — протяжной песни, в народе рожденной, исходящей, изливающейся на мир широты и любви сокрушенного сердца; русской речи, с ее ласкательными обращениями: мамонька, девонька, батюшка, матушка, сынок, доченька, сказываемых в том числе и совсем незнакомым людям, о чем писал в свое время Дм. С. Лихачев в своих «Заметках о русском». Потому и любую эпоху русской жизни, и лицо нашего народа в эти разные эпохи нельзя описать одной только жесточайшей исторической правдой Пушкинской «Истории Пугачевского бунта», но нужна и сердечная правда «Капитанской дочки», потому что правда русская — она являет себя только в синтезе, и только в нем она открывает нам свою тайну, суть которой в том, что, если у народа нашего отнять Бога, он превращается в зверя или, если человек по природе своей очень добр и утончен, — он, может, зверем и не становится, но начинает унывать, вянуть и умирать душой. Когда же живет с Богом в сердце и Церковь для него Мать, то, может быть, прекраснее верующего русского человека и во всем мире не найти.
Тогда же главным для России и невысказанным во всей обнаженности правды был вопрос о том, до какого предела можно «починать» душу народа, искушать его веру и терпение, поскольку какой же крепости должна была быть вера в Бога у простого человека, чтобы она могла устоять в страшных обстоятельствах быта, в которых принужден был выживать испокон веку русский пахарь, сохраняя при этом внутреннюю силу для духовного отпора искусительным соблазнам пропаганды…
Эх, ты доля, моя доля, Доля горькая моя! Ах, зачем ты, злая доля, До Сибири довела? Не за пьянство, за буянство И не за ночной разбой, — Стороны родной лишился За крестьянский мир честной. В год голодный, год несчастный Стали подати сбирать И крестьянские пожитки И скотину продавать. Я с крестьянской челобитной К царю русскому пошел, Да схватили по дороге, До столицы не дошел. Очутился я в Сибири, В шахте темной и сырой. Там товарища я встретил: "Здравствуй, друг, и я с тобой!"Ф.М. Достоевский писал о душе народной: «…судьба до того ее починала и некоторые обстоятельства до того содержали ее в грязи, что пора бы пожалеть ее бедную и посмотреть на нее поближе, с более христианскою мыслью, и не судить о ней по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзанчикам».
А вот и предельно строгое и точное медицинско-историческое освидетельствование ученого из наших дней:
«На Восточноевропейской равнине в силу специфики природных условий всегда имел место крайне короткий сезон земледельческих работ. Вместе с преобладанием малоплодородных почв это обусловило низкую урожайность и, как следствие, невысокий объем совокупного прибавочного продукта. Общество в таких условиях было либо обречено на пребывание на догосударственной стадии развития, либо вынуждено к созданию жестких государственных механизмов, способных изымать и перераспределять этот продукт. Этим обусловлена прослеживающаяся с раннего Средневековья (и увеличившаяся в Средневековье позднее) повышенная роль государства в социально-экономическом развитии… Крепостная система была со стороны господствующего слоя «компенсационным механизмом выживания», позволявшим обществу прогрессивно развиваться в неблагоприятных условиях. Со стороны крестьянства таким механизмом являлось прочное общинное устройство»
(А.А. Горский. Памяти Л.В. Милова).Эти вопросы в XIX веке и в особенности во второй его половине были инструментами самоказни для всех думающих и совестливых русских людей, таких, как Жуковские и Микулины и многие, подобные им. Боль о народе была, можно сказать, основным нервом русской жизни, ведь здесь, в этом неразрубаемом узле неразрешимых, казалось бы, проблем, были сокрыты грядущие судьбы России. И если не для женщин, взгляд которых на мир в то время был ограничен все-таки кругом семьи и разве что творчеством и самообразованием, то для мужчин эти вопросы были самым мощным магнитом мысли.
Вольно теперь с высоты нашей якобы свободы, вырванной вместе с сердцем у старой России, насмехаться над народолюбием, как над пошлой и якобы фальшивой филантропией русских совестливых людей XIX века, которая в подавляющем большинстве своем совсем не обязательно имела, и, как правило, очень долго не имела, каких-то революционных или даже оппозиционных к власти окрасов. Болезнь у русских народолюбцев была и очень опасная, хотя и совсем другая, но об этом — позже…
Не чувствовать болевую точку жизни, особенно после реформы 1861 года, никто уже не мог. Хотя были, были и такие, для кого наш «несчастный народ» (Иван Бунин) был как бы несуществующим, декорацией, то есть попросту быдлом.
Жуковские, и Микулины, ставшие одной семьей с Жуковскими, отличались в силу своих родовых душевных качеств, своих истоков этим особенным, глубоким сострадательным народолюбием. Это были русские коренники, почвенники, для которых народ был скорее близкой дружиной, которой больше всего дорожил когда-то древний удельный князь, чем холопами. Этих людей западное влияние почти не коснулось — ему всегда противостоял сильный, несгибаемый иммунитет веры православной, которая тут же распознавала и отталкивала чуждый дух.
Но многие десятилетия — с Петра I начиная, а, может, и раньше с Алексея Михайловича, с раскола старообрядчества — искушали эти чуждые ветры нашу сильную и просвещенную веру. Устоять было трудно: перерождение духовное происходило всегда в сердечных глубинах, незаметно, не бросаясь в глаза, а потому и не заставляя людей опасаться за свою душу. Потому не многие, а вскоре и чуть ли не единицы могли жить по вере так, как жили старшие Жуковские: Анна Николаевна, Егор Иванович, их сын Николай Егорович, старшая дочь Мария Егоровна. Но если бы мы последовали по родовому руслу чуть дальше, то сначала смутно, а потом все сильнее стали бы слышать гул надвигающегося катастрофического таяния веры, таяния вековых льдов, грозящее излиться всепогребающими лавинами грязи и камней…
* * *
Сердечная вера последних народолюбцев искала дел, дабы по слову апостола, вера не стала бы мертвой. Но вот горе: еще раньше мертвела сама вера, а без веры дела — тысячу крат мертвы и не только бесполезны, но и чаще всего — во вред. Здесь тупики и трагедия бездуховного и безрелигиозного гуманизма, всегда соблазнявшего не имевшую внутреннего духовного стержня интеллигенцию.
Однако искали дела и состраждущие народу верующие сердца, но это были, как правило, люди, не имевших никаких рычагов влияния и возможностей что-либо реально изменить в жизни…
«Из опыта известно, что в урожайные годы многие крестьяне Владимирской губернии, а, вероятно, и других имеют хлеба для семейств своих только на одну половину года, а другую же половину года едят лебеду, избоину с хлебом или ходят по миру. Такое положение ужасно. Возьмем для сравнения одну семью или тягло, состоящее из мужчины, бабы и четырех детей обоего пола, не могущих еще по малолетству идти на сторону зарабатывать хотя бы небольшие деньги…», — так писал в своих записках истинный народолюбец прапрадед Егор Иванович Жуковский (рассказ о нем в главе «Страничек»), бывший основательным знатоком-практиком условий крестьянской жизни…
«Крестьянин этот засевает 3 четв. Ржи; при урожае сам четверт получает 12 четв. 3 обращают на семена, остается 9 четв. Следовательно муки имеется в год 81 пуд. Печеного хлеба 120 пудов 20 фунтов. Полагая на все вышеозначенное семейство по 12 фунтов в сутки хлеба потребуется в год 109 пудов 30 фунтов. Следовательно, еще остается хлеба 10 пудов 30 фунтов. Между тем еще имеется урожая 6 четвертей овса и с четверть мелких хлебов. Всего этого хлеба с излишком достаточно прокормить семью, состоящую из двух взрослых и четверых ребят при них. Домашнего скота одну лошадь, одну корову, двух овец и кур.
Отчего же этому самому крестьянину всего исчисленного содержания становится только на половину года? Причина этому самая незначащая: во Владимирской губернии исключая, разумеется, казенных и удельных крестьян, существует похвальная поведенция — осенью лошадей своих спускать или отделывать их так в продолжении рабочей поры, что они к зиме околевают; весной же покупать приходится покупать по необыкновенно дорогой цене, так что за шкадру, которая еле волочит ноги, платят по 70 и более рублей.
Покупки эти производятся большей частью у барышников в долг, ибо крестьянину негде взять 70 рублей. Теперь при посредственном урожаем, когда только Бог дает в руки хлебец, благодетель барышник сейчас является за должком и разбирает половину урожая. На следующий год так же и так далее. В неурожайный год и подавну; тогда и половина крестьянского мира начисто спускает лошадок своих, коров и овец, да, сверх того, у зажиточных мужичков в счет будущих урожаев забирает ржи, кормецу и кое-чего другого. Такое бедственное кругообращение совершенно истощает крестьян, и ждать исправления их сил невозможно. Спросите у крестьянина: отчего у тебя изба плоха, лошадь не ходит, двор развалился? Он скажет вам: «силы не хватает». Итак, что же нужно для восстановления этой силы? Ответ: устройство мирской конюшни и общественная запашка…»
Не довелось приложить к делу свой проект Егору Ивановичу: он всю жизнь управлял чужими имениями и никто бы ему там не позволил устраивать «мирские конюшни».
Однако и он, благочестивый, бесконечно добрый, сердечно верующий Егор Иванович, не смог, или, что много вернее, не успел — он скончался осенью 1883 года и последние десять лет проживал в имении сына Ивана вдалеке от общественных споров о русской жизни, вглядеться в самую глубину подоплеки того, что происходило в России, — в ее духовную составляющую, без лицезрения которой не было никаких ответов на главные вопросы русской жизни: почему ничего не получалось из благих намерений и действий правительства, почему не могли разумно и надежно сойтись и совместиться интересы разных сословий, почему центробежные силы уже разрывали Россию изнутри…
Эта духовная составляющая или подоплека русской жизни тем временем все более громко заявляла о себе. Имя этой духовной составляющей было ни что иное, как потеря истинного смысла и цели жизни. Вместе с этой потерей Россия теряла абсолютно все, и, прежде всего — самое себя. Она становилась… безумной, потому что вне этой составляющей не мог разрешиться ни один вопрос русской жизни, но их все равно решали и решали, и ничего не спасало, ничего не обещало избавления и свободы для дальнейшей жизни России, напротив безумие, которое уже прозрел Достоевский и показал в эпилоге «Преступления и наказания», представленного русскому обществу еще в 1866 году, не было распознано и признано во всей его глубине русским обществом и каждым православным христианином в отдельности.
* * *
…И все же тогда Россия еще помнила свои песни. Она еще пела тогда, любила петь, могла петь, выпевая уже не слова, а свою ставшей теперь почти бессловесной душу, еще хранившую, хотя уже лишь в памяти сердца медлящую истаять благодать дарованного ей вместе с Верой Святаго Духа…
Липа вековая Над рекой шумит, Песня удалая Вдалеке звенит. Луг покрыт туманом, Словно пеленой; Слышен за курганом Звон сторожевой…Как пел эту «Липу вековую» Шаляпин, или Лемешев — а пели ее и Козловский, и Русланова, — многие. Но Сергей Яковлевич особенно поражал меня не своим консерваторским великолепным умением, не мастерским ограном своего чУдного голоса, но своим русским, крестьянским нутром, которое преподносил он, расскрывал в этой песне со всей непосредственностью — словно на исповеди — Небу, нутром, которое получил он от матери, а та от своей, которое он, сказочный Лель, простой деревенский мальчик из Старого Князева, что под Тверью, затем ремесленник-сапожничек, а потом и в городах, и в консерваториях, и во славе — во всю жизнь сумевший это нутро, этот полученный издетства дар сохранить в чистоте и неповрежденности.
Лемешев з н а л что пел, знало его сердце, его национальный инстинкт, знал дух, — дух многих поколений его пращуров, дух, «до ревности» любивший более всего на свете еще в этой жизни расширяться и вздыматься сердцем — горЕ, к Творцу Своему.
«Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"? Но тем большую дает благодать…» (Иак. 4:4–5)
Если бы не непритязательные слова этой народной песни, можно было бы сказать, что пел Лемешев «Липу вековую» как молитву…
И не было ничего в этой молитве чувственного, «кровяного», как сказали бы святые отцы, — от жалких слезливых человеческих эмоций, тут была поразительная внутренняя сдержанность при огромной внутренней силе и мощи живого духа, тут было целомудрие и чистота деревенского мальчика и смиренное предстояние его перед Богом. Вот это было особенное, духовное, христианское, но с особенным р у с с к и м окрасом: сдержанна, духовно сдерживаемая могучая сила, широта, удаль, которую человек, сознательно ограничивая пределами целомудрия, самоотреченно отдает, нет! — возвращает, преподносит как смиренную молитву любви Своему Небесному Отцу.
В этом мелодическом, сердечно-молитвенном ключе еще долго сохранялся наш самобытный народный мир чувствований, отношений, восприятий, в которых хранился еще дух Христов, благоухание почти тысячелетней веры русского народа.
В этом ключе — пусть в мизерной мере отдельной и самой обычной человеческой жизни рождались и такие простые и непритязательные звуки сердца, как написанная прабабушкой Верой Егоровной притча о жене, у которой где-то далеко на чужбине умирает муж, — любезный друг-лада, и, которая, оборотившись ласточкой, летит к нему, но, увы, только через преграду окна она может глядеть на своего умирающего сердечного друга. В этой притче друг-лада выздоравливал, а вот сердце ласточки было не в состоянии выдержать такие безмерные страдания за друга-ладу, и разрывалось…
В жизни все было иначе…
* * *
Александр Александрович Микулин от тяжелейшего воспаления легких скоропостижно скончался весной 1919 года, а Вере Егоровне Господь уготовывал еще долгие годы жизни без него, годы революционные, страшные, в которые вдруг в нежной и капризной, хрупкой и несколько избалованной и эгоистичной женщине откуда ни возьмись проступили и мужество, и выдержка, и сила настоящей христовой Веры и неукоризненное трудолюбие. Скончалась Вера Егоровна в 1932 году, вырастив внуков и дав возможность дочери стать на ноги, обрести свое любимое дело и подняться в нем к подлинным профессиональным высотам.
Поразительно, как в минуту тяжких испытаний отступили ее болезни, как все переменилось. А ведь она страдала всю жизнь помимо всего прочего и какими-то тяжелейшими мигренями, — еще, будучи весьма молодой, начала глохнуть, ну, и других серьезных недугов там было сполна. Болела Вера Егоровна непрерывно и тяжело, имела какую-то предельную дальнозоркость и в четырех стенах находиться ей было трудно: все расплывалось перед ее глазами. Откуда только взялись силы, тем более, что вдобавок к недугам физическим прибавились после пятидесяти лет (еще при жизни Александра Александровича и, особенно с начала первой мировой войны), недуги душевные…
В последние годы жизни мужа, Вера Егоровна постоянно пребывала в угнетенном душевном состоянии, о чем свидетельствует ее дневник 1914 года, когда они с Александром Александровичем жили в Нижнем Новгороде. Дочь Вера Александровна Подревская (в замужестве) тогда кочевала: она жила то с родителями, то в Петрограде у родных, то в Москве, а дочь Катя пребывала с маленьким сыном в Орехове, проводив на войну мужа. Вера Егоровна, видимо, очень страдала и от одиночества: Микулин всегда много работал и вечно был в разъездах по фабрикам большого промышленного округа. Когда же возвращался и был с нею, то она, несмотря на его неизменную ласку, внимание и нежность — во всю-то жизнь он никогда не обращался к ней иначе, как «голубочка моя» или «ясушка ненаглядная» (что подтверждает множество сохранившихся их писем друг другу), — чувствовала любящим сердцем своим гнетущую его внутреннюю тяжесть, боль и даже, порой чуть ли не обреченность…
Записей в дневнике Веры Егоровны поры I Мировой войны — Микулины жили тогда в Нижнем, — сохранилось не так много: по краю тетради видно, сколько листов было резко и даже грубо вырвано, что называется, «с мясом», — кто это сделал?
Впрочем, как вспоминал мой дядюшка Кирилл Иванович Домбровский — одиннадцать лет детства проживший безвыездно в Орехове с матерью и бабушкой, свой детский рост он замерял не по косякам дверным, а по штыкам стоявших в дверях на страже красноармейцев в то время как в доме Жуковских шли обыски. За один 18 год таких обысков было восемнадцать. И каждый из них мог закончиться кровью.
Оставшиеся записи в дневнике Веры Егоровны поразительно грустны, если только не мрачны, что поражает, поскольку никогда по ее письмам родным представить ее в таком состоянии духа было невозможно. И мы, дорогой читатель, помним еще молодую Верочку, любимую младшую сестренку Николая Егоровича, которую обожали все друзья и ученики Жуковского за ее веселый, насмешливый нрав, за удивительную ее живость. Как незабвенный друг Жуковских Федор Евплович Орлов, заходя вечерами к Жуковским на огонек и чаёк, усаживался удобно в кресле посреди гостиной и, потирая очки в ожидании веселых «номеров» юной красавицы Верочки, говаривал обычно:
«Ну-с, Верочка, покажите сразу все Ваши штучки!»
Однако вот некоторые строчки из дневника Веры зимы 1914–1915 года…
«Пасмурное раннее утро. В комнате под потолком горит электрический фонарик в зеленом шелковом чехле. Стою перед зеркалом и машинально, не глядя, причесываюсь. Перед окном треплются ветви плакучей березы и на них двойное прозрачное отражение зеленого фонарика. И моя жизнь теперь убогая без сил, без слуха и хорошего зрения, такое же бледное отражение былой молодой яркой жизни»…
«Я стою у клетки орла и грустно с состраданием смотрю на на него. Опустив бессильно крылья, сидит он на перекладине и потухшим взором смотрит в пространство. Пройдут еще года и если отворят ему клетку, он уже не в силах будет взмахнуть крыльями и улететь. Неволя убила в нем силу и энергию».
«Бесконечно треплются плакучие березы, дым, вырываясь из трубы, клочками уносится и стелется голубоватой дымкой над крышами. Вдали строго и холодно высится церковь. Она не манит меня и я не найду там себе утешения и успокоения. Я не в силах уже больше молиться. Одно тупое терпение и ожидание, чего? Я и сама не знаю… Впереди старость»…
Но впереди была далеко еще не старость, а целая треть совсем иной жизни. Бабушка вспоминала свою мать после революции спокойной, мужественной и вновь молитвенной. Подрастали внуки, Кирилл и Майя, и Вера Егоровна ставила их вместе с собой под образа и они всех — ближних и дальних, близких и не близких — поминали втроем, как и было это всегда заведено в семье Жуковских.
Только одно не устраивало Кирилла: бабушка запретила ему поминать отца (Вера Егоровна не могла простить Ивану Домбровскому — моему деду — того, что он так поступил с Катей, эмигрировав заграницу с другой женщиной, потому что та была дочерью миллионера). Но внук Кирилл, упрямый, и воспитанный матерью в любви и почитании отца, про себя, разумеется, всегда поминал раба Божия Иоанна, отца своего, пока, переехав в Москву и постепенно погрузившись в атмосферу захватывающего конструктивизма, творческих увлечений и общений с яркой художнической московской средой — уже совсем почти атеистической, — не "забыл" вовсе свою веру… Пятьдесят лет спустя Кирилл Иванович сам мне говорил о том, что в детстве и юности молился горячо и очень искренно, но что веру начал терять после переезда в Москву. У меня же на сей счет были несколько иные соображения, которые опираются на совершенно потрясающий по своей мистической и пророческой глубине случай, который произошел с годовалым Кириллом, когда он на руках своей матушки Екатерины Александровны Домбровской в лютые морозы конца 1914 года путешествовал завернутый не в одну меховую доху из маленького города Южи — тогда Владимирской губернии в Нижний Новгород к своему деду и бабушке. То, что случилось по пути, определило его духовную судьбу. Во всяком случае, я так верю.
На коллаже работы Екатерины Кожуховой — русское поле, ставшее целиной в наше дни; Александр Александрович Микулин и Вера Егоровна Микулина (урожденная Жуковская), в кабинете Александра Алексадровича в Нижнем Новгороде. Александр Александрович читает жене, как и делал это постоянно, а она, приложив руку к уху (еще с молодости после тяжелой болезни В.Е. начала терять слух) слушает его.
Зима 1914 года.
…И со мной в детстве произошел один не совсем обычный случай, даже прямо-таки загадочный, который я вскоре после самого происшествия благополучно и позабыла, и вот не так давно, перечитывая бабушкины записки о том, что произошло с ней в далекую зиму 1914–1915 года, когда она путешествовала санным путем с маленьким сыном на руках в Нижний Новгород, я вдруг вспомнила и то, что случилось сорок с небольшим лет спустя и со мной, и оба случая как-то воссоединились в моем сознании, слились воедино, словно это два эпизода принадлежали перу одного и того же автора, из одной и той же книги, название которой — Жизнь. Начну с происшествия более позднего, которое имело место быть в начале января 1953 года…
Была зима и довольно крепкого морозу. Я уже ходила в школу — в ту самую, что на Софийской набережной против Кремля, где воспитывалась за 75 лет до этого моя прабабушка Мария Александровна Микулина — Манечка. Я уже писала, как повезло мне со школой, пребывавшей в замечательном старинном здании, где все сияло величественным, царственным великолепием эпохи Александра III, а, возможно и Александра II: потолки высоченные, очень красивые, с лепниной, изысканного стиля окна, парадные двери с золотыми старинными ручками, высоты такой, что рослый кавалергард в кирасе мог не только войти, но и въехать на коне в наш ошеломленный девчоночий класс…
Я попала в эту привилегированную школу, что называется, «по месту жительства», благо родимая моя улица Полянка была совсем рядом. А так, в этой школе учились в основном дети из печально знаменитого Дома на набережной. У всех были громкие тогда имена и, надо признать, дети были хорошими: красивые, умные, усердные и воспитанные были девочки… Я дружила с Мариной Ширшовой. Марина была замечательным человеком: живая, яркая, очень способная и, как мне казалось, смелая девочка, а ведь она была тогда уже почти круглая сирота — мать ее, актриса, была репрессирована почти сразу после рождения Марины, пережила пытки и умерла в ссылке на Колыме, когда дочке было всего четыре года. Марина жила с отцом в «Ударнике», как мы называли этот большой дом на Берсеневской набережной, поскольку в нем находился и наш любимый кинотеатр с таким названием. Она своего отца, легендарного полярника, ученого-океанолога, обожала. Но и отец Марины скончался рано — в том 1953 году. Кажется, воспитывала ее потом бабушка по отцу…
Я мало об этом знала — у нас дома сплетничать было не принято, Марина говорила о чем-то лишь вскользь, но что-то о скорбных обстоятельствах ее детства я все-таки знала: сердце у меня сжималось тогда при одном упоминании о Марининой жизни.
Много дружить в те времена у нас не получалось. После школы нас сразу забирали домой, вольной жизни ни у нее, ни у меня не было, мы много занимались, мало гуляли, если гуляли вообще, а через несколько лет меня перевели «по месту жительства» в мальчишескую школу — и мы с Мариной потеряли друг друга. И только многие годы спустя (у меня уже было двое сыновей и я работала в журналистике), мы встретились случайно в магазине в наших краях — оказалось, Марина уже долго жила в Америке, была настроена к России предельно критично и неприязненно, а я — я не умела тогда ее услышать, и потому, что мне не довелось пережить того, что пережила Марина, а еще и потому, что я вслед за бабушкой, которая в традициях коренников-Жуковских всю жизнь исповедовала делом древней постулат Ипатьевской летописи: «луче на своей земле костью лечи, нежли на чюжей славну быти…», мыслила только так, и никак иначе. Это, наверное, было самым главным наследством, мною от бабушки полученным. Многие годы до моего воцерковления, смертную связь с родиной я воспринимала как святыню и исповедовала ее как главный стержень жизни.
Тогда дороги наши с Мариной Ширшовой разошлись… И тому виной была моя категоричность. А теперь я знаю, что любила ее, и могла любить гораздо сильнее, но долгое время мне не удавалось найти выхода из этой горькой дилеммы жизни: как можно сохранять верность тому, на чем стоишь, и при этом, не сдавая ни йоты своих нравственных позиций, не вычеркивать все же из своей жизни другого, стоящего иначе, но любить его по-братски и сколь возможно помогать ему своей любовью обрести или вернуть то, во что верил ты сам. Если же помочь ты не мог, то должен был «нести на себе» эту глубокую драму и боль отношений в любви, сострадании и надежде, что все-таки твоя любовь когда-нибудь и «выкупит» (как выражались наши великие старцы) эту душу. Но эти выходы из тупиков жизни открывались только во Христе, однако к тому времени, когда я начала их познавать, следы Марины были вовсе утеряны…
* * *
Имелись и другие подружки — мы отличались дружелюбием. Не было сплетен, интрижек, науськиваний друг на друга, чем сейчас грешат дети уже чуть ли не с детского сада. Видно, помогали нам учиться и жить сами стены. А, может, что-то еще оставалось в людях от очень давнего, старинного, прежнего, когда еще на Руси жили люди, не одержимые постояннодействующей злобой, цинизмом и подозрительностью…
Впрочем я все уклоняюсь и уклоняюсь в сторону от намеченного пути, а мне ведь потребно сейчас открыть календарь на первых листках января 1953 года, прожить там один день, а затем перенестись еще дальше — в последние декабрьские дни 1914 года, но ведь и школа моя тоже имела отношение к делу, о котором пойдет рассказ. Там очень многое вобрало в себя сердце, отложив свои сокровища в какие-то дальние, заповедные клети. Нужно было только заполучить нечто подобное химреактивам, проявителям, чтобы сокровища эти ожили и заговорили, могли стать осмысленными. Их надо было вызволить на свет Божий, но не было протянутой навстречу руки, никто ни о чем не вопрошал меня. Некому было разбудить спящую царевну-душу. Все глубокое, важное, серьезное и сложное тогда окутывалось вокруг меня молчанием. И возможно вовсе даже не из соображений осторожности. Это был мирный естественный фон жизни, которая не рвется за данные ей рамки, не ищет чего-либо с напряжением, не мается ничем, кроме житейского, кроме забот о ближних, попыток добыть хоть какие-то средства к существованию и реализовать себя в творчестве.
Меня очень любили, меня питали впечатлениями искусства и литературы, какими-то знаниями, мне даровано было познание Орехова, бывала я и на море с мамой, которая ездила туда на этюды. И все-все душа моя жадно поглощала, запоминала, и даже изнывала в детстве от мучительного переживания таинственной и не простой красоты жизни. Я до сих пор помню, к примеру, одно такое место в бывшей усадьбе художника Константина Коровина, где находили приют художники типа мамы. Небольшая терраса склона, — пять-шесть метров в длину и метра полтора-два в глубину, на которой цвели редкие розы, стену обвивал виноград, а рядом, кажется, был кусок скалы, в который терраска упиралась, и потому место было притемненным. Таким, во всяком случае, я его помню. Ничего там больше не было, но эта притемненность, этот угол скалы, пустынный решетчатый заборчик и что-то вроде лесенки, ведущей вниз к старой пристани, по которой никто здесь давно не спускался, — это место завораживало и говорило со мной. Может быть, там когда-то что-то было? Во времена, когда царствовал в Бахчисарае хан? Или во время последней кровопролитной войны — может быть, тут на этой терраске кто-то был убит? Так пыталась думать я, но ответов у меня, конечно, не было.
Как бы я хотела увидеть еще раз это место… Крутой склон, пустынная терраска, старая пристань внизу в маленьком заброшенном заливе, плеск благословенных волн Понта Евксинского о мшистые камни, какие-то обломки почерневших жестянок от баркасов, и даль искрящего солнцем такого радостного, счастливого, но какого-то нереального — из снов — и потому даже пугающего своей радостностью моря…
Но все эти виды, эти памяти не могли насытить меня, не могли открыть замки тех внутренних заповедных клетей, где собирался, возможно, пусть малый, но все-таки мой главный жизненный багаж. Видимо, так устроил Господь, что душа моя уже тогда, в детстве, могла вобрать в себя и значительно более глубокое восприятие жизни, но мои родные этого не замечали и о том не заботились: возможно, что жизнь вне Бога и Церкви при всех их подлинных талантах и замечательных свойствах характеров как-то притупила в них самих эту потребность искания смыслов во всем окружающем мире, и себя самого в нем, и, главное — искание Источника и Творца жизни — Небесного нашего Отца.
* * *
Молчание было вокруг меня, молчала и я. Сердце что-то хранило в своих глубинах, но оно было совсем бессловесным, оно не могло обрести своего слова, оформиться в мысль, высказаться в вопросе… Беда была в том, что воспитание мое не было погружено в воздух веры, не было пропитано глубоким переживанием христианства, Священной Истории Ветхого и Нового Заветов, а жизнь моя и других вокруг не испытывалась ни в малой мере Евангельскими Заповедями, что в корне меняет всего человека. А ведь добрые русские родители в прежние времена именно так и готовили к жизни детские души. Евангельский дух с детства витал в жизни русских людей, исцеляя от прародительского греха, от причуд наследственности весь внутренний мир человека, рождая в нем отзывчивость, широту сердца, дар слышания и понимания другого, великодушие, прощение…
Достаточно привести в пример семейные чтения вслух во времена московского детства Достоевского. День за днем отец читал семье Библию. Особенно поразила Федора Михайловича Книга Иова. Его детское сердце было открыто необыкновенным глубинам этой трагической и великой книги о вере и об испытаниях ее, о любви Бога к человеку и о мужественной и смиренной любви человека к Богу. Можно сказать, что погружение души в эту книгу имело своим результатом идеальную постановку человека в отношениях с Богом. Достоевскому было всего восемь лет, когда впервые он услышал Книгу Иова. В «Братьях Карамазовых» старцу Зосиме он дарит те же самые переживания детства, которые имел сам. Это подтверждала Анна Григорьевна — вдова Достоевского. «…В первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное… и в первый раз от роду принял я тогда в душу первое семя слова Божия осмысленно»… «Пощадите теперешние слезы мои — ибо все младенчество мое как бы вновь восстает предо мною… и чувствую, как тогда, удивление, и смятение, и радость»… «Вчера еще взял ее — и не могу читать эту пресвятую повесть без слез. А и сколько тут великого, тайного, невообразимого!»
Вот чего и мне, и многим других детям последних ста лет не доставало в детстве и юности, чтобы расти не только в рост, но прежде всего в душу. И можно только удивляться, как то, давнишнее, московское, детское, старинное, столько лет сохранялось втуне живым, настаивалось в каких-то глубинах сердца, чтобы затем в мучительных перипетиях искушений, медленно, но верно перерабатываться, перерастать в веру и любовь, в ту любовь, когда душа человека уже готова всем своим существом исповедовать великое Евангельское слово Предтечи и Крестителя Господня Иоанна о Христе: «Сия убо радость моя исполнися. Оному подобает расти, мне же мАлитися» (Ин.3:30).
* * *
…А повезло мне со школой потому, что я была под бочком у Москва-реки и Кремля, и очень ясно помню ранние холодные весенние утра и зимние ветры Севера, которые дули на нашу Софийку опять же от Кремля. Меня пугал и одновременно притягивал этот ледяной сумрачный фон неба, официозный стиль набережной, какой-то немножечко не московский, но холодновато-петербургский «большой» ее стиль. Притягивал тем, что и здесь чувствовалось нечто кремлевское — что-то царственное, государственное, высокое, непременно высокое! — стоящее выше обыденной жизни простых людей, — это удивительное чувство у меня в детстве родилось совершенно самостийно, никто в семье не имел монархических пристрастий, и не бывало о том в мое время никаких вообще разговоров. А душа — она знала и чувствовала, взирая на холм Кремля, что там пребывает что-то особенное, державное, даже чуть ли не неземное, хотя осмысление тому пришло спустя многие десятилетия. Детская душа отзывалась тогда на подлинную мистику государственности, убеждалась в том, что она существует в Божественном замысле миропорядка, а не только в результате сугубо человеческих, земных деяний; что существует мистика царского помазания (и не только царского, так как это есть по природе своей ничто иное, как мистика Божественного призвания) мистика средоточия жизни и Божественного призвания великого народа как сакрального целого.
Много позже в этом потоке начавшей осознавать себя веры открывалось мне и богословие рода, о котором размышлял отец Павел Флоренский. Но тогда и даже еще много позже узнать о том, справиться и воспросить мне было некого и нЕгде, хотя душа о том уже догадывалась и готова была узнать. Я была как тот Евангельский расслабленный грешник, тридцать восемь лет чаявший движения воды в купальне, называемой Вифезда, у Овечьих ворот Иерусалима, лежавший среди великого множества других «больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью». Я была почти как тот несчастный, которого Иисус, увидев его, воспросил: «хочешь ли быть здоров»? И я, так же как тот несчастный расслабленный грешник отвечала: «не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И мне, как и тому человеку, Господь сказал в один — лучший! — момент моей жизни: «встань, возьми постель твою и ходи». Тот человек тотчас выздоровел, «взял постель свою и пошел» (Ин.5:2–9).
Что касается Евангельского слова «и пошел» — оно не означало еще моего полного исцеления или исправления, но оно свидетельствовало для меня о том, что человек, лежавший 38 лет (мне было меньше) «встал» и «пошел» навстречу Спасающему и Исцеляющему нас Господу. Это означало, что надлежало встать и идти навстречу Господу и мне…
* * *
Училась я в школе тогда очень хорошо — кроме пятёрок — других оценок никогда не видела, хотя школа была очень строгая, а одноклассницы на редкость хорошо подготовленными и способными девочками. Не помню, была ли я первой отличницей, или только второй — вслед за Валей Курбатовой, на которую я смотрела всегда снизу вверх, почему-то считая ее по-настоящему серьезным человеком и настоящей отличницей, а себя — кем-то не тем, за кого себя выдаю, каким-то суррогатом (о чем, конечно, никому не говорила, да и сказать не умела). Свидетельствую о том с ответственностью: это самоощущение собственной неподлинности присутствовало во мне с очень раннего возраста. Нечто вроде самочувствия классического русского «маленького человека»… Странно, но это правда.
Тем не менее, почему-то именно меня, а не Валю наградили билетом на первую в истории Кремлевскую ёлку в Большом Кремлевском дворце. Возможно потому, что я очень много болела в первом классе, но училась все равно хорошо: мама моя была очень строга, и если я делала на странице в тетради хоть одну помарку (да хоть на десятой странице), я тут же должна была переписать абсолютно все без помарок, — вырывать страницы категорически не полагалось. К тому же часто переписывания осуществлялись лежа из-за болезни. Не потому ли с детства и на всю жизнь у меня образовалась мозоль от ручки на третьем пальце правой руки? А еще и полное спокойствие, когда что-то приходится сто раз переделывать. Мамина закалка. Спасибо родимой за это воспитание. Хотя я не совсем уверена, что с каким-то другим характером ребенка был бы точно такой же эффект.
…Не без трепета и страха я шествовала в Кремль за руку с мамой. Красота дворца меня ошеломила, хотя я была не совсем уж неискушенной в этом отношении девочкой: уже несколько лет мы с мамой ходили на концерты в Большой зал Консерватории, доставались мне билеты и на ёлки в ЦДРИ — в Центральном Доме работников искусств (очень уютно-домашних — я их больше всего любила), куда попадала благодаря тому, что мама была членом Союза художников.
Кажется, к тому времени, бабушка уже водила меня и в Оружейную палату Кремля, ездили мы с мамой и в Кусково, и в юсуповское Архангельское, красота которого и вся его дивная аура XVIII века меня особенно услаждала. Но грандиозный и прекрасный Георгиевский зал и несметное множество детей разных возрастов, — а мне казалось, что все старше и больше меня, — ослепительные огни и великолепная ёлка до расписного потолка, меня, вероятно, настолько подавили своим великолепием, сиянием золота, высотой, пространствами и глубинами, что я потом, потрясенная, начисто забыла все то, что происходило на самой ёлке. Вообще-то я была бестолковой в житейском смысле девочкой и мне всегда было трудно ориентироваться — куда надо бежать, с кем и что танцевать, что скандировать в ответ на возгласы чудесного Деда Мороза, я путалась, мне было стыдно и я потихоньку начала ретироваться на задний план, а потом возникла спасительно-малодушная мысль: пусть ёлка еще в самом разгаре, пусть еще будет представление, а потом раздача подарков, но мама-то моя в раздевалке, и я прекрасно помню дорогу, по которой нас сюда вели. И я вышмыгнула из шумнодействующих рядов детей и побежала к лестнице…
* * *
А дальше все происходило как во сне. Я сразу очутилась в свободном пространстве бесконечных кремлевских переходов, тихих сияний люстр, бронзы, золота, множества зеркальных отражений, восхитительных узоров паркетов, — и ни один человек почему то не встретился мне на пути, словно я в один миг выпала из времени и осталась один на один с тем, что времени не принадлежит и никогда не принадлежало. Это было как и в Орехове: я несомненно очутилась в гостях у подлинных хозяев дворца и если все-таки во времени, то несомненно в таком, которое обычным измерениям не поддается…
А я все шла и шла, сто, двести, пятьсот метров и больше (это я сейчас уже прикидываю свой маршрут по дворцовым схемам), казалось бы, узнавая свой недавний путь к выходу их дворца. Но на самом деле я двигалась совсем в другую сторону: где-то на переходах я ошиблась, и не там свернула, и вот теперь со мной происходило нечто чудесное: из велеречия Николаевско-Тоновской России, из царственного декора еще недалекого XIX века я вдруг очутилась… в сказочных глубинах древней русской жизни.
…Предо мной открылось все совсем другое: удивительной красоты расписные покои с низкими сводами, с темным деревом мощных резных кресел и лавок с лапами зверей вместо ножек, с красными коврами и узорчатыми решетками цветных окошек. И я тут позабыла все — и кто я, и где я, и почему иду, и куда иду по этим палатам, и только не могла отвести глаз от расписных стен, от сказочной красоты этой сказки о Царе Салтане или о Золотом петушке, от воплотившейся в един миг в реальность былинной моей любви к Руси, уже тогда переполнявшей мое детское сердце видЕниями и присутствиями на ковыльных «русських» полях, в дремучих еловых лесах, где таились богатырские сторОжи, в деревнях, которые виделись мне только в сиянии чистоты — ключевой воды, шелковых мурав, русской милой льняной одежды, тихой поступи русских мягких, смиренных лаптей, плести которые учил меня еще недавно — тридцать лет назад старичок-мастер под Зарайском.
Как я любила читать и перечитывать в детстве Русский богатырский былинный эпос, в хорошем, близком к пониманию ребенка изложении, кажется, писательницы Карнауховой, и сохранявшем при том подлинность русского пОступа. Эти былины мне тоже, как почти и все остальное, подарила бабушка. И много лет спустя, я очень сокрушалась, что русские дети не знают и не любят родимый наш русский эпос и все их последующие знания, приобретаемые в жизни, их привязанности и любови ложатся на безобразно пустое место, где бы дОлжно было бы храниться в золотом ларце сокровищу живой памяти о началах нашей Руси.
Именно в те сказочные, былинные времена детства (в том смысле былинные, что я не читала, а пребывала в былинной стихии — я там просто день за днем жила) и обреталась, наверное, способность погружаться в мир слова, мерянный не страницами, не строками, а словами и даже буквами, — настолько могучим было магнетическое притяжение текста, и я входила в него, в глубь слов, и еще вглубь, как входят в глубокие воды великой реки, и погружалась в них до того, пока остро и предметно не видела, что — вот оно! — все передо мной живое: и морда Соловья-Разбойника, и любимый мною Добрыня Никитич, и не очень любимый, какой-то сомнительный Алеша Попович, и Микула Селянинович, и, наконец, драгоценный, царственный, несравнимый ни с кем, выше всех стоящий в моем детском воображении, самый трагический и самый мощный и самый одинокий мученик-неудачник, страдалец своей непомерной неземной силы — Святогор-БогатырЬ, который только по горам, да по горам Араратским, на своем могучем коне ездил, который побратался с Ильей Муромцем, да золотым крестом с ним обменялся, который сумочку-то Микулы Селяниновича, русского пахаря, поднять так и не смог, потому что там сама тяга земная была схоронена, и который, в конце концов, смиренно лег на высоченных, недоступных и мрачноватых тех горах Араратских, Кавказских в уготованный ему дубовый гроб:
На тых горах высокиих, На той на Святой Горы, Был богатырь чудный, Что ль во весь же мир он дивный, Во весь же мир был дивный. Не ездил он на святую Русь, Не носила его да мать сыра земля…И вот теперь я пребывала в той горнице княжеской, какая у Владимира Красное Солнышко, наверное, была, где он праздновал и тризны справлял со своей верной дружинушкой, где и миловал, и радовал народ православный, праведный своей любовью и благодатью, недавно столь изобильно покрывшей его при чудесном его Крещении.
Не знала, разумеется, я тогда, что совершенно случайно и невольно и непонятно как и почему незамеченной, я проникла через Святые сени дворца в Грановитую палату Кремля и странствовала там, где когда-то века назад собиралась Боярская дума, где заседали Земские соборы, где государи русские праздновали покорение Казани и победу под Полтавой…
Целая жизнь прошла, но и до сих пор я не могу понять, почему и зачем, и для чего мне, без малого семилетней, было даровано это чудесное приключение — заблудиться в 1953 году в огромном Кремлевском дворце и оказаться совершенно одной в Грановитой палате, и пребывать там очень долго — час, полтора? — покуда я не увидела, что за чугунными решетками древних окошек уже густо засинел зимний вечер, задымилась на морозе Москва-река, а за ней уже тихо встали и чуть вьющиеся дымки старых московских замоскворецких печей, где был и мой милый дом, где бабушка сидела на кухне, пила чай и ждала нас, где мое сердце было всегда защищено ото всего зла мира, где был тогда мой земной прообраз рая, который однажды, закончился, потому что защита от зла была все-таки совсем иллюзорной, но чтобы в этом убедиться, надо было пройти и через зло, через многие и страшные искушения, чтобы познать и принять всем своим существом тот единственный путь спасения, на который зовет человека Господь — путь преодоления зла в самих себе.
…А я еще шла и шла, из покоя в покой, из палаты в палату и вокруг стояла какая-то особенная тишина пустого дворца и умолкнувшей жизни, но все вокруг в этом молчании для меня звучало, и я даже не могла подумать в этим минуты, что я просто заблудилась, и ни где-нибудь, а в Кремле, что ёлка уже давно закончилась, и что где-то там, на морозе ждет меня мама, и что меня могли давно уже запереть здесь даже на всю ночь, и что мне будет тут очень страшно. Ни одной подобной мысли не было в голове, а когда они все разом вдруг вспыхнули, я мгновенно испугалась, забеспокоилась и побежала, сама не зная куда, то сразу — вот чудо! — в мгновение ока очарование кончилось, Грановитая палата меня отпустила, и я попала прямо в объятия мамы, которая ждала меня в гардеробе.
Ни одна душа живая не знала о моей более чем часовой самостийной жизни в анфиладах Кремлевского дворца. Думаю, он сам меня каким-то образом завлек в свои хоромы, а потом — сам же и отпустил… Вот только вопрос: зачем?
* * *
Так уж сложилось, что текст, прежде чем он будет написан, я прежде всего слышу как музыкальное нечто, — не мелодию, не что-то оркестрово оформленное, что можно изобразить в нотах, никак нет. Сознание наше, человеческое так прилепилось к реалиям, самими же нами и созданным, что оторваться от них, ну, никак у него не получается, а то, не нами созданное, первозданное, дареное, которое иной раз все-таки прорывается через еще не занятые, не истертые глубины наших душ на поверхность, ощупывается и опознается нами с величайшим трудом. А чаще мы все это отбрасываем как сор или звуковые помехи…
И все же текст слышится все-таки как-то симфонически, как, скажем, отдаленное, еле слышимое гудение роя, причем роя, только еще собирающегося вылететь в сад, и звуки эти не текут, не плывут, они сжаты, собраны, кристаллизованы в аккорд, который тем не менее несомненно предвозвещает то, каким цветком он будет потом разворачиваться и разрастаться из этого кристалла. И потому звучащее в моем сознании (надо было бы каким-то другим словом обозначить тот отсек души, в котором я определенно начинаю слышать этот многозначительный гул, но пока не нахожу, каким же должно быть это слово) еще только предвозвещает, что-то подсказывает, и слегка набрасывает ориентир — точку, к которой это гудящее и полное жизни нечто вожделеет, тяготеет и стремится…
Но вот, все вехи обозначены и, хотя туман непроницаем, можно начинать двигаться, всякий раз испытывая унижение и боль от очевидного бессилия изобразить что-либо хоть в отдаленном приближении к преподанному подлиннику, который подарил тебе тот пчелиный рой, вылетевший в сад…
Древний Шуйский тракт, декабрь 1914 года. В мире уже гремит страшная война, к небесам взрываются сотни тысяч человеческих последних воплей, а здесь среди темени пространств и жутко чернеющих вдали лесов древнего, былинного Владимир-Суздальского края все еще пребывает, течет (или стоит?) в каком-то совершенно ином измерении и в несравненных с обычными масштабах особая, сакральная историческая жизнь.
…Не в ранний час и не в близкий путь летит по тракту «тройка удалая», которую духи ночи не прочь и совсем сбить с пути… Среди моря седых снегов, под черно-мутным небом ровно гремят бубенцы, лошади чуют путь, в оленьей дохе сопит семимесячный мальчик — белокурый, на редкость славный, а молодая мать его — сильная, смелая, вкушает волю и сладость ее полной грудью. Снежные брызги хлещут ее по лицу, но она ликует и наслаждается ими, и тем, что происходит над ней в очень живом и подвижном небе, в котором все движется и играет: какие-то вспышки, борения сфер, мрачных черных облаков ночи, бесцеремонно задвинувших робкие звезды куда-то вдаль, с облачками светлыми, подвижными, подзолоченными желтой луной, которая, в это же время не без удовольствия верховодит всем этим гульбищем, и сама балует над санями, то улетая вперед, то уклоняясь в бок, то прячась за растушевками облаков.
Луна желтеет на глазах, сани летят со свистом, гладко, споро, дитя согревает сердце, багаж упакован ладно, а она — молодая и сильная, вся исполнена своим дерзновением перед надвигающейся навстречу этой тройке жизнью.
«Ну, жизнь, давай, задавай мне свои загадки, давай, забрасывай меня своими головоломками, только не думай, что я заробею, — мне только того и надо, чтобы ты силушку мою молодую испытала, да подсказала по секрету, что же мне на роду написано, и чего все еще так ждет и жаждет мое горячее и необузданное сердце…»
Но вот остановка — знаменитая исконописная Мстера. Постоялый двор: печь, лавки, покрытые овчиной, чтобы ночь оставшуюся доспать, большой стол посредине с огромным веселым самоваром, а за ним наши путники: мать с сынком, его няня-кормилица, молодая простая украинка, которая так смешно величает барского малыша Кирилло, а при ней и свой годовалый на руках, а тут еще входит из глухой ночной темени в избу бородатый мстерский коробейник — мужик-иконник с большой холстинной сумой да коробом за плечами, полном иконами на выбор, да все отменные, тонкой кисти, изысканные, золотоузорчатые на благородно притемненном фоне…
И вот тот мужик былинный, богомаз, подсаживается к молодой и начинает домогаться у нее, какому святому будет молиться ее маленький сынок-барчук, когда вырастет, какое святое имя дали ему при крестинах? Но молодая и смелая, сильная и решительная предложение купить для сынка икону-благословение отвергает: вот еще, будет она увеличивать свой багаж иконой, хотя бы и чудного мстерского письма. А няня тут же выбирает для своего дитяти прекрасный образ Богородицы, да в киоте и под стеклом: «Сына своего, Прохфира, благословлю этой иконой к свадьбе!», — говорит она, являя поистине грандиозный масштаб вИдения жизни.
И на том происшествие, если можно так назвать тот подлинный эпизод, который поведала мне однажды сама бабушка, которая и летела тогда в 1914 году на тройке, заканчивается. На утро путешествие по белым равнинам продолжается — скоро путники наши пересядут на поезд до Нижнего, благополучно прибудут к Рождеству к старшим Микулиным, присоединится к ним и Николай Егорович Жуковский, и сестра Катина Верочка, праздники будут веселыми, но вскоре Янек, Иван, муж Кати, уйдет на войну, и несмотря на редкие свидания и рождение дочки супружество их на этом закончится и они расстанутся навсегда, — он отбудет в Америку, а она вернется к лету в Орехово, чтобы почти полных десять лет нести там свою крестьянскую вахту. Старший Микулин скончается в 1919 году, Жуковский в 1921, Кирилло будет расти, бабушка Вера Егоровна будет наставлять его на молитву, но к расцвету молодости он совсем потеряет свою детскую веру, проживет долгую жизнь, усердно трудясь, но так и не достигнув той меры, что обещали его богатейшие врожденные таланты. Не оставит детей. Уход его будет горьким: стремясь в последние годы жизни к Богу, он в так и не сможет преодолеть своего же внутреннего протеста и инерции сопротивления, разорвать однажды связавшие его путы…
Однако не думай, мой читатель, что Екатерина Александровна Домбровская в том 1914 году была совсем уж неверующим человеком. Спустя несколько лет и будучи наездом в Москве, она же неистово пробиралась сквозь толпу на паперти храма Успения на Покровке, чтобы благословить у Святейшего Патриарха Тихона своего шести или семилетнего мальчика. Но тот случай на Шуйском тракте ведь тоже никто отменить не мог, как и моей давней истории с крестами. Просто вся наша жизнь слагается крестами и перекрестками выбора, где Господь испытывает сокровенные произволения наших сердец, а мы, увы, бываем так невнимательны и легкомысленны…
Был такой мистический перекресток жизни и у Кирилла. Еще со времен войны он стал очень хорошим автомобилистом. Однажды, возможно, это был тот самый 1953 год, когда я заблудилась в Кремле, он ехал на киностудию, где работал, ехал спокойно — лихачом Кирилл Иванович никогда не был, но вдруг чуть ли не под колеса с тротуара совершенно неожиданно выскочила навстречу ему маленькая девочка вслед за своим мячом. Мгновение выбора и, отлично понимая, что он делает и что будет, Кирилл резко вывернул руль и влетел в огромный столб. У него была тяжелая черепно-мозговая травма, он очень долго болел, а потом всю жизнь чуть ли не ежедневно страдал мучительнейшими приступами головной боли. А работал он много и вообще был человеком дела и глубокой порядочности. Думаю, та маленькая девочка, которой он сохранил жизнь, и то добро сердца, которое в сокровенности обретается у каждого, сейчас ходатайствует за его душу перед Многомилостивым Господом…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой: в верхнем правом углу — автор повествования — Катя Домбровская, ученица 19 школы Москвы, 1953 год. В нижнем — Кирилло — Кирилл Иванович Домбровский — 1915 год — Орехово. Фон — Грановитая палата Кремля и фрагмент картины А. Саврасова «Сельское кладбище».
…Однако как бы мы не пытались смотреть с всепокрывающей снисходительностью, с упрощениями и допусками — все из разряда самооправданий! — на те жизненные коллизии, где перед нами выбор, причем неожиданный и стремительный, у жизни на все есть с в о и мерки и с нашими аршинами, диктуемыми нам чаще всего нашим самолюбием, они обычно не совпадают. Доказательства тому мы узнаем на финише. Ведь не даром говорят: конец — всему делу венец. А он, кстати, всегда где-то рядом…
«Блюдите убо, како опасно ходите», — предупреждает христиан уже почти две тысячи лет апостол Павел (Еф. 5:15). А философ Ортега-и-Гассет в XX веке констатирует как данность полную потерю человеком ощущения трагизма бытия и пребывание его в состоянии «пагубной самоуспокоенности», в то время как каждая минута жизни, — даже каждое слово! — есть фактически роковой выбор с далеко идущими последствиями. И что интересно: выбор данной минуты наносит чертеж выбора, который представит нам будущее. Точно как в той сказочке Духовника о рюкзачке и дороге, — помните, читатель? — с которой только раз свернув, соблазна ради, мы, возвратившись, ее такой же гладкой, чистой и беспрепятственной, уже не можем обрести…
Взлетают стаями микромгновения наших жизней, и чуть ли не каждое из них может когда-нибудь потом вдруг обернуться к нам своим подлинным лицом и предъявить нам вопрос-обвинение. В чем? Да в том же самом — в легкомыслии и трусости посмотреть в глаза правде.
Взять хоть тот случай с выбором иконы для маленького сына, — несомненно он совершался вне земного времени, а как бы в некоем прорыве, в паузе, у открытых врат Вечности, и надо было сделать выбор не как-нибудь, а пред лицом Бога, дав тем самым «ответ о нашем уповании». Как увещевал нас апостол Петр: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет.3:15). И ответ тот должен был звучать: «да — да, нет — нет». Мы же из-за самопоблажек, из той самой «пагубной самоуспокоенности» предпочитаем существовать в гибких материях между этими «да — да, нет — нет», и эта гибкость есть ни что иное, как симптом нашей явной нашей теплохладности, которую сурово обличает Аминь (Господь) в Своем Откровении:
«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».
Это в русском переводе с церковнославянского. А в древнем Новом Завете, церковнославянском, Кирилло-Мефодиевском, последняя фраза звучит так: «яко обуморен еси, и не тепл ни студен, изблевати тя от уст моих имам». Обуморен — обмерший, полуживой, в обмороке, в прострации пребывающий… И далее: «И не веси, яко ты еси окаянен и беден, и нищ, и слеп, и наг. Совещаю тебе купити от мене злато разжжено огнем, да обогатишься, и одеяние бело, да облечешися, и да не явится срамота наготы твоя: и коллурием помажи очи твои, да видиши. Аз, ихже аще люблю, обличаю и наказую. Ревнуй бо и покайся. Се стою при дверех и толку: аще кто услышит глас мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним и той со мною» (Отк. 3:15–20).
И печальный дневник Веры Егоровны за 1914 год, и духовное самочувствие ее дочерей — бабушки моей Екатерины Александровны и ее сестры Веры Александровны (как раз в эти годы занявшейся усердным изучением хлыстовства, как модного тогда поветрия, и посещениями Григория Распутина — с целью изучения и своеобразного его облика, как духовного нетрадиционного феномена), и состояние душ очень многих их сверстников, вступивших к тому времени в головной отряд жизни, — все это свидетельствовало о серьезном повреждении многовековой православной иерархии ценностей, о страшном охлаждении сердец, казалось бы, верующих людей…
Безысходной тугой спускались на Русь ничего доброго не предвещающие сумерки. Они леденили сердца и без того духовно «обуморенных» и оковАнных, угасивших благодатный и спасительный огонь веры, который еще не так давно согревал и освещал жизни их дедов и прадедов, руководил всей жизнью и поступками людей, созидал и охранял эту жизнь своею благодатью.
Быстрозабывчивое, легкоизменчивое существо человек… Что может быть проще, оказывается, чем потерять тысячелетнюю живую веру отцов. Однако с легкостью сделать это можно было лишь в одном случае, если сама вера даже незаметно для своего носителя давно уже стала мертвой.
А мертвеца, пристегнутого к себе, зачем носить? Он только обременяет…
* * *
Бабушке моей было лет 17, когда она начала задумываться, как она мне говорила, «над сущностью религии». Кругом высились церкви, мелодичный благовест призывал молящихся. И они с сестрой с детства каждую субботу аккуратно ходили ко всенощной, а в воскресенье — к обедне. Когда Катя и Вера были маленькими, мать — Вера Егоровна — ставила их на коленки и заставляла (именно так выражалась бабушка) прочитать все утренние молитвы и не было большего позора, как забыть хотя бы одно слово. Провинившуюся как-то даже наказывали.
Вокруг все крестились, молились, ходили в церковь, но огонь веры в сердце уже редко кто имел, — не было горячности любви к Богу и Церкви, жажды ревности по Богу, — сердце было уже совсем охладевшим, а вера — ну, разве что по инерции… А ведь гонения за Веру еще не наступали — до них были годы. Что же сгубило сердца человеческие?
Неужели сама вседоступность церковной жизни, ощущение, что все, что существовало «всегда» — оно и будет существовать вечно, и никто уж этого-то не отымет? И не было никому (за исключением единиц — великих духовных провидцев-старцев) страшно потерять все это, и даже мысль о возможности такой потери в голову не приходила. «Пагубная самоуспокоенность» и… сытость душевная.
Страшная, между прочим, вещь — «покойная сытость» для потомков Адама, которым сказано было: «В мире скорбни будете» (Ин.16:33), — однако же мы неустанно домогаемся покоя. «Чем оправдаемся пред Узаконившим нам сие? Что скажем Ему в день суда? Представим ли заботливость о делах своих? Но наперед сказал Он, что нет пользы человеку, аще мир весь приобрящет душу же свою отщетит. Или что даст человек измену за душу свою (Мф.16:26)? Что пользы доставит нам временный покой? Не уготовит ли нам тьму, неусыпающего червя, скрежет зубов, не поставит ли нас наряду с блудниками и всеми жившими непотребно»? (Творения иже во святых Отца нашего Ефрема Сирина. Писания духовно-нравственные. На слова, сказанные Господом: в мире сем скорбни будете (Ин.16:33), и о том, что человеку должно быть совершенным»).
Бабушка моя очень любила хорошее церковное пение, но в слова церковной службы никогда не вникала, несмотря на то, в гимназии слушала и безупречно отвечала из Закона Божия, — лучшую Киевскую гимназия бабушка окончила с серебряной медалью. Значит, все самое главное пролетело мимо, ведь сердце ее в детстве и юности почти не тронул огонь веры и оно пребывало холодным…
Когда в детстве и юности Катя бывала в Москве или в Орехове у бабушки Анны Николаевны, то, притулившись где-то в уголке, она любила смотреть, как Анна Николаевна перед большим древним образом Господа Вседержителя и горящей пред ним лампадой вдохновенно шепчет слова молитв. Тогда Кате казалось, что бабушка разговаривала непосредственно с Самим Господом, и что Господь бабушку тоже слышал и слушал, и что стоило бы теперь и Кате вместе с бабушкой попросить: «Господи, дай, чтобы мама выздоровела», и мама была бы всегда здорова. Этим Катин духовный опыт, ее подлинный духовный багаж и ограничивался. Хотя и то не мало, как залог, если учесть, что о бабушкиной молитве сердце ее помнило всю жизнь до глубокой старости. Но недостаточно, чтобы устоять в вере в годину страшных духовных искушений.
Чуждого вере, разрушительного вокруг было разливанное море. И школьная болтовня соучениц, среди которых уже присутствовало немало богатых инородок (хорошо ли то было?), и поверхностные пересуды знакомых, среди которых уже имели место безумные предреволюционные настроения, и, наконец, собственные мучительные вопросы жизни, на которые ответов Кате не у кого было спросить, потому что была она как-то сама по себе в семье. Как это ни странно, но в духовном отношении и Катя, и избалованная Вера были запущенными детьми. Никого эти вопросы в доме не беспокоили. Возможно, в какой-то степени в жизни семьи Микулиных уже имела место та сама «пагубная самоуспокоенность», в густом тумане которой всегда и готовятся, и свершаются самые убийственные для человеческой души вещи. Хотя тревожились, конечно, о многом, поскольку как и Жуковские, так и Микулины были очень сердечными, отзывчивыми людьми. Вера Егоровна болела душой о жизни и здоровье семьи, о благополучии ее, о муже, а супруг — Александр Александрович Микулин, — и о семье, разумеется, беспокоился сильно, но еще больше о положении рабочего класса на фабриках, о социально-политической обстановке в стране…
Для того, чтобы укоренить и сохранить веру в ребенке и потом, в особенности, в молодой душе, нужны поистине подвижнические усилия близких. Нужно чтобы и у них самих горело сердце. Но Вера Егоровна была погружена в свои нескончаемые болезни, в свою неизбывную и всю жизнь переполняющую ее любовь к мужу, и в самое себя, — ведь и любовь к близким бывает в нас каким-то загадочным образом в своих глубинах лишь отсветом самой большой нашей любви — к самим себе. И таковое вполне возможно, когда в святая святых наших сердец не к Богу живет любовь.
Хотя Вера Егоровна, как и ее мать, Анна Николаевна Церкви не оставляла — живя во Владимире, часто ездила в Боголюбский монастырь и очень любила именно там молиться, — она о том не раз замечает в своей переписке. Но Вере Егоровне и в голову не приходило, что Катя на грани духовной катастрофы, что и некоторая духовная истовость другой дочери — Веры тоже имеет свои опасные симптомы. Да если бы и обратила, смогла бы она подняться на одну ступень со своей матерью Анной Николаевной, которая умела таким высоким и подлинно сильным духовным словом восстанавливать слабеющие временами душевные силы Егора Ивановича. Анна Николаевна была духовная львица, человек поистине духовного рассуждения, что святые отцы не случайно ставили выше даже сверхъестественных добродетелей святых.
У Анны Николаевны было неколебимое доверие Богу и Его Промыслу. За эту искренность и горячность не рассуждающей веры ее сердце было просвещено Самим Господом, и оно обрело мудрость. Все в ее уме было строго и стройно, и она-то вот умела ответить на любые нерешаемые вопросы, которыми так часто и мучительно искушает нас жизнь.
Когда у Кати назревал настоящий духовный кризис, а молодость все детское свое пробует на зубок и перепроверяет — выдержит ли оно это испытание или нет, подлинное это или нет? — в то время как раз вместе с эскадрой в Цусимском сражении на флагманском броненосце «Суворов» героически погиб любимый двоюродный брат Кати и Веры — Жорж Жуковский. И вот она мучительно думала о том, зачем и почему Бог попускает такие страшные войны и миллионные жертвы. «Неужели Он, если Он — сама Справедливость, не может, — если Он, конечно, есть, — прекратить эти войны»?
Бабушка признавалась мне, что она не сомневалась в том, что ее отец, когда идет на официальный молебен, только делает вид для порядка, что молится, — ведь он на государственной службе, а на самом деле давно уже веру потерял. Не то, чтобы полностью стал отрицать бытие Божие, но — остыл и тихо вышел за ограду церкви…
Катю раздражали бесконечные стояния на коленах сестры Верочки, вымаливавший Жоржа (после битвы еще многое время жила надежда, что он в плену или ранен…). Она не симпатизировала экзальтированной вере сестры, хотя бы потому, что она уживалась в Вере с явным и непререкаемым своеволием. После встречи с Жоржем в Орехове летом 1903 года (Вере было 18 лет, а Кате — 17 — и рассказ об этом последнем лете счастья — совсем уже близок) Верочка со свойственным ей апломбом заявила всем в семье, что Жорж — ее жених. Перечить ей, — как выражалась бабушка, в семье не было принято: Верочка слыла красавицей, талантом и ей во всем потакали. Достаточно сказать, что прежде чем окунуться в Ореховском пруду жарким летом, Верочка требовала, чтобы туда вылили четыре ведра кипятку.
Отношение к Кате в семье было более холодным, потому, может быть, она росла немного дичком, в замкнутости и никому не открывалась. «Верочка мне рассказывала с детских времен про все свои дела, подружек и влюбленности, а я не рассказывала ей ничего».
Вот пока только несколько предварительных эскизных штрихов к портрету Веры Александровны Микулиной, а потом Подревской, и позже — Жуковской…
* * *
Это была изнеженная, хотя и горячо любившая всех в семье девушка, энергичная, трудолюбивая, решительная, при том и умевшая быть самоотверженной, имевшая несомненный литературный талант и классическую внешнюю красоту, которым то самое своевоелие и необычайное упрямство в достижении того, чего только не возжелала бы ее душенька, принесло ей немало горя и разочарований. Эта с а м о с т ь, как называют святые отцы эти своевольные и самолюбивые черты наших характеров, положила печать и на устроение ее веры. Из Церкви Вера Александровна никогда не уходила, и скончалась-то она, заболев после всенощной, где с ней случился удар. Тридцать последних лет Вера Александровна прожила в Орехове, будучи директором основанного ею и сестрой Катей мемориального музея Николая Егоровича Жуковского.
Это была почти совсем одинокая, трудная и отшельническая жизнь, которую Вера Александровна выдержала с честью. Крепок был корень и в ней, и в Кате. Раза два в год тетя Вера (я звала ее тетей, потому что так она велела мне сама) приезжала к нам в Москву. Невозможно было узнать в ней когда-то одну из первых московских красавиц: плюшевый жакет, военная планшетка вместо сумки, сапоги, худая, бедная, даже нищая, — она привозила с собой любимые охапки Егориванычевых медуник из ореховского леса, подснежников и всех оттенков первоцветов, творог в чугунках и что-то в крынках, и море деревенских запахов: русской печи, хлева, гречневой каши, каких-то доисторичских капель духов, мороза, тающего снега…
Она приезжала в Москву по музейным делам, ходила по начальствам, хлопотала, спала у нас на полу под роялем — не было у нас ни одного запасного спального места, брала в аптеке и ставила пиявки — вечно худой и седой ее старческий зашеек был истыкан точками от пиявок… Вера Александровна, как и мать ее, Вера Егоровна, страдала сильными мигренями еще с юности, с гимназии.
Я боялась ее. Каждый год, встречая ее полуторку во дворе и принимая кошелки и авоськи с машины, пока мы с нею и бабушкой поднимались к нам на второй этаж по лестнице, тетя Вера успевала мне жестко прошипеть в ухо: «Запомни! я тебе не мать и не бабушка! Ты еще у меня попробуй что-нибудь выкинуть!..». О том, чтобы что-нибудь выкинуть и речи быть не могло — я боялась ее до мороза в сердце. Но при этом все-таки любила и жалела. Да и как было не почувствовать степени ее одиночества в жизни. Много позже, когда я уже начала разбирать архив, я многое другое узнала о тете Вере — какая она была нежная внучка, как любила свою бабуню Анну Николаевну, как много слушала ее рассказов, как ходила она за умиравшим Николаем Егоровичем, как писала свои милые книги… Как, наконец, она любила мою маму и Кирилла: в письмах она с нею так ласкова: «ты наша единственная на двоих дочка», — писала она моей маме на фронт. Своих детей у тети Веры не было. Именно у Веры Александровны в письмах и в одной из ее книг я обнаружила особенные строки, посвященные моей особо почитаемой (наряду с Казанской и Скоропослушницей) иконе «Взыскание погибших». Именно перед нею она молилась о спасении Жоржа.
Бедная девочка! Сколько подлинно красивого таило ее сердце, как искало оно любви, и к какой одинокой пристани прибиться пришлось ей в этой жизни. В Орехове в ее домике (рядом с главным усадебным домом) хранились, — я помню — красиво перевязанные пачки писем Блока, Белого, Мережковских, Городецкого и многих других, чьи имена входят теперь в антологию русской поэзии и литературы. Тут были и письма Жоржа — она все, конечно, свято хранила. Когда же после ее кончины в 1956 году, домик ее был продан, то мама и дядя, помешкав, приехали буквально через два дня после продажи, то увидели страшный погром: письма, книги — с дарственными надписями, церковная ее библиотека — все растащили по деревне на курево. А так же и вещи — мебель оставшуюся, какие-то редкие старинные предметы, — вообще же жизнь Веры Александровны была полуголодная и крайне бедная. И я всегда думаю о ней с болью: каково-то было ей там зимами одной? В заснеженном Орехове, почти без связи с миром — разве что в Церковь, в Ставрово, где жила ее церковная приятельница… О чем думала? Что вспоминала? Были и у нее блестящие годы, но от них остались только горькие разочарования. И все-таки она оставалась в Церкви…
* * *
Что же должно произойти с человеком, какие испытания он должен перенести, как исчерпать все жизненные возможности, чтобы вспомнил он о Боге, и бросился к Нему навстречу как к единственной надежде и упованию в этой жизни? О том ведает Евангельская Притча о блудном сыне, который, бросив отца, потерял на «стране далече» все, что имел, и дошел до того, что вожделел теперь хотя бы поесть рожцов в свином корыте, но и это было для него уже труднодоступно. И только на самом краю и пределе своей несчастной «свободной» жизни решил он вернуться в великом покаянии к отцу…
Помню в первые годы своего воцерковления, а мое сердце давно уже горело по Богу, только вот с "правильным" воцерковлением (как выражался один священник) я, увы, медлила. Когда же началась жизнь церковная, меня первые годы буквально не оставляли ни днем ни ночью два апостольских слова: из послания апостола Павла к Ефесянам «Вы были некогда тьма» (Еф.5:8), и из Послания к Фессалоникийцам: «Духа не угашайте» (1 Фес. 5: 16–22):
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла».
В то же время у святителя Феофана Затворника в его поучениях о молитве я прочитала, что истинной молитве может быть положено начало только тогда, когда у к а н е т в сердце некий огонек. И всегда то мне казалось, что этот огонек в сердце и есть не просто символ или образ Духа, но Его Самого живое присутствие. Но сердце не всегда вспыхивало и загоралось: увы, оно и холодело, оно и обмирало, оно и каменело. И это было не самой малой скорбью моей, потому что всякий раз, когда остывало сердце, я могла, крепко поборовшись с самой собой и своими бесконечными самооправданиями, почти в точности найти, увы, причину охлаждения в самой себе.
Не помню, у кого из знаменитых старцев в поучениях или воспоминаниях я прочла о том, как было обнаружено нечто подобное у одного из сослуживших ему в алтаре диаконов и что было тому причиной. Прозорливый старец-священник сразу почувствовал, совершая литургию, что рядом с ним, со святым Престолом и святой Чашей на Престоле в алтаре присутствует что-то недолжное, чуждое, холодное… Обернувшись, он велел диакону выйти…
Позже выяснилось, что, торопясь на службу, этот диакон пробираясь через толпу верующих не без раздражения и небрежности оттолкнул одну старушенцию, мешавшую ему на пути, и это сразу отразилось на состоянии его духа (о состоянии старушки здесь не говорю), и хотя сам он не обратил внимание на изменение состояния своего сердца, но духовно прозорливый старец это мгновенно прочувствовал. Кажется, это было в воспоминаниях о святом и праведном отце Иоанне Кронштадтском. И сколько потом подобных случаев встречались в церковных книгах! Великое множество, свидетельствующее о том, что Дух, уканув в наше сердце, начинает Сам вести нас по совсем новой нашей жизни во Христе, Он учит и показует нам наше подлинное состояние, наши давно непроветренные уголки души. Но мы, слабые, изменчивые и грешные, двигаемся по этому тесному пути с трудом и падаем, падаем, падаем… И все же, подымаясь, вновь движемся вперед.
Вот в то самое яркое по силе помогающей новичку Благодати, по силе чувств и горения времени начала церковной жизни, когда еще не приступала коварная душевная усталость (а она приступает где-то в середине пути), когда тебе кажется, что ты уже многое познал, чуть ли не все (?!) уже тебе открылось, и ты уже привык ко всему, — в такое как раз время преддверия ледникового периода духовной жизни и попала ко мне в руки одна необычная молитва…
«Любовию Твоею Божественною да уязвлено будет сердце мое, о Боже мой! Да взыщу день и ночь Тебе, Господа моего, да всею душею моею к Тебе присоединен буду; да жегома и палима будет душа моя божественным Твоим желанием; да присно сие имать души моей во утешение, да присно сие имать в тихое пристанище и непреложный покой»
А нашла я эту молитву, которая принадлежала святителю Димитрию Ростовскому, в книге писем известного подвижника и затворника первой половины XIX века Георгия Задонского, а его, в свою очередь «открыла для себя», читая в те времена неотрывно книги святителя Игнатия Брянчанинова, который Затворника Задонского особо чтил. И стала я читать эту молитовку очень и очень часто. Не без труда сначала, потому что долго не оживали в моем сердце ее строки — все-таки чувствовался немного вычурный стиль XVIII века, — а потом все больше стала привыкать к ней и на стиль уже не обращала внимания, пока однажды — а было это летом, в маленьком деревянном доме, где я гостила, в котором со мной была всего лишь одна небольшая иконочка Спасителя, подаренная мне Духовником, — вот там однажды и загорелось внезапно сердце, словно к нему поднесли пламя той самой, горевшей перед образом рублевой свечки. Укануло оно прямиком в сердце, как поразительно точно сказал святитель Феофан Затворник…
Мне тогда показалось, что я поняла, в чем была причина духовной драмы моих и не только моих близких, которые, внешне пребывая в Церкви и имея тогда в конце XIX — начале XX века все условия для духовной жизни, сердцем уже уходили «на страну далече» (Лк 15:13), теряли веру, холодели и возвращались в мрак мира, из которого вывел наших пращуров святой Владимир Креститель в X веке от Рождества Христова.
Не может человек, придя к Богу, достичь какого-то уровня, какой он сам себе пожелал, и там уже жить самоуспокоенным духом, бездерзновенно, не заботясь о том, чтобы продвигаться неустанно вперед. Здесь не может быть никаких «конечных остановок» — они смерти подобны. А что делаем мы? Сами себе рисуем перспективы, намечаем духовные горизонты: от сих до сих — это мое, для меня, а вот оттуда — пусть там уж монахи трудятся, — это не для меня. И невдомек, что Евангелие-то с его непомерными высотами духа дано Господом абсолютно для всех. Другое дело, что идти надо не спеша, что должна быть умеренность и рассуждение, поскольку путь опасен, но ведь на то нам Господь и Мать-Церковь и дают опытных в помощь: священство, духовников, чтобы мы не своевольничали и не сбивались на сторону с этого узкого пути…
У поколения моих бабушек и дедушек за немногими исключениями никаких духовных горизонтов, а уж тем более устремления к ним не имелось. Жизнь текла своим чередом, обрушивала на головы людей неразрешимые вопросы, разбивала их человеческие планы, разрывала даже тесные родственные связи, торжествуя победу «ненавистной розни мира сего»…
Так еще задолго до Гражданской войны было разорвано родство двух братьев Микулиных: Александра Александровича и Иосифа Александровича. Причиной тому стали их политические разногласия. Но о том — разговор особый…
Коллаж работы Екатерина Кожуховой: семейная группа Жуковских. Июль 1910 года. Слева — Екатерина Микулина, 1903 год, после выпуска в гимназии; справа — Вера Микулина в том же 1903 году.
Семейная группа — слева направо в самом верхнем ряду: неизвестный, Леночка Жуковская, дочь Николая Егоровича, Константин Подревский — муж Веры Александровны Подревской (урожденной Микулиной), Александр Александрович Микулин, сын Александра Александровича Микулина старшего и Веры Егоровны;
средний ряд: лежит в гамаке — Вера Егоровна Микулина, сидит Николай Егорович и далее — Анна Николаевна Жуковская за 2 года до кончины. Внизу сестры: Екатерина Александровна и Вера Александровна (только что сыграна свадьба Веры и Константина Подревского).
Материалы, письма, документы и фотографии из семейного архива публикуются впервые.
Часть III. РУССКАЯ ЦУСИМА
Глава 9. И первый клад мой честь была
«Дорогая Маня, ты просишь написать тебе письмо без выговора, но кажется, я никогда этим не занимался, а всегда только желал знать о тебе, а ты, как и на этот раз, ничего о себе не пишешь. Иозя (Иосиф Александрович Микулин — младший брат Александра Александровича) теперь в Петербурге генерал-квартирмейстером в Штабе войск Петербургского воинского округа и Гвардии и живет на Дворцовой площади № 4 кв.1…
Меня он знать не желает, после того как я был избран в 1905 году выборщиком на выборах в первую Думу по списку, который проходил от Кадетской партии. С тех пор он мне ничего не пишет и не отвечает на письма, а Оля (жена Иосифа Александровича — прим. авт. — Е.Д) писала, что он меня и видеть не желает, так что, когда я был в январе в Петербурге, то я к нему и не зашел.
У нас все по-старому… Увидимся ли летом?»
…Не сразу стали приоткрываться мне глубинные корни драмы, произошедшей между двумя братьями Микулиными, и навсегда разлучившей их на этой земле. Ведь это был не просто частный семейный разлад, — эта ссора братьев Микулиных имела некую мистическую проекцию — она стала прологом, прообразом братоубийственной Гражданской войны, до начала которой оставалось десять с небольшим лет, — нераскаянного, не отмоленного и до сих дней не преодоленного потомками нравственно и духовно великого горя России. Войны, кровь которой до сих пор вопиет к Богу…
Это письмо, написанное Александром Александровичем Микулиным сестре Марии Александровне в 1913 году, — не единственное в обширной их переписке, где старший брат с глубокой горечью и удивительным постоянством напоминает сестре о своей великой скорби — трагическом разрыве отношений с братом.
…Скандал, который привел к полному разрыву отношений между Микулиными, произошел в самом конце 1905 года или в самом начале 1906-го в Киеве, где жила в те годы семья Александра Александровича. В это время из Одессы по делам службы в Киев приехал Иосиф Александрович, — тогда еще генерал-квартирмейстер, служивший в Одессе начальником пехотного юнкерского училища.
Вера Егоровна с дочерьми Верой и Катей, принарядившимися ради встречи такого редкого, но желанного гостя, были заняты в столовой устройством чая, а братья беседовали, затворившись в кабинете.
Однако вскоре оттуда послышались резкие возгласы обычно очень сдержанного Александра Александровича и громкий голос, уже просто на крик кричащего Иосифа Александровича. Чувствовалось, что он уже совсем потерял над собой власть:
— Не брат ты мне теперь! Знать тебя с сегодняшнего дня не желаю!.. Микулины никогда не были бунтовщиками, а верными слугами Царю и Отечеству. Прекращаю с тобой все отношения!
С этими словами с треском хлопнула дверь, из кабинета вылетел элегантный красивый генерал, и, даже не взглянув на невестку и племянниц, бросился к выходу…
Долго висела в доме мертвая тишина. Отец из кабинета не выходил, но было слышно, как он неустанно мерил его шагами из угла в угол. Когда же Александр Александрович появился, он сообщил жене и дочерям, что они с братом Йозей разошлись в убеждениях и во взглядах на современное политическое положение в стране. Больше Микулины старшие дядю Йозю, как называли Иосифа Александровича в семье, никогда не видели …
Нельзя сказать, чтобы отношения между братьями и их семьями и прежде были очень тесными. До перевода в Киев Александр Александрович с семьей — двумя дочками и младшим сыном — жили в Одессе неподалеку от дома Иосифа Александровича. Однако в письмах Веры Егоровны то и дело мелькают слова сожаления о том, что семьи братьев крайне редко видятся друг с другом, да и то в основном встречаются на прогулках в парке.
Весной 1898 года служба Александра Александровича в Одессе уже подходила к концу — он ждал перевода в Киев — так же фабричным инспектором, только теперь ему предстояло возглавить очень большой округ.
В письме сестре Мане в марте этого года А.А.Микулин, ездивший по делам в Петербург, и заглянувший на обратном пути в Москву рассказывал о своем свидании с отцом, Александром Федоровичем Микулиным, который жил в Москве в номерах:
«24 Марта 98. Одесса.
Был у папы, он еще больше постарел, едва ходит. Я его встретил на тротуаре около его Номеров, и он мне говорил, что вышел первый раз после болезни. Меня едва узнал, и то, когда я подошел вплотную к нему… С Йозей и Олей (женой Иосифа Ольгой(урожденной Котляревской) — прим. авт. — Е.Д.) встречаемся только на улице и друг к другу еще ни разу не ходили. Должно быть, так до лета и не побываем один у другого».
В этом же письме была и приписка Веры Егоровны:
«Одесса 24 марта 1898. Вчера встретили Олю с Йозей (они все так же блестящи) и Оля травила меня, какое должна я себе сшить платье для представления Великой княгине. Больших приготовлений к празднику (по случаю коронации Государя и Государыни — прим. авт. — Е.Д.) не делаю, а все-таки хлопот наберется».
К осени отец Александр Федорович Микулин стал совсем плох и Александр Александрович с Верой Егоровной решили перевезти его к себе в Одессу, тем более, что перевод Микулина по службе в Киев несколько задерживался. Александр Александрович писал в эти дни сестре:
«Одесса, 19 Сент. 98. С папой очень тяжело. Он ни на что не доволен, на все сердится, желает уехать, хотя совершенно не встает с постели… Последние дни стал даже заговариваться. Доктор ходит раз в неделю, но болезни у него особой не находит, хотя и говорит, что такое его положение может быстро повлечь за собой конец…».
Через восемь дней следует очередное письмо Манечке (хотя ни на одно из них она ответа пока не дала):
«Одесса. 27 Сент. 98.
Пишу тебе, чтобы сообщить радостную весть — сегодня папа пожелал исповедаться и сподобился Причаститься Святых Таин. Ему с каждым днем делается все хуже, а главное он совсем ослабел… Вчера послал тебе телеграмму, но до сих пор нет ответа. Не знаю, что и думать, а папа почти каждый день спрашивает, если ли от тебя письма и говорит, что все его бросили. Йозя и раз в неделю не заходит…».
«Одесса, 11 Октября 98.
Милая Маня, по-видимому, до тебя не доходят наши письма, так как я писал тебе в течение этих полутора месяцев три письма и Верочка писала два письма. Мы тебе писали, что папа теперь уже больше 2 недель лежит не вставая, а ты спрашиваешь, катался ли он в парке… Йозя, хотя [мы] и живем в одном городе, но по целым неделям [к нам] не заходит…».
Спустя тринадцать дней 24 октября 1898 года Александр Федорович Микулин, Действительный Статский советник в отставке, тихо скончался на руках у старшего сына Александра и невестки Веры Егоровны от старческой дряхлости. Последние недели сын носил его на руках, а невестка не отходила от него, поила и кормила с ложечки. Разумеется, Мария Александровна все письма и телеграммы о последних днях жизни отца получала, так как именно она-то все письма и сохранила, аккуратно сшив их пачками. Но в Одессу на похороны отца Маня так и не приехала. Возможно, у нее не доставало средств на поездку.
Александра Федоровича отпели в Покровской церкви Одессы и похоронили на втором городском кладбище. Он прожил большую и исключительно насыщенную нелегкими трудами жизнь, которая заслуживает того, чтобы о ней, а так же и о родовых корнях Микулиных, было упомянуто особо…
* * *
Александр Федорович Микулин (1821–1898) происходил из дворян Самарской губернии. Воспитывался он, как и отец Веры Егоровны — Егор Иванович Жуковский — в Институте Корпуса инженеров путей сообщения. Службу начал в Енисейской строительной комиссии в 1839 году. Условия были настолько тяжелы, что через 4 года Микулину пришлось на некоторое время отойти от службы чтобы подлечиться, но вскоре он вновь вернулся в строй: теперь он принимал участие в строительстве знаменитой Военно-Грузинской дороги, отвечая за участок дороги из Джараховского в Гангаевское ущелье. За отличную службу Микулин был пожалован Станиславом 3 ст., а потом и назначен начальником дистанции на левом крыле кавказской линии.
Спустя лет десять — Александр Федорович служит уже инспектором на Тамбово-Саратовской железной дороге, а за сим — на Московско-Рязанской и Козловско-Моршанской железных дорогах.
Уволен от службы он был по домашним обстоятельствам 60 лет от роду с пенсией, установленной генерал-майору армии в половинный оклад жалования, а так же пенсией, выдаваемой из кассы Московского казначейства.
Дважды Александр Федорович становился вдовцом. Дети у него были только от второго брака: Александр (мой прадед) родился в 1862 году, Иосиф в 1863 году, Дмитрий в 1866 году и сестрица Манечка — в 1871 году.
Характер у Александра Федоровича был далеко не прост. Сказалась и насыщенная нелегкими трудами инженера путей сообщений жизнь, постоянное пребывание в походных условиях, отсутствие собственного угла, имения, двойное вдовство… А ко всему тому и никогда не утрачивавшаяся родовая дворянская память о славных делах великих предков, воспоминания о которых, возможно, как-то и усугубляли остроту житейской ущемленности Александра Федоровича и его переживание своей неустроенности. Ведь он был как никак Рюриковичем, — прямым потомком первой русской царской династии…
* * *
Род Микулиных вел свое начало от святого благоверного князя Михаила Тверского и святой преподобной Анны Кашинской — князей Микулинских-Тверских. Во многих коленах рода служили они верой и правдой Богу, Царю и Отечеству в воинских званиях, многие отличались безудержной храбростью, были жалованы государевыми наградами и землями за героизм, за раны, а также и за успехи на дипломатическом поприще. Ветвь князей Микулинских принялась расти от потомков родного брата святого благоверного князя Александра Невского — Ярослава Ярославича. Оба брата приходились правнуками Великому Владимирскому князю Всеволоду Большое Гнездо, единокровному брату Андрея Боголюбского, византийца по матери.
…В древних разрядных книгах Микулины и даже их жены смотрят на нас с высоких мест: вот в 1525 году на свадьбе Великого князя Московского Василия III Ивановича и Елены Глинской «князь Юрьева Патрекеева княгини Анна сидела выше Настасьи Васильевы Михайловича Тысяцкого. А под Настасьею сидела Анна Иванова Морозова, а под Анною сидела Марья Микулина Васильевича…».
В «Списке дворовых, приказных и служилых людей разных типов последней четверти XVI века [1582 г.]» читаем, кто, где сидел из приближенных к Государю: «А в сенях, вниз избы, направе по лавке, что на рундуке… А на скамье на рундуке… А на скамье среди сеней… На Первой скамье Благой, Огарков, Крюков и там Григорий Иванов сын Микулин (под № 139), а за теми на другой скамье: Безобразов, Голохвостов, Пушкин, Вырубов…», «А из сеней выше направе» под № 221 — Петр Иванович сын Микулин. Видим мы Петра Ивановича Микулина в шведском походе 1589 года, потом в 1602 году его же дьяком (царским чиновником) Казанского дворца, в 1622 году он же — Дворцовый дьяк, занимается сыском денежных окладов, а в 1640 году ему поручается некое важное дело на Устюге.
В этом деле по сыску денежных окладов появляется микулинская родня:
«Царю Государю и Великому князю Михаилу Феодоровичу бьет челом холоп твой Левка Ондреев сын Микулин…».
Дело тут в том, что отцу челобитчика «за ево службу и за кровь» жалования было сто рублев, а сыну ево, бывшему с Государем под Москвой, где он с польскими и литовскими людьми бивался, бояре царевы поверстали ему за «службишку» жалование четвертное, учинив сему Льву всего 20 рублев. Далее Лев Ондреев Микулин напоминает царю, что сражался он и под Смоленском (а речь-то идет о кровавых делах Смутного времени). И в конце:
«Пожалуй меня холопа своего за отца моего службу и за кровь и за мое службишко вели ту боярскую придачью справить. Царь Государь, смилуйся, пожалуй!»
Видим мы также и дьяка Федора Микулина в Приказе Казанского дворца, где за приписью сего дьяка за Чигиринское «дело», за Киев (вечный мир с Польским королем), за Крымский поход 1689 года награждаются его сородичи Карп Григорьев Микулин землями в 900 четей в Пензе, а так же Григорий Карпович, Борис Дмитриевич и Никита Дмитриевич Микулины по 450 четей.
После опал и казней во время царя Ивана IV Грозного род Микулинских князей начал постепенно беднеть, потомки опальных унязей — в основном женщины и дети — высылались семьями в Поволжье — в Свияжск, Казань, Симбирск, Арзамас, Пензу, где жены да дети, да старики начинали строить свою жизнь чуть ли не заново, на необжитой тогда в этих краях целине. Так в древних документах мы видим вотчину Гаврилы Микулина на реке Яжати в Арзамасе (ныне Ежать — приток реки Пьяны) — деревня Микулино, где записан и его сын Иван, который уже по другим документам размежевывается с родными. Тут же оседает и Трофим Микулин, брат Петра — дьяка Патриаршего дворца.
Его потомков мы видим в свите царя Михаила Феодоровича в 1622 году. У Трофима в потомках Федор Микулин — дьяк приказа Большого Дворца. А его сын — высылает царю кречетов с Двины — о чем свидетельствуют документы того времени.
Вот рядная в замужество дочери Марьи Неклюдовой Аграфены Даниловны запись, данная вдовою Марьей Неклюдовой зятю своему Осипу Ананьину Микулину. Упоминается там и «Синбирское» село Микулино.
… А вот вдова Ивана Микулина Варвара в Арзамасском уезде в Залесском Стане в 1610 году в разгар Смуты разбирается по разделу земли со снохами — тоже вдовыми «Петровские жены Микулина Анны да Сидорова да Офонасьева Петровых детей Микулина, да Томиловские жены Микулина Анны, да Томиловскова ж сына Ефима», делит по государеву указу свои земли.
Какое все-таки это чудо историческое — эти документы, и как тут не изумиться аккуратности наших далеких предков и толковости былых государевых порядков. Не только что каждый человечек служилый, но и вся землица наша описывалась шаг за шагом и столь подробно, что можно и сегодня в тех местах восстановить старинные карты: тут вам и межа на речке Очинаре, которая «набита на ольхе и против той грани поставлен за гумном столб кленовый, а на нем набита грань», и описание гумна, где «хлеба стоячева — копна ржи овина с 4, да копна пшеницы овина с 4, до овса овина с 3…». А в самом конце этой бумаги приписка: «К сем отдельным книгам вместо детей своих духовных поп Григорей руку приложил».
Дело той вдовы Варвары тянулось долго и еще много было тогда посвящено тогдашних записей разделам родных и потомков Микулиных, усевшихся теперь уже не в своих древних вотчинах Тверского края, а в поволжских селах по берегам реки Ежати, и все они, хотя и свидетельствами о межевых делах, отсверкивали зарницами исторических кровавых баталий, свидетельствовали о ранах и смертях, о крови, пролитой отцами и потомками за Царя и Отечество, рассказывали о тяжбах и женитьбах и о том, какие имущества за кем тогда давали… И надо сказать — невелики были те имущества. Потому что семьи были очень многолюдными, а значит и делиться приходилось не по-крупному…
Так постепенно — шаг за шагом и добрались Микулины до Самарской степной земли, до Бугульминского уезда и деревень Сумарокова да Микулина, где и угнездились они к 19 веку…
Однако вернемся к драме братьев Микулиных — в ней ведь так или иначе и история рода сказалась — у одного повышенными заботами о поддержании чести рода, у другого — обостренным восприятием тягостей народной жизни. И то и другое познали Микулины в полной мере…
* * *
После размолвки братьев прошло несколько лет. Но они не принесли никаких видов на скорое примирение. Рана становилась все глубже, а боль Микулина-старшего (так я буду называть своего прадеда Александра Александровича) все острее…
«5.1.08. Киев.
Дорогая Маня, письмо твое получил накануне рождества, так что написать в Бердянск было уже поздно. Не писал тебе, потому что написать ничего утешительного нет. Мы живем изо дня в день около больной Верочки, все не поправляется… Писал я о тебе Йозе, но он мне ничего не отвечает. Вот уже больше двух лет, как он совершенно прекратил со мною всю переписку и даже не выехал повидаться с нами, когда мы осенью проезжали Одессу (с вокзала на пароход) по пути в Ялту. Он находит неприличным видеться и говорить с братом, который был выставлен выборщиком в 1-ю и 2-ю Госуд. Думу от прогрессивных избирателей. Никак я не думал, что разница политических убеждений может посеять такой раздор между мною и им. У Оли родился осенью еще один сын Георгий (родилось сразу два мальчика, один сейчас уже умер). Целую тебя. Любящий тебя брат А.Микулин».
Не просто складывались у старшего Микулина и отношения с сестрой Маней, которая, увы, слишком часто выказывала свое нерасположение к семье старшего брата, которая всю жизнь старалась скрасить ей ее сиротство:
«29 Июня 910. Киев.
Милая Маня, ты обращаешься ко мне с выговорами и постоянными вопросами. Между тем как когда Верочка (старшая) попросила тебя написать кое-что о себе, ты попросила оставить тебя в покое и вовсе тебе не писать, что она и исполнила. Твое нежелание приехать к нам не могу объяснить ничем иным как желанием стать ко мне в такое же положение, как и Йозя, который уже пять лет мне не пишет и через Олю передает, что и видеть меня не желает…»
«17. IV.911/ Киев.
… На письмо мое от 20 марта и на письма мои к тебе от 1 апреля ты никому ничего не отвечала. Это собственно привело меня в беспокойство, здорова ли ты. Теперь я вижу, что мне ничего не остается более, как прекратить тебе писать до тех пор, пока ты сама не пожелаешь обратиться ко мне. Йозя уже мне не пишет пять лет, теперь и ты к нему присоединилась… Прошу тебя не забывать, что не я от тебя отказываюсь, а ты от меня, и когда бы ты ко мне не обратилась, ты найдешь во мне по-прежнему твоего брата. Твой А.Микулин».
«30 Окт. 913. Киев. Бульварно-Кудрявская, 33.
Милая Маня, очень мне трудно тебе что-нибудь посоветовать — так ты от нас отдалилась, и знать не хочешь нашу семью… Верочка тебя и этот, и прошлый год приглашает приехать в Орехово — может, ты бы захотела пожить в тишине в деревне и отдохнуть… Ты спрашиваешь про Йозю, — он теперь в Феодосии бригадным командиром. Живет один. Оля с маленьким от него уехала летом и живет в Петербурге также одна. Со мною Йозя кончил переписку уже 7-ое лето, и я не имею от него ни строчки. Будь здорова. Целую тебя — твой А.Микулин».
Летом 1913 года действительно в семье Микулиных произошел еще один разрыв, и столь же окончательный, непоправимый, безнадежный: между Иосифом Александровичем Микулиным и его женой Ольгой Александровной Микулиной (урожденной Котляревской). Но о том — чуть позже…
* * *
…Один и тот же сон повторялся мне с редким постоянством в самые разные периоды моей жизни, — менялись в нем только черты действующих лиц. Вернее, это был даже не сон, а всего лишь один движущийся повторяющийся кадр. Вот вижу вдруг, что кто-то из моих усопших идет ко мне навстречу, словно возвращается откуда-то, и я тоже рвусь к нему навстречу, понимая, одновременно, что он (или она) хотя все-таки и умер, но оказывается, — и как же это очевидно! — жив, и что отсутствие его было только временным, и вот сейчас, наконец, случится долгожданное и совершенно невероятное в этой жизни — мы обымем друг друга поистине с пасхальной радостью.
И — было: пронзительное, всепрощающее, всеискупаюшее, совершенно неземное объятие, в котором высказывала себя и вся ставшая поистине неземной любовь к утраченному близкому, которая только после утрат и подымается на такую небесную высоту, все скучание о нем, вся боль, которая была связана с его образом, какую только человек может и должен был бы испытывать к другому человеку. И вот: расстались навечно, но вдруг «произошла ошибка» — и тот, кого, казалось, ты давно утратил насовсем, вдруг… возвращается к тебе как некое ослепительное прозрение, как радостное разрешение самой большого и страшного тупика жизни. Смерти нет.
"Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы" (Лк. 20:38).
Не из этого мира были дарованы эти свидания, а как пролог и ожидание того века, где все и всё освободится от земной лжи, где останутся одни только чистейшие алмазы правды, — правды о нас самих, о наших близких, которых мы так или иначе всю жизнь судили своими человеческими судами, и только теперь увидели в их подлинной сути неизмеримо преображенными, правды о наших чувствах, о наших мыслях и делах, о наших взаимных долгах любви, — не по-земному чистой, ясной, все до самого конца объясняющей.
И были эти «встречи» настолько осязаемы, ликующи, так близки оказывались наши глаза, так невероятно подлинны и реальны до самых малых, до боли знакомых черт мамы, до незабвенного ощущения ее родных рук, — или отца, сына, так крепко и всеразрешительно теперь меня обнимавших…
Вот почему мне всегда представлялись наши воспоминания и мечты о прошлом, наше молитвенное общение с покойными по-детски наглядно — словно какая-то картинка к задачке из школьного учебника. Такое вИдение у меня присутствовало с детства, и даже, может быть, память моя острее работала именно благодаря этой самой задержавшейся детской способности все видеть в каких-то пространствах… Может быть, далекий отзвук, некая крохотная капля, доставшаяся от Николая Егоровича? А, может, от мамы, бабушки и деда — художников?..
А картинка та показывала мне, как мы и они, нас помнящие там, с сердечным огненным взаимопритяжением одновременно движемся навстречу друг другу из двух противоположных точек — неких А и Б — из прошлого, и из настоящего. Из того мира и из этого. Нет меж нами препон времени, нет никаких земных розней, — одни пространства, которые нужно и, оказывается, можно преодолеть. Пространства, исполненные бесконечных мирских предрассудков, каких-то злопамятств, розней, противостояний и неразрешимых противоречий, — всего того, чем исполняет мир Божий человеческая греховность и зло, и соединяемся неразрывно и победоносно в некоем центре, который и есть само средоточие бытия.
И вспомнилось: «Воини же, егда пропяша Иисуса, прияша ризы его, и сотвориша четыре части, коемуждо воину часть, и хитон. Бе же хитон нешвен, свыше исткан весь (…) да сбудется Писание, глаголющее: разделиша ризы моя себе, и о иматисме моей меташа жребия» (Ин.19:23–24).
Это видЕние встречного движения к точке взаимного соединения людей — живых с живыми, усопших с живыми, старых с молодыми, сама эта точка соединения — Вера во Христа — открылось позже мне как метафизическое и истинно реальное воплощение премирного бытия Церкви Христовой, неустанно восстанавливающей неразрывные, но одновременно и непрерывно раздираемые людьми, как ризы Христовы на Голгофе, ее части. ВОинствующую — земную, и Торжествующую — Небесную во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, как глаголем мы в нашем Православном Символе Веры.
…Господь соединяет, устами диакона взывая к нам на Божественной литургии: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную», А мир, который и рожден-то был ради созидания Церкви во Главе со Христом, — он противодействует, отталкивает, рвет и режет по живому даже самые крепкие узы родства и любви.
Не случайно игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский заложил на холме Маковце храм во имя Пресвятой Троицы — первообраза премирного Божественного соборного Единства, «дабы воззрением на святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего».
* * *
Теперь для нас, переживших революции и Гражданскую войну, и все перипетии XX века, бесконечные судилища и расправы без суда и следствия, — разрывы кровных связей по политическим мотивам — стало делом вполне обычным. Мало кто по-настоящему дорожит теперь в России не только духовным, но и даже кровным родством. Над родителями теперь принято посмеиваться, — даже батюшки последних «призывов» возлюбили в последние два десятилетия повторять приходящей к ним на исповедь молодежи, чтобы, мол, не особенно-то прислушивались к родителям, — мол, родители ваши были безбожниками и ничего в жизни не понимают правильно и доброму не научат. В общем, ничтоже сумняшеся, подправляется (если не перечеркивается) пятая Заповедь из Декалога Моисеева в соответствии, с, якобы, насущными запросами времени. А ведь и простые люди на Руси всегда знали, что «родительское слово на ветер не молвится».
Стариков куда-то все время грозятся отселять, — уж слишком много, говорят, их теперь образовалось, хотя они-то и есть подлинная красота жизни и оселок нравственности для молодых в их умении не только терпеть, но и лелеять старость тех, кто их вырастил. Словно поветрие такое над Россией: вырубить все старые деревья — кора, мол, загрубела и ветви изогнулись, уничтожить всю старину — «путем сносов» и заменить подлинники бездушными новоделами с еврокомфортом, набив их офисами, превратить сокровища старины и памятные места в мертвые архитектурные потемкинские деревни, — не дай Бог начнут деревянные храмы вновь жить своей церковной жизнью (мол, они разрушатся от наших стоп и молитв), а великие святыни иконы заточить в музеи — отдав их под музейный контроль. Все то же языческое преклонение перед идолом Ваала и прогресса вопреки всему, о чем предупреждает человека Священное Писание.
А ребенку живое общение со стариками не могут заменить даже и родители, по богатству неизрасходованных запасов молодости живущие в первую очередь полнотой своей жизни, своими делами, — работа ли, супружество ли, или даже вхождение в жизнь церковную…
Господь соединяет людей, творит семьи, ограждает роды, связывая поколения неразрушимой цепью духовной, нравственной и физической наследственной взаимозависимости, где корни закладывают характеры и залоги крепости (или немощи) будущих ветвей, а ветви, — как уже говорилось раньше, очищают корни, если сами подвизаются в Церкви Христовой очищаться духовно, исправлять свои собственные благоприобретенные и родительские, и общечеловеческие — от Адама — недуги души, чтобы затем, по мере собственного очищения, постепенно начинать помогать и своим предкам.
В творениях великих святых отцов мы часто встречаем церковное поучение о том, что подвиг истинного монашества «выкупает» души семи поколений до рождения монаха и семи поколений потомков его — разве оно не свидетельствует о неразрывной взаимозависимости поколений?
«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20:5–6).
Конечно, Всемилостивый Господь может и пресекать наказания на детях, если ими будет явлено истинное покаяние и молитва к Нему, Отцу Небесному о прощении, если молитва их будет слезная, молитва любви, поскольку «все, что делается без любви, не имеет права на существование», — так учил наш Духовник, и слова его мы понимали буквально и безоговорочно.
Когда же по горячим молитвам потомков Господь прощает грехи предков, они уже не ложатся тяжким бременем на плечи детей, внуков и правнуков. Но для того, чтобы такая молитва имела действенную силу, мы ведь должны познать во свете истины Христовой жизнь наших предков, их пути, ошибки, их заблуждения, познать их греховность и как свою собственную, присущую всему поврежденному человечеству, а потому и молиться о предках глубоко сострадательно, как молимся о себе, когда истинное благодатное покаяние сокрушает наши сердца…
Вот тут и сокрыта соль всего дела. Познать-то познать, да вот как? И здесь вновь: шаг право, шаг влево — расстрел… Любящему и сострадающему, мужественному христианскому сердцу, алчущему правды во Христе («Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф.5:6)), но при том страшащемуся и судов не по мерам своим, Господь правды о прошлом непременно приоткрывает. Иначе для чего бы существовала в священном Писании священная История, если не для воспитания нашего?
На фотографии 1897 года (снято в Одессе): семья Микулиных во главе с отцом Александром Федоровичем Микулиным — сидит вправо от центра; на коленях внук — Александр Александрович Микулин. Стоят братья Микулины — Иосиф и Александр Александровичи. Иосиф — военный — слева. Справа от Александра — его дочери: Вера и Катя.
Сидят: Ольга Александровна Микулина (жена Иосифа Александровича — урожденная Котляревская) — на коленях — сын Александр, далее Мария Александровна Микулина (Манечка), за ней старшыий сын Иосифа — Владимир Микулин. Справа от Александра Федоровича сидит Вера Егоровна Микулина, жена Александра Александровича (урожденная Жуковская).
На столике в центре — портрет покойной матери братьев Микулиных — Екатерины Осиповны Микулиной (урожденной де Либан).
Все материалы, переписка и фотографии из семейного архива публикуются впервые.
…Братья Микулины, свято храня в сердцах своих древние семейные предания, жизнь славного рода до его переселения в Поволжские края, считали все-таки своей непосредственной родиной, своим изначальным «кормящим ландшафтом» величественный, по-над широкой Волгой вознесенный, царствующий в поволжских пространствах Симбирск. В первую очередь дорог он был Александру, который провел в Симбирске все свои гимназические годы. Иосиф же отроком пошел по военной стезе и из Самарских краев мальчиком был отправлен в Москву сначала в I Кадетский корпус, а затем в Александровское военное училище на Знаменке, где и по сей день, кстати говоря, все так же продолжают располагаться здания Министерства обороны России.
Саша оканчивал известную Симбирскую гимназию за три или четыре года до Александра Ульянова, какое-то время они учились рядом, параллельно. Директором гимназии в годы окончания Сашей гимназии стал отец будущего председателя Временного правительства Александра Керенского Ф.М. Керенский. Младший Ульянов оканчивал гимназию много позже…
Прошло несколько лет, и в эту Симбирскую гимназию был переведен Василий Розанов, который, между прочим, потом писал, что «Симбирск был родиною моего нигилизма». В воспоминаниях о гимназии Василий Васильевич отмечал наличие «яркого протестующего, насмешливого света», впрочем, как и наличие консервативного антагониста этому «свету». Добавим, что еще с Карамзинских времен Симбирск известен был также и своей сильной масонской закваской, которая со старинным семейством Микулиных никак не соприкасалась по милости Божией.
Выйдя в отставку в 1881 году, отец мальчиков, Александр Федорович Микулин, жил в Бугульме Самарской губернии, где к XIX веку угнездилась и другая родня Микулиных. Там живали и брат, и сестра Александра Федоровича Микулина, и родственники его второй покойной супруги — урожденной Гортензии де Либан. Свою вторую супругу вдовец Александр Федорович Микулин встретил в Казани — это была милая, хорошо воспитанная в Казанском Институте благородных девиц, образованная двадцатилетняя француженка — Гортензия де Либан. Отец ее, полковник Анри-Жозеф де Либан был виконтом Франции, родом из Арвиля, в котором когда-то находилось одно из самых первых гнезд рыцарей-тамплиеров. Не могу утверждать с точностью, но, возможно де Либаны были их потомками. После войны 1812 года Анри-Жозеф остался в России и служил верой и правдой русским государям.
У меня до сих пор хранится институтский аттестат девицы Гортензии 1852 года с отличными оценками по всем предметам. Перед венчанием она приняла Православие и стала именоваться Екатериной Осиповной Либан, а после — Микулиной. С нее-то и повелись в нашей семье Екатерины. Она прожила совсем немного: ей было всего 40 лет с небольшим, когда она скончалась вскоре после рождения Манечки в 1874 году. С этого времени и началась для мальчиков Микулиных их непростая казеннокоштная жизнь в учебных заведениях вдали от дома.
Все Микулины — отец и сыновья, очень тяжело переживали свое семейное сиротство. Видно Александр Федорович любил свою супругу, — не случайно на всех семейных групповых фотографиях рядом с Александром Федоровичем всегда стоял портрет покойной Екатерины Осиповны.
Саша — старший сын тоже всегда с трепетом и нежностью вспоминал свою матушку, просил Катеньку (бабушку мою), названную в честь Екатерины Осиповны, не забывать бабушки и хранить о ней память. Что бабушка и делала, рассказывая мне, увы, совсем немногое о ней, о ее короткой и, вероятно, весьма грустной жизни, показывала оставшиеся от нее маленькие старинные томики французских романов. Екатерина Осиповна, по словам бабушки, вероятно, повторенным со слов отца, — очень тосковала в одиночестве, так как Александр Федорович по службе вынужден был находиться в постоянных разъездах. Возможно, что ее немного тяготил и мрачноватый характер супруга, к тому же он был на 12 лет ее старше…
После кончины прапрабабушки Екатерины Осиповны имена ее родни еще долго появлялись в Адрес-календарях российских, но нигде в семейной переписке мне не встречались упоминания о каких-либо связях Микулиных с Либанами.
Это семейное сиротство положило какую-то сумрачную печать на всех — Александр Федорович и так был человеком довольно сурового нрава, а тут и вовсе захмурился. Дети росли в казенных учебных заведениях, а там, в прежней России, были заведены действительно железная дисциплина, большие строгости и напряженнейшие занятия детей с шести утра до отбоя. Только в семье Жуковских Саша и его сестрица Манечка смогли почувствовать, что такое подлинное семейное тепло. Александр Александрович буквально пропитался духом семейной жизни Жуковских, и потому так тесно «прилепился» не только к жене своей по слову Библии («оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть» (Быт. 2:24), но и ко всему ее роду.
И все же детское сиротство, и возможно, что-то еще и иное, о чем мне теперь, вероятно, никогда не узнать из истории рода Микулиных и других родов, сближавшихся с ними, — оставило свой след на душах Микулиных. Какая — то тень, словно сумеречное облако покрывало их облики. Насколько неуживчив и тяжел характером был старший Микулин — Александр Федорович, настолько суров и сух, и даже жесток, наглухо замкнут весь в себе — Иосиф Александрович; вечно обижалась на все и на всех Манечка, сбившаяся в годы после института и учебы в консерватории на увлечение столоверчением, спиритизмом. А это — очень большая и смертельно опасная (если не покается) травма для души человеческой. Поскольку в таких занятиях человек приходит в близкое соприкосновение с духами тьмы, становится их заложником.
Александр Александрович, мой прадед, хотя и обладал истинной врожденной сердечной мягкостью и добротой, какой-то в высшей степени порядочностью, учтивостью, но держался он очень замкнуто, и не случайно, что дети не только очень высоко почитали авторитет его как родителя, но и боялись, хотя он никого никогда не наказывал, не гневался. Было в нем что-то такое, что не располагало к простодушию, добрым шуткам, и легкости в общении, за которыми у Жуковских стояла чистота сердца, доброе расположение к людям, доверие, отвергающее темные помыслы подозрительности…
И даже у бабушки моей, когда я вглядываюсь в ее молодые фотопортреты, я замечаю ее отведенный в сторону, немного спрятанный в себя, тихий, сумеречный взгляд. Не дрема и не бдение, не сон и не явь — но что-то очень сильно напоминающее мне образы полуреальных женщин-теней замечательного и очень любимого мною русского художника В. Э. Борисова-Мусатова, с их неявными туманными чертами, полуприкрытыми глазами, — на фоне уже совершенно призрачной, неземной красоты срубленных русских вишневых садов, погруженных в весенние туманные дремы, опустевших усадеб и парков, красотой надмирной, еще живущей неизменно только в редких сердцах…
В свое время — давным-давно — когда я открыла для себя Борисова-Мусатова, я стала думать о России двояко: вот — реальность, которая вокруг меня, а еще 30–40 лет назад она хранила по провинциям и окраинам свои родовые старинные черты, а вот — Небесная Россия, которая как святой град Китеж, погрузившийся в воды Светлояра, отошла теперь на небо и там она живет в вечности, в своей подлинной красоте, которую уже никому ни за что не сумеешь рассказать. Сердце знает и помнит, — а начнешь рисовать — все подделка: слов не хватит, краски не те… Вот разве — Рубцов?
Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи… Мать моя здесь похоронена В детские годы мои. — Где тут погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. — Тихо ответили жители: — Это на том берегу. Тихо ответили жители, Тихо проехал обоз. Купол церковной обители Яркой травою зарос…Может, поэтому и начала я лет 25–30 назад задумывать эту книгу, чтобы в ней сквозь образы дорогих мне людей хоть чуть-чуть засиял бы своим невечерним светом образ незабвенной Руси, который еще не изуродовали своими описаниями люди, сами не сохранившие в себе ее живых соков.
…А еще эти тени на лицах напоминали мне знакомые с раннего детства образы Микеланджеловского реквиема — фигур «Суток» из Капеллы Медичи — «Утра», «Вечера», «Ночи», «Дня», всегда неизменно сопрягавшимися в моем сознании с образом душевной смерти: вечности без Бога и без Его Света…
* * *
Эта сдержанность, закрытость, и даже некоторая нелюдимость, а потому, возможно, и скудость свидетельств о семейных связях Микулиных, — всегда подвигала меня на розыски хоть чего-то исторически «живого», еще теплого, не закоченевшего в человеческом беспамятстве. Был период, когда я месяцами неусыпно просиживала в старинных и новых стенах дома Пашкова в главной российской библиотеке на Моховой, перелистывая чуть ли не все русские Адрес-календари, вперемешку с древними разрядными книгами, актами и прочими документами. Я искала жизни, искала тепла и родства, искала наощупь — в надежде обрести нечто посланное и для меня через ту бездну, которая пролегла между нами нынешними и великим русским прошлым.
Мое ненасытное любопытство было все же не случайным, — это сумеречное облако, покрывавшее ту былую жизнь, этот ни с чем не сравнимый оттенок уныния, нелюбовного разделения душ, это свидетельство умаления света Божия в жизни людей и холод теперь уже почти осязаемо достигал и до меня. Никогда, никогда, впрочем, не виделось мне подобное на лицах Ореховских жителей. Напротив: даже в самые серьезные и скорбные моменты жизни сквозь лица все-таки просвечивала радость, говорящая о примирении с жизнью, о явном присутствии Божием в ней.
Но как же была тосклива и безнадежна жизнь тех, кого я находила в Адрес-Календарях, если листая их, погружаясь в документы, в их собственноручные писания, я буквально начинала задыхаться от вполне реального и сильного ощущения безысходности и тоски…
Тем не менее, Адрес-Календари все-таки сообщали немало интересного… Например в Календаре Самарской губернии за 1880 год в разделе Ведомства министерства юстиции сообщалось, что прокурорский надзор в Бугульминском уезде осуществляет Александр Осипович Либан — дядюшка братьев Микулиных по матери. А в Уездном по Крестьянским делам присутствии — заседал штаб-ротмистр Микулин, а в присутствии воинской повинности — делопроизводитель дворянин Николай Михайлович Микулин — по всей вероятности двоюродный брат Александра и Иосифа. Среди Мировых судей я видела коллежский советник Федор Федорович Микулин — родного брата прапрадеда моего Александра Федоровича. И, наконец, в Бугульминском уезде, как и в Арзамасском, как и под Симбирском, как и в самой колыбели рода — рода в Тверском крае — нашла я и Микулинскую волость.
Со многими известными русскими фамилиями, жившими в этих краях, роднились, жили бок о бок и вместе воевали предки Микулиных в XVII и XVIII веках: с Аксаковыми, Языковыми, Неклюдовыми, Горчаковыми, Дурасовыми, Мертваго, Олениными, Тургеневыми, Чичериными, Бурцовыми, Болотовыми, Осоргиными…
Знаю, что дорог был прадеду моему — Александру Александровичу этот вольный волжский воздух великих речных и степных пространств, что он хорошо чувствовал какую-то особенную эпическую мощь этих мест, сохранявших память о рвавшейся когда-то к рубежам азиатских просторов Сибири энергии и силе молодого русского этноса. Эта свежесть и духовная нерастраченная мощь отзывалось усиленно не только в сердце прадеда, — он-то вырос в Симбирске, — но даже и во мне, там сроду не бывавшей. Как будто вспыхивали какие-то сигналы прапамяти, доносившие до нас далекие отзвуки давно уканувшей жизни…
Вот чудо: любовь к Симбирску, к берегам Волги, к старине этих мест, восторженное переживание моего прадеда их красоты передавалось и мне, точно так же, как и чувство безысходной тоски, которым дышали иные документы и книги, вгоняя меня в какой-то душевный и творческий паралич. Я знаю, что внешняя замкнутость моего прадеда скрывала где-то в сокровенных кладовых его сердца большую подлинную душевную глубину и способность духовно переживать и осмысливать жизнь.
И все-таки Бог послал мне на мои усердные поиски и некоторые неожиданные находки…
* * *
Так, между прочим, напала я совершенно случайно на два настоящих книжных раритета — первая книга — издания 1912 года — принадлежавшая перу Иосифа Александровича Микулина — представляла собой «Пособие для ведения дел чести в офицерской среде» — полный свод писаных и неписанных правил ведения дуэлей.
Тяжелый фолиант был поистине роскошно издан Генеральным штабом и в первой части содержал знаменательные рассуждения автора, в которых он пытался всесторонне рассмотреть проблему «чести» в историософском, социальном, культурном и религиозном аспектах. Посвящена эта книга была «с глубоким благоговением» «Священной памяти в Бозе почивающего Его Императорского Величества Государя Императора Александра III, Самодержца Всероссийского». Знакомство с ней, кстати говоря, и подсказало мне заголовок этой главы, взятый из Пушкинской «Полтавы», которые у Пушкина произносит перед самой казнью далекий сродник Жученко-Жуковских пан Василий Кочубей:
… три клада В сей жизни были мне отрада. И первый клад мой честь была, Клад этот пытка отняла…Честь офицера, дворянина, государева слуги — она была несомненно и кладом настоящего военного Иосифа Александровича Микулина. Несомненно, конечно, что и не его одного в русском благородном дворянско-воинском сословии. Кроме того, ведь Россия знала и честь купеческую — известно, что без бумажек, на одном честном слове заключали русские купцы миллионные сделки. И была вера честному слову, честь берегли смолоду, памятуя Евангельское: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10).
Однако и понятие чести, как и многие другие популярные в мире нравственные постулаты, на первый взгляд кажущиеся однозначно добрыми, как и все в этом мире, вряд ли могут претендовать на абсолют, если пускаются они в самостоятельные плавания вне Христовой веры. Благоразумный разбойник, распятый справа от Христа, в последние секунды жизни Спасителя покаялся перед Ним, исповедав Христа Господом, и был прощен, и в тот же день оказался в раю вместе с Ним. А ведь этот человек был всю жизнь разбойником… Какая уж там честь могла быть у грабителя и убийцы! Чести не было, зато имел он одно достоинство — он понимал, он знал во всю свою жизнь, что он-то и есть настоящий разбойник, а не борец за справедливое перераспределение благ. Только благодаря этому не гордостному, но смиренному о себе помышлению, и была дарована ему перед смертью возможность покаяния и спасения.
Духовенство русское, да и все истинные крестиане, кем бы они ни были, к какому бы сословию не принадлежали, главной целью жизни (а следовательно и критерием добротности чести и честности) считали вслед за апостолом Павлом стремление «к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13–14). Для таковых целью жизни было восхождение человека от образа Божия, дарованного каждому как залог, к подобию Божию, — как смыслу и цели жизни
В книге же Иосифа Александровича, если бы она смогла попасть нам сегодня в руки, мы бы прочли суждения несколько иного характера и, увы, достаточно типичного для русского образованного дворянства позапрошлого века…
«Признание обществом за известным лицом права на любовь и уважение со стороны его сограждан и выражение этих чувств во внешней чести, оказываемой ему со стороны общества, должно быть рассматриваемо, как драгоценное духовное (! — прим. мое — Е.Д.) достояние этого лица, приобретенное им путем самоотверженной деятельности на пользу общества и служащее для него источником нравственного удовлетворения и душевного спокойствия, то есть источником счастья».
Невозможно было в то же время не согласиться с рассуждениями И.А. Микулина о воинской чести: «Воины заслуживают почета, говорит Вл. Соловьев, конечно же не потому, что убивают других, а потому, что сами идут на смерть за других». Однако, на первый взгляд, несомненные постулаты типа: «Миросозерцание честного человека и соответствующее этому миросозерцанию отношение к самому себе и внешнему миру с течением времени укрепляется в нем и принимает определенные, неизменяемые очертания, в границах которых и проявляется в области этики его духовная жизнь», — вызывали все же недоумения, а то и отторжения:
«Каждый человек, признающий за собой известное нравственное достоинство имеет право требовать (!), чтобы его ценили и уважали, ибо в связи с идеей — вот что является первоначальной причиной стремления человека к внешней чести».
Я читала эти уверенные и довольно тяжеловесные нравственные сентенции двоюродного прадеда генерал-майора и пыталась представить себе, как же он сам переживал свой полный разрыв с братом: страдал ли? скучал ли? Раскаивался ли? Оправдывал свою непреклонную твердость, переходящую в жестокость, или уже научился подавлять в себе всякие признаки «слабости», как, скорее всего, он называл эти душевные движения?
Больше всего смущали меня эти слова о «признании за собой нравственных достоинств», которые давали право требовать к себе уважения. Для всякого человека, более или менее глубоко соприкасавшегося с православием, с учением святых отцов, которые вИдение каждым своих собственных грехов «как песок морской» называли подлинным началом спасения, а обОжение человека утверждали на самом смиренном основании, (когда человек путем аскетического подвига обретает особенное самоуверение, некое чувство даже, что «я хуже всех»), — все это звучало по меньшей мере, чуждо.
Православное учение Церкви не давало никому ни прав, ни возможностей мыслить о себе высоко, в то же время, освобождая души от пут гордости, воздымало их на подлинную высоту в очах Божиих. Но увы, чаще всего, не в человеческих…
В книге я нашла и вполне законные рассуждения о том, что достоинство военного находится в прямо пропорциональном отношении к его готовности ставить высшие интересы жизни — прежде всего государственные, выше собственных личных интересов и даже выше собственной жизни. Хотя постулат этот, несомненный для оказания внешним миром почестей военным, готовым за них отдавать свои жизни, ни в коем случаем не должен был бы влиять на внутреннее устроение душ самих военных.
Передо мной словно оживали герои Корнеля и Расина, которые гражданский долг ставили выше своих личных интересов, людей, живших исключительно рассудком, и именно его возводившего в царское достоинство, ошибочно принимая его за разум, высокомерно принижая жизнь сердца, которое, напротив, христианством всегда почиталось центром и корнем жизни. И судить-то людям друг друга было запрещено Богом, потому что «Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар.16:7). Куда завело человечество это рабство рассудку и мертвой логике долга известно: к французской революции и гильотине.
Проповедуя законопослушность христиан властям, самое святое и безупречное исполнение вверенных человеку обязанностей перед обществом и государством, понятие «долга», и тем паче воинского христианство никогда, конечно, не подвергало сомнению, однако критерий был раз и навсегда дан Христом: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф.22:21). Долг государственный и служебный отдавался Кесарю, а человек — весь со всеми бездонными глубинами его сердца — Богу. Так что знаменитые нарезки на русских воинских клинках «Жизнь — царю, душу — Богу, честь — никому!» звучали, конечно, очень красиво, в древних рыцарских традициях, — но, увы, беда-то их была в том, что честь в них была отделена от души и ставилась даже выше ее настолько, что даже Самому Богу честь не отдавали. Хотя Господь, тогда же, когда Он произнес и Заповедь «Кесарево кесарю, а Божие Богу», отвечая на вопрос «какая наибольшая заповедь в законе»? — изрек Свое изложение Первой Заповеди из Моисеева Десятословия: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22: 36–40).
Сложное и довольно тяжелое чувство оставило мое знакомство с книгой генерал-майора Микулина, но отмести в сторону эти впечатления тоже было никак нельзя. За ними стояло очень многое в жизни и судьбе не только нашей семьи, но и русского дворянства в целом, честь — или воспоминания о ней — свято хранившего, а вот свою Святую Веру в подлинной ее силе, а не во внешнем благочестии, о чем писал с горечью святитель Игнатий (Брянчанинов) еще в 60-ые годы XIX столетия, (и не он один!) давно уже утрачивавшего.
…В том же 1905 году, когда произошла роковая размолвка старших братьев Микулиных — младший их брат — полковой адъютант Дмитрий Александрович Микулин, служивший в Ковно, погиб в «американской дуэли», по условленному между противниками самоубийству по указанию жребия… Ему было всего 20 лет. Через неделю у него должна была состояться свадьба. Его оплакивала обрученная невеста, очень сильно скорбел старший брат, который его и хоронил, а потом посылал Манечке цветки с гробового венка.
Что думал, как переживал это горе Иосиф Александрович — остается для меня полной загадкой… Роскошный фолиант о дуэлях вышел из печати в 1912 году…
Однако я еще не рассказала о втором раритете, обнаруженном мною в сокровищницах дома Пашкова, а ведь он имеет непосредственное отношение и к нашим героям-братьях, к их семейной драме, и к тому, какими узкими трудными путями ведет нас Господь в этой жизни, всем человеком желая спастися «и в разум истины приити» (1Тим.2:4).
Речь пойдет о книге и о судьбе сына Иосифа Александровича — Владимир Иосифовича Микулина, бывшего крупным военным спецом в рядах РКК, командовавшим корпусом и носившем три ромба в петлице и три золотых угла на рукаве.
Однако и рассказ об отце — генерал-лейтенанте Иосифе Александровиче Микулине, много послужившем Отечеству верой, правдой и собственной кровью еще совсем не закончен. Поэтому сначала перед нами пройдут вехи Послужного списка отца, а уж потом и сына: без этого ведь не будет понята внутренняя духовная связь событий и жизней, и то внутреннее поучение, которое сокрыто не во внешних вещах, а в духовной подоплеке событий видимой жизни. Как говорил наш Духовник: «История — есть обнаружение духовной реальности». Но мы, к сожалению, вследствие своей общечеловеческой и личной испорченности (поврежденности) грехом разучились видеть реальность духовную, для нас невидимую, а смотрим лишь на видимый ряд событий. Мы потеряли способность духовного зрения, стали слепы, а это, как говорил святитель Филарет Московский, и мы ссылались на это слово его не раз, есть «начало всякого зла».
На старинной открытке — город Симбирск, каким он был в конце XIX века.
Материалы, семейная переписка и фотографии публикуются впервые.
…Помню эти поздние наши с дочерью поездки в осеннем предзимье по старинным русским летописным местам… О чем хотели поведать нам эти пустые поля, вдоль дороги порыжелые, заржавевшие, эти безбрежные дали, которые открывались с наших мягких холмов начинавшейся Валдайской возвышенности. Мы искали древнее Микулино Городище, — вотчину самых дальних наших предков, князей Микулинских-Тверских, о которых так долго и усердно в свое время собирал сведения генерал-майор Иосиф Александрович Микулин — с виду сам древний князь, русый, необычайно светлоглазый, как и отец его, и истинный воин — стройный, подтянутый…
Не близка была дорога до Микулина Городища, а пустые и одичалые холмы манили и зазывали нас и к себе, радуясь хоть какому живому проезжему человеку.
А за далями и холмами нынешней русской пустыни, с редкими поселениями и с еще более редкими распаханными полями, открывалась земля добылинная, словно никогда и не знавшая плуга, заросшая ковылями и репейниками, какими-то редкими кустарниками, но все еще живая, говорящая, притягивающая к себе сердца…
Вон там, в синих далях лесов к югу, на десятки верст открытых с холмов взорам, я знаю: там — Бородино, которое я теперь еще не вижу, но предчувствую: оно — там! Не то затоптанное, заселенное, захоженное, а то, каким оно у Бога живо в реальности духовной, — невидное глазу, где над святым полем летит и реет в воздухе розовое чудо — монастырь Бородинский. Где еще воздыхает и молится сама заброшенная и кровушкой политая земля в этой целомудренной тишине предзимья, хотя и нет — совсем почти нет на той земле человеков молящихся. И только редкие ястребки висят над пустынными, сквозными переливами холмов, ожидая добычи.
О чем вещают эти глубоко молчащие древние русские пространства? О сиротстве отеческой земли, о нашем сиротстве? О бренности жизни, в которой мечется и совсем уже осуетился человек, жаждая сложить хоть как-то свою земную судьбу, что-то состроить, о чем-то пропеть, хотя разучился он любить и Бога, и брата… О том, что велика и обильна земля наша, а порядка в ней нет, «так пусть придет некто княжить и володеть нами», как некогда сказали руси пращуры: чудь, словене, кривичи и весь…
Вот и передо мной, в руках моих сейчас судьбы русских достойных мужей, подлинных воинов и защитников земли своей, истинных ее ратников… Как понять перипетии их судеб, как узнать глубокую правду о жизни, о смысле ее, глядя на их горькие, горькие пути, на их разлуки, на их вражду и любовь…
«Церковь была для меня выше, чем земные пути», — однажды признался один престарелый епископ, волей судеб родившийся в эмиграции, не по своей воле, но в силу обстоятельств не раз оказывавшийся в зонах разных церковных юрисдикций: то у «белых», то у «красных». Не раз рисковавший головой в особенности во время II Мировой войны, на территории самосжиравшейся обезумевшей Европы, это был человек, предпочитавший всегда держаться самой высшей юрисдикции — у Бога, держаться за край Ризы Христовой, оплакивая земные разделения, но не принимая их правил игры…
Был ли прав тот старец-епископ? Была ли на то воля Божия т а к ему жить и поступать? Или все-таки Бог благословлял одни юрисдикции, а другие не благословлял? Освящал своею благодатью «белых» или «красных»? Где же пролегала стезя Божия-то в те страшные времена Мировых войн и братоубийственных революций? И мог ли ее вообще найти человек, чтобы, умирая сказать: «От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его» (Пс.36:23–24), — вот и я, немощное создание Божие, стремился всегда искать стези Божии … Но сколько же раз падал и ошибался… Прости меня, Господи!»
* * *
Послужной список Командиру 2-й бригады 13-й пехотной дивизии Генерал-майору Иосифу Александровичу Микулину, составлялся во время I Мировой войны, Октября 24 дня, 1915 года, когда он, выписавшись из госпиталя после тяжелой болезни, должен был отправляться в зону боевых действий, в сторону Галиции. Начав свой путь юнкером рядового звания, Иосиф Микулин уверенно восходил шаг за шагом по воинской лестнице. После Академии он был причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Одесский военный округ. Потом он, блестяще образованный и несомненно высоко одаренный военный, был переведен в распоряжение генерального штаба в С-Петербург.
Через три года он стал начальником отделения Генерального штаба. Однако в том же году ему пришлось неожиданно вернуться в Одессу, и принять под свое управление Одесское пехотное юнкерское училище. Это была опала…
Иосиф Александрович Микулин как истинный военный человек свято чтил присягу, был безоговорочно убежденным монархистом. Для И.А. Микулина не существовало двоедушных подходов к жизни, но и гибкости в ее понимании, видимо, у него не доставало, как и желания погружаться сердцем в чрезмерные сложности и острые противоречия жизни. Да он и не видел, не замечал, как текла эта жизнь, занимаясь своим делом. Такова была его жизненная правда.
Ради своих убеждений он порвал отношения с любимым братом. Рассорился со своим непосредственным начальством в лице Великого князя Николая Николаевича из-за известной левизны поведения последнего. Это произошло во время первой русской революции, когда Великий князь, поддерживая Витте, требовал от Государя либерально-демократических послаблений. Почему и вынужден был Иосиф Александрович вновь отправиться служить в Одессу.
В 1908 году Иосифа Александровича вернули в Петербург — он был назначен генерал-квартирмейстером штаба войск Гвардии Государя и Петербургского военного округа с производством в генерал-майоры.
Как и опала 1905 года, так, возможно, и разрыв отношений с женой в середине 1913 года, с которой уже состоял в браке лет 15, и имел четырех сыновей, имел ту же самую принципиально-политическую подоплеку…
Ольга Александровна Микулина происходила из малороссийского дворянского рода Котляревских. Отец Ольги — профессор, известный филолог-славист, археолог, энтограф Александр Александрович Котляревский (1837–1881) в годы студенческой молодости был близок к революционным кругам, в 1862 году даже угодил в Петропавловскую крепость, из которой, правда, через полгода был выпущен. Впоследствии после нескольких очень трудных лет Котляревский был приглашен в Киевский университет читать курс славяноведения, изучение которого было делом всей его жизни. Сын его Нестор Александрович Котляревский (1863–1925) — академик РАН, известнейший историк, стал первым директором Пушкинского Дома в Петербурге.
Что же произошло между супругами? Никаких внешних причин, никаких привходящих совне обстоятельств. Возвращались в карете к себе домой — дело было в Одессе, и Ольга, как типичная живая и подвижная нравом малороссиянка, воспитанная не в понятиях самого высшего света, сидела рядом с мужем и… грызла семечки. Через некоторое время Микулин приказал остановить карету, вышел из нее один, захлопнул дверь, и на этом супружеская жизнь их оборвалась. И он оставался одиноким, и она. Ольга сразу уехала к родным в Петербург, взяв с собой младшего сына, в то время как старшие уже заканчивали свое учение в военных учебных заведениях.
Конечно, семечки — были последней каплей, которая переполнила терпение изысканного, аристократичного по породе и манерам, по самовоспитанию, наконец, генерала. Ради чести, как он ее понимал, он готов был на все…
В начале I Мировой войны Микулин принял командование 13-ой дивизией. В конце 1915 года после перерыва — нескольких месяцев тяжелой болезни, — он вступил в командование 102-ой дивизией. 26 мая 1916 года во время Брусиловского прорыва в бою под Серховым (западная часть Белоруссии) на переправе через реку Стырь генерал-майор Микулин получил тяжелое двойное ранение осколками снаряда. Был сразу эвакуирован в госпиталь, но начала стремительно развиваться газовая гангрена. На другой день — 27 мая — Иосиф Александрович Микулин скончался.
За отличия в делах против неприятеля Высочайшим указом генерал-майор И.А. Микулин был производен в генерал-лейтенанты посмертно.
* * *
«Я видел брата Йозю лежащим на земле рядом со мною…»
Ровно за восемь месяцев до ранения и кончины Иосифа Александровича, день в день его ранения — 26 сентября 1915 года Микулин — старший пишет письмо сестре Мане, а на другой день — 27 сентября — в день кончины брата — отправляет свою открытку из Нижнего:
«Милая Маня, пишу тебе совершенно для меня не свойственное письмо, но если допустить возможность мысленного воздействия и верить значению снов, то сегодняшний мой сон не может не иметь значения. Я видел брата Йозю лежащим на земле рядом со мною. Он очень приветливо на меня смотрел. Я нагнулся и мы, обнявшись, крепко поцеловали друг друга. На этом я проснулся от сильного сердцебиения. Чесы пробили один раз и после этого я не спал долго, и следующий раз часы пробили четыре часа. Пишу тебе, чтобы у тебя сохранилась память об этом сне. Может в будущем он объяснится, а вероятнее всего, конечно, он не имеет никакого значения.
…Ты очень жестоко отозвалась, узнав о тяжелом ранении Шуры. Тебе не приходит в голову, что Иосиф тоже был наказан, пролежав шесть месяцев?
Целую тебя. А. Микулин».
Шура — это двадцатилетний сын Александра Александровича, будущий знаменитый советский конструктор авиационных двигателей, в 1914 году занимался изготовлением зажигательных бомб. Был ранен при случайном взрыве. О причинах жестокой реакции его тетушки — Марии Александровны на ранение племянника я не знаю, догадаться не трудно. Вероятно, она что-то сказала вроде того, что Шура наказан, поскольку между нею и племянником действительно произошел какой-то не очень приятный инцидент. Шестимесячная болезнь Иосифа Александровича тоже имела место, и, видимо, Микулиным-старшим была истолкована как некое предупреждение Иосифу от Бога из-за его нежелания примириться с братом даже перед лицом смерти.
И все же примирение братьев состоялось — и это было поистине великим даром Божественной любви, обнаружением Его воли, ответом на долгую и мучительную скорбь старшего брата, а, возможно, и на настоятельные его молитвы. Никто никогда не может судить о молитвенных глубинах других людей, о том, как слышит эти глубины Господь и какие молитвы принимает. Только ли холодно вычитываемые молитвенные правила или покаянные, скорбные, сокрушенные воздыхания, исходящие из самых глубин человеческих сердец? Я верю всем своим сердцем, что прадед молился Богу о примирении его с братом, хотя бабушка моя и сомневалась, что отец ее имел живую веру. Это так казалось ей, в то время молодой и живущей жизнью преимущественно душевной, но не духовной. Александр Александрович Микулин был человеком глубоким и история его переживания разрыва с братом о многом говорит…
И пусть нас не смущает, что это был только сон. Это была явь — но явь духовной реальности, а не нашего земного материального ее отражения; явь Божия, в которой любовь, милость и прощение между человеками возсияли своей подлинной величественной надмирной красотой. Это было победой Церкви и Царствия Божия, которое внутрь нас есть (Лк 17:21).
Я не имею свидетельств, но верю, что умиравшему генерал-майору Микулину пригласили дивизионного священника и он успел до кончины причаститься Святых Христовых Таин, а перед этим — покаяться, в том числе и за разрыв с братом. И это покаяние тут же восстановило разрушенное. Покаяние, милость, прощение, любовь…
То, что Господь одарил этим видением примирения старшего брата у меня сомнений никаких не вызывает. Александр Александрович был чистым человеком, праведно прожившим свою жизнь, будучи верным долгу и делу, жене и семье, верности людям, которых очень жалел и любил, и принимал близко к сердцу их тяготы и скорби, старясь помогать всем, чем мог. И Бог не оставил его Своею милостью. А то, что за восемь месяцев, хотя и день в день, до реального срока смертельного ранения Иосифа, так разве Богу нужно это тиканье часов? Бог вечен, Он вне времени, это нам и только здесь на земле отмерены минуты и дни жизни, чтобы мы, как говорил когда-то замечательный московский доктор Гааз, торопились делать добро и очень спешили каяться за свое содеянное зло, «искупующе время, яко дние лукави суть» (Еф.5: 16–17).
Однако оставался неразрешенным вопрос и о политических предпочтениях моего прадеда — Александра Александровича, следуя которым он дал согласие быть выборщиком в 1-ую и 2-ую Государственную Думы…
* * *
В том же 1916 году, когда умер от ран брат Йозя, Александр Александрович, давно уже живущий в Нижнем Новгороде, куда его перевели по службе, кажется в 1914 году, вел живую и содержательную переписку со своей старшей дочерью Верой, жившей в Москве с мужем Константином Падревским. Вере в то время был уже 31 год. Она была деятельным и думающим, и весьма самостоятельным человеком. К этому времени у Веры Александровны уже вышли две книжечки прозы, она увлекалась этнографией, занималась изучением хлыстовства, русской фольклорной мистики, причем в этом ей оказывали помощь и пишущие родственники, в частности, известный историк литературы профессор, директор пушкинского Дома Нестор Котляревский.
С этой целью в течение двух лет Вера регулярно посещала царского старца Григория Распутина, о чем регулярно делала подробные записи (впрочем, дневники она вела еще со времен отрочества, уже тогда готовясь стать писательницей), на основе которых спустя восемь лет она написала подробные воспоминания о своих посещениях Г. Распутина, ставшие ныне камнем преткновения между сторонниками и противниками старца. Это была та сама «тетя Вера», которая приезжая из Орехова к нам в Москву, спала у нас под роялем и строго предупреждала меня, что она мне «не мать и не бабушка» (а она была мне все-таки бабушка — бабушкина сестра), а потому шалостей моих никогда не потерпит…
В одном из писем своих Вере Александр Александрович писал:
«4 ноября 1916 года. Нижний.
Милая Верочка, … буду [в Москве] вероятно в середине ноября. Может быть, привезу и Маму. В Орехово располагаю поехать вечером в пятницу 11 числа. Вчера снесло мост и сообщение опять паромом, так что привезти с собой вряд ли что удастся. Удалось ли тебе купить дешевого масла — пишут, что у вас Сибирское масло по 1р. 40 к. — тоже, что и присланное мне стоит. — Ты спрашиваешь в письме, отчего людям на земле тесно — это главным образом оттого, что землю захватили в собственность, и не всякий желающий может теперь получить себе место на земном шаре, разве после смерти, и должен поступать в ряды пролетариев. Твой Папа».
Александр Александрович Микулин был человеком дела, практиком. Всю жизнь он непрестанно колесил по дорогам России, объезжая и инспектируя фабрики, наблюдая за тем, как исполняется фабричное законодательство, принятое в России и соблюдаются права рабочих, охрана их труда. Он много видел, много знал о реальной русской жизни, о том, какой ценой входил в силу русский капитализм, какие жертвы ему приносились, как жили и чем самые простые люди — и крестьяне, и рабочие — все те же вчерашние крестьяне. Отлично знал он и то, скольких трудов стоило преодолеть сопротивление предпринимателей, чтобы хоть как-то ослабить страшные нагрузки на человека в промышленном производстве. Он был так устроен видно от рождения, что не мог спокойно видеть и тут же забывать как не бывшие человеческие страдания. Брат ссорился с ним и гневался на него как на политика, а Микулин никогда не был политиком, он был народолюбцем, человек с сострадательным отзывчивым сердцем. Сам он во всю жизнь знал бедность. Причем бедность для русских образованных людей вполне типичную, характерную… И когда он учился в гимназии, и в Училище, он вполне мог вслед за Ф.М. Достоевским написать и своему отцу такое же письмо, как отписал в свое время Федор Михайлович своему папеньке:
«Будь я на воле, на свободе… я обжился бы с железною нуждою. Стыдно было бы тогда мне и заикнуться о помощи… но это будущее недалеко, и Вы меня со временем увидите. Теперь же… иметь чай, сахар… необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке или в такую погоду придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мной случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю… Прощайте, мой любезный папенька».
Степень этой бедности — в особенности учащейся молодежи, была тщательно и правдиво описана Достоевским в Раскольникове. Эту же бедность знал и Николай Егорович в гимназии и в Университете. А ведь это были родовитые, благородные дворяне, с исторической памятью о заслугах предков перед Отечеством, а жили они и питались все время своего учения — а это годы! — много хуже обычного крестьянина. Многие из них становились больными, истощенными, чахоточными — и неудивительно, если учась в наших северных краях таковой юноша зимами имел на форменной тужурке один лишь плед, да рваные тонкие сапоги на ногах.
Легко теперь иным неореволюционерам реанимировать казалось бы, давно похороненный вместе с истматом классовый подход, возбуждая новые волны ненависти к дворянству, духовенству, к образованным слоям старого русского общества. Как и раньше, так и сейчас за этими волнами социальной ненависти и осуждения всегда стоит нежелание знать и понимать русскую жизнь такой, какой она была. Понимать жизнь вообще, такой, какова она есть от Бога и прежде всего по причине греховности человека.
А.А. Микулин знал жизнь не понаслышке. Он хорошо знал жизнь простого народа, и мог, наверное, воскликнуть вслед за Радищевым: «Душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Только не о человечестве пекся Александр Микулин, а о России, понимая, какой вулкан под нею зреет.
Начав служить, он многие годы имел только весьма скудное жалование и быстро разрастающуюся семью, а так же младшую сестру и брата, которым неустанно помогал. Чуть окрепнув финансово, он тут же стал заниматься благотворительностью: устроил общество вспомоществования бедным студентам (это было в Киеве), народный дом, а сам в то же самое время, как вспоминала Вера Егоровна, ходил в латанных и перелетанных сапогах.
Александр Александрович был типичным бессребреником, воплощенной скромности и жизненной непритязательности человеком. Любил в Орехове сам работать на поле, когда бывал в отпусках, — хорошо знал и уважал крестьянскую работу. Вот такой этой был человек. Честности, разумеется, кристальной… Однако повод брату для осуждения его все-таки, как ни крути, не верти, он подал…
* * *
Я всегда хотела его понять, как только можно глубже заглянуть в его сердце, — как мне сейчас, да и во всю жизнь, не хватало такого человека! Может быть, вместе думая, мы бы нашли достойный выход из того, что приводило его в отчаяние, какую-то единственно возможный и достойный православного человека, человека совестливого и отзывчивого и состоявшего на государевой службе выход. Ведь все его политические «уклонения» в сторону прогрессистов, кадетов — у него это было именно от отчаяния, от безысходности что-то изменить в окружающей жизни. Он был научен «опытами быстротекущей жизни». Не случайно ведь вышла из-под пера его книга «Фабричная инспекция в России» — историко-социологический обзор — свидетельство того, как трудно и медленно в течение четверти века и с какими препятствиями внедрялись в России порядки, способные хоть как-то ограждать и защищать права рабочих от непомерной и беспечной алчности хозяев. Он знал всю эту механику досконально: кто, как и почему не хотел ослабить давление на работника — простого человека…
Близкое знакомство Микулина с русской промышленностью подавало для «многой печали» немалые знания…
«Промышленное развитие России, начавшееся со времен Петра I, имело непреложным своим следствием возникновение у нас, как и во всех других странах рабочего вопроса, сущность которого лежит в несогласованности во многих случаях интересов предпринимателей и рабочих…». С этих простых слов начинался серьезный исследовательский труд А.А. Микулина, который выдержал два издания — в 1906 и в 1907 годах и стал классикой литературы в этом жанре.
Самыми показательными среди статистических выкладок этой книги были, пожалуй, страницы, посвященные труду малолетних на фабриках, — процентное соотношение малолетних к общему числу рабочих доходило в России, к примеру, на хлопчатобумажных фабриках, до 26,3 %. В большинстве своем дети работали столько же, сколько и взрослые, а иногда даже и больше, оставаясь после ухода старших для уборки мастерских. Средняя продолжительность рабочего дня подростка составляла 12 с половиной часов в день, а на некоторых производствах и 14 часов; нередко превышался и этот предел: дети и подростки работали даже по 16–18 часов в сутки.
В своей работе Микулин шаг за шагом строго, методично и спокойно показывал, кто и как был заинтересован в России в разрешении рабочего вопроса, а кто "перекрывал кислород". Монаршая власть, по всей видимости, ясно понимала необходимость фабричной инспекции, ограждающей права рабочих от произвола хозяев, но почему-то торможение бюрократического клана, среди которого тон задавали крупные владельцы предприятий и из дворян и из купечества, оказывалось много сильнее, чем решимость самодержцев. Чего стоило отвоевать для малолетних рабочих хотя бы еще один праздничный день в году…
Фабричные инспекторы, преодолевавшие в год тысячи километров пути в своих объездах фабрик, — а это была поистине тяжелая работа, — сообщали о том, что положение рабочих совершенно бесправно, расплата с ними нерегулярна и потому семьи рабочих становятся заложниками ростовщиков, выработка очень низкая, к тому же ее истощают штрафы, жилье ужасное — нечистоплотное, крайне тесное, — те самые перенаселенные бараки, в которых нет никакой вентиляции, медицинская помощь на фабриках есть полная фикция…
Конечно, братья Микулины занимались очень непохожими родами деятельности и интересы их лежали в разных сферах. Хотя и для того и для другого на первом месте безусловно стояли судьбы и благо Отечества. Иосиф Александрович не мог сомневаться в своей верности монархии. Но разве Александр Александрович был не верен? В 1916 году он был Высочайшим указом удостоен высокого придворного чина камергера, что соответствовало армейскому званию генерал-майора. Братья сравнялись в чинах. Если младший брат восходил к нему по военной лестнице, будучи всегда в поле зрения Государя в зоне высших блестящих чинов, то старший брат заслужил в глазах Царя это звание не только своим опытом, знаниями, но и исключительной с нравственной точки зрения гражданской честностью на таком не выгодном для карьеры поприще, как защита интересов рабочих. И это о многом говорит: как и о самом А.А. Микулине, так и о Самодержце. А так же о тех, кто тормозил здоровое развитие России…
* * *
В 1910 году Киев нежданно широко и ярко праздновал двадцатипятилетие деятельности А.А. Микулина. Было огромное количество адресов и поздравлений — и по сей день пусть обветшалые, а где и по краям обгрызенные мышами, наверное, ореховскими, в те сокрытые от всего мира зимы в когдатошние годы — до войны или после, когда зимовали там мои полуголодные бабушки, эти адреса хранятся теперь у меня. Из крокодиловых кож, из сафьяна, с серебряными монограммами "АМ" на обложках и с белыми муарами на подкладках, хоть и подгрызенными, бабушки сохранили их в память о своем замечательном отце. Как и рукой прадеда — теперь могу сказать, — дорогого и любимого моего прадеда, — написанный текст благодарственной его речи на тех торжествах…
Тогда часто чествовали, любили эти собрания, речи, тосты, но прадедушка был не из тех пород. Он что думал, то и говорил, если говорил, что чувствовало его сердце, и что утверждала его совесть, что было для него святой правдой. Говорил, как перед Богом. Вот почему верить можно было каждому его слову, почему и для меня он всегда оставался образчиком подлинной чести, честности и совестливости, а не каким-то мелким политиком — либералом, что заподозрил в нем когда-то его родной брат. А ведь у либералов не бывает христианских сердец.
Не даром так любила его и моя прабабушка-голубка Вера Егоровна (голубкой и голубочкой он звал ее всю жизнь во всех письмах), не даром и он ее так любил — эти две души еще на той, давнишней Пасхальной службе, узнали и поверили друг другу навсегда, потому что это был Богом благословленный брак.
Верю и я вам, родимые, ни на секунду не сомневаясь в честности и правде Ваших любящих — и не только самых близких людей, но и дальних, — христианских сердец.
…Вот напоследок, к эпитафии прадеда несколько строк из собственного благодарственного слова Александра Александровича Микулина как юбиляра:
«Такие торжества как настоящие и все на них выслушиваемое переносят мысль юбиляра на весь пройденный им жизненный путь и обращаясь к началу моей деятельности я могу сказать лишь одно, что со времени окончания четверть века назад курса, я отдал все свое время и силы нуждам трудящихся, учащихся и рабочих, вступив в состав фабричной инспекции, которая, оберегая интересы рабочего класса, как я и убедился, представляет одну из немногих отраслей службы, в которых можно получить, хотя бы частичное нравственное удовлетворение. Часы моего досуга я отдавал также таким общественным организациям, в основе которых лежало умение принести пользу неимущим трудящимся… Некоторые мои начинания погибли, не встретив сочувствия общества и не найдя соответствующих деятелей, и потому очень многое из прослушенного я не могу отнести к себе и должен по праву передать своим сотрудникам, с которыми я имел честь и удовлетворение работать…»
Материалы, письма и фотографии из семейного архива публикуются впервые.
На фото из семейного архива — Александр Александрович Микулин, глава Нижегородского округа фабричной инспекции, камергер Двора Его Императорского Величества Государя Императора Николая II в 1916 году в своем кабинете в Нижнем Новгороде.
Публикуется впервые.
Глубокое погружение в историю двух братьев Микулиных, в историю их трагического разрыва и надмирного примирения, стремление услышать в позиции каждого его «правду», размышления, в которые то и дело врывались штормовые порывы сегодняшних ветров и отзвуки уже не тех, а нынешних противостояний, отбрасывающих нас вновь и вновь ко временам русской катастрофы и ее апофеоза на полях Гражданской войны, — все это не прошло для меня бесследно. А ведь сколько раз я слышала раньше об этой семейной драме от родных, перечитывала письма, но сердце мое как-то не отвечало на них, было глухо, сухо, и холодно, словно мне представляли некие факты, ко мне отношения не имеющие…
Но вот пришел час, и вдруг и это прошлое стало открываться по-иному: как совершенно живая, теплая, кровоточащая ранами жизнь, с осязаемой болью действительно приблизившихся ко мне (или я к ним? или одновременно — из двух точек навстречу друг другу?) родных душ. Теперь на их затруднения и страдания я уже не могла смотреть оком рассудка, как на что-то существующее помимо меня. Вот так, как в свое время в осязаемом ощущении присутствия «вернулась» ко мне бабушка через много лет после кончины, так теперь я «узнала» сердцем и обрела прадеда. Он вошел в мою жизнь, словно связали нас не просто воспоминаниями через обрыв в сто лет, но всегда и жили мы бок о бок, в самой что ни на есть настоящей живой любви. Теперь я могла с уверенностью сказать себе, что отныне и он узнал меня — и принял, и участвует в моей судьбе, как родное, молитвенно заинтересованное в моей жизни сердце. Что может в этой жизни сравниться с таким даром, с таким богатством? А именно как бесценный дар я и воспринимала происшедшее со мной.
…Разве мы можем обмануться, когда живо ощущаем, что до нас достигли лучи чьей-то любви, согревающие и навевающие нам не просто «сон золотой», а радостную весть о вечной жизни, и о том, что и вправду, есть общение душ, как народ наш всегда говорил: душа душе весть подает; что меж нашим и тем миром есть несомненное общение, и разрыв этот страшный преодолим любовью в духе, когда дарует нам это преодоление Господь Соединяющий, Исцеляющий раны нынешнего и прошлого; что когда «кто-то живо представляется и стоит перед оком ума, то это значит, что он просит помолиться» — есть истинная мысль (святитель Феофан Затворник), и что «смерть не пресекает духовной жизни — там дозревают», и что после нашей кончины душу нашу встречают все те, о которых — и которым! — душа наша молилась в продолжение жизни» (там же — у святителя Феофана в переписке)…
Не так ли мы стремимся и должны были бы стремиться приблизиться к Творцу нашему, к Богу, чтобы познать в Нем Личность, живую Ипостась, Богочеловека, с Которой в подобном познании сердце уже соприкасается не только верой своей и страхом, не только знанием, но уже и самой Любовью, которая как огонь начинает выжигать из сердца все недолжное, все смертное, все неправды, недолжные чувства, мысли, и воспоминания…
* * *
Я несомненно верю, что Господь даровал предсмертное надмирное примирение братьям Микулиным, но в миру, в истории этой жизни то, что разделило их, вело и привело к гражданской войне. Что же все-таки их разделяло? Неужто причина действительно была в том, что один верил в монархию «без оговорок и рассуждений» и не позволял себе и другим усомниться не только в правильности действий монарха, но даже и всей вертикали власти под ним, считая, что всякая критика или даже просто несогласия и тем более попытки что-то реально исправить, противодействуя неправде, — есть преступления против долга и должности, против присяги, совести и чести…
В то время как другой считал, что увидеть нестыковку рельсов в железнодорожных путях и не исправить, или даже просто не сообщить об этом, или покрыть того, кто должен был бы сообщить и не сообщал, кто должен был принять меры и не принимал, — а эта нестыковка может привести к гибели многих людей, к крушению состава, — есть преступление против долга и должности, против присяги, совести и чести. И кто мог ответить на этот вопрос, кто мог обозначить, где кончалось дело совести и чести, а где начиналось равнодушие и бессовестность, где кончалось усердие в служении и начиналось революционное подрывание «основ»?
Вспоминался при этом известный разговор Достоевского с Сувориным (в записи Суворина):
«Представьте себе, — говорил он (Достоевский — Е.Д.), — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждёт и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завёл машину». Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельства и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?
— Нет, не пошел бы.
— И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумывал причины, которые мне не позволили бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком. (…) Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас всё ненормально, оттого всё это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом».
Вот и я не знала, как рассудить «правды» двух братьев. Не видела «света» и в нарисованной дилемме Достоевского. Его там не было, потому что там не было Церкви, потому что разрешения себе эта дилемма искала, хотя искал ее глубоко верующий Достоевский, не на путях Евангельских, а на путях «кесаревых» — государственное поставляюшего выше Божия. А Божиим была бы забота о спасении душ — и своей, и ближних — потенциальных убийц, и, разумеется, жертв, могущих быть убиенными, а это означало бы только самопожертвование и полное равнодушие к возможному нечестию. С одной оговоркой: по Богу действовать — значит искать на эти действия признаков воли Божией: кто на что призван, кому, что поручено, кто за что отвечает, но не так, как революционный ажиотаж захватывает некое слабое и честолюбивое сердце и увлекает его заниматься переустройствами и ломками того, к чему он вовсе не приставлен Божиим смотрением, что Богом ему не поручено…
В связи с этими непростыми размышлениями о «правдах» братьев, словно сам собой стал вырисовываться и ответ, который напомнил мне об обещанном рассказе о втором книжном раритете, найденном мною в анналах Пашкова дома еще более 25 лет назад…
Ведь я ошиблась: раритетов-то было не два, а три: фолиант о правилах ведения поединков одного прадеда генерал-майора И.А.Микулина, брошюра об истории фабричной инспекции в России другого прадеда — действительного статского советника А.А.Микулина, и, наконец, вот эта маленькая книжка под названием «Дальние пробеги конницы. Опыт исследования и методики», изданной в 1927 году и принадлежавшей перу командира корпуса РККА Владимира Иосифовича Микулина (1892–1961), сына Иосифа Александровича, который будучи подполковником царской армии, в 1918 году перешел в Красную Армию и стал красным командиром, военспецом…
Мне он, если считать по коленам, приходился четвероюродным дедом (он был двоюродным братом моих бабушек).
* * *
Это была совсем неприглядная внешне книжица. Издал ее в 1927 году отдел военной литературы Госиздата. В книге имелась и заключительная статья Семена Михайловича Буденного. Автор книги был в тот год начальником штаба III кавалерийского корпуса Красной Армии, носил три красных ромба на погонах, в то время как высшему чину РКК полагались всего только четыре.
Конечно, поразителен сам факт, что старший сын крупного царского военного, безупречного, строжайшего монархиста, носителя и хранителя традиций воинской чести вдруг переходит в ряды Красной армии… Правда, отца его к этому времени уже два года как не было среди живых. Ни обстоятельств, ни подробностей этого события я не знаю. А гадать — боюсь…
…Родился Владимир Иосифович в 1892 году. Как и все другие дети Иосифа Микулина (кроме самого младшего Георгия) он пошел по стопам отца. Офицер в 20 лет, служил в Уланском полку, в 1914 году участвовал в пробеге Плоцк — Петербург — 1209 верст за 11 суток. С 1914 года воевал. В 1915 перешел в летчики. До 1918 года в чине подполковника пребывал командиром авиаотряда. В 1918 году перешел в Красную Армию инспектором кавалерии в 13-й Армии, затем принял 13 отдельную кавалерийскую бригаду с которой был в 20 году под Перекопом. С мая 1920 года вошел в состав 8 дивизии Примакова.
«Самому старшему в кавалькаде Примакова, Владимиру Микулину, который был почти в полтора раза старше каждого из нас, стукнуло тогда тридцать один, — вспоминал один из соратников Микулина из младшего комсостава И.В. Дубинский, его ученик. — В то время, когда мы все жадно стремились к науке, большой знаток конницы Микулин научил нас многому. Он же нам передавал опыт прошлого». В другом месте Дубинский с несомненным уважением и любовью оставил набросок портрета Владимира Иосифовича:
«Высокий, стройный, широкоплечий, умный и душевный человек, Микулин был единственным старым офицером среди командиров червонного казачества. Случилось так, что царские офицеры-украинцы, в большинстве своем выходцы из зажиточных семей, особенно высших званий — генералы, полковники, не захотели связать свою судьбу с Красной Армией. Почти все они ушли к Петлюре… Бывший царский подполковник Микулин полюбил червонных казаков за их лихость, за то, что они воскресили на полях гражданской войны былое доброе имя конницы — «царицы полей». И служил он советскому народу со всей глубокой верой в правоту его святого дела».
Позже Микулин сформировал 17 дивизию и командовал ею до 21 года. Сдав командование 17-й кавалерийской дивизией Котовскому, последовательно возглавлял 1-ю Сибирскую в Томске, 11-ю в Гомеле и Отдельную кавказскую бригаду в Тифлисе. С нею принял участие в ликвидации бандитизма в Эльдарской степи. В 1924–1926 годах Микулин работал начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса в Минске (в эти годы упомянутая книжка и была им написана), после чего почти десять лет провел в Военной академии имени Фрунзе в качестве адъюнкта по кафедре конницы, преподавателя и заместителя начальника штаба академии по учебной части. В 1936 году его назначили начальником Высшей кавалерийской школы, где он воспитал не одну сотню боевых вожаков красной конницы.
«До Отечественной войны не было, пожалуй, ни одного командира, который не знал бы лично или не слышал о большом знатоке конницы Красной Армии — Микулине… Он теоретически и практически разработал вопросы кавалерийской разведки, участвовал в создании Боевого устава конницы. Весь офицерский состав советской конницы носил очень удобное и практичное «снаряжение Микулина».
Подошел 1937 год… Микулин был арестован и репрессирован. Прошел огонь и воду лагерей, и все-таки выжил. В 1946 году был освобожден без права проживания в Москве с запретом деятельности по специальности, преподавания иностранных языков и т. д. Владимир Иосифович поселился в Тарусе на Оке в маленьком домике, на жизнь свою скромную и одинокую, зарабатывал бытовой фотосъемкой. Бывший однополчанин и будущий его мемуарист — тот самый Дубинский посетил Микулина незадолго до его кончины:
«Осенью 1958 года навестил я в Тарусе моего, и не только моего, боевого наставника и учителя. Тяжелая болезнь ног приковала к дому богатыря и красавца Владимира Иосифовича Микулина. Но и на костылях, в своем ветхом курене над зеленым берегом задумчивой Оки, благороднейший в мире «гидальго» сохранил боевой и задорный дух кавалериста. Много читал, много думал, много писал…»
Первая жена Владимира Микулина красавица Вера Дмитриевна — урожденная княжна Мамонова, за время его лагерных мытарств вышла замуж за другого.
Рассказывает Дубинский:
«Весной 1921 года появилась на винницком горизонте необычной красоты женщина. Вмиг вскружила головы всему гарнизону. И женатым и холостякам. Но голов было много, искусительница — одна. Тогда Микулин, одновременно в роли победителя и побежденного, вместе с искусительницей покинул ряды корпуса. И вот уже в тридцатом году, в знойной Ялте, я встретил моих старых знакомых. Его, светлоглазого русского богатыря, и ее, красавицу с оливковым лицом и жгучими глазами креолки… Спустя всего лишь семь лет недобрая судьба (арест и осуждение Микулина — Е.Д.) разлучила их…»
Кстати Богдановы — Вера Дмитриевна вышла замуж за детского писателя Николая Богданова, — тоже поселились в Тарусе неподалеку от Владимира Иосифовича. Может, Вера Дмитриевна как-то помогала ему, заботилась о нем, когда он вернулся измученный и больной?..
История этой роковой любви могла бы кому-нибудь показаться и романтической, но мне она видится совсем в других тонах, как и улыбка на лице Микулина на его фотографии незадолго до лагеря, как и лица других героев тех дней — из моей близкой родни: мол, веселое то было время, — все красивые, сильные, да и страна на взлете…
Но какое уж там веселье, где нет ни Бога, ни любви, когда все сокровища человека схоронены в земном и он сам тоже очень скоро станет таким же схороненным «сокровищем». Один дьявольский хохот и страшное болото безысходной жизни, погружающей в свою пошлую трясину всякое существование, «всякое дыхание», которое ведь если не хвалит Господа (Пс.150:6), то непременно хвалит диавола. Третьего не дано. И от этой вынужденной, и чуть ли не насильственной хвалы «супротивника» постепенно начинают вытягиваться еще вчера такие уверенные в себе, смеющиеся лица. Появляется что-то мучительное во взоре, потом чуть ли не мольба, отчаяние: я умираю, помогите…
Но не сказано ли, что «не надейтесь на князи, на сыны человеческия, в них же несть спасения (…) Блажен, ему же Бог Иаковль Помощник, упование его на Господа Бога своего, сотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них, хранящаго истину в век, творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчушым. Господь решит окованныя. Господь умудряет слепцы. Господь возводит низверженныя. Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет и путь грешных погубит…» (Пс.145:3–5).
Вспоминать и рассказывать о своих лагерных мытарствах Микулин не любил, но к действующей власти в СССР, возвратившись в мир, стал относиться с категорическим неприятием. Понятно, что С.М. Буденный, сыграл решающую роль в его аресте: это была месть за критику непрофессионального руководства Буденным красной конницей. Для Микулина же была однозначно неприемлема даже не сама месть Буденного, — тут он был свободен от пристрастий, а тот факт, что военная машина страны работала уже не на пользу Отечеству и пожирала своих преданных детей, полностью находясь в зависимости от своего испорченного механизма. Этим испорченным механизмом было торжествующее бесчестие. Вот к этому Микулин — человек чести, сын и внук человека чести, был совершенно не готов. Он и представить себе не мог, что таковое возможно, он по-детски чисто верил, что все, как и он, заинтересованы в лучшем и совершеннейшем что служит благу страны. Представить себе, что низкие амбиции гордыни могут затмить соображения государственной пользы, он даже и в страшном сне не мог.
«Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим», — хорошо известны эти слова Пушкина. Но что значило слово «подлость» в стилистике пушкинских времен, только ли обозначение грубого и циничного бесчестия бандитов и воров? Нет. И у Пушкина, и позже слово подлость и даже выражение «подлое сословие» означало в первую очередь сословие людей без чести, бесчестных, низких людей, хамов, которые не имеют в себе нравственного ценза. На породу этой стаи никто и никогда не мог положиться, — у этой породы не было и быть не могло ничего святого.
Если у Микулина — генерал — майора, — имела место некая христианская бесчувственность и черствость, некое и весьма заметное сужение христианства, то все-таки на честность и честь его можно было всегда положиться. Однако шаг за шагом в годы революции и позже все сильнее стали заявлять о себе и забирать силу в жизни иные — низкие проявления человеческой натуры. Такие люди как Микулины, вообще не умели лгать. Никогда. А «подлое поколение» уже не гнушалось ничем. Люди цинично и в открытую работали своим страстям, не останавливаясь не пред какими низостями в достижении своих корыстных целей. На высокие цели и на самом деле было наплевать.
…Казалось бы, что мне, человеку безнадежно штатскому может открыться в специальной теоретической военной книге о коннице? Однако я вчиталась, и нашла там удивительные суждения, косвенно отвечающие на вопрос о том, почему Микулин оказался в горниле адской печи 37 года…
* * *
«Способность [конницы] атаковать… должна быть сохранена наряду с проявлениями той походной подвижности, которая измеряется уже не сколько резвостью, сколько выносливостью и неприхотливостью конского состава. (…) И покойный А.А. Брусилов (! — Е.Д.) совершенно правильно определил с этой точки зрения нужного нам верховного коня как «кровного по происхождению и степного по воспитанию».
Хорошо сказано было про «кровного коня» Алексеем Алексеевичем Брусиловым, генералом-от кавалерии. Можно было и к Микулину Владимиру вполне сказанное приложить. А вот к Буденному — никак. В «Заключении» Буденного, которое было тут же в книге опубликовано, были такие строки:
«ЦКИ не считает нужным отдавать преимуществ одной подвижности перед другой, а определяет их как равноценные элементы одной и той же подвижности».
Суждения Микулина в книге он характеризовал как односторонние и преждевременно обобщенные. О системе скармливания фуража, предложенной Микулиным, Буденный говорит так: «Вопрос о кормлении (коней — Е.Д) в две дачи не находит теоретических обоснований». Резолюция «Заключения» Буденного весьма обширна и однозначно отрицательная: «Производство опытов в строевых кавчастях по инициативе самих частей, затрагивающих в корне тот или иной вопрос кавслужбы, не согласованный с уставом, надо считать опасным и недопустимым».
Уже в 1927 году Буденному было ясно, что Микулин рядом с ним существовать не должен, что это сосуществование «опасно и недопустимо» для его, Буденного карьеры, но реализовать свое глубокое неприятие этого популярного военспеца, который посмел хотя и косвенно, но поставить под сомнение квалификацию Буденного, Семен Михайлович смог только в 1937 году. Почему? Что помешало? Ответа у меня на сей вопрос нету, хотя по логике вещей тот, кто посмел по служебному долгу и велению совести поднять руку на почти всевластного легендарного (вымышленного) «хозяина кавалерии», кто в конце книги осмелился написать такие слова: «И раскаленным железом жжет мозг мысль: «да стоит ли работать при таких условиях?», — был уже обречен, и не мог этого сам не сознавать. Однако и он решал по-своему дилемму «Дациаро». И выбрал решение самоотверженное.
Вот, что еще писал Микулин в последних страницах своей небольшой книги:
«Утешением может явиться лишь сознание, что всякая новая мысль переживает обычно три фазиса. И если в первых двух она встречает возражения и несогласия, то зато в последнем про нее говорят: «Да кто этого не знает?!». Поэтому от всей души желаю нашей коннице, чтобы все вопросы, касающиеся ее подготовки и употребления в дело, попали бы возможно скорее в третий фазис».
Написал в этой книге Владимир Иосифович Микулин и свой комментарий к «Заключению» С.М. Буденного, обозначив причину встречающихся у Буденного противоречий:
«Причина всех этих противоречий «Заключения» приходится считать узкотеоретический подход его, далеко не всегда достаточно обоснованный, невзирая на внешнюю видимость обоснования… Можно лишь сожалеть о том, что даже широкая междуведомтсвенная проработка «заключения» не позволила избегнуть в нем больших противоречий, менее всего способных содействовать той конечной цели, которой оно задалось — установить принципиальную точку зрения на все затронутые вопросы и тем помочь комсоставу конницы разобраться в них. Гораздо более вероятно обратное…».
Много «междуведомственного» народа пыталось угодить Буденному в составления убийственного для Микулина «Заключения», но все-таки, думается, вышло в конце концов не по-ихнему…
* * *
Еще двое сыновей Иосифа Александровича пошли по военной стезе. Окончив Кадетский корпус в Петербурге и затем Михайловское Артиллерийское училище унтер-офицер Александр Иосифович Микулин (1894–1922), с начала I Мировой войны отправился на фронт и принимал участие в боевых действиях русской артиллерии. В 1915 году он попал под немецкую газовую атаку, в которой использовался хлор. В результате газовой атаки в битве при Ипре в течение нескольких минут погибли около 6 тысяч человек. Александр был еле жив и вскоре комиссован. Революцию встретил в Одессе — жил с матерью и младшим братом Георгием. В 1920 году добрался до Болгарии, но уже через два года скончался, — здоровье его было совсем подорвано. Похоронен был в Софии на русском кладбище. Александру Иосифовичу исполнилось всего 28 лет.
Нестор Иосифович родился в 1902 году. Учился в пажеском корпусе в Петербурге, затем в кадетском корпусе и юнкерском училище в Одессе. В январе 1918 года юнкера Одесского пехотного училища, вместе со своими офицерами, были окружены в здании училища со всех сторон красногвардейскими бандами. Оказав им энергичное сопротивление, юнкера только на третий день боя, и то по приказанию начальника Училища, полковника Кислова, оставили здание одиночным порядком и группами, чтобы пробраться на Дон и вступить в ряды Добровольческой армии.
Хоть мальчик ты, но сердцем сознавая Родство с великой воинской семьей, Гордися ей принадлежать душой; Ты не один — орлиная вы стая. Настанет день и, крылья расправляя, Счастливые пожертвовать собой, Вы ринетесь отважно в смертный бой, — Завидна смерть за честь родного края!..Кто из воспитанников не знал этих пророческих строк Великого князя Константина Константиновича Романова — К.Р…
Те, кто был помоложе, совсем еще мальчики, должны были следовать вместе с основным составом училища. В день эвакуации Одессы, 25 января 1920 года, только часть Одесского и Киевского корпусов успела, под огнем красных, погрузиться на пароходы. Среди них был и Нестор. Мальчиков эвакуировали сначала в Турцию. Потом точкой последней приписки стал Галлиполи — великое русской кладбище великой русской воинской чести.
Первые месяцы пребывания в Галлиполи ушли на отыскивание и оборудование жилья. Долгое пребывание целых частей, отдельных семей и лиц под открытом небом на мокрой или мерзлой земле, бесконечные хождения без сапог и обмундирования за продовольствием не прошли бесследно. Примитивные лазареты, возникшие в первые дни, наполнились больными. Начались эпидемии… Неумолимая и равнодушная смерть стала вырывать из обессиленных рядов Корпуса одного за другим недавних героев Таврии, Перекопа и Сиваша…
Девятнадцати лет юнкер Нестор Микулин умер от истощения и болезни в Галлиполи и был похоронен там совсем рядом с памятником русским воинам, закладка которого была совершена 9 мая 1921 года. По преданиям, на этом же месте были погребены русские пленные, перевезенные сюда во время Крымской войны в середине XIXвека.
Генерал Кутепов положил в основание памятника медную в свинцовом конверте доску с надписью: "Памятник сей заложен 9 мая 1921 года при Главнокомандующем, генерале П.Н.Врангеле, командире Корпуса, генерале от инфантерии А.П.Кутепове, по проекту архитектора, подпоручика Н.Акатьева. При закладке присутствовали… и т. д."
В постройке памятника принимали участие все: в том числе и мальчик-юнкер Нестор Микулин. Знал ли он, что строит и свою могилу?
Работали русские воины, разумеется, безвозмездно. Цемент, наполовину купленный, наполовину сэкономленный из французских отпусков на лагерное оборудование, был никуда не годным. Не было инструментов, получить их было тоже неоткуда. Делали инструменты сами из подручного материала — французских мотыг, случайно найденных кусков стали и проч. С этими и другими слесарно-кузнечными работами справлялись мастерские Технического полка. Сооружение двигалось вперед…
"Вот тогда-то, говорил автор и строитель памятника, — при виде этих бесконечных верениц людей, согнувшихся под своей добровольной ношей, седых стариков и малых детей с тихими и серьезными лицами приходивших на кладбище, — тогда мы и получили запас энергии и воодушевления на все время сооружения памятника".
Дети гимназии, малыши детского сада — все участвовали в общем деле, с музыкой несли они песок в своих ученических сумках.
16 июля состоялось открытие и освящение памятника, явившееся большим торжеством в жизни Корпуса.
…Выдалось яркое солнечное утро, почти весь Корпус собрался у кладбища. Стройным четырехугольником, со знаменами и оркестрами, окружили его части войск, участвовавшие в параде. В ограде — духовенство, почетные гости: местные французские и греческие власти, представители населения, дамы и дети. Во время богослужения протоиерей отец Феодор Миляновский взволнованно, со слезами на глазах, произнес слово. «Путник, кто бы ты ни был, свой или чужой, единоверец или иноверец, — благоговейно остановись на этом месте — оно свято, ибо здесь лежат русские воины, любившие свою Родину, до конца стоявшие за честь ее…», — и далее, обращаясь к присутствующим: «…Вы, крепкие, вы, сильные, вы, мудрые, вы сделайте так, чтобы этот клочок земли стал русским, чтобы здесь со временем красовалась бы надпись: «Земля Государства Российского», чтобы здесь всегда реял русский флаг…»
Через год рядом с памятником лег и один из его юных строителей — Нестор Микулин, русский юнкер, 19 лет от роду.
* * *
Самый младший из сыновей Иосифа Александровича — Георгий (1907–1972), успел до революции и во время ее окончить 3 класса одесской гимназии. Когда от тифа в Одессе в 1922 году скончалась мать — Ольга Александровна Микулина, Гога — так звали его в семье, — решил добираться в Петроград, — сначала к родне по матери, а потом в Москву — к Жуковским.
К весне 1923 году неожиданно в Орехове появился шестнадцатилетний юноша — страшно изможденный, больной, весь покрытый от истощения фурункулами… Как он прошел через горящую в огне Гражданской войны Россию и добрался до спасительного Ореховского приюта, — один Бог ведает. Его приняла бабушка моя Екатерина Александровна в свои руки. Выхаживали, как могли, отпаивали молоком, кормили ягодами… А мальчик оказался не простым, но золотым. Как только чуть пришел в себя — сел за книги, сам прошел весь гимназический курс и сам подготовил себя для поступления в Высшее техническое училище в Москве на химический факультет (позднее он перешел в Химико-технологический институт, который и закончил в 1931 году).
У Георгия не только были от Бога богатейшие и незаурядные способности, но и невероятная усидчивость, работоспособность, целеустремленная воля. При этом он был человеком добрейшим, совершенно не склонным к проявлениям превозношения, надменности и всего тому подобного. Скромнейший это был человек — я его хорошо помню именно таким. Однако его семейные корни, или анкета, как тогда говорили, — мешала ему всю жизнь. Он мог очень многого добиться, подняться в научной деятельности до немалых высот, но дороги ему почти не было. Только в 1961 году Георгий Иосифович защитил кандидатскую диссертацию, а в 1968 году — за четыре года до кончины — докторскую.
По линии Георгия Иосифовича Микулина род получил свое продолжение — на Украине в Днепропетровске и сейчас живут его сын, внук и правнук… Но это уже совсем другая история, другие люди и жизнь тоже, наверное, совсем другая…
На коллаже работы Екатерина Кожуховой: в центре — на фото Е. Кожуховой древнее Микулино Городище XIV века в тверской области, — вотчина предков Микулиных — князей Микулинских-Тверских, храм в честь Архангела Михаила;
В верхнем ряду слева направо: Александр Александрович Микулин, прадед автора, рядом Александр Федорович Микулин, прапрадед автора, Екатерина Осиповна Микулина (урожденная де Либан) — прапрабабушка автора, Иосиф Александрович Микулин, брат прадеда.
Средний ряд: Владимир Иосифович Микулин, Дмитрий Александрович Микулин, погибший в американской дуэли, Мария Александровна Микулина — прабабушка автора, Александр Иосифович Микулин, похороненный в Софии;
Нижний ряд: кадр из истории Гражданской войны в России; кадет Нестор Иосифович Микулин в детстве (похоронен в Галлиполи), Шура Микулин — сын Александра Александровича Микулина, будущий известный конструктор авиационных двигателей; памятник русским воинам в Галлиполи.
Семейная переписка, фотографии и пр. материалы из семейного архива публикуются впервые.
Глава 10. Курс NO 23–63
…Как мне хотелось, погружаясь в горькую семейную драму — в беду двух братьев Микулиных, разорвавших свое братство ради разности политических взглядов, попытаться, что называется, беду эту «рукой развести», найти хотя бы через многие годы и эпохи ключи к ее убедительному духовному разрешению во Христе. Но вот не получилось… Звено в цепи событий не встало на свое место, не вправилось, и цепь осталась такой же несмыкаемой, как и была, а потому и бесполезной, чтобы теперь под широким углом зрения большой временной дистанции и нам бы — по пословице — и к нашим бы делам того «ума приложить». К нашей общей, и по сей день длящейся беде, — неизжитых из умов и сердец последствий Гражданской войны, бывшей в свою очередь следствием тех первых неразрешенных братских противостояний.
От погружения в события 1905 года осталось очень внятное ощущение некой духовной растерянности и душевного оцепенения, слышавшегося мне и в письмах, и в поступках, оставшихся от тех лет. Совсем уже не встречались в переписке блики радости, а ведь ей рано еще было уходить из жизни… Вся семья была еще почти в полном составе, Россия, которую они знали и любили, еще стояла, казалось, вполне крепко, — у того поколения была великая Родина и они были д о м а! Росли дети, жизнь была давно устроена и укоренена, надежно хранились традиции быта — разве мало? Быт ведь это и выразитель, и оградитель внутреннего таинства жизни, своего рода живой футляр духа…
Но вот разошлись два брата и трудно даже и теперь в точности сказать, — по какие же стороны баррикад (а до баррикад и впрямь оставалось уже совсем чуть-чуть…), какие позиции выражал каждый? Либерализм и консерватизм? Но это на самый поверхностный взгляд… Столкновение чести и совести, которые не совпадают большей частью в жизни: честь велит вызывать противника на дуэль, а совесть — прощать.
И видимо, так разнились их правды, что не нашлось даже способов и душевных сил возвести мосты меж ними. Любовь, скорбь и молитва (да и то, скорее всего, явленные только с одной стороны) и великий на то милосердный Божий отзыв, — вот что только спасло братьев пред смертью и дало им надмирное примирение.
Ощущение потерянной п р а в д ы жизни, — вот что у меня осталось в душе от воспоминания тех давних событий. А ведь еще только у предыдущего поколения, у Анны Николаевны и Егора Ивановича Жуковских это глубокое знание и переживание Правды Божией и жизни по этой Правде, жизни, как устремленности к осуществлению этой Правды, было несущей матицей, скрепой земного бытия не только старших Жуковских, но и всего народа нашего со времен еще допетровских. Кто поспорит с этим?
О том говорят все летописи, являющие не просто как на западе сухие исторические хроники жизни, но и православный взгляд на эти хроники; о том вся древнерусская литература, о том песни и сказы, о том радостное русское церковное зодчество. Иначе откуда бы взяться было бы той радости, той яркости, той живой пронизанности всей жизни устремленностью к Небесному Иерусалиму? Разве не об этом говорят нам остатки прорисей древнерусских городов, повторяющих на нашей северной земле карту и топонимику Земли Святой — везде и вокруг явленных свидетельств чаемого Царствия Божиего? Никон Патриарх, возведший Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, царь Борис Годунов и первый патриарх Иов, которые всю жизнь и мощь державы хотели подчинить высшей цели жизни, определенной апостолом Павлом, как стремление «к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14); когда в центре московского Кремля царь намерен был созиждеть Кувуклию — полностью повторить в святом центре Русского государства храм Гроба Господня…
Отсюда брала свой исток и мысль о великом предназначении России, хранительницы Православия, оградительницы чистоты Священного Предания, — как служения Вере Христовой и главному делу Христову на земле — созиданию Святой Церкви.
Но мыслям о великом п р е д н а з н а ч е н и и всегда сопутствуют мысли о великой м о щ и, а последним свойственно незаметно даже для самих себя изменять высокой цели и выбирать для ее достижения совсем не органичные ей иные, земные, политические, не благодатные средства, которым всегда находятся земные же и потому сверх убедительные обоснования. Мощь духовная постепенно начинает подменяться мощью политической, а чаяния Правды Божией — земной ложью «псевдоименного разума» человека.
Есть ли на земле выход из этого тупика, можно ли духовным целям найти способ подчинить и сродное им по духу и форме государственное действование, — трудно сказать (и никто, кажется, и не сказал?), однако свет на эту дилемму, как и на все остальное земное — противоречивое и греховное и на земле не разрешаемое пролил Спаситель, сказав, что «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17:21) и что должны христиане отдавать «Кесарю кесарево, а Божие Богу» (Мф.22, ст. 15).
И все же Московская Русь обрела это неземное сокровище в многих русских сердцах, обрела так глубоко, всепроникающее и беззаветно, что хватило его очень надолго — вот вплоть до Николаевской эпохи XIX века. В те времена еще нередко можно было встретить т а к о г о «древнерусского» человека и среди помещиков, и среди крестьян…
* * *
…То была, пожалуй, самая ясная в духовном отношении пора жизни России XIX века — Пушкин, Гоголь, Жуковский Василий Андреевич… В особенности Пушкин — со своим особенным русским православным чувствилищем, с могучей интуицией русской правды, чудом оставшейся неповрежденной при всем его утонченно европейском образовании и воспитании. Несомненно, по-своему эта «интуиция истины» жила и в Гоголе, — он утверждал ее в своем сокровенном внутреннем монашестве (пусть жизненно и не осуществленном, но сердцем избранным), а выбрал монашество опять же под воздействием той самой интуиции, — как наиболее приближенный к самой Истине способ жизни.
Тут же рядом воскресало и славянофильство в своем фундаментально-помещичьем, жизненно глубоко укорененном строе, воспомнился русский фольклор — именно тогда и была услышана русская песня — «душа народа», как выражался Глинка, а чуть позже это «услышание» подтвердил как будто законченный западник по уму, по вкусам, по всему внешнему, но еще не с оглохшим русский сердцем Тургенев.
Тогда еще не вошел в силу, не проник глубоко в поры обыденной жизни, в умы и души людей тот эмансипаторский (преимущественно политический) подход, который потом как грубая молодуха — стареющую свекровь — вытеснил, выставил за дверь все русское восприятие жизни. И вот уже Герцен начинал неустанно крушить многовековые опоры русской жизни, настаивая на том, что нет никакой тайны личного предназначения человеков, — «никакого секрета нет, спрятанного в жизни каждого человека», разве только «творческое вырабатывание себя и своего своеобразия», предопределив и указав дорогу всему позднейшему либерально-интеллигентскому индивидуализму.
Ну а уж коли таковые, как Герцен разрушали все «скрижали разума» (по слову отца Георгия Флоровского) в жизни человека и даже самоё старинную привычку искать и признавать наличие смысла в жизни, то тут уже недвусмысленно было ясно, что война была объявлена самой Вере в Промысел Божий и в Божие смотрение в жизни людей, в бытие Божие. А это означало, что человек вполне может довольствоваться сменой обстоятельств жизни вместо изменений самого себя и созидания внутреннего Царствия Божия.
Этот эмансипаторский безбожный подход руководил и руками тех, кто готовил реформу 1861 года (людей, считавших себя верующими): крестьян о с в о б о ж д а л и от «родительской опеки» и власти бар, но освобождали не по-отцовски, — не обустраивали, не пытались даже переосмыслить ни их будущую жизнь, ни свою собственную, ни жизнь всей России, чтобы привести насколько возможно ее в соответствие с вечными христианскими основаниями. Не по-христиански освобождали…
Так закладывалось начало люмпенизации России, а в умах и сердцах все свободнее распространялось двоемыслие: вроде и вера соблюдается, но жизнь строится на иных качественно европейских основаниях. И все же еще жил прежний дух в таких семьях, как жил он у Жуковских, где благодатный быт и весь строй отношений между людьми был выразителем, исполнителем и проводником глубокого и целостного церковного православного сознания, храня подлинно русское, то есть глубоко церковное целостное православное миросозерцание.
* * *
…Вспомнились мне тут слова моей бабушки (а ведь это именно были ее слова, а не мои домыслы!) о «детской вере без рассуждения», присущей Анне Николаевне Жуковской. И вот однажды привычные эти слова как-то зацепили меня, хотя они вроде бы и вполне соответствовали Евангелию: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф.18:3). Но вдруг я услышала, что моя бабушка говорила о вере Анны Николаевны не без некоторой совершенно почти незаметной, добрейшей, любовной, конечно, но все-таки снисходительной иронии. Так ведь часто говорят о прошлом, которое нам кажется всегда немного наивным, чуть более примитивным, отставшим… Но отставшим от чего, как не от всестороннего прогресса жизни — того самого прогресса, идол которого принесла нам поголовная европеизация русского церковного ума, начавшаяся в веке XVII и не закончившаяся по сей день.
Европеизация ума как форма войны со Христом.
В бабушкином восприятии в вере Анны Николаевны было действительно нечто уж слишком наивное, некий небольшой недостаток (пытаюсь я расшифровать те услышанные мною интонации), который у более поздних и современных бабушке людей устранялся за счет той самой рефлексии, о которой мы рассуждали несколько глав выше…
Но в том-то и суть русской трагедии, что вера Анны Николаевны, замечательной русской женщины, безупречно и свято, в большом терпении и любви ко всем прожившей свой долгий век, была отнюдь не явлением наивности, но примером живого, неповрежденного целомудрия церковного сознания, каким оно было унаследовано православными русскими людьми от времен Святой допетровской Руси. Только сохранено было совсем немногими. И, как неподдерживаемое часто и со стороны самой церкви, и тем более государства — полностью переставленного на европейские основания, и как беспечно не радевшее о воспитании потомков, это мирочувствие и миросозерцание растаяло неощутительно для самих носителей этого сознания.
Люди думали, что они в вере и что верны своим отеческим идеалам, а уже давно жили и мыслили вне этих рамок.
И если в сердцах поколения Анны Николаевны вера еще оставалась на своем верховном, царственном месте в жизни, а сбережение Веры, служение Богу везде и во всем, примирение с Богом во всех тяжких обстоятельствах, стремление жить по заповедям, живое благочестие как действие благодати, ради обретения спасения в Вечности, — все это пронизывало и освещало быт людей до мельчайших капилляров, то уже в последующем поколении на свято место, которое оказалось «пусто» пришли новые ценности: идолы, фантомы, суррогатные заменители истинного смысла жизни. А вместе с ними и мучительная рефлексия и предельное напряжения интеллекта — жизнь запутывалась, усложнялась, ощущение правд, вИдение светлого ее путеводного луча уходило вовсе.
Так начинался пролог гражданской войны всех против всех, в которой как кто-то сказал, банк срывали одни подонки.
Все вокруг и под ногами уже рушилось и проваливалось, но оставался еще быт — прежний, благодатный, хранящий дивные ароматы другой — действительно бывшей когда-то светлой жизни.
Глубоко таинственная вещь — быт. Если вера в Бога действительно цельна и целомудренна, как было когда-то на Руси, то она пропитывает, освещает не только всего человека, но и весь его быт, все его существование, его окружение, и потом этим самым бытом, как питательной средой, укрепляется и сохраняется. Как сосуд, в котором долго хранился нектар, быт еще долго благоухает небесным «благорастворением воздухов». Все почти вокруг изменилось, но неподражаемый аромат все еще держится: привычный, старинный, в то время как жизнь из него медленно уходит и люди уже начинают метаться в поисках новых источников света, забывая заглянуть во сгущающийся мрак собственного сердца…
* * *
Давно хотелось мне подумать над одним странным фактом: многие письма, воспоминания и дневники из нашего архива были, хотя и сложены аккуратно в папочки или конверты, но столь же аккуратно… разорваны пополам. А на конвертах и папках мне часто встречалась надпись, сделанная бабушкой: «Все письма просмотрены — их следует сжечь».
Раньше по этим припискам глаз мой просто проскальзывал: все же не сожгла, не поднялась рука… Но вот однажды я все-таки задумалась: что это было, отчаяние? Какой-то невысказанный внутренний приговор прошлому — своему собственному и семьи, тем незабвенным и недолгим дням счастья, свободы, тем мягким и теплым краскам жизни, которые теперь были увидены глазами много пережившего человека, прожившего бОльшую своей жизни — 65 лет — в веке XX (бабушка родилась в 1886 году, а скончалась в 1965 году).
…А, может, ты хотела уберечь эти свидетельства живого минувшего от поругания, осмеяния и заплевывания людьми совсем других времен и сердец?
Основания для этого у тебя несомненно были… Вспоминаю Блоковские записные книжки, где он описывает увиденное после погрома любимого своего Шахматова, где среди безобразных останков и изувеченных развалин былой жизни на полу валялись растерзанные пачки семейных писем «со следами человеческих копыт».
Но нет, вряд ли… Ты ведь, как никто, хорошо знала и другую сторону той жизни: как еще после первых революционных погромов 1905 года приехала в Петроград вдова Ивана Егоровича Жуковского, твоего дяди, — Ольга Гавриловна — хозяйка Нового Села под Тулой, и как она рассказывала всем собравшимся об ужасах погромов и полыхании имений, о том, каким нападениям подвергались соседи (жестоко застрелен был по соседству с тульскими Жуковскими отчим князя Дмитрия Шаховского — в эмиграции ставшего архиепископом Сан-Францисским): «А я харкаю на них и плюю! — кричала тогда на взводе Ольга Гавриловна. — Харкаю — и плюю!».
Мне всегда казалось, что я слышала тебя: и твое молчание, и смысл твоих приписок… И все те сложные чувства, которые ты хранила в себе очень глубоко. Конечно, ты любила всех твоих близких и прежнюю жизнь — Орехово, поля, храмы, мирную семейственность, благодатный быт, веками хранивший благословенный дух нашей веры, порождавший такие истинно добрые, чистые отношения между людьми, которыми и отличалась прежняя русская жизнь в семействах, подобных Жуковским. Вслед за отцом ты глубоко и бескомпромиссно относилась к неправдам мира, но, не имея в себе сильного корня веры, ничего уже от жизни доброго не ожидала: верила, скорее, в неотвратимость взрыва. Увидела ты воочию и то, во что вылились попытки насильственного изменения внешнего мира, вопреки заповеданному Христом: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам» (Мф. 6:33).
Во всем ты ощущала ложь: и бывшего, и нынешнего, и места себе не находила ни там, ни там, хотя послушно и честно жила и трудилась всегда там, где выпадало тебе на кону жить… Но утрачено было то, что только и спасает нас от уныний и разочарований, примиряет с горькими судьбами — живая, глубокая и осмысленная вера в Промысел Божий, в Правду Божию, которая заключается по словам отцов — в Милости Божией к человеку, поскольку и из зла Господь умеет творить добро и пользу, тем самым даруя человеку надежду.
* * *
…Прошло двадцать три года после кончины бабушки, — не стало мамы. И вот в тот скорбный день я услышала нечто подобное бабушкиным припискам теперь уже из уст дядюшки (мама лежала в соседней комнате), последнего старшего близкого родственника, который хмуро выговаривал мне, что я должна теперь, когда не стало мамы, все оставшееся от Жуковских, что собиралось и хранилось бабушкой, отдать в музеи.
«Вот как», — подумала я тогда (а теперь, когда это пишу, прошло и еще 23 года), — «они, старшие мои, оказывается, поставили на себе точку и книгу истории рода захлопнули, не предполагая уже ни в ком, ни возможностей, ни сил, ни должных качеств не только для физического продолжения рода, но и даже для сохранения его традиций, для воспоминаний и осмыслений всего, что скопило за несколько веков старинное русское семейство, тесно связанное в горе и радости с историей России.
Хочешь — не хочешь, но выходило, что я уже нечто совсем иное, отрезанный ломоть и уже не частица рода. А других потомков Жуковских, духовно близких к семейной истории, давно уже не было: сам дядюшка детей не оставил, поскольку он их, по правде сказать, никогда и не желал иметь.
По правде сказать, я и не обиделась на его слова, хотя больно-то было: в сердце своем я никогда и не мыслила себя в одном непрерывном ряду с предками, настолько всегда они — особенно в молодости — казались мне недосягаемо и безвозвратно прекрасными. Я мнила себя случайно где-то в стороне выпавшим из лукошка семенем, за ростом которого никто не следил, и колоса от которого никто вовсе и не ждал. И то, что я все-таки когда-то однажды подвиглась сама пойти навстречу прошлому, говорит лишь о том, что это прошлое было разительно отлично от того, что я встречала в жизни, и что у меня была надежда найти там помощь и утешение.
Это было мое паническое бегство, возможно в последней надежде на обретение настоящих жизненных опор. Но прошлое сопротивлялось. Оно вставало на дыбы и смеялось надо мной, оно «выговаривало» мне, как тогда мой дядюшка — «что тебе здесь надо и кто ты вообще»? И я, то принималась за работу над этой книгой, то отбрасывала ее совсем и надолго в сторону, причем с глубоким отвращением, которое только может испытывать человек, познавший онтологическую трагедию человеческой греховности, и потому уже заранее извещенный, что если он собирается в прошлом искать, ностальгируя, спасительные прелести, красоты и чудеса, то обретет он там одну только ложь, которая и будет очень горькой правдой о человеке. И вдобавок получит все те же тупики, из которых собрался бежать сам…
Я перебрала тогда, кажется, все возможные подходы к прошлому и ни один не срабатал. То привлеченная генеалогией, я начинала с увлечением искать родословные документы в анналах библиотек, то, чуть ли не обоготворяя идею воспитания, я пыталась воскрешать вживе сердечный мир и поэзию минувшего и то старинное очарование жизни, которое мне представлялось самой большой утраченной ценностью, но ценностью какой? На этот-то вопрос ответа и не было…
То искала ответы на вопросы с позиций историософии и политики, но… Господь в то время привел меня к Себе в Церковь, и все изменилось: и во мне, и для меня. И постепенно на прошлое я тоже стала смотреть другими глазами — не самоуверенной критики с позиций мифического прогресса мысли или сквозь розовые очки ностальгии, но глазами понимания, сочувствия и молитвы в надежде, что несмотря на великие скорби, которые сразу стали мне открываться в этом «прекрасном прошлом», чуть ли не вопия ко мне о сострадании и помощи, воскрешение, восстановление и исцеление ран ушедшей жизни — возможно. А вместе с тем и ран моей собственной жизни.
Теперь я знала, что искала в прошлом: я искала там Розу Иерихона — Anastatica hierohuntica, которая погружаясь в живые воды любви и памяти, способна к воскресению, которая вновь начинает жить, и давать и лист, и цвет, и плод во время свое, и хрупкая нить жизни не только не прерывается, но крепнет и растет…
И тут стали мне особенно дОроги детали жизни или «паузы жизни», как я их где-то в книге назвала, нечто совсем обыденное, простое, внешне невидное. Вот семья садится за стол, начинается тихая беседа и за обычной трапезой парки ткут нити бытия…
* * *
«Мама уехала во Владимир с нашим работником Фёдором. Владимир стоит на реке Клязьме. Там родилась моя Мама, на Троицкой улице в доме Андриевич. В Москве живут тетя Вера и дядя Шура»…
Удивительна эта страничка из тетрадки первоначальных прописей моей матери Марии Ивановны Домбровской, относящаяся к 1923 году. Маме 7 лет. Она с мамой, бабушкой Верой Егоровной и старшим братом Кириллом с рождения живет в Орехове, хотя скоро уже им предстоит переезд в Москву — десятилетнему Кириллу нужно ходить в школу: домашних занятий с бабушкой и мамой уже не достает. Я узнаю мамин почерк: карандаш, подчиняясь самобытности ее творческого и кажется не поддающегося выпрямлению характера, как бы скачет в прямоугольной линовке прописей. На обороте страницы — уже другая рука значительно крепче и почерк ровнее, гармоничнее… Сам же листочек — пожелтевший, обтрепанный, но какова бумага! Добротная, плотная, хорошо впитывающая чернила… Явно из старинных, дореволюционных тетрадей: в то скудное и голодное время писать было, я знаю! не на чем, кроме как вырывать свободные странички из сохранившихся в доме прежних учебных пособий. Вот тут уже диктант или упражнение из старого с «ятями» учебника русского языка переписывает Кирилл:
«Ты слушаешь и молчишь. Ты забавляешь своего маленькаго брата. Утром ты встаешь, одеваешься, умываешься, причесываешься, молишься Богу, пьешь молоко, и отправляешься в училище».
А внизу приписка карандашом — рука уже третья, явно взрослая, и судя по отменному почерку — преподавательская:
«Кирилл бьет свою сестренку Маю. Это очень не хорошо». Л. М.
Кому принадлежат инициалы «Л.М.» я так и не смогла догадаться. В двадцатые годы в Орехове у моей бабушки Кати живало много людей — близкой и дальней родни, добрых знакомых. Орехово, подвижническими трудами моей бабушки, все-таки еще как-то кормило в это голодное время: огород, немного молока, крупы, — выменивавшейся по деревням на вещи… Кто-то из гостивших, возможно, и помогал Вере Егоровне — бабушке Майи и Кирилла — присматривать за детьми, когда их мать — Екатерина Александровна — отлучалась.
…Кирилл действительно обижал сестренку. Мама мне в свое время, вспоминая Ореховское детство, часто как-то по-детски жаловалась на него. Бедная, она была непоседа и довольно своенравная девочка, чего серьезный, погруженный в свое собственное существование и несший свою жизнь даже в отрочестве как нечто очень значительное и обязательно многообещающее, старший брат терпеть не желал. У него даже в эти страшные годы, благодаря матери, которая всеми силами старалась сохранить для Кирилла ощущение присутствия в его жизни отца, эмигрировавшего в 1918 году, когда Кириллу было пять лет, — уже наличествовало самочувствие джентльмена. Потому, что джентльменом из джентльменов был его отец — Иван Грацианович Домбровский.
А маленькая Майя — она была вне каких-то определенных рамок. Странное дитя. Очень рано проявив яркую одаренность к рисунку и живописи, она имела при том и какой-то врожденный, правда не очень заметный недуг, как тогда выражались, нервной системы. Когда ей было 10 лет, он внезапно дал о себе знать вспышкой болезни под названием «Пляска святого Витта», которую хотя и долго, но успешно лечил, и в общем-то вылечил очень известный тогда невропатолог. И все же след от этого, вероятно, имевшего какие-то и наследственные корни, заболевания остался на всю жизнь. Что, правда, не помешало маме пройти фронт, успешно работать в госпиталях, стать затем настоящим художником — окончить Строгановку у Фаворского (по графике) и по факультету монументальной скульптуры, быть живой, веселой и остроумной и всегда преданно и с любовью служить своим близким. И, добавлю: трогательно выказывать всегда свою любовь и почтение старшему брату.
…Как же мудры и подлинно культурны были давние наши предки, которые с самого раннего возраста, — с того момента, как дети овладевали первыми навыками письма, приучали — и даже понуждали их, вести дневники. И даже эти жалкие странички, оставшиеся от деревенской робинзонады (жизнь без спичек и бумаги, без керосина и часто без свечи, — казалось бы, чуть ли не приключенческая, если бы не постоянный страх за жизнь близких), прожитой в революционные годы на почти что «необитаемом острове», свидетельствовали, несмотря на очевидные внешние черты разрухи, об устойчивости древнего внутреннего семейного строя жизни.
Сохранились у нас частично дневники старшей сестры Николая Егоровича Жуковского Марии Егоровны, дневники гимназических лет бабушкиной сестры Веры Александровны, фронтовые дневники времен I Мировой войны моего деда Ивана Домбровского, дневниковые записи моей бабушки Кати, дневники тридцатых годов ее сына и моего дяди Кирилла Домбровского, и даже вот эти сохранившиеся, к сожалению, только в обрывках, странички детских тетрадок моей матери и дяди — времен их послереволюционного Ореховского заточения. На этих листочках из старых тетрадей лежал тихий отсвет одиноких зимних семейных вечеров, когда сбившаяся тесно кучка женщин и детей пытались сохранять жизнь такой же, как она была заведена когда-то в Орехове даже в таких холодных, страшных и очень голодных условиях, о чем свидетельствовал непременный «Ореховский журнал» какого-нибудь 20 года с шарадами, загадками, шутками и акростихами, в котором принимали участие все — от стара до млада.
Сохранился и киевский дневник 7-летнего Шуры Микулина — будущего академика, известного конструктора авиационных двигателей Александра Александровича Микулина (1895–1981), младшего брата моих бабушек, в котором он в своих прописях каждый день, едва научившись писать, делал записи о своем житье-бытье. Одновременно с дневником Шуры (зимы 1902–1903 года), в то время обнаружились воспоминания бабушки о Киевской жизни семьи, относившиеся именно ко времени Шуриного детства. Я их объединила вместе: фрагменты воспоминаний бабушки даются в скобках…
* * *
2 ноября 1902 года. Вот уже два дня как у нас туман и холодно, а у меня кашель и насморк. Я сижу все время дома и не могу гулять.
6 ноября, среда. Я писал три дня бабушке письмо и потому в эти дни у меня в тетрадке ничего не было написано.
(Однажды утром Шура, как обычно, выйдя в столовую пить молоко, увидел около стола маленькую парту. «Подойди сюда, Шура, — сказал отец, — сегодня ты начинаешь учиться писать». И действительно: с этого дня он каждый день по утрам, пока отец пил чай, писал одну страницу. Скоро он научился отлично писать, красиво, как чертежник. Отец славился своим превосходным почерком, и Шура старался ему подражать. Читать Шуру учила мама. Тут дело не ладилось: тянет, тянет слово, пока начало не забудет. Отец был спокойный и строгий, а мама была разная: то позволяла Шуре делать, что бы он не захотел, то чуть не плакала, сердилась. Тогда Шурка прикидывался больным…)
7 ноября. Во вторник к маме приезжала Екатерина Владимировна Критская, с которой мы познакомились за границей у Ламана.
(Мама прочитала Шуре вслух книгу Жюля Верна про Филеаса Фога, который на пари отправился в путешествие вокруг света в 80 дней. Этим летом Шура с отцом и матерью ездил заграницу, в Дрезден, в санаторию доктора Ламана. Там он научился делать гимнастику, обтираться холодной водой по утрам и зачем-то становиться в таз с водой и делать «плитч-плятч», как говорил Ламан. Шура с удовольствием скакал в тазу и заливал все вокруг брызгами. А еще он научился у Ламана ездить на настоящем велосипеде. Теперь его главная мечта — велосипед).
9 ноября. Вчера я не писал, потому что папа уезжал на вокзал встречать министра Плеве. После завтрака я ходил гулять.
12 ноября. Мы недавно были в театре и слушали оперу Аида. Мне очень понравилось, когда танцовали негры по случаю возвращения Радамеса с войны.
14 ноября. Я катаюсь со снеговой горы на железных санках, они катятся очень скоро. Вчера папа купил мне новые валенки.
(Отец у нас решительно все знал, что бы его не спросить, он про все мог рассказать. Только он был очень строгий. Мы боялись войти к нему в кабинет, а до его письменного стола нам и в голову не приходило притронуться. Однако он был к нам очень внимателен).
15 ноября. Мама подарила мне волчок, а Кате фигурку оленя. Когда волчок вертится, он очень хорошо поет на разные голоса и долго не падает.
16 ноября. Мы ездим каждое лето в деревню. Нынешнее лето к нам приезжал дядя Варя (Валериан Егорович Жуковский — младший брат Николая Егоровича приезжал летом 1902 года в Орехово из Оренбургской губернии, где он служил следователем в городе Троицке и жил вместе с женой Елизаветой, урожденной Стариковой по роду Оренбургской казачкой — Е.Д.). Он сделал мне хороший дубовый лук.
(В это лето Шура в сарае обнаружил останки велосипеда дяди Коли — Николая Егоровича Жуковского — и решил его восстановить и много трудился. Но сразу это сделать ему так и не удалось.)
18 ноября 1902 года. Вчера кошка влезла в печку, чтобы погреться, а Ульяна пришла класть дрова и, увидав два блестящих глаза, вытащила ея вон.
19 ноября. Мы вчера были в концерте, мне очень понравилось, как там играли на скрипках, виолончеле и на рояле и как одна дама пела. В прошлом году папа привез мне из С. Петербурга домашний театр, в котором Катя устраивает иногда представления.
(Папа привез из Петербурга целый ящик декораций и действующих лиц. Сцену сделали сами. Фигурки двигались благодаря бечевкам с грузами. Были кулисы и занавес, лампы подсвета. Музыкальное сопровождение — чудная табакерка. Я читала пьесу и говорила за актеров на разные голоса. Там были короли, гномы, красавицы, колдуньи и страшный змей: на сцену выезжала тлеющая вроде пробки штука она разгоралась, шипела и вдруг из нее начинал вылезать, завиваясь кольцами, страшный змей…)
20 ноября. Вчера к папе приезжал из Одессы фабричный инспектор Якимович, который приносил с собою ноты и очень хорошо пел.
21 ноября. У нас выпал снег и стали ездить на санях. Мы с мамою разчистили гору и устроили снеговой забор, чтобы санки не раскатывались.
22 ноября. Я каждый день хожу гулять в сад и сделал себе деревянные коньки. На них очень хорошо кататься по льду.
23 ноября. Летом мы были в Германии, и папа повез меня в Дрезден в зоологический сад. Там мне понравились медведи и слон.
24 ноября. К нам недавно прибегала маленькая такса; Катя привела ее в кухню и там она начала драться с нашей кошкой.
4 декабря. Я писал три дня письмо дяде Коле и написал ему, что папа купил мне железные коньки кататься в саду.
(Железные коньки отец подарил Шуре только после того, как тот сам смастерил себе деревянные).
5 декабря. Вчера я играл с кошкою, и она очень потешно бегала за бумажкою, которую я привязал на веревочку и возил перед нею.
7 декабря. Из нашей площадки в саду вышел очень хороший каток, на котором я катаюсь на коньках вместе с гимназистами.
8 декабря. Вчера я вместе с Катею сочинял стихи, которые я хочу написать в мой альбом, на той странице, где наклеена роза.
10 декабря. Сегодня у нас в Киеве настоящая зима — четырнадцать градусов мороза и очень много снега.
11 декабря. Вчера Зинаида Александровна сказала папе, что я очень невнимательно занимаюсь музыкою и папа был очень недоволен. Через две недели наступает Рождество и мне будет елка, для которой я хочу сделать длинную цепь из бумажных колец.
(Учителя музыки Шуры звали Гиальмар Альфредович. Он никогда не сердился, но Шура его боялся, потому что глаза него были холодные и злые, как у лягушки…)
13 декабря. После долгих и сильных морозов сегодня у нас наступила оттепель, и ледяной каток совершенно испортился. Вчера на нижней площадке мы с Катею сделали из снега шалаш, в который я могу свободно влезть.
16 декабря. Мы с мамою и Катею вчера в Воскресенье 15 декабря были в гостях у Фальберг и мне там было очень весело играть с Журкою.
17 декабря. Сегодня день Катиного рожденья, ей исполнилось 16 лет, и мама заказала для нея крендель и поставит вокруг него на блюде 16 свечей.
18 декабря. Вчера мама купила Кате вторую кинарейку, а мне две хорошенькие морския свинки, которых я посадил в корзинку с соломою, но держать их в комнатах оказалось очень затруднительно и вчера мы с мамою ездили к Ахиллесу и переменили их на снегиря и чижа.
21 декабря. До Рождества осталось четыре дня, вчера сестер отпустили из гимназии на все праздники и мы ожидаем скоро бабушку и дядю. Все это время у нас стояла оттепель, и наш снеговой шалаш совсем развалился, а каток растаял, сегодня же — два градуса мороза.
31 декабря. В Сочельник к нам приехала бабушка и дядя Коля и все праздники я ничего не писал. Сегодня последний день старого года.
3 января 1903 года. Папа подарил мне на елку билет в театр и мы все ездили 1 января слушать оперу Снегурочка. Мне очень понравилось.
4 января. Сегодня бабушка и дядя уезжают в Москву, а через два дня кончаются праздники и сестры пойдут в гимназию.
11 января. Сегодня я начал учиться писать по-французски в новой тетрадке, в которой папа написал мне азбуку
(Наш отец великолепно владел французским языком, так как мать его — наша бабушка Екатерина Осиповна была француженкой).
13 января. Вчера мы ходили на каток, который называется «Ледяное поле». Там очень много катаются на коньках и выделывают фигуры.
(На этом самом катке через 8 лет я познакомилась со своим будущим мужем Иваном Домбровским).
15 января. Вчера мы с Катей ходили покупать семена для птиц и когда проходили мимо театра видели, как оборвалась трамвайная проволока и упала на рельсы, отчего произошел сильный взрыв и появился очень большой огонь около рельса и наверху на столбе.
20 января. Вчера я с гимназистами играли снежками в войну, одна партия, на горке, была русская, а другая изображала французов.
(Из-за сражений на снежной горке Шура опоздал на урок к Гиальмару Альфредовичу и плохо играл на скрипке, потому что красные от мороза руки не слушались.)
23 января. До моего рождения, которое будет 2 февраля в день Сретения Господня, осталось десять дней и я жду его с нетерпением. Я вчера катался с горки на коньках и играл с гимназистами в пожарных, причем я изображал паровую машину и ехал сзади всех.
27 января. Вчера утром, когда я гулял в саду, я видел маленьких тоненьких птичек, у которых зеленыя грудки и черныя спинки. Я сделал папе из березоваго полена спичечницу, которая похожа на спичечницу с головкою оленя только моя без головки.
29 января. Несколько дней тому назад папа купил мне досок, из которых я сделал санки — такия крепкия, что я на них катаюсь.
30 января. Папа уезжает завтра в С.Петербург и потому подарил мне вчера вместо чем в день моего рождения инструменты.
(Отец подарил Шуре столярные инструменты: рубанок, молоток, пилу, сверло, — все то, о чем так мечтал Шура. Летом в деревне он мог целыми днями возиться около свого верстака: он строгал, сколачивал, мастерил арбалет, плот, сабли, да мало ли еще чего… Раз в машинном сарае он обнаружил колеса настоящего велосипеда. Под разным хламом откопал раму с цепью и одну педаль. А еще огромный руль и покривившееся седло. Все это он оттащил к верстаку: началась сборка велосипеда. Но сколько он не пыхтел — удалось только вставить руль в переднюю вилку. Гайки все заржавели, и ключа к ним у Шуры не было. «Ай да Саша! — сказал дядя Коля, Николай Егорович, — никак мой старый велосипед откапал! Тащи-ка его в дом, на днях поеду в Москву и привезу тебе инструменты и недостающие части, а пока смажь все керосином и пусть полежат». Дядя не подвел. Собирали велосипед втроем: дядя Коля, отец и Шура… В тот же день вся деревня бегала смотреть, как Шура раскатывает. С тех пор они с велосипедом стали неразлучны…
В полдень Шура всегда мчался по липовой аллее парка звать Николая Егоровича завтракать. Прислонив к березе велосипед, он усаживался на старую бурку рядом со старым дядиным рыжим сеттером Маком и молодой Дельтой и начинались самые интересные разговоры… Почему зимой холодно, а летом жарко, хотя солнце светит одинаково? Или: как из червяка получается бабочка… Или: кто учит муравьев строить огород… Дядя все знал. Он по голосу узнавал всех птиц, научил Шуру подсвистывать иволгу и обещал с будущего лета брать его с собой на охоту.)
1 февраля. Вчера я не писал в этой тетрадке, потому, что написал папе письмо в С.Петербург.
3 февраля. Вчера сестры подарили большой мяч, им очень хорошо играть. Мама подарила шашечную доску.
5 февраля. Несколько дней я не выходил гулять и за это время напало много снега. Мама мне купила лопату, и я разгребал ею снег.
(Приписка карандашом на полях взрослой рукой: «Был за уроком очень не умен и груб»).
5 февраля. Мама купила тетрадку и я в ней буду писать мой дневник и постараюсь быть умным, чтобы не писать о себе плохое…
* * *
Увы… Новая тетрадка Шуры, купленная мамой, в которой он обещал себе постараться быть умным в 1903 году, не сохранилась. Но ведь даже и этого дневника вовсе не мало, для того, чтобы представить себе, как жила семья в те последние месяцы последних двух лет относительно устойчивой русской жизни, которые были и последними радостями для выходившей навстречу жизни молодежи из семей Жуковских и Микулиных.
Катя и Верочка оканчивали в Киеве в 1903 году гимназию. А их двоюродные брат и сестра Жорж и Машура Жуковские (тульские — дети покойного Ивана Егоровича Жуковского) которые были немного постарше, ждали окончания Жоржем Морского корпуса:
Мы теперь гардемарины На погонах якоря, Но как скучно в этом чине, Поскорей бы мичмана…До производства в мичмана, а затем и начала большого учебного плавания оставалась осень-зима 1903–1904 годов. Но жизнь распорядилась иначе…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой — страница из прописей и дневника Шуры Микулина; в центре — сам Шура с матерью Верой Егоровной и отцом Александром Александровичем Микулиными; слева — Мария и Кирилл Домбровские — дети Екатерины Александровны Домбровской; справа — Машура и Жорж — Мария и Георгий Жуковские в подростковом возрасте.
Материалы и семейные документы и фотографии публикуются впервые.
…Каждый год ранней весной вся семья (Жуковский и Микулин приезжали позднее) собиралась в Орехове, и первое, что по приезде с самых юных детских лет должна была сделать моя бабушка, тогда еще Катя Микулина, — а это было заведено издавна, — пустить огромные, очень старые стенные часы в зале. На этот раз они были остановлены осенью 1902 года на одиннадцати часах утра, в тот момент, когда семья разъезжалась на зиму: Жуковские в Москву, Микулины в Киев…
В то последнее безоблачно счастливое ореховское лето 1903 года, Катя как всегда первым делом качнула маятник, подправила стрелки — был полдень… Полдень ореховской жизни, полдень семейной полноты и счастья, полдень русской жизни. Символично было бабушкино послушание — блюсти преемственность времен. Вот и мой маятничек она во время оно качнула, и вновь пошло давным-давно, за много поколений до меня запущенное ореховское время… Только теперь часы отбивали его ход только в одном моем сердце. И говорили они мне — не во всеуслышание, а сепаратно, что «человек никогда не сможет удовлетвориться на этой земле ни самыми большими удовольствиями, ни самыми страшными грехами, ни самыми знаменитыми делами в истории, а может умереть в отчаянии, даже достигнув всего этого, ибо к другому вожделеет человек».
Часы-то ореховские уж знали толк в этой жизни. Их можно было остановить, но не сбить с этого толку…
К июлю собиралась уже вся семья — приезжали Николай Егорович с Анной Николаевной, Александр Александрович Микулин и непременные гости. Иногда совсем неожиданные… Жизнь текла как те часы — по заведенному издавна руслу.
И вот однажды, как всегда, как каждый день, когда не было дождя, в обсаженном деревьями кругу, на лужайке перед домом, под тенью старых тополей все уселись пить чай… День еще не склонялся к вечеру — надо всем жарко дышало ленивое июльское безвременье, так затягивающее человека в этим минуты свободы в блаженно праздное существование.
Хороши все-таки эти редкие минуты, если Сам Господь дарует человеку небольшую остановку в заповеданном ему непрестанном кружении по возделыванию жизни «в поте лица своего» (Быт. 3:19). Так блаженно сияет лицо молодой матери, качающей свое дитя, — никто ведь не скажет ей: а что ты делаешь? Почему не делаешь того-то и того-то? И сама себе она так не скажет, потому что совесть ее, как никогда чиста: она делает именно «то», что и должна делать.
А в другие времена и возрасты вечно кружится и вечно мается человек неизбывной внутренней мукой, как каким-то червем неусыпающим гложущей его: что я делаю, то ли и там ли, а что должен был бы делать? А, может, я должен бежать туда-то и туда-то, и делать нечто совсем другое? Куда бежать, за что схватиться… И вновь: а где мой путь и где моя тропа — моя собственная, самая главная, от Бога мне благословленная, а не моим сумасбродством избранная?
Гулко отбивает маятник в пустой зале ореховского дома сменяющиеся вехи жизни. Но там нет никого, все на кругу перед домом пьют чай и время там почти не движется, хотя в зале оно — что любопытно, — продолжает идти несомненно, и шаг его становится все более гулок и тяжел… Но его никто не слышит…
* * *
Чудная картина рисовалась тогда перед домом: в ярких бликах чуть уже склоняющегося не прямого солнца, в светящихся волнах зелени, в голубом русском сарафане, с бусами и лентами, разрумянившаяся красавица Верочка, колдующая над медным тазом с вареньем… Рядом с ней — красные и пестрые сарафаны деревенских девушек, в гамаке задумчивая Вера Егоровна… Быть бы Верочке гением семейного очага, если бы не судьба, которая совсем иначе распорядится, не сблаговолив ей свить свого надежного и уютного гнезда.
А вот и Катя, Верочкина сестра, усевшись между бабушкой, отцом и Николаем Егоровичем — дядей Колей — чистит смородину: занятие это ей совсем не по нраву: Кате подавай волюшку, просторы полей и умные беседы — да хоть о политике, которые вот сейчас, рядом с ней ведут отец с Николаем Егоровичем. Состоится ли перевод Микулина по службе в Петербург? Вряд ли, во-первых, Вера Егоровна вовсе не хочет покидать теплый, прекрасный, любимый Киев (а ее желания в семье чуть ли не на первом месте), где Микулины снимают уже много лет на Большой Житомирской улице дом с садом и с красивым спуском с горы — разве такое они найдут в мрачном Петербурге? А, во-вторых, там сейчас не до реформ фабричной инспекции: все заняты исключительно дальневосточными делами — арендой Порт-Артура, договором Японией с Англией, явной подготовкой Японии к войне с Россией…
«Они-то без труда перебросят свою армию в Манчжурию, а у наших чугунок провозоспособность-то какова? Мы накануне крупных событий…», — не подымая глаз бросает Александр Александрович, вырезывающий пепельницу из коры старого тополя, он не может ни минуты оставаться праздным. Жуковский сокрушенно качает головой: «Разве можно нам воевать»? Сильно расстроен Николай Егорович. Его чистое, как и у покойного отца Егора Ивановича сердце не может выносить никакого зла — он даже в синематограф с дочерью Леночкой ходит только на фильмы с заведомо хорошим концом. А кроме того, он очень хорошо и близко знает ход дел на военных производствах, где ненасытная нажива, а не святой патриотизм дано уже стала основным «смазочным материалом» всей этой громоздкой и самоуправной машины.
Тут и почтарь деревенский Григорий Киселев появляется на кругу, — тот самый, которого в деревне именуют длинно и смешно: то «Григорий… и полштоф несет…» или: «Григорий… а полштофа с ним нет…». Он привез почту из Ставрова: «Русское слово» и «Московские ведомости». А еще устные сообщения: встало прядильное производство Собинки, — забастовка, а Ундольские крестьяне лес зажгли…
— Ну вот, — говорит из-за газеты Микулин, — «начался дипломатический обмен мнений между Россией и Японией, касающийся Кореи», и в это самое время еще на самых дальних подступах к Орехову всем вдруг становятся слышны первые треньканья далекого колокольчика…
— Кто-то едет! — вскакивает Вера, — и уже через минуту все ясно слышат отрывистый звук пунктового колокольчика, деревенские собаки отвечают на него яростным лаем, громыхает ближний мосток через овраг и вот, наконец, к крыльцу лихо подкатывает ямщицкая пара, из тележки выскакивает высокий, стройный морячок в бескозырке с лентами, в расстегнутой куртке с палашом на боку… Немая сцена…
— Жорж! Жорж приехал! — первой опоминается от изумления Верочка… И все бросаются обнимать и целовать дорогого гостя.
* * *
Высокий, ладный, в белой форменке с голубым матросским воротником, в брюках клеш, Жорж предстал перед Катей и Верой таким необычным и таким родным — они ведь виделись последний раз еще подростками. Кузен произвел на девушек впечатление ошеломительное, но двойственное: с одной стороны — истый петербуржец, моряк, без пяти минут мичман, лейтенант, светский лоск и все при том… С другой стороны — только и говорит, что о деревне, о своем отцовском имении «Новое село» под Тулой, где летом живет его мать Ольга Гавриловна и сестра Машура, о любимых собаках, охоте, лошадях — как впору было бы какому-нибудь егерю или классическому помещику.
— Тебе бы, Жорж, не моряком быть, а помещиком, какие в старину водились, — улыбается Николай Егорович в ответ на восторженные описания подробностей зимней охоты на зайцев.
В те дни племянник и дядюшка сфотографировались у крыльца ореховского дома: оба богатыри. Николай Егорович — сидящим на крыльце, а Жорж рядом, у ног любимая охотничья собака Жуковского, оба полностью обмундированы в охотничий доспех: высокие сапоги, ружья, патронташи и все прочее, что положено. Осталось заложить «линейку» и — с Богом в окрестные ореховские леса…
…Странное было в этом молодом человеке сопряжение полюсов: удали, отчаянного русского молодечества и соседствовавшей с ним, в каких-то глубинах сердца сокрытой неизъяснимой печали. Он как-то обреченно рвался в плавание, навстречу неизвестности и испытаниям, умудряясь при том оставаться по глубинной своей сути, по наследственности и призванию истинным любителем жития оседлого, семейного, патриархального, как встарь водилось…
Бабушке Анне Николаевне — а ей уже в то лето пошел 87 год, увиделись в Жорже все ее дети, как бы слитые в одну душу: веселый милый Коля, вечно мятущийся и недовольный жизнью Иван, отец Жоржа, грустный, поэтичный и глубокий Володя и самый далекий — почти всю жизнь вынужденный прожить в отдалении от любимой семьи, Варя — Валериан: тихий, добрый, смиренный…
Те несколько дней, что провел Жорж в Орехове в середине лета и в самом его конце, для сестер Кати и Веры, да и для Жоржа, судя по переписке, которая началась сразу после отъезда его между ним и сестрами, остались на всю жизнь незабвенными, и, возможно, самыми счастливыми в жизни днями. В то последнее лето бытие приоткрыло им на короткий миг свою всепленительную красоту, свое ласковое цветущее лоно, упоительность его чистых радостей — мол, вот как бывает и как бывало, и как еще могло бы быть, но… уже никогда не будет. И захлопнула свое окошко наглухо, навсегда. Мол, пожили, и — хватит. Разве не так?
Мне же по бабушкиным рассказам те славные ореховские дни всегда представлялись вроде некоего сгустка бытия, в котором мощно скрепились какие-то разнонаправленные силы жизни: что-то многократно усилиленное для того, чтобы оно было прожито и постигнуто, выяснено в самые кратчайшие мгновения, в сжато сгущенном виде, и в настолько глубоких пластах существования, что смысл и назначение постигнутого вряд ли смог бы человек изъяснить в рациональных понятиях здешней жизни, — разве в Вечности, куда уносим мы вместе с собой все неотвеченные вопросы, догадки, предположения и все несбывшиеся на земле надежды…
…Вот так и мне однажды без внятных предуведомлений спустя многие десятилетия вдруг совершенно неожиданно приоткрылось окно во всего лишь один из дней моей очень уже далекой ранней юности, вернее в несколько ее промелькнувших кадров, из которых я, спустя столько лет, узнала нечто для себя невероятное, чего предугадать было вовсе невозможно. Оказывается, что стоило мне тогда в мои 15 лет не ошибиться и пойти по той тропе, которая мне тогда приоткрывалась словно сама собой, но меня не манила, то привела бы она меня, возможно, к глубочайшему исполнению жизни, к тому, чего у меня так никогда на самом деле в реальной жизни и не состоялось, не сложилось. Но теперь, заглянув на миг в это оконце, я молниеносно «прожила» не бывшее никогда — как бывшее, причем познала это «не бывшее-как-бывшее» в его акме, в его расцвете, в предельной полноте его жизненного совершения, — познала настолько глубоко и сильно, что теперь я могла бы смело и уверенно сказать себе: это было со мной. И я действительно тут же это себе и сказала: какое счастье! вот и в моей жизни это было, вот и я э т о сполна пережила и познала за один единственный дарованный мне миг и теперь благодарю за это Бога. Оказывается, и так можно проживать жизнь, и даже многое в жизни, причем вовсе не отмеривая ногами шаги, не ощущая руками материи, не обоняя запахи и не пробуя мир на ощупь и на вкус…
Это было не просто чувство любви, но взлет эроса, духовно устремленного ввысь в соединение с а г а п и, как определяют греки любовь ее в самой наивысшей восходящей степени духовности и всеобъемлющей полноте, и как мы не можем никак справиться с задачей перевода этого слова на русский, толкуя а г а п и как любовь нисходящую, сводя божественную агапи до сострадательной любви к грешному ближнему, как будто в этом добродетельном и несомненно добром и очень высоком свойстве и заключается все то, что в христианской системе духовных координат именуется «любовью» — той Любовью, которая является одним из Имен Божиих.
Нет, здесь было явлен синтез всепревышающего уважения, почтения, восхищения, благоговения, обожания и восторга, — то есть полнейшего и глубочайшего, насколько это возможно, принятия всем существом своим другого человека, которому мне было дано всего лишь поднести на блюде приготовленную для него еду…
«Вот как мы должны любить и вот, что такое любовь!», — уже спустя какое-то время сказала я себе о том, что мне приоткрылось в том окошке, или «сгустке» бывшего или не бывшего бытия. Но окошечко почти мгновенно захлопнулось, а видение начало постепенно истаивать… Осталась память, но что человеческая память может удержать в себе из подобного опыта? Хрупки и ничтожны ее возможности сохранить непередаваемое, то, что не может втиснуть в жесткие рамки оземлененный рассудок… Тесным его узам и даже памяти сердечной не дано удерживать вольные веяния духа — всего того, чем нас столь редко, но все же одаривает всещедрое Небо.
Прошло время и поразительное видение почти истаяло из памяти, но вот однажды дивные слова из молитвы преподобного Макария Великого «Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый Безсмертный Царю, щедре и человеколюбче Господи, яко ленящася мене на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси на конец мимошедшаго дне сего, обращение и спасение души моей строя…», — те, что читаем мы в правиле в числе молитв на сон грядущим, навели меня на мысль: могла ли даже самая благоговейная и самая вдохновенная земная любовь соединить в себе то, что пусть вмале, в силу моих скромных возможностей и мер было испытано мною тогда? И если так, то Кому же тогда подносила я это блюдо с приготовленной едой?
«Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?» (Песн.1:6).
* * *
Кате не было восемнадцати, Вере — как и Жоржу, девятнадцать, а сестре Жоржа Машуре, Марии Ивановне Жуковской, — она приехала в Орехово только в конце лета — двадцать два.
Какие только не придумывала молодежь в то лето затеи: катались в гости в соседнее имение «Васильки» к родным Петровым, устраивали пикники, ездили в суворовское «Жерихово», где когда-то столько лет служил их дедушка Егор Иванович… В Жерихове тогда еще можно было еще попробовать пружины огромной кожаной под балдахином постели, на которой почивала императрица Екатерина II, навещавшая Зубовых. А еще они рядились в старинные костюмы, не весть откуда взявшиеся украинские шаровары, понёвы. Вера устраивала «живые картины», а Катя увлеченно фотографировала всех подаренной ей отцом тяжелой, громоздкой камерой с двенадцатью пластинками в металлических оправах. Снимать приходилось главным образом Верочку. Позже все ее фотографии в разных видах и костюмах посылались Жоржу в Петербург.
Все трое были влюблены. Пожалуй, только самая старшая из них — Машура, серьезная, глубокая и очень религиозная девушка, пребывала в созерцании всех этих юных игр и, мягко улыбаясь, наблюдала их как некое чудное, ликующее свечение солнечных бликов в морских волнах.
Жорж пел и шутил, весело ухаживал за обеими кузинами, в ответ ему горели влюбленные глаза Верочки, а Катя, как всегда, свои отводила.
В Жоржа невозможно было не влюбиться — он обладал обаянием поистине «гремучей смеси»: истинно русская молодая красота и сила, удаль, подлинное мужество и морской шик, и в то же время какое-то постоянное таинственное присутствие внутренней грусти, затаенной печали или даже тоски, — неотразимое сочетание! А тут еще и неразлучная гитара, свидетельница не столько морской романтики, сколько скучания по домашней русской уездной жизни, по родительской отчине на берегу вольного Шата, по ее уюту и тишине, по милой подруге, которой у него еще нет, по охоте — старинной помещичьей страсти, — о том, на что теперь, как грозовая туча, наползало грядущее, в одночасье превратившее все не бывшее — в небытие. Не то ли уже предчувствовал Жорж, распевая в ореховских аллеях своих любимых «Гривачей»:
Что как скучно, что как грустно? День идёт не в день! А бывало, распевал я, Шапка набекрень! Гей вы, ну ли, что заснули? Шевелись, гляди! Вороные, удалые Гривачи мои!.. С песней звонкой, шёл сторонкой, С Любушкой своей. И украдкой, да с оглядкой Целовался с ней! Мать узнала, всё пропала, Любу заперла. И из дому, за Ерёму, Замуж отдала. Я другую, молодую, Выберу жену: В чистом поле, на просторе, Гибкую сосну. Время минет, кровь остынет, И пройдёт печаль. Вороную, удалую Тройку только жаль!После отъезда Жоржа Верочка, не долго думая и ни с кем не советуясь, объявила себя… невестой Жоржа. Это было так на нее похоже. Она совершенно не была приучена к какому-либо противодействию своим желаниям. Казалось, что красота, которую неоспоримо признавали за ней с детства, давала ей всежизненный carte blanche. Она и заполняла эту карту без оглядки…
Между тем, несмотря на запреты церковных канонов, к тому времени подобные браки (между двоюродными братьями и сестрами)в России стали, чуть ли не заурядным явлением. Уже в 60-е годы ХIХ века среди королевских домов Европы в особенности, и в русских великокняжеских семьях браки двоюродных братьев и сестер случались все чаще и чаще, хотя и потомство ослушников каралось наследственной гемофилией. Запреты и заветы рушились. И беззаконие постепенно приходило в норму.
Строгий Государь Александр III издал указ, по которому потомство таких браков, а так же браков морганатических, совершенных после разводов, теряло большинство своих великокняжеских привилегий. И даже эти меры не останавливали своевольников.
Государь-мученик Николай II также пытался наказывать своих попиравших церковные и Божии запреты сородичей, но кары во время его царствования уже почти не действовали: было глубоко порушено сознание, добро и зло смешалось окончательно: тут уж о чувстве правды, о церковном благочестии и глубокой вере говорить уже совсем не приходилось. Хотя конечно, вера жила, вот только где — в каких углах? А то, что жила — факт несомненный — иначе не явился бы к церковному прославлению в 2000 году целый сонм новомучеников, пострадавших за веру в годы революции и «социалистического строительства».
Но основным фоном жизни в начале века было агрессивное безбожие, расплодившиеся ереси и всевозможное сектантство, безграничный разврат и цинизм самосжирающегося зла. Коварное: «А почему нельзя? Можно… все можно», — звучало как лейтмотив времен начала русской катастрофы.
Стоит ли удивляться намерениям Веры, когда ее кумиры тех лет (а впоследствии и близкие друзья) Д. Мережковский и З. Гиппиус устраивали "хождение в народ" с целью «открытия России», посещали таинственный Светлояр, где «сидели вместе» с раскольниками и сектантами «на одной земле» и где, как записывала в дневниках З. Гиппиус, у них «была одна сущность, одно важное для нас и для них». Это единство привело властителей дум Мережковского и Гиппиус к окончательному разрыву с православием. 29 марта 1901 года, в Великий Четверг, произошло то, что Гиппиус осмысливала как зарождение "новой церкви". Супруги Мережковские, а так же тесно связанный с ними Д. В. Философов провели совместную молитву по выработанному ими самими ритуалу. Их задача была с помощью новых ритуалов послужить «новой святой троице», «новой церкви святого духа». Гиппиус занялась разработкой нового чина и подготовкой молитв.
Вскоре подоспела и новая философия — «несуществующего», проповедующая иллюзорность всех человеческих ценностей, которую «создал» декадент, еврей по крови и православный по расчету Н. Минский. Весной 1905 года он организовал для своих друзей литераторов собрание "с целью моления". Кроме самого Минского и его жены в этой мессе приняли участие Вячеслав Иванов, Н. А. Бердяев, А. М. Ремизов, С. А. Венгеров (все — с жёнами), Мария Добролюбова, В. В. Розанов с падчерицей, Ф. Сологуб. Ритуальное действо заключалось в молитвах и ритуальных совместных круженьях, на манер хлыстовских. Центральным пунктом действа стало символическое "распятие" молодого музыканта С., "некрещёного еврея". После имитации "крестных мук", ему вскрыли вену и наполнили его кровью чащу. Кровь смешали с вином и выпили, пустив чашу по кругу. Современники по-разному истолковывали этот ритуал: для одних это было подражанием хлыстовству, для других — имитация еврейских жертвоприношений.
Все эти нехристи были одновременно и властителями дум русской молодежи. Отчего бы на таком фоне и не посамодурствовать в отношении старых церковных правил?
* * *
Итак, Верочка свое решение приняла, однако, судя по всему оно было односторонним. Жорж, о чем свидетельствуют письма и некоторые его поступки, как-то особо выделял и очень нежно относился к другой своей кузине — Кате, или Кисаньке, как он ее называл. Бабушка в ответ на мои неотвязные приставания, неохотно, но все же сей факт подтверждала. Катя ведь своей красивой сестре не многим уступала, просто она была и душою, и лицом самобытнее, своеобразнее, загадочнее…
Верочка не сводила влюбленных глаз с Жоржа, но он разницы между сестрами не делал. Сидя в комнатах во время дождя, Жорж занимался вырезанием инициалов сестер на плоском камне. И у него буква «К» в слове «Кисанька» выходила больше и красивее, нежели «В» в слове «Веруся». Жорж ворковал с сестрами: «Кузиночки, кузиночки…», но все же по многим признакам можно было все-таки думать, что влюблен он был в Катю, скрытную, глубокую, как Пушкинская Татьяна. Только ей он мог потом писать о том, что уже предчувствовало и чему ужасалось его сердце…
В один из вечеров Катя пошла на пруд за водой, ее догнал в цветнике Жорж, обнял и как-то особенно крепко поцеловал в губы. Катя растерялась: никто и никогда ее так не целовал, и ничего подобного тому она никогда еще не чувствовала. «Но ведь Жорж Верочкин, — говорила она себе, — а я люблю одного Александра Павловича (об этой ее потаенной неразделенной любви всей жизни рассказ будет позже — в другой главе), — но почему же мне так неловко теперь смотреть на Жоржа?»
На другой день Катю позвал отец и долго что-то говорил ей, о чем-то предупреждал. Но она ничего почему-то не понимала. Было ей неловко. «Чистота радости была испорчена» — говорила мне бабушка. Хотелось поскорее уйти…
На другой день все вместе поехали в Жерихово — в имение Зубовых, где служил когда-то дедушка Егор Иванович. По дороге отец рассказывал о том, что пишут в газетах про Японские дела: «Ведь и тебя, Жорж, могут досрочно выпустить из корпуса, да на Восток и отправить… Смотри, как бы война тебя не зацепила…»
А Жорж, веселый и беспечный, в ответ говорил только о том, как надоело болтаться в луже Балтики и как хорошо разгуляться на просторе…
— А вообще, кузиночки, давайте не будем заглядывать в будущее. Будем жить настоящим!
Жорж уехал, и началась деятельная переписка с сестрами. С каждой в отдельности…
* * *
Учился Жорж в Петербурге в Морском корпусе, основанным еще Петром I. Из его стен вышли чуть ли не все знаменитые русские флотоводцы. Обучались здесь только дети потомственных дворян. «Это было отмежеванное от мира закрытое учебное заведение, в которое принимались по преимуществу сыновья моряков. Курс обучения здесь был серьезный, особенно в отношении математики и трех иностранных языков, которые кадеты изучали в совершенстве. Морская подготовка был поставлена более строго, чем военная подготовка в сухопутных военных корпусах и училищах», — писал в своих воспоминаниях русский дипломат и генерал граф А. А. Игнатьев. Уже не за горами был и выпуск, и долгожданное производство в первый офицерский чин царского флота — в мичмана.
Судя по письмам, Жорж тяготился корпусной жизнью. То ли действительно там было мрачновато, то ли не его это было призвание. Возможно, очень возможно, что поступление Жоржа в Корпус было твердым решением матери (а тогда матерей слушались). Ведь многие ее предки — Новиковы — были известными флотоводцами. Адмиралом, сподвижником Нахимова, был дед Жоржа по матери. Она хотела, чтобы не прервалась традиция, чтобы сын окончил достойное учебное заведение. Характер у Ольги Гавриловны был непреклонный и сын, уже десятилетним мальчиком был принесен ею в жертву родовым амбициям.
…Заканчивалось лето 1903 года, принесшее столько радости молодым Жуковским, проведшим его вместе. Возвратившись в Корпус, Жорж, которому оставалось до выпуска примерно 7 месяцев, очень томился, считал дни и постоянно мучился тяжелыми предчувствиями…
Сентябрь 1903 года. Письмо адресовано Кате (без даты).
«…А тревожно ведь, кузинки, на Востоке, пожалуй, мои золотые мечты, которые я высказал Тебе в прошлом году в письме, сбудутся. Вот когда погуляем в волю! Дам я волю своей натуре, развернусь тогда во всю ширь и сложу свою буйную, непреклонную головушку под японской пулей. Вспомнишь ли меня тогда Кисанька? Или забудешь, что такой шалопай, как я, иногда дерзко смущал твой покой своими безумными фразами?! Вспомнишь, я уверен; ты своей чуткой, хотя и скрытной душой наверно чуешь, как любит тебя Жорж, что душу за тебя готов отдать… Скорей бы только; душа просит воли, иногда по вечерам прямо-таки невмоготу сидеть здесь, точно в клетке, хочешь разойтись пошире, а кругом мрачное гробовидное помещение роты. Эх, как подло, только и живешь, что 211 дней до желанного мне осталось. Сейчас заказал себе палаш. Приходил приказчик с Златоустовского завода стали и я ему клинок заказал, такой тяжелый, — только бы обновить его…».
Золотые мечты у Жоржа, конечно, были иные. А к удальству его подталкивала не только природная широта и пылкость натуры, но и глубокие, неотвязные и мрачные предчувствия. Он готовил себя к смерти…
12 сентября 1903 года.
«Заявился в корпус, мои хорошие, и почувствовал отчайную тоску… Сразу точно из рая да в ад. Те же физиомордии офицеров, та же обстановка. Так и повеяло чем-то затхлым, брр… Масса незнакомых предметов… Нехорошо, мрачно, холодно. Живо в голове растут воспоминания прошлого, рисуя дорогую сердцу картину. Видишь себя с Вами в Орехове или с Машурой в Новом и забываешь всю эту прелесть корпусную… А тяжело было уезжать в корпус из Нового, ты себе представить не можешь… Наступала моя любимая пора… Каждую ночь целые легионы дичи неслись в теплые страны. Мне пришлось на охоте одну ночь провести в камышах. Я этого никогда не забуду… Представь себе необозримое море камыша, который тянется на 10 верст и все почти в рост человека… Темная осенняя ночь, загадочный шелест этого камыша… Перенесись сама в его середину, между его зеленых стен, точно оторванный ото всего мира… Под ногами водная площадка а кругом камыши и камыши, и тишина мертвая, нарушаемая только его шелестом, да изредка кричат кряквой где-то далеко, далеко. Да, словами и не передать…».
17 сентября 1903 года.
«Решил поболтать с Тобой, Кисанька, и уселся писать Тебе. Кругом тишина, изредка только кто-нибудь громко выругается или ученый термин произнесет — готовятся к 1-й репетиции. Твой же покорный слуга со всем своим желанием заниматься не может. Часа 2 смотрел в книгу какой-то идиотской «Теории девиации», но из этого толку нуль. Буквы сливаются, а вместо сухих легендарных магнитных сил и тому подобной гадости в голове зарождаются картины прошлого… Но девиация не хочет лезть в голову. А я, как зачарованный, сижу у конторки, передо мной открытая книга. Но взор блуждает где-то за окном, которое ярко освящено электрическим бледно-матовым светом. Наконец, прямо можно было с ума сойти, и я решился развеяться и сесть писать…».
В ту же ночь…
Прости, Киса, если не надоел, то напишу еще. Сейчас поздно, но спать не хочется, занятия в голову не лезут, да все равно не пройти 200 страниц и решил написать Тебе еще что-нибудь… Вчера ночью со мной произошел преоригинальный случай, я явственно увидел Вас обеих около моей кровати: Вы держите в руках погребальные свечи и поете мне вечную память. Я решил, конечно, что умер; представь, каково было мое изумление, когда я проснулся утром жив и здрав! Удивительная чепуха во сне приснится может. Хоть я Вас обеих часто вижу во сне, но так не приходилось. Видно в скором времени будете Вы отпевать меня, провожая в бесконечный путь, в неведомые мировые пространства. Воображаю свою рожу мертвым, наверно замечательно интересная… Как идут Твои занятия по художественной части, рисуешь ли кроме черепов еще что, или только одни черепа, напиши и про это. Однако я непоследователен, хотя мысли о черепе и смерти немного гармонируют…»
18 сентября 1903 года. 11 вечера.
«Скучно, какая-то мертвящая тоска; всякое дело из рук валится, а к довершению всего мелкий осенний дождик забарабанил в окно и сквозь его завесу синеватый цвет электрического фонаря кажется каким-то пятном на тусклом фоне осеннего вечера. По-видимому, вся природа вместе со мной жестоко скучает и небо, глядя на эту безотрадную картину, разверзло свои очи и плачет, плачет мутными, мелкими слезами… Одно только и можно делать — это спать, но и сон как нарочно бежит от глаз и остается только скучать и жаловаться на свою горькую судьбинушку, которая вырвала меня из далекого, дорогого сердцу края, забросила опять в гнусные стены этого заведения… Не знаю почему, но в памяти неотвязно рисуются две картины; вижу я длинный накуренный кабинет какого-то ресторана, маленький донельзя… тут сидят и лежат в различных позах 8 человек; пьяные речи, звон стаканов, иногда пьяное берущее за сердце всхлипывание, переходящее в рыдания, вижу и могучую фигуру моего лучшего друга, который уронил свою красивую голову на стол и плачет как женщина от своего великого безысходного горя. А в открытое окошко льется дивный аромат весенней ночи и как-то не вяжется со специфическим запахом кабинета. И до бесконечности тянется эта пьяная ночь, ночь, когда человек топит в вине свое горе… А рядом с этой ночью встает другая…Вижу я широкий, безбрежный как море разлив, тихий и спокойный, в водах его отражается месяц. А над головой целой вереницей воздушные легионы птиц тянутся из теплых стран юга на наш далекий север, строят и перестраивают свои армии, наполняя дивный весенних воздух своим криком. Пропадает и это впотьме. И снова назойливо нарастает старое, точно ища сравнения. Но вот опять обе картины — одна за другой стушевываются и опять перед глазами мутный свет фонаря и серая сетка дождика, которая становится все плотнее. Нехорошо, грустно, холодно… Вся эта белиберда или бред сумасшедшего ясно охарактеризуют Тебе мое настроение».
4 октября 1903 года.
…Все мои мысли полны предстоящей войной, которая может быть скоро объявлена, то-то будет хорошо. Если не скучно, я тебе набросаю картинку, которая теперь зародилась в моем воображении. Война объявлена; все науки, вся эта белибердища потеряли свою прелесть… Но в воздухе запахло житьем жизнерадостным. Настает желанный день выпуска, конечно про бесконечное счастье, которое я буду испытывать, говорить нечего. Назначен на Восток, прямо на театр военных действий. Свидания с Вами, прощание, может быть, навеки, последний звонок поезда и Ваш кузен, полный силы и надежд уносится в неведомую даль. А с места войны тревожные телеграммы каждый день летят во все концы России, наполняя сердца близких тоской и ужасом. Может быть, и Ты, Кисанька, прочитаешь иной раз газету, поинтересовавшись, не прихлопнули Вашего Жоржа? Наконец, твое желание исполнилось. Ты читаешь, что Твой кузен, совершивши что-то безрассудно-отчаянное, пал с честью на поле брани. И снова его имя попадает в телеграммы… Но как оказывается, он только тяжело ранен. Проходит 6 месяцев, война кончена, все ждут не дождутся своих близких. Сейчас на Московский вокзал должен придти Сибирский поезд. По странной случайности и ты тут же среди встречающих. Почти что все вышли, а фигуры Вашего кузена не видно, вместо него к Вам подходит молодой офицер, представляется и узнав, что Вы кузины Жуковского — его лучшего друга, передает Вам небольшой сверток: «Это Жорж перед последним сражением просил передать Вам, он чувствовал, что его убьют… Кончилась бумага. Оборвалась фантазия. Прости, если надоел, Кисанька. Пиши скорей, крепко Тебя, мою хорошую целую. Любящий Тебя Жорж. P.S. Поцелуй от меня дорогих тетю Веру и Дядиньку с Шуркой.
Все, что виделось, что мерещилось Жоржу, что снилось, что являлось ему почти въяве ночами, что преследовало его в последние полтора года его жизни, — все это исполнилось с почти с невероятной, устрашающей человеческое сердце точностью. 211 дней до выпуска, «до воли», — это были 200 с небольшим дней, проведенных Жоржем, назначенным во 2-ю Тихоокеанскую эскадру, в плавание: 200 дней от отплытия из Кронштадта до последнего боя и гибели при Цусиме.
На коллаже работы Екатерины Кожуховой:
Слева направо: — Катя и Вера в украинских костюмах в то счастливое лето 1903 года в Орехове. Далее — мичман флота Жорж Жуковский — фотография сделана после выпуска, в Петербурге перед отплытием 2-й Тихоокеанской эскадры из Петербурга в сторону Японии. Автограф на фото. Внизу — визитная карточка Жоржа.
Семейные письма и фотографии публикуются впервые.
…Получение обнадеживающей, но обманчивой вести о том, что Жорж, вероятно, выжил в Цусимском сражении и только ранен и находится в плену, как это и привиделось ему в октябре 1903 года, за полтора года до боя, и о чем он тогда написал Кате, — так и случилось на самом деле. И точное известие о его геройской гибели, привезенное спустя полгода, — и это, как он и предрек, — было. И «ресторанный кабинет» — страшный, узкий как гроб, где все валялись в куче в странных позах и кто-то надрывно всхлипывал и рыдал, — картина, которая привиделась Жоржу той же последней петербургской осенью 1903 года, — и это было: последние оставшиеся еще живые, страшно изувеченные в бою офицеры флагманского броненосца «Суворов» погибали в Цусимском сражении в самые последние минуты погружения расстрелянного, сожженного и потопляемого броненосца «Князь Суворов» в трюмах вместе с кораблем.
Эти чудовищные «кучи» изуродованных тел видел и описал очевидец, которому довелось спастись, — капитан 2 ранга Владимир Иванович Семенов. Он не входил в состав команды броненосца, а упросил взять его с собой в бой в качестве летописца, несмотря на то, что уже был ранен в Порт-Артурском сражении, — так вот Семенов своими глазами видел эти «ресторанные кабинеты», которые узрел Жарж за полтора года да реальных событий.
И легионы птиц, летевших на родину, на север — и это было: души погибших русских соколов летели в родные места, туда, где они любили, где был их родной край, отчий дом. И погребальные свечи, и Вечная память — все это было так, как увидел это задолго до реального события мичман Георгий Иванович Жуковский, вахтенный офицер броненосца «Князь Суворов»: ни один святой образ не был задет боем, порушившим и искорежившим все, но на дно Цусимы флагман эскадры уходил не только пылая в страшном разливающемся огне, состоящем из расплавленного железа, но и с горящими свечами на лампадах перед иконами, которые и не потухли, и не сгорели…
Жоржу в мае 1905 только что исполнился двадцать один год. Но у меня бы никогда не повернулся язык назвать его мальчиком. И не только потому, что мне он приходится дедом, и не потому, что сейчас, когда я пишу эти строки, со дня его гибели прошло более ста лет, точнее — 106 лет. И даже не потому только, что он при всей пронзительной чувствительности своего вещего не по возрасту сердца, был, тем не менее, мужественным человеком, подлинным русский офицером, измлада воспитанным в полной боевой готовности умереть за Отечество. Не могу потому, что в свои молодые годы в то распущенное время он сохранил благородство, чистоту, и мужество вместе.
Не могу и потому, что у него в его двадцать лет уже была многострадальная, успевшая поседеть за недолгую жизнь душа, душа, носившая в себе чувство и знание своего мученического конца и даже, возможно, он этот конец в себе у ж е прожил.
Знал ли он, ощущал ли он это свое грядущее мученичество как венец? Как жертву за грехи отцов, как жертву во спасение, во образ будущего? Не знаю…
Поразительное событие произошло со мной в то время, когда я перепечатывала письма Жоржа, когда в очередной раз погружалась в тоску поздней петербургской осени, мрачной и неуютной корпусной дежурки с горевшей без абажура лампочкой и мятущимися за окнами Корпуса черными лапами деревьев… В это время-то и попала мне в руки совершенно случайно неизвестная дотоле фотография из «Нивы» 1905 года, на которой была заснята группа офицеров флагманского броненосца 2-й Тихоокеанской эскадры «Князь Суворов» перед их отплытием в свое последнее плавание. Скорее всего, снимали в Либаве (ныне Лиепая), где в Николаевском соборе был отслужен последний на родине молебен.
Я всматривалась в кажущиеся спокойными такие достойные русские лица командиров и офицеров броненосца и вдруг увидела в первом ряду, где у ног командира на полу разместились самые молодые офицеры-мичмана — в самом центре снимка — Жоржа… Странно то, что изо всех он один был в фуражке.
Он или не он? Такой фотографии или подобной ей — в фас — у нас не сохранилось. Здесь я увидела его глаза и то, особенное, что присутствовало в нем всегда, что так пронзительно звучало в его письмах, о чем вспоминала бабушка, и что уже знала я сама: обреченно-смиренный, мягкий, прощальный и бесконечно печальный взгляд молодого воина, не просто знавшего о том, что он, как и его братья — офицеры и моряки эскадры предназначен к закланию, но и, безусловно, уже готового отдать свою жизнь.
В глазах Жоржа — а он не смотрел ни в камеру, ни в сторону, и вообще ни на что окружающее, реальное, — было то, на что и нам, простым смертным и пока земным смотреть-то, может быть, и не след: настолько сокровенным и отрешенным от земного был его взор… как таинство ухода души к Богу…
* * *
До отплытия в учебное плавание было еще далеко, — предстоял к лету выпуск, производство в мичмана, и никто не предполагал, что события так ускорят свой бег.
После рождественских каникул в январе 1904 года, Жорж их провел с матерью и сестрой — вновь начались корпусные будни. Выпуск должен был состояться только в конце апреля. Гардемарины старшей роты готовились к выпускным экзаменам, потихоньку примеряя новенькие черные мундиры с мичманскими звездочками на золотых погонах, а в это время далеко на востоке началась война. 27-го января, в корпусе было торжественно объявлено о войне и всё в корпусе насторожилось. Поползли слухи, что Государь, по-видимому, сам посетит корпус, и может быть, даже произведут старших гардемарин в мичманы. В общем же, ничего решительно не было известно…
О том, что произошло 28 января 1904 года, на второй день после начала боевых действий вспоминал один из участников этого события выпускник барон Н.Типольт:
…Громкий авральный звонок, прозвучавший в 3-м часу дня, как бы воспламенил все многочисленное население старинных зданий корпуса. Был сыгран по всем помещениям "общий сбор" и в невероятно короткое время все шесть рот корпуса были выстроены в Столовом зале. Раздалась команда: "Смирно! Господа офицеры!" При наступившей мгновенно тишине Государь появился из дверей музея и направился к середине зала, к памятнику Петру I, сопровождаемый Государыней Александрой Федоровной, великими князьями Алексеем Александровичем и Кириллом Владимировичем, морским дежурством и начальствующими лицами. «Здравствуйте, господа!», — раздался твердый и ясный голос Государя. Громкий и дружный ответ всех рот перешел в оглушительное, несмолкаемое "ура", поддержанное национальным гимном духового оркестра корпуса. Когда музыка и клики, наконец, стихли, Государь что-то приказал, и раздалась команда: «Старшие гардемарины, четыре шага вперед марш!». Старшая рота, как один человек, двинулась и замерла.
Снова раздался голос Государя: «Вам известно, господа, что третьего дня нам объявлена война. Дерзкий враг в темную ночь осмелился напасть на нашу твердыню — наш флот без всякого вызова с нашей стороны. В настоящее время Отечество нуждается в своих военных силах, как флота, так и армии и я сам приехал сюда нарочно, чтоб видеть вас и сказать вам, что я произвожу вас сегодня в мичманы. Производя вас теперь, на три с половиною месяца ранее срока и без экзамена, я уверен, что вы приложите всю свою ревность и свое усердие для пополнения ваших знаний и будете служить, как служили ваши прадеды, деды и отцы в лице адмиралов Чичагова, Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина, на пользу и славу нашего дорогого Отечества. Я уверен, что вы посвятите все ваши силы нашему флоту, осененному флагом с Андреевским крестом. Ура!
Господи, что тут поднялось и что мы пережили! Я едва стоял. От волнения помутилось в глазах и в груди останавливалось дыхание. Прикажи нам тут Государь повыкидываться из окон, мы, конечно, это бы сделали!».
С этого дня тот легендарный экстренный выпуск Моского Корпуса 1904 года стали называть "царским". Десяти лучшим была оказана честь — они отправились на войну в Порт-Артур. Значительная часть остальных (50 человек) оказалась приписанными к эскадре вице-адмирала З.П.Рожественского, 23 из них погибли в аду Цусимского сражения. И среди них — Георгий Иванович Жуковский. По количеству жертв «Царский» выпуск стал первым из всех выпусков Морского корпуса за всю его историю.
Жорж сразу после выпуска послал сестрам свою фотокарточку в новеньком с иголочки мичманском мундире. Снят он был в профиль. Выражения лица — не распознать. А на обороте надписал два стишка: свой любимый «Гей вы, ну ли, что заснули, шевели-гляди…», который он часто пел сестрам с истинно молодецкой удалью, и еще один — им не известный: «Мы дальше теперь проберемся, с невестой назад повернемся…».
В старинных русских песнях, в фольклоре, в русской символике и мистике образ невесты очень часто означал только одно — близкую смерть…
* * *
События Русско-японской войны развивались катастрофически. Шли кровопролитные бои за крепость Порт-Артур. Было решено сформировать 2-ую Тихоокеанскую эскадру, которая должна была отправиться к берегам Японии для поддержки 1-й Порт-Артурской эскадры. Жорж в числе других восьми мичманов был назначен на флагманский броненосец «Князь Суворов». Эскадре под командованием адмирала З. П. Рожественского предстояло беспрецедентно трудное и длительное — почти восьмимесячное — плавание. Из Кронштадта — в Либаву, затем — обогнув Африку, — к острову Мадагаскар, затем, — минуя Сингапур — в Цусимский пролив (также: проход Крузенштерна, юго-восточный проход Корейского пролива между островами Цусима на западе и островами Ики и Окиносима на востоке. Наименьшая ширина пролива 46 км) к берегам Японии. Только один раз за все это плавание в немецкой африканской колонии русскую эскадру ждал дружественный и сердечный прием, а немецкий майор — "губернатор" колонии пил с нашими офицерами в кают-компании "Суворова" за победу над Японией и за погибель Англии.
На всем протяжении пути эскадры (около 18 000 миль) Россия не имела ни одной собственной базы, а эскадра нуждалась в топливе, воде и продовольствии. Но дипломатической подготовки такого сложнейшего перехода сделано не было. Это плавание воспринималось всеми, и самими моряками, как залог мученического конца. Ни одной благоприятной стоянки в пути, уголь грузили в тропическую жару в открытом море. Время редких стоянок уходило на погрузку и неотложный ремонт; все были изнурены тяжелой работой без отдыха и жарой. На Мадагаскаре пришлось стоять очень долго. Жорж прислал открытку с изображением плывущего по водам «Суворова». На обороте — только четыре слова: «С новым годом! Жорж».
На открытке были поставлены штампы Французского Конго с датой 28 ноября 1904 года. Пришла еще и другая открытка, адресованная, как и все предыдущие письма, Кате — моей бабушке, кажется, тоже из того долгого мадагаскарского стояния:
«Дорогой Кисе на память. Посылаю тебе, моя добрая Кисанька, мою фотографию. Снято в плавании в тот знаменательный день, когда спас человека. Выражение лица донельзи суровое. Целую твои ручки. Люблю тебя. Г. Ж».
Эта стоянка на Мадагаскаре в течение двух чрезвычайно тяжелых месяцев была поистине пыткой для русских моряков. Мадагаскар тогда был зоной Франции, но она, формально державшая нейтралитет, не была лояльна к нуждам российского флота, напротив, под давлением со стороны правительств США и Англии, всячески старалась чинить 2-й эскадре препятствия. Рузвельт тогда недвусмысленно заявил: если Франция и Германия попытаются помогать России, то Соединенные Штаты немедленно станут на сторону Японии и пойдут «так далеко, как это потребуется в ее интересах».
На Мадагаскаре 2-ую русскую эскадру настигла весть о гибели 1-й Тихоокеанской эскадры и сдаче 20 декабря Порт-Артура (здесь и далее — на протяжении рассказа о битве при Цусиме даты даны по старому стилю, — прим. авт. — Е.Д.). Только в начале марта эскадра двинулись дальше.
26 марта прошли мимо Сингапура и после 28-дневного перехода, бросили якорь в бухте Камран, где корабли должны были произвести ремонт, погрузку угля и приемку материалов для дальнейшего следования. В ночь с 13-го на 14 мая 2-я Тихоокеанская эскадра вступила в Корейский пролив. К часу дня на горизонте появилась японская эскадра. В 1 час 49 минут, когда японская кильватерная колонна делала последовательный поворот для охвата головы русской эскадры и ложилась на параллельный курс, адмирал З.П. Рожественский отдал приказ: Сигнал "Курс норд-ост 23°. Бить по головному".
"Суворов" открыл огонь, а за ним ураганный огонь открыла и вся русская эскадра…
Офицер походного штаба на «Князе Суворове», участник и первый летописец Цусимского сражения капитан II ранга В.И. Семенов в своей книге «Бой при Цусиме» записал произошедший за день до гибели «Суворова» диалог молодого мичмана и бравого, обстрелянного, уже бывавшего «в деле» лейтенанта. В этом мичмане мне невозможно было не узнать Жоржа. Ведь мичманов среди 900 человек экипажа «Суворова» было всего восемь. И кто же из них, как не Жорж, имел такую обостренную чувствительность, такие предчувствия, о которых он столько писал сестрам и которые все, увы, сбылись…
«…День 13 мая прошел незаметно… Настроение было бодрое и хорошее… Некоторые…сдавали на хранение в денежный сундук дорогие по воспоминаниям вещи, только что написанные письма…
— А у вас нет… предчувствия? Ведь вы уже были в бою… — спросил подошедший молодой мичман, державший в кармане руку (явно с письмом, предназначенным для сдачи в денежный сундук).
— Какое тут предчувствие! Я вам не гадалка! Вот если завтра придется на своих боках посчитать японские пушки, сразу почувствуете, а предчувствовать нечего!».
* * *
…Утро 14 мая выдалось мглистым, туманным, серым, словно на всем уже заранее явственно лежала пелена смерти. Около 14 часов начался массированный обстрел японскими снарядами головы русской колонны. Четыре головных японских корабля сосредоточили огонь по “Суворову”. Эскадра в результате хитрых и ловких маневров японского флота попала в котел, причем под самый страшный удар были подставлены головные корабли. Это была самая настоящая бойня. Японская артиллерия производила чудовищные разрушения: в 14 час. 25 мин. перевернулся и затонул броненосец “Ослябя”, в 14 час. 30 мин. из-за повреждения руля вышел из строя вправо броненосец “Суворов”.
«За 6 месяцев на артурской эскадре я все же кой к чему пригляделся, — писал все тот же оставшийся в живых герой Порт-Артура достоверный свидетель В.И. Семенов. — Но здесь было что-то совсем новое!.. Казалось, не снаряды ударяли о борт и падали на палубу, а целые мины…Они рвались от первого прикосновения к чему-либо…Стальные листы борта и надстроек на верхней палубе рвались в клочья и своими обрывками выбивали людей; железные трапы свертывались в кольца; неповрежденные пушки срывались со станков…Это могла сделать только сила взрыва…Снаряды сыпались один за другим. Это был какой-то вихрь огня и железа… А потом — необычайно высокая температура взрыва и это жидкое пламя, которое, казалось, все заливает!.. Какое разрушение!.. — Пылающие рубки на мостиках, горящие обломки на палубе, груды трупов… Сигнальные и дальномерные станции, посты, наблюдающие за падением снарядов, — все сметено, все уничтожено… Бойня какая-то…».
Во время зимнего ремонта японцы перевооружили свою эскадру. Они стали использовать фугасные снаряды, наполненные веществом, от которого горит даже железо. Жидкое пламя после взрыва снаряда пожирало все вокруг, тысячи мелких осколков, вылетающих из огненного ада, вместе с ударной волной крушили все конструкции, скручивая стальные балки в узлы. Пламя сжигало кислород, при взрыве выделялись ядовитые газы, губительно действующие на гортань и легкие. Японская эскадра получила перед русской подавляющее огневое превосходство, страшное еще тем, что о нем никто на русской эскадре не подозревал.
Еще в течение пяти часов (!) объятый пламенем, изуродованный «Суворов» отражал непрерывные атаки неприятельских крейсеров и миноносцев. Оставшиеся в живых — окровавленные, изувеченные все-таки продолжали отстреливаться, хотя уже нанести противнику ощутимый урон было невозможно.
«Наш симпатичный батя (речь идет о тяжело раненом судовом священнике иеромонахе Назарии, геройски погибшем вместе с почти девятьюстами членами экипажа «Суворова», — прим. авт.,- Е.Д..), монах не только по платью, но и по духу, находился на пункте в епитрахили, с крестом и запасными Дарами. Когда к нему, сраженному целым градом осколков бросились доктор и санитары… он отстранил их, приподнялся и твердым голосом начал — «Силою и властью…» — но захлебнулся кровью… и торопливо закончил — «…отпускаю прегрешения… во брани убиенным…» — благословил окружающих крестом, которого он не выпускал из рук, и упал без сознания».
Судовой священник был смертельно ранен в перевязочном пункте, где вместе с доктором пытался помочь раненым, дать им последнее напутствие в путь «всея земли». После прямого попадания снаряда там уже не было ни единой живой души: между исковерканными столами, табуретками, разбитыми бутылками… — только несколько трупов, да груды чего-то, в чем с трудом можно было угадать остатки человеческих тел…
Однако, как вспоминает В. И. Семенов, судовой образ, вернее образа, так как их было много, — все напутственные благословения броненосцу — остались совершенно целыми; даже не разбилось стекло большого киота, перед которым в висячем подсвечнике мирно горело несколько свечей…
«Суворов» уже был весь избит: упали мачты, обе трубы, броненосец потерял способность управляться, весь заливался реками огня, но…дадим слово врагу, которого в симпатиях к русскому флоту заподозрить было бы трудно:
«Этот корабль, весь обгоревший и еще горящий, перенесший столько нападений, расстреливавшийся всей (в точном смысле этого слова) эскадрой, имевший только одну случайно уцелевшую пушку в кормовой части, все же открыл из нее огонь, выказывая решимость защищаться до последнего момента своего существования, пока плавает на поверхности воды».
Так свидетельствовал о последних минутах «Суворова» и оставшихся на нем героев участник боя — японец. В 19 часов 29 минут флагманский броненосец был атакован японскими миноносцами и потоплен четырьмя выпущенными в упор торпедами. К утру 15 мая русская эскадра как организованная сила перестала существовать…
Вахтенный офицер эскадренного броненосца «Князь Суворов» мичман Георгий Иванович Жуковский, вместе со своим кораблем принял геройскую и мученическую смерть. Он был ранен и не один раз, но его видели, то там, то тут, окровавленного, в бою в последний, оставшийся до потопления корабля час. Об том рассказывали родным те, кто вместе с раненым адмиралом Рожественским успели пересесть на миноносец «Буйный», кому вслед кричали герои «Суворова»: «Отчаливай скорее! Отваливай, отваливай!», а потом — обреченные, но не побежденные моряки кричали «Ура!» — адмиралу, России, флоту, а, может быть, и самим себе…
Был ли еще жив Жорж, был ли в сознании в последние секунды жизни, погружаясь в трюме изувеченного корабля со своими товарищами в свинцовую пучину ледяных цусимских вод, в трюме, виденном им задолго до трагедии, под видом ресторанного кабинета-гроба, что было пережито ими этим туманным вечером после почти пятичасовой бойни, — этого никто теперь не узнает.
Цусимское сражение окончилось почти полным уничтожением русской 2-й Тихоокеанской эскадры: из 14 334 русских моряков — участников сражения — 5045 человек, в том числе 209 офицеров и 75 кондукторов были убиты, утонули или скончались от ран, 803 человека получили ранения. Многие раненые, включая командующего эскадрой, — всего 6106 человек — попали в плен. Потери японского флота: три потопленных миноносца, несколько поврежденных кораблей и 699 убитых и раненых.
На стороне японцев было более чем полуторное преимущество в скорости эскадренного хода, тридцатикратная огневая мощь. Но и то количество снарядов, которое было в запасе у наших кораблей, в основном не взрывалось. «Какой-то умник (а может быть, действительно умник, и за хорошие деньги?!) велел чуть не втрое увеличить влажность пироксилина в снарядах для 2-ой эскадры против стандартной. Выяснилось это только в 1906 году, когда однотипный "Суворову" броненосец "Слава" обстреливал взбунтовавшуюся крепость Свеаборг снарядами из запасов для 2-ой эскадры, и ведущие наблюдение за стрельбой офицеры на мостике броненосца с изумлением видели, что снаряды не взрываются. И ведь хоть бы кого из ответственных умников повесили бы после этого. Глядишь, никаких бы 1917 г.г. не было!» (Борис Галенин. Цусима — знамение конца русской истории…2010).
Против страшных напалмовых снарядов мы отвечали в основном стальными болванками. Они пробивали любую японскую броню — иногда даже оба борта, оставляя аккуратные круглые дырки. Аккуратные японцы сразу после боя вставляли в эти дырки деревянные кругляши, закрашивали краской — и хоть на парад…
* * *
Через несколько лет после Цусимской трагедии в Петербурге на Английской набережной на собранные народом средства был заложен и построен дивной красоты храм — Спас-На-Водах: «братская могила для погибших без погребения 10 000 русских героев-моряков». В закладной камень Ольгой Константиновной — Королевой эллинов, был положен Георгиевский крест. Храм этот строился с великой любовью и слезами: поистине в основании его были не только подземные Петербургские воды, но огненные слезы тысяч матерей. Храм был облицован белоснежным камнем из-под старинного русского города Старицы, его украшали мозаики В.М. Васнецова, белокаменные рельефы на фасаде и барабане, были вырезаны замечательным скульптором Б.М.Микешиным. Войдя в храм, каждый мог сразу видеть огромную мозаику в алтаре — «Спаситель, шествующий по водам», изготовленную по эскизам академика Н.А. Бруни. Эта мозаика и дала название храму, престольным праздником которого был первый Спас — Проихождение и Исхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднуется 1/14 августа. Храм освещался бронзовыми паникадилами, висевшими на якорных цепях. В стены церкви были вделаны бронзовые доски с именами павших. Над каждой висели копия или подлинник судовой иконы с лампадой, и было начертано название корабля и сражения.
Среди других имен значилось имя вахтенного офицера мичмана Георгия Ивановича Жуковского, геройски погибшего вместе с эскадренным броненосцем «Суворовым» в 7 часов 29 минут вечера (то есть в последние секунды существования корабля — возможно, Жорж тонул вместе с броненосцем, будучи тяжело раненым, но еще живым) 14 мая (27 мая н. ст.) 1905 года. Ему шел двадцать второй год…
Впервые фотографии этого дивного храма я увидела лет двадцать пять тому назад. Тогда мне довелось совершенно неожиданно получить на руки в Румянцевской библиотеке великолепно изданную в 1912 году в Санкт-Петербурге книгу, посвященную Русско-Японской войне 1904–1905 гг. и истории создания храма Спас-На-Водах. Такой красоты и столь же совершенное в полиграфическом отношении издание я видела до этого только одно — альбом, посвященный возведению Феодоровского собора в Санкт-Петербурге. На второй странице обложки этой книги был помещен экслибрис: двуглавый орел с литерой «Н II» — монограммой Императора Николая II, и раскрытая книга, на которой значилось: «Собственная Его Величества библиотека; Зимний Дворец».
С величайшим трепетом перелистывала я ее страницы…
В этой книге были собраны материалы для описаний действий русского флота и хронологический их перечень. В графе «События боя» под датой 14 мая, 7 часов 40 минут вечера, было написано: «Броненосец «Князь Суворов», объятый пламенем и чернобурым дымом, быстро накренившись на левый борт, перевернулся и, минуту спустя, скрылся под водой».
Фотографии в книге были исключительного качества, но самое большое впечатление производил сам храм, его убранство и история его строительства… В этом храме душа молящегося преодолевала время, пространство и вообще события земной истории. Цусимская катастрофа здесь ощущалась как некий единый миг, запечатлевший разом мгновения геройской, но страшной гибели родных в пучинах чужого моря и живое соприсутствие их вечно живых душ. Какое великое утешение было подарено скорбящим родным и всем, — а таких людей в то время было много, кто оплакивал гибель русского флота.
В 1932 году храм был взорван… И у каких только чудовищ и нелюдей могли подняться на этот храм-могилу руки! Ответ ясен: только у тех, кто ненавидел Россию. Говорят, доски с именами погибших моряков бросали на дно или отдавали в магазины, где их использовали для рубки мяса. Отец Владимир Рыбаков — настоятель храма, причт и часть прихожан были репрессированы. Отец Владимир умер в тюрьме…
Не перечесть имен могучих, Как всех имен не перечесть, Кто пал в бою, кто был умучен За Славу Русскую, за Честь. Кто создал век побед гремящих: Кинсбурн, Чесму и Наварин, Средь моря вод Синоп горящий, Дым Севастопольских руин. И, наконец, дариносима, Под злобу, клевету и смех, Сияет царственно Цусима, Как искупление за грех.Автором этого стихотворения, посвященного 250-летнему юбилею был русский эмигрант первой волны, выпускник Морского Кадетского корпуса 1920 года корабельный гардемарин Юрий Петрович Степанов (1899–1966).
О том, какие и чьи грехи должна была искупить гибель тысяч русских моряков и всего русского флота в Цусиме сегодня уже очень много и подробно написано. И все же большинство из тех шести тысяч погибших в жестоком бою моряков были забыты, ведь даже имена их у нас хотели отнять навсегда. А после Цусимы… сколько еще предстояло России пережить, скольких детей своих потерять, скольких семей и родов бесследно лишиться, скольким душам остаться не отпетыми, не оплаканными, сколько было тех, о ком уже и помолиться некому…
Все это пророчески увидел капитан 2-го ранга Владимир Иванович Семенов. Тяжело раненого его, как штабного офицера его успели снять с корабля вместе с адмиралом З.П. Рожественским. Но о видении В.И. Семенова чуть позже…
Сначала о том, как и почему он сам оказался среди спасенных…
* * *
Остаток эскадры был сдан адмиралом Небогатовым 15 мая, несмотря на то, что Морской Устав запрещал сдачу кораблей под флагом Св. Андрея Первозванного при любых обстоятельствах. Вся 2-я Тихоокеанская эскадра при невозможности сопротивления до конца выполнила последний приказ адмирала Рожественского "Курс NO 23°". Крейсер "Дмитрий Донской" имея парусное вооружение и паровую машину сражался с шестью японскими крейсерами у острова Дажелет; Крейсер "Светлана", бывшая великокняжеская яхта, отстреливалась до последнего снаряда; крохотный броненосец "Адмирал Ушаков", в ответ на предложение о сдаче открыл огонь по двум современнейшим японским броненосным крейсерам, расстрелявших его с дистанции, недосягаемой для его старых орудий. Когда "Ушаков" шел ко дну под Андреевским флагом, уцелевшие моряки, в ледяной воде Японского моря, говорили друг другу: "Кажется, адмирал Ушаков был бы нами доволен". Так же героически вели себя командиры и экипажи подавляющего большинства других больших и малых кораблей 2-ой эскадры. Из 2-ой эскадры никто не сдался, кроме броненосца "Орел", единственного израненного, но уцелевшего из броненосцев 1-го отряда. (Борис Галенин. Цусима…)
Даже в окружении Небогатова нашелся корабль, не подчинившийся приказу о сдаче — крейсер "Изумруд" под командованием барона В.Н. Ферзена, вырвавшийся из кольца японского флота
Адмирала З.П. Рожественского, когда «Суворов» пошел ко дну, некоторые члены его штаба перенесли на миноносец "Бедовый". Адмирал был без сознания. И "Бедовый" был сдан…
Против сдачи воспротивился только Владимир Семенов. С неработающими уже в результате ранений ногами, он пытался выползти на мостик «Бедового», чтобы предотвратить сдачу. А когда не смог — пытался застрелиться. Ему не дали. Потом были муки плена, тяжелейшее возвращение в Россию, судебный процесс и приговор. И хотя по суду он был оправдан, В.Семенов демонстративно вышел в отставку и посвятил остаток своей недолгой жизни восстановлению правды о Цусиме и Порт-Артуре.
…Потерявший много крови Владимир Иванович Семенов долго был без сознания, вероятно, в состоянии клинической смерти, или, во всяком случае, в пограничном состоянии. То, что увидел он в своем бреду, этот немолодой, много повидавший, обстрелянный офицер, герой Порт-Артура и Цусимы, он запечатлел в эпилоге свой потрясающей, изданной в 1906 году книги — почти поминутной летописи Цусимского боя.
Я приведу с небольшими сокращении отрывок из эпилога. Но не потому только, что видение Семенова очень перекликается с пророческими видениями Жоржа, не потому, что в этом видении — подлинная правда о последних минутах героической команды «Суворова», но потому, прежде всего, что видение это — есть обращение к потомкам, к России, потому, что в нем п р а в д а о главном — о духовном состоянии России и народа и сто лет назад, и после, и, увы, теперь…
* * *
«…Тьма непроглядная и тишина, истинно мертвая тишина… Отчего эта тьма и тишь? Лежу где-нибудь на дне? (…) и вдруг мысль, мгновенная, яркая, как молния озаряет меня: я могу быть везде! Везде, где захочу!.. И вот я хочу быть там, где, вероятно еще кипит бой… Я вижу…нет, ощущаю… и это не то — сознаю, что низко над морем плывут дымные, рваные тучи, а под ними тяжело и бестолково вздымаются волны (…) А вот какой-то полуобгоревший обломок и чья-то судорожно уцепившаяся за него рука… Зачем она цепляется за этот кусок дерева, когда я так свободно вижу его и снизу и сверху — со всех сторон… Другая рука разбита в самом плече, вместо правого бока какая-то путаница клочьев мяса и одежды… Лицо! Лицо! Я хочу видеть лицо!.. и я вижу его, это иссине-бледное мертвое лицо и глаза, обращенные туда, к небу, к этим серым тучам… глаза, в которых сосредоточилась вся душа этого изуродованного тела, которые даже в эту минуту еще горят надеждой… страстная жалость охватывает меня… Я хочу сказать ему: зачем ты мучишься? Чего ждешь? — брось этот обломок, и ты будешь таким же свободным, как я
И я не могу сказать ему этого… я сознаю, что я и под ним, и над ним, и вокруг и даже в нем самом, но он меня не понимает, и мучится, и ждет чего-то… и я не могу, не имею власти просветить его… Почему? — Потому что не смеешь толкать его на самоубийство. Может быть, для его духа эти минуты страдания важнее всей предшествовавшей жизни.
Надо жить и страдать до конца, — неожиданно встает передо мной ясный, определенный ответ. Вот что!.. Но как утешить, успокоить? И я льну к нему… и силюсь шепнуть ему: не отчаивайся — твой час близок, еще немного и ты будешь свободен; там, где я, там лучше… О радость! Он слышит меня…
…Мое внимание привлекает причудливая звезда трещин, образовавшихся на броневой плите от удара снаряда; я слежу за их прихотливыми извилинами, — и мне все равно, чья это плита — наша или чужая… Я возмущен! Я негодую!.. Россия! — века истории, сотни поколений, миллиарды душ, служивших тебе при жизни, Бог земли русской! — где вы?
И едва эта мысль мелькнула во мне, как я почувствовал, что я уже не один… какой-то свет окутал и пронизал меня. Какая-то сила поставила меня над морем и сказала: смотри!
Я увидел… Боже! Что я увидел!.. Я видел больше, чем мог бы видеть при жизни, имея тысячи глаз и обладая даром вездесущности… Все вокруг меня было светом и жизнью, жизнью духа. Каждый атом материи был одухотворен, но каждый в своей мере…
Что здесь происходит? Почему оно кажется мне таким дорогим и близким?… — Избитый корабль, без мачт, без труб, накренившийся на левый бок, объят заревом пожара, но ярче этого зарева окутывает его, умирающего, ослепительное облако вечности. Все в нем преображено. Звучнее небесного грома выстрелы его двух уцелевших пушек; ярче молнии огни ружейных выстрелов жалкой кучки его последних защитников; гул минных взрывов тонет в мощном раскате предсмертного «ура»! погибающих… И сердце мое полно и гордости, и счастья… О, если и везде так, то победа наша!..
А дальше? Что за облако багрового пламени? Это «они»… тоже измученные, слабые люди… И вдруг — могучий, животворящий луч пронизывает их и воскрешает к жизни. Откуда? — с востока. С востока поднимается это багровое зарево, поразившее меня; это дух народа, дух всей Японии, спешащей поддержать и крепить своих борцов…
Мне страшно!.. Мне страшно взглянуть туда, на запад… Я не хочу видеть! И не могу не видеть… должен!..
На поверхности моря чуть мерцают там и тут голубовато белые огни… одинокие, затерянные во мраке. И ни один луч не тянется к ним с далекой родины… Неужели они одни? Кажется, как будто что-то блеснет порой, но не в силах пробиться через тяжелые тучи… О, если бы я мог позвать! Если бы я мог крикнуть: Россия!.. Но на мой отчаянный зов — ни проблеска света; тьмой и холодом дышит запад; дымные тучи свиваются в клубы, и в их отблеске багрового зарева среди них мне мерещатся отвратительные чудовища, борющиеся друг с другом…
…………………
Кто-то поправляет мою раненую ногу… «Это ничего, лихорадка; это всегда бывает»… — Так это был бред? — Конечно, бред, нелепый, лихорадочный бред!.. Кто же посмел сказать… подумать — «Одни»… Нет! Как одни, когда за нами — Россия!..
… Как горько я ошибался!..
Июнь 1905. Сасебо. Госпиталь.
Спит Гаолян, Сопки покрыты мглой… На сопках Маньчжурии воины спят, И русских не слышно слез… Страшно вокруг, Лишь ветер на сопках рыдает Порой из-за туч выплывает луна, Могилы солдат освещает. Белеют кресты Далеких героев прекрасных. И прошлого тени кружатся вокруг, Твердят нам о жертвах напрасных…На коллаже работы Екатерины Кожуховой — гибель флагманского броненосца «Князь Суворов». Офицеры "Князь Суворова"; Георгий Жуковский — перед отплытием (внизу справа) Открытка, присланная Жоржем из плавания с острова Мадагаскар (справа — наверху).
Все материалы, документы и фотоснимки из семейного архива публикуются впервые
…Когда в последней четверти XX века после десятилетий безбожия и гонений на веру послевоенное поколение потянулось в Божии храмы (кто-то шел, кто-то бежал, а кто-то только что не полз из последних сил, ощутив немыслимость жизни вне Бога…), его встречали там в большинстве своем истинно опытные пастыри, успевшие захватить хотя краюшек эпохи великого расцвета старчества перед его последним угасанием. Не в одних только семинариях учились эти отцы пастырскому богословию, а в послушании у строгих и мудрых старцев, а некоторые прошли и лагерную Голгофу. Входило тогда в расцветную пору и поколение их учеников — живая нить пастырского предания пока еще не прерывалась…
Известен ответ преподобного Серафима Саровского, который на вопрос о том, отчего так редки стали подлинно духовные прозорливые старцы (это в его-то время!), сказал, что старцев настоящих нет, потому что нет настоящих послушников. Из великих самоотреченных послушников вырастают великие старцы. Однако люди последних времен стали крайне горды, утратили способность понимания великой тайны послушания, как самого могучего средства излечения проказы человеческого эгоизма, не только в церковном обиходе, но и в повседневной жизни. «…В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:1–5).
Кто же сможет стать старцем гордому?
…Духовники наши в те благословенные времена сразу ставили жизнь своих новоиспеченных чад на очень крепкие рельсы чуть ли не монастырского уклада жизни, краеугольным камнем которого служило богоподобное послушание. Народ ходил на службы в церковь еженедельно и во многие праздники, приобщался Святых Таин не один раз в год в Великий Пост, как то было в обыкновении в Российской Империи, а раз в две недели, некоторые чуть реже, но в таком ритме заново строилась жизнь; привыкали держать посты и постные дни, постепенно постигали удивительный ритм и сокровенную суть церковного календаря, благодаря которому наши жизни начинали вживаться в Вечность…
Чем глубже входил человек в жизнь церкви, тем яснее открывались ему совершенно невероятные вещи: люди начинали ощущать сердцем, а не только умом, что праздники церковные — это не просто воспоминания событий двухтысячелетней давности, а нечто вечно пребывающее и длящееся, бывшее когда-то и одновременно вот сейчас совершающееся в сердце каждого, кто с верой и молитвой в эти события погружался.
Так каждый, вступив в Церковь, становился соучастником Божественной жизни еще здесь на земле. Запоем читали святых отцов, между собой разговаривали, чуть ли не одними цитатами из книг отцов первых веков Христианства (причем отсутствие дипломов о высшем образовании отнюдь не становилось ни для кого помехой). И были мы на первых порах такой жизни, надо признать, страшно требовательны друг к другу — совершенно не по силам и не по духовному разуму требовательны и учительны, что свидетельствовало, разумеется, о нашем зеленеющем неофитстве, о «ревности не по разуму», но в то же время все-таки подавало надежду и на преодоление такой требовательности, вернее перенаправленности ее с других на самое себя…
Первые шаги в Церкви, первые книжки, впервые начавшие светиться в нашим сердцах великие духовные истины — и вот мы уже спешили передавать их другим направо и налево, учить всех и вся — а мир, разумеется, часто грубо отторгал это непрошенное вмешательство неофита. Неофит страдал в этом круговращении ошибок и искушений, пока количество правильно понятых страданий не переходило в новое качество — в первые признаки спасительного смирения…
До любовной и рассудительной снисходительности к другим, до переустановки критически нацеленного ока с внешнего мира и других — на самих себя, на своего внутреннего человека, надо было пройти гораздо более длинный и непростой путь…
И все-таки не только наша жизнь стремительно менялась в умных и крепких руках духовников, менялись и мы сами: поначалу резко и быстро, а потом все медленнее и труднее. В каких-то случаях эта волна пылкой любви к Церкви и церковности захватывала семьи целиком, в более сложных и, увы, более частых случаях начинались тяжкие семейные раздоры, — но как бы то ни было — это была живая жизнь пробуждающегося духа. Это был праздник, весна души или как кто-то сказал тогда — второе Крещение Руси…
Мы начинали понимать, что такое тайна послушания, каким должен быть путь совершенствование в духе, куда идти и к чему стремиться, где взять помощь, а еще, оборачиваясь назад, с тяжким недоумением и вопрошанием мы начинали вглядываться в прежнюю русскую жизнь своих прадедов еще до революционной катастрофы, и вот что удивительно: мы не находили там почти ничего подобного тому, чем теперь жили сами — ни того напряжения, ни того горения, ни того покаяния…
* * *
«Живем в трудное время!.. — писал в шестидесятые года XIX века святитель Игнатий (Брянчанинов), — Христианство и монашество при последнем их издыхании! Образ благочестия кое-как наиболее лицемерно, поддерживается; от силы благочестия отреклись, отверглись люди! Надо плакать и молчать». Разумеется, вокруг истинных очагов духовности — древних монастырей и поддерживался, и светился в дореволюционной России настоящий, живой огонь веры, люди грелись и спасались у ног старчества, благодаря чему еще долго не умирал молитвенный дух на Руси и хранилась местами та «сила благочестия», утрата которой уже была явна глазам премудрейшего святителя Игнатия. Но рядом-то была совсем другая жизнь, другие волны захлестывали русскую жизнь, теснили верующий мир, испытывая веру и духовность людей того времени на прочность. Результаты были глубоко неутешительными…
…Известный русский книгоиздатель Михаил Сабашников рассказывал в своих «Воспоминаниях», как в годы его детства (речь идет о восьмидесятых годах XIX столетия) их огромный, великолепный московский дом на Арбате с мраморной, украшенной античными статуями парадной лестницей, с множеством роскошно и в то же время изыскано убранных гостиных, принимал величайшую московскую святыню — чудотворную икону Божией Матери из Иверской часовни. Собственно, принимала ее у себя в маленькой комнатке, внизу, под лестницей только одна благочестивая старушка, жившая в доме Сабашниковых. Няня украдкой сводила детей Сабашниковых вниз в ту комнатку, просила их пройти под иконой, установленной на двух стульях и поддерживаемой двумя монахами. Ни отец, ни старшие сестры не присутствовали при сем, и вероятнее всего, даже не знали об участии младших детей в «церемонии», как выражается автор воспоминаний. «Усыпанная драгоценными камнями, почитаемая икона в богатом доме принималась через черный ход, в полуподвальном этаже, занимаемым прислугой, и не удостаивалась никакого внимания со стороны хозяев». И это казалось понятным и прислуге, и духовенству, — подытоживал автор воспоминаний. Такое отношение к вере и ее святыням в православной России становилось «общим местом»…
Можно ли было не поинтересоваться и не задуматься над тем, как дальше складывалась судьба этой богатейшей, «культурной», очень порядочной и очень удачливой до тех пор во всех своих начинаниях, «просвещенной» купеческой семьи сибирских золотопромышленников и чаеторговцев?
Несмотря на все видимое благополучие Сабашниковых ждали впереди горькие потрясения: душевная болезнь старшего брата и наследника, смертельное ранение маньяком самого одаренного и значительного по дарованиям и светлому характеру младшего брата (Сергей Васильевич Сабашников скончался от полученных ран после многих мучительных операций и больших страданий на 36-м году жизни), потеря всего великолепно налаженного издательского дела Сабашниковых после революции, а в пятидесятые годы гибель после 9 лет ГУЛАГа единственного сына и наследника автора воспоминаний — Сергея Михайловича Сабашникова.
Можно ли ныне не задаваться вопросом о том, откуда, из каких недр русской жизни вырвалось на поверхность в XX веке наружу столько сознательного, прямого, сатанинского зла, столько не звериной, нет, — а нечеловеческой, бесовской жестокости, такого окаменения сердец тех, кто еще вчера считались православными христианами, а стали безбожниками в первом поколении? Ведь это зло вызревало не вне России, а в ее недрах…
* * *
Русский Север, земля, окрыленная деяниями великой духовной стаи учеников преподобного Сергия Радонежского, земля преподобных Нила Сорского, Кирилла Белозерского, Александра Свирского, Германа, Зосимы и Савватия Соловецких, — святая земля… Но как могла именно эта земля, многие века славившаяся своим высоким благочестием, церковностью, своим твердым в вере Христовой стоянием вдруг явить миру Божию примеры необычайной злобы и жестокости? Жития святых новомучеников и исповедников российских донесли до нас множество фактов, рассказывающих о том, как к мучениям Гулаговской машины смерти добавлялись заключенным и ссыльным жестокие страдания — и физические, и душевные от ненависти и лютого отторжения страдальцев местным населением когда-то столь благочестивого Русского Севера.
Не пускали в дома, не хотели даже каморки и угла сдать ссыльным, хотя в большинстве своем жили северяне тогда свободно и добротно: в чистоте, с крашеными полами, с коврами и плюшевыми скатертями, с хорошей посудой, — всем тем, что умиравшие от истощения ссыльные и горожане готовы были отдать за кусок хлеба. Может, репрессий боялись? Но тогда, зачем же, пустив жить престарелых священников, всячески издевались над ними, унижали? Хозяйка, сдавшая за высокую плату комнату последним оптинским иеромонахам о. Мелетию (Бармину) и о. Феодоту (Шатохину), не пожелала даже вынести из нее свое зеркало с комодом. А потому непрестанно прибегала в их жилье полураздетая, чтобы смотреться в зеркало. Она требовала от двух замученных стариков, чтобы они носили ей воду, и, если завернутся половики в проходной комнате, делала выговор. Старцы же все сносили смиренно.
С беспримерным терпением и смирением терпел измывательства своей хозяйки уже в другом северном селе последний великий оптинский старец-духовник — преподобный Никон (Беляев). Хозяйка помыкала им как рабом, как невольником, невзирая на его высокий сан. Он был уже смертельно болен, в последней стадии туберкулеза, но злая женщина не давала ему ни минуты покоя, ни отдыха. Он возил на санках воду из колодца, колол, пилил и носил дрова, чистил снег, ставил и подавал самовар и многое другое при постоянно очень высокой температуре. Жить ему оставалось считанные недели, дни… Умирал великий праведник на полу, в грязи, в лохмотьях…
Народу в России было тогда много и люди одного вероисповедания уже очень сильно разнились между собой по духу, а ведь если «кто Духа Христова не имать, сей несть Егов (Рим.8:9). Если еще лет 200 тому духовная близость могла связывать людей из разных сословий, а само это единство вязалось не только догматикой вероучения Церкви, сколько любовью ко Христу, чувством Христа, именно Духом Христовым, который наш народ знал, чувствовал, осязал «инстинктом истины», то позже эти духовные нити, образующие из людей — народ, были уже истончены до предела, если и не вовсе оборваны…
Постепенно укрепляла свои позиции в жизни то, что можно было бы назвать «мертвой верой» — то есть то самое благочестие без сердца, лишенное своей главной «силы» — Духа Христова, который святился бы в человеках, который рождал был связи и любовь, сострадание и милосердие… Но было так: житейское медленно, но верно подменяло и вытесняло духовное, оставляя внешность, скорлупу, формальное исполнение своих «обязанностей» по вере. Именно так часто и говорили — об обязанностях и «отправлении» долга, словно выплачивали какой-то оброк Богу, уделяя тому оброку самые малые крохи души и жизни. Поговел разок в году, поисповедовался хотя бы в крупных грубых грехах, оставив втуне при этом всю свою глубинную нечистоту и испорченность сердца, которую и видеть-то в самом себе не научился, причастился Святых Таин перед Пасхой, и… благополучно, довольный собой, забыл о тех трепетных днях, скоро вернувшись в круговерть будней.
* * *
Потрясающие видЕния, предвосхищавшие гибель Жоржа, откровение поразительной силы, убедительности и правды, явленное умиравшему от ран и потери крови капитану 2 ранга Владимиру Ивановичу Семенову — летописцу Цусимы, — чуть-чуть приоткрыли обычно захлопнутое для наших очей окно в мир духовной реальности: для большинства иллюзорный, несуществующий, а для святых отцов Церкви — единственно истинный и реальный.
Это «наш» мир они называли иллюзией и «сонием», а земную жизнь «ночью»; рождение в вечную жизнь, рождение души о Христе они называли пробуждением ото сна. «Физический мир есть видимый образ невидимого духовного мира», — писал святитель Николай Сербский (Велимирович), поэтому физический чувственный мир, тела — есть только символы духа, а духовный мир — есть смысл этих символов, и подлинная реальность. «Царь есть царь, а могила царя — есть могила царя: потерявшим разум показался бы тот, кто отверг бы бытие самого царя, но признал бы царем его могилу». Царь — дух в человеке, а могила царя — тело.
Сам Господь учил, что «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк.17:20–21), что центр нашей жизни, место, где происходят самые главные события нашей жизни, где идет нескончаемая брань с Диаволом, где совершается тайна нашего спасения, где мы можем встретиться с Создателем нашим, куда стучится к нам смиренный Христос, — это наше человеческое сердце, то самое единственное оконце, через которое мы только и можем войти в Вечную жизнь, обОжиться, соединиться с Небесным Отцом, а прежде того оживить свою собственную душу, чтобы «вещественность» (слово Гоголя) не пожрала в нас дух, чтобы душа не умерла вместе с телом, а то и раньше, что встречается, к сожалению, на каждом шагу…
Увы, в обыденном течении жизни сердце наше, занятое суетой, часто вовсе ненужными попечениями, игрой страстей, своего рода купанием во грехе, который уже и за грех-то большинством не держится, глубоко погружено в чувственную реальность, отчего оно каменеет, обрастает толстой кожей, «толстеет» и не только в отношении своем к жизни и страданиям других людей, — и живых, и тем более давно усопших, но совсем подавляет и так почти утраченную способность видеть дальше носа своего — смотреть на мир и на все духовными очами.
"Отолсте бо сердце людей сих" (Мф. 13:15). И разве только святые да дети, пока они еще не утратили свою чистоту, да люди в крайних, пограничных состояниях предельного напряжения всех душевных сил видят истинную сущность окружающей жизни, всего происходящего и даже то, что еще только должно свершиться, как видел то Жорж до Цусимы и капитан 3 ранга В.И.Семенов после нее.
* * *
…Помню, было мне лет 5–6, наверное, когда однажды вот так сквозь видимое вдруг непрошено-негаданно стало проступать что-то иное, подспудное, настойчиво пробивавшееся ко мне, — какое-то иное слово, иной смысл или иной звук. Одна «картинка» вытеснялась другой…
Бабушка моя много лет перед своей кончиной сильно болела, и часто приходилось ей лежать в больнице. А мы с мамой ее навещали. Это были, как правило, старые дореволюционные больницы на Калужской или на Пироговке, построенные для Москвы богатыми русскими купцами-благотворителями. Прочные, красивые, надежные, очень удобные во всех смыслах они служили и служат до сих пор Москве. В тот раз бабушку положили в 5-ую Градскую — так она тогда называлась, больницу, бывшую Медведниковскую.
Чистота, тишина, безлюдье, высокие белые двери, латунные ручки, прекрасный старый начала XX века кафельный узорчатый пол, просторный вестибюль, где кроме меня только где-то там, в конце была гардеробная, а в ней затихшая в полусне женщина, выдававшая халаты. И совершенно изумительная акустика — каждый звук буквально подвешивался под своды как хрустальный колокольчик, — стоило сделать только несколько шагов и слегка топнуть подковкой каблука, как все это замершее и словно обезлюдевшее здание озарялось каким-то долгозвучным аккордом…
Не помню почему, но мама меня к бабушке наверх не повела. Я осталась одна с яблоком в руках — ее дожидаться… Никто не пробегал мимо, не лязгал железным костылем и не возвещал миру о нестерпимых его безобразиях большой старинный лифт, не раздавались гулко чьи-то шаги по стертым старинным лестницам…
Больница молчала, погруженная в глубокое оцепенение…
А я умела в детстве сидеть тихо и ждать, для меня это не было пыткой. Рассматривать узоры кафеля, чудом сохранившиеся со временем постройки в 1901–1903 годах, аквариум с какими-то страшноватыми тритонами на окне, большой фикус и ухоженные алое, какие-то мелкие приятные цветочки в горшках, обернутых в жатую бумагу, — вероятно бальзамины… И вдруг меня совершенно неожиданно что-то окутало, словно я вошла в зону тумана, в котором стало трудно дышать. И навалилось на мое пятилетнее сердце страшная тоска…
Что это было? Как я тогда это почувствовала и что поняла? — спрашиваю сейчас себя об этом — спустя жизнь, но уже не могу ответить. Но почему-то ведь не забыла я тогда пережитое в пустом больничном вестибюле. Помню, что в один миг мне стало страшно в этой мирной, чистой и вовсе не тревожной, стерильно чистой и даже элегантной обстановке.
«Что-то с бабушкой?» — испугалась я. За окном висел нескончаемый октябрьский дождь, пеленой укрывший все такие же, как здесь, сгустки тоски: больницы Калужской, печальный Нескучный сад… И захватило, уволокло меня это беспросветное безнадежие, это ощущение последней неотвратимости человеческого конца, чувство глубочайшей оставленности и беззащитности несчастных жертв перед несметными полчищами алчных уродов, поджидавших свою богатую ловитву, этих вечно пасущиеся там, невидимых, но ощущаемых явственно духов тьмы…
Сколько же душ отошло и еще отходило там в этих стенах в мир иной без Бога, Без Ангелов, без святых напутствий Церкви за полвека жизни клиники, — кто мог бы счесть… Может быть, и тогда, в то самое мгновение моего детства уже кто-то неизвестный мучительно умирал всего лишь на другом этаже, уже все видя своими открывшимися глазами, и все понимая должным образом о жизни и смерти в своем последнем отчаянии. Известно же, что в последние минуты, закрывшееся со времен грехопадения Адама духовное око у человека приоткрывается, знаменуя для одних начало вечных мук, а для других — призыв к последней брани с духами тьмы, а для третьих — победоносное освобождение. Так на моих глазах, много лет спустя умирала мать подруги, закоренело воинственная атеистка, богохульница, которая последние два часа жизни после стонов и мук тяжелой болезни, а, временами в забытьи и несусветной ругани, она вдруг в какой-то момент широко раскрыв в пустоту глаза, стала истошно кричать дочери: «Молись Богородице! Умоляю! Скорее! Молись Ей, умоляю, молись же!!!».
Когда она умерла, а она была крещенной, мы с подругой и еще двумя-тремя церковными знакомыми разделили между собой кафизмы Псалтири и начали читать по ней поминальный сорокоуст. Две чтицы спустя несколько дней сразу сошли с дистанции — так им стало тяжело это чтение: все валилось у них из рук, обе сразу заболели, одна за другой посыпались неприятности на их головы…
Остались мы с дочерью усопшей и третья чтица, кажется, так и не дотянувшая до конца. Нелегко было читать по новопреставленной Анне. На третий день у меня вдруг начали коптить лампады, чего до этого никогда не случалось — всегда был хороший и чистый елей в стаканчиках, льняные фитильки, но тут, стоило на минуту подправить огонек, как он сразу начинал нещадно коптить — весь потолок в комнате быстро покрылся копотью — она свисала клочьями. Но я продолжала читать, объяснив это закопчение моего жилья собственным недостоинством. Возможно, именно это и помогло мне дотянуть сорокоуст…
Моя подруга похоронила мать по церковному обряду, ее отпели, заказала панихиды, а в трех монастырях России сорокоусты о упокоении, и сама дочь — церковный человек, конечно же, стала усердно молиться о упокоении души новопреставленной… Отступать моей знакомой было некуда: старшие ее дети Бога знать не хотели, жили по закону «что хочу, то и ворочу», дочь — спивалась, внучата, безотцовщина, бегали неприкаянные, а маленькая шестилетняя внучка порывалась выброситься с пятнадцатого этажа от приступов той самой тоски, которая в наше время стала настигать и детские души.
Мы свое дело все-таки не бросили: покойная Анна ведь уповала на Богородицу, — как же было не помочь… Я меняла масло в лампадах, покупала новое в разных местах, меняла и стаканчики, фитильки, но лампады все равно коптили. Кончился сорокоуст, — кончилась и копоть.
…Когда мама вернулась от бабушки, она меня быстро привела в чувство, сообщив, что с бабушкой ничего худого не произошло. Страх мой, заедаемый яблоком, от маминого присутствия скоро улетучился, но объяснить толком, что же такое со мной произошло за время ее отсутствия, и почему у меня глаза на мокром месте, и что же такое я видела, я, конечно, не смогла. Да и кто бы смог? Но вот ведь запомнила же я все-таки те мгновения и то состояние…
Много лет спустя, однажды за литургией как-то особенно остро коснулись сердечного слуха знакомые слова из 33 псалма, который поют в конце литургии: «смерть грешников люта и ненавидящие праведного прегрешат». Тут сразу и вспомнилась мне та минута из детства, когда было мне открыто это предупреждение Божие: «Смерть грешников люта… болезненна, ибо достигнув конца, при смерти грешники скорбят чрезмерно, чувствуя, какое постигнет их наказание за сделанные ими грехи. А смерть праведных легка и радостна, потому что они чувствуют радость, ожидающую их на небесах», — прочла я тогда, вернувшись после храма домой, у знаменитого толкователя Псалтири монаха Евфимия Зигабена.
С тех пор я, между прочим, разлюбила этот изысканный и замечательный по многим статьям в своей мАстерской эклектике русский модерн. Для меня он, несмотря на особенный уют и рафинированный комфорт быта, стал символом того времени, духовным выражением предсмертного состояния России, и Русской Цусимы в том числе, — времени предельного духовного напряжения, неопределенности и угнетенности, времени подспудных, тщательно скрываемый страхов, которые переживали тогда люди, бессильные что-либо изменить, найти избавление от мрачных предчувствий и выход из духовного тупика.
Этот стиль остался для меня с детства неким свидетельством о той реальности, где обитали несметные полчища видимых и невидимых, физических и духовных шакалов, жаждущих одного — богатой и дымящейся, уже готовой тризны: рек русской крови и погибающих в безбожии тысяч душ…
Шакалы отлично разбирались в духовном состоянии русского общества, в котором только святые да невидимые миру, по дальним углам схороненные подвижники все еще не уступали стихиям мира сего. В то время как «обычные» верующие православного вероисповедания люди, уверенно считавшие себя «несомненно благочестивыми», — были ли уже хотя отчасти на самом деле таковыми?
* * *
Жорж Жуковский родился и воспитывался в очень религиозной семье. Верующим, конечно, был и его отец — Иван Егорович Жуковский, но такого дара чистого и безоглядного доверия Богу, как у родителей его, он не имел. Однако разницу между его собственным духовным устроением и отцовским, ни он сам, ни Анна Николаевна, ни Егор Иванович не замечали. Меня, кстати, этот вопрос всегда особенно занимал…
Ведь не случайно в большой семейной переписке последней четверти XIX века мне не встретилось даже признаков беспокойства о сохранении подлинности и крепости веры, об угасании у кого-то жизни духовной, и даже вообще таких слов — «жизнь духовная» мне не встретилось. Не тревожились матери, не переживали отцы, да и сама молодежь думала ли о духовном состоянии своих сердец? Редкие люди умели посмотреть на жизнь глазами веры. Та же приснопамятная Анна Николаевна и ее супруг Егор Иванович, — поколением раньше, но кто еще?
Могут сказать: не обсуждали духовных тем в письмах и не тревожились, потому что… имели. Но что?
Думали, что детей вот читать молитвы с детства приучили, говеть раз в год тоже, Закон Божий преподавался и дома, и в гимназии — да вот и не все ли? Что еще-то надо? Духовных пороков или искажений веры замечать не умело и большинство пастырей, не то, что родители. Тем более, что тогда редко у кого были постоянные духовники — таковыми считались священники своего прихода, — по «месту жительства», а это вовсе не гарантировало глубокой, внимательной и строгой работы над душами пасомых. Священство в массе своей было не готово вести души день за днем, тем более что исповедь была делом крайне редким, у большинства — раз в году, перед Пасхой.
Для сравнения — в великих русских монастырях послушники и монашествующие к старцам ходили ежевечерне, где открывали духовно опытным старцам свои помыслы, движения сердца, вопрошали советов в трудных обстояниях жизни день за днем по самым мельчайшим поводам.
Даже мы, приобщившиеся к церковной жизни в 80-е или 90-ые годы XX века у исповеди бывали чуть ли не еженедельно (хотя причащались раз в две недели), а некоторые и чаще. Надо ли говорить, что человек, так живущий, довольно скоро приучался следить со вниманием за каждым своим словом, движением сердца, научался видеть свои грехи, оценивать состояние своей души в истинном свете…
Некоторые, как Анна Николаевна или Егор Иванович обращались к монастырским старцам за духовным советом. Егор Иванович постоянно окормлялся у старца, фактически жил в послушании. Но таких людей во всей Руси великой было совсем и не много. Хотя уж тогда-то было к кому в России обращаться за духовным советом, — великий сонм святых богосных старцев-духовников…
* * *
Ольга Гавриловна, мать Жоржа и Машуры, слыла очень религиозным человеком. Она любила привечать странников и калик перехожих. Они угощались у нее чаями, пели духовные канты, а за стеной в гостиной брат Александр Гаврилович разыгрывал классические сонаты — он был прекрасный пианист. Интересный духовно-эстетический сплав имел место в этом доме старинном помещичьем доме… Он сочетал в себе не только любовь ко странникам и блаженным с отменной европейской образованностью членов семьи, но и глубокую англоманию в стиле жизни, в воспитании детей, в манерах, в мелочах быта, со всей ее эстетической, нравственной и даже религиозно- пуританской по духу складкой жизни. И все это при усердном следовании правилам православного благочестия.
Теща Ивана Егоровича — Мария Александровна НовикОва, мать Ольги, была из рода старинных дворян Киреевых — близких славянофилам и больших поклонников всего английского, состояла в браке с адмиралом Новиковым, сподвижником Нахимова в обороне Севастополя. Овдовела Мария Александровна рано. И вскоре открылось, что супруг адмирал был ей всю жизнь неверен и вообще вел довольно бурную жизнь. Потрясенная Мария Александровна решила что надо, как тогда выражались, замаливать грехи покойного мужа…
Словечко это, залетевшее в Россию из католической Европы, как-то быстро вошло в широкий обиход в России, но смысл его для православного человека был весьма сомнительным. Православная Церковь никогда не призывала своих чад к «замаливанию» грехов, но к покаянию и исправлению греховной жизни. И об усопших благословляла соборную и келейную молитву, посильные жертвы на канунные столики в храмах… Умели на Руси дети и сугубые жертвы приносить за усопших родителей: уходили в монахи ради спасения души своей и не только отцовской, но всего рода, брали на себя молитвенные обеты, налагали сугубые посты, совершали трудные паломничества, как бы усиливая своим собственным трудом свои молитвенные прошения за нуждавшиеся в помощи души усопших. Ибо «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин.15:13).
Мария Александровна решила «вымаливать» душу супруга с помощью своих дочерей, оставив всех троих незамужними девицами, а самую лучшую — здоровую и красивую, отдав в монастырь. Этой лучшей была средняя Ольга — старшая сестра была горбата, а младшая как-то мало развита. Олю стали готовить к монашеству, одновременно не отменяя и воспитание в строго английском ключе.
Что-то нарочитое, несколько жестокое даже, сковывающее богоданную свободу человека было в этой жертве Богу «не из собственной кожи», как сказала бы блаженная мать Екатерина, знаменитая старица Пюхтицкого монастыря, духовная дочь святого Иоанна Кронштадтского, а за счет властного утеснения жизни кого-то другого. Мать Екатерина Пюхтицкая была прозорлива, очень сильна в молитве; юродствуя, бегала она зимой по полям ночами напролет в одних вязаных носках, и вообще никогда не носила кожаной обуви, говоря, что подставлять под испытания и страдания надо свою кожу, а не чужую.
Велика сила обетного слова, данного Богу! Как гулкое эхо гремит оно по всей вселенной. Каждый помысел наш и вздох, не то, что обещания, записывают Ангелы в книги, которые разомкнутся в последний день и будут нас судить… А до того будут менять рисунок судьбы, если и не препопределяя ее, то таинственным образом участвуя в плетении узора жизни…
Господь управил ход событий по-Своему: Ольга встретила Ивана Жуковского, они полюбили друг друга, и, чтобы уговорить мать отказаться от обета, точнее, получить теперь уж духовно авторитетное разрешение от него, ибо страшное дело давать Богу обеты и не выполнять их, — пришлось обращаться к одному из Оптинских старцев.
Марию Александровну в конце концов уговорили: брак Ольги с Иваном состоялся. Бог благословил молодоженов двумя детьми — Машенькой (1881–1944) и Георгием (1884–1905). Но какая-то горестная тень отчего-то легла и на сам этот брак, и на судьбы детей: Жорж, как мы знаем, отданный отроком в Морской Корпус, очень тосковал по дому, чувствуя, что к иному был призван в этой жизни, но тем не менее до конца исполнил свой долг, приняв свою героическую и мученическую кончину в Цусимской битве. Как знать: его ли это был путь?
А Мария — хотя и вышла все-таки замуж, овдовев, она приняла постриг в монашество. Потомства у них с мужем не было. Линия жизни и этой ветви Жуковских, а так же и рода Новиковых пресеклась с кончинами Марии и Георгия…
* * *
К сожалению, я не много знаю о внутренней молитвенной жизни обитателей Нового Села (имения покойного Ивана Егоровича). С московскими Жуковскими новосельские жители всегда хранили добрые семейные отношения, но была разница в духе двух домов. У Жуковских всем всегда было хорошо: тепло, просто, уютно. Здесь царила искренность и старинное добродушие В Новом Селе все было поставлено на действительно аристократическую ногу, манеры были чопорными, но подчеркнуто ласковыми, однако приезжавшим погостить или помочь ухаживать за маленькими Жоржем и Машурой в Новое село Жуковским было там всегда немного зябко. Страннолюбие Ольги Гавриловны несомненно было похвально, но Анне Николаевне, пожилой матери семейства Жуковских часто негде было взять 10 рублей, чтобы приехать из Орехова к больному и тоскующему вдали от семьи Егору Ивановичу. Как это часто случается в жизни, Новосельские жители были сколь богаты, столь же и, увы, скуповаты. Даже обещанная младшей сестре Вере помощь в подготовке приданного от Ивана Егоровича так никогда и не подоспела…
По воспоминаниям моей бабушки, сестра Жоржа — Мария — очень напоминала образ княжны Марьи Болконской из «Войны и мира», каким его пишет Толстой. Лучистые глаза, мягкость, сдержанность, ласковость… Но ласковость, которая, по словам бабушки почему-то сердец не согревала. Вспоминая благочестивую и умную толстовскую княжну Марью, могу добавить, что меня всегда поражало некое сердечное безразличие этой героини к судьбе сиротки — маленького Николеньки — сына покойного князя Андрея и умершей в родах княгини Liz…
Матушка Жоржа и Машуры — Ольга Гавриловна — была женщина сильная, решительная, вероятно, властного характера, как и ее мать, Мария Александровна. Памятен бабушкин рассказ о том, как она «харкала и плевала» — по ее выражению на бунтующих крестьян, грозившихся зажечь усадьбу. Ольга Гавриловна тогда вызвала казаков. В ответ на это было учинено первое в тульской губернии политическое убийство: в ночь с 19 на 20 августа 1906 года в Новом Селе был застрелен председатель Тульского окружного суда Александр Ремизов, который был дружен с семьей Ольги Гавриловны и каждое лето жил в Новом селе вместе с детьми. Убийца стрелял через окно из 10-зарядного пистолета Маузера. Ремизов имел неосторожность заступиться за Ольгу Гавриловну, обратившись к губернатору с просьбой прислать в село казаков. 1 июля 1906 года в Новое вошли войска, нескольких крестьян, участвовавших в беспорядках, были арестованы. Вот после чего и убил его один из крестьян Нового села, который входил в рабочую фракцию Тульского комитета и даже вел политический кружок среди новосельских крестьян.
…А месторасположение Нового Села было очень красивое — широкий разлив реки Шат, живописно стоящий старый большой барский дом, а рядом храм Успения Пресвятой Богородицы, где когда-то со своим детским церковным хором занимался добрейший Егор Иванович; множество цветов, им посаженных, ухоженный старый парк, — не случайно Жорж до последнего всего более тосковал об этом уголке родной земли, где мечтал провести свою жизнь. Он и впрямь, наверное, был создан не для военной службы, но Ольга Гавриловна поступила со своими детьми так же решительно, как поступили в свое время с ней: Жоржика она в 10 лет отправила в Петербург в Морской корпус, чтобы впоследствии видеть его лишь 2–3 раза в год, а Машуру воспитывала совершенно в том же духе, как воспитывали и ее самое.
* * *
…Многие месяцы после Цусимской катастрофы никто в семье Жуковских никак не хотел и не мог поверить в трагическую гибель Жоржа. Надеялись на какой-то непредсказуемый поворот событий, на неожиданное известие. На чудо Божие…
Верочка Микулина — Катина сестра, еще с весны 1905 года, когда 2-я эскадра только еще приближалась к Цусимскому проливу, наложила на себя строжайший пост, целыми днями молилась, страдая при том какими-то страшными головными болями. Когда пришла весть о гибели эскадры в последних числах мая (по старому стилю), Вера гостила в Москве у дяди Николая Егоровича Жуковского. Поскольку семья жила у Чистых прудов, Вера каждый день ходила на главпочтамт за свежими газетами и узнать, нет ли писем от Жоржа.
Тот день она запомнила на всю жизнь: обезлюдевшая Москва, палящее солнце, чуть ли не ураганный ветер и множество свившихся телеграфных лент со страшным известием о гибели эскадры, бешено несущихся по раскаленной мостовой Мясницкой…
Когда в Москву приехала сестра Жоржа Машура, они вместе отправились в Гефсиманский скит к знаменитому и ныне канонизированному старцу Варнаве Гефсиманскому. Отец Варнава сказал, что Жорж жив… Несомненно, что великий прозорливый старец имел в виду жизнь вечную и спасение души Жоржа. Но Вера слова старца расценила буквально…
Здоровье Верочки вызывало у всех Жуковских большие опасения: она ничего не ела, только исступленно молилась, в гибель Жоржа верить ни за что хотела. Утешали ее домашние, а так же и мать и сестра Жоржа, которые явили в те дни, надо отдать им должное, поистине невероятную силу характера:
«Новое Село. 6 Марта 1906 года. Дорогая моя Верушечка! Как тебя Господь милует, моя хорошая; крепись в душе и верь, что пути Промысла Божия неисповедимы; перетерпи в данное время тяжелый душевный кризис, с молитвой к Царице Небесной, Заступнице всех скорбящих и угнетенных душ, чтобы Она тебя не оставила одну с твоею скорбию, и поверь моему горькому жизненному опыту, ты увидишь просвет и покой. Ведь ты уже плоть свою угнетаешь всякими лишениями, что к слову сказать, пользы никакой не приносит, а только огорчает тебя и окружающих и любящих людей… Помни одно: Господу все возможно там, где человек бессилен. Только не фордыбачься и не умничай по-своему, а покорись Его святой и всеблагой воле как малое дитя, и тверди постоянно в душе: «Господи, да будет Твоя святая воля, а не моя, ими же веси судьбами утеши и помоги мне унылой». Еще прошу усердно — найди себе какое-нибудь занятие… Выкини из головки мысль, что ты ничем не можешь заняться от головной боли и т. д… Прости меня, роднушка, что я тебя все отчитываю и докучаю советами, но мне так хочется, чтобы ты встряхнулась и взяла бы себя в руки. Ведь вся наша жизнь это борьба до гробовой доски с горем всех сортов и родов и надо мужественно и доблестно бороться с ним, чтобы выйти победителем. Да вразумит и просветит Тебя Сам Господь Бог на светлую и хорошую жизнь. Твоя старуха тетя Оля крепко тебя целует и мысленно крестит».
* * *
А что же Катя, которой Жорж писал таки пронзительные письма-откровения?
Все его письма и открытки из корпуса, из последнего плавания — с берегов Африки, с острова Мадагаскар, из Гонконга бабушка хранила всю жизнь. И, спасибо ей! — я могу видеть теперь этого юношу, моего дорогого двоюродного деда: в полной мичманской форме — в белом кителе (Мадагаскар), в матроске на палубе, да вот и сам эскадренный броненосец «Суворов», стремительно движущийся к своей гибели пред моими глазами на открытке, которой сто шесть лет. А на обороте — беглые, пронзительные строчки, написанные рукой Жоржа….
Когда Жорж погиб, так страшно и геройски в Цусимском сражении, бабушка моя пережила это совсем одна — в глубоком сосредоточенном молчании, сокрыв в своем сердце на всю жизнь его образ, его письма, — и только мне — ребенку, спустя десятилетия, она могла хоть что-то сказать о своих чувствах. Но это было спустя пятьдесят лет. А пока Катя молчала…
Мне передалось от бабушки какое-то особенно трепетное отношение к памяти Жоржа. Его письма-исповеди из корпуса, его открытки, запечатлевшие мученическую Голгофу русской эскадры вплоть до ее уничтожения в свинцовых водах Цусимского пролива, и последнее предсмертное одиночество брошенных тогда Россией моряков, их беспримерный героизм и ужас бойни, который переживали их сердца в последние часы и минуты жизни, — все это хранится теперь у меня. Быть может, и откликнется, и помолится и прольет и в наше холодное время слезу какое-нибудь доброе русское сердце о той, более ста лет назад пережитой и, наверное, уже подзабытой великой русской боли…
Спит Гаолян, Сопки покрыты мглой… На сопках Маньчжурии воины спят, И русских не слышно слез… Страшно вокруг, Лишь ветер на сопках рыдает Порой из-за туч выплывает луна, Могилы солдат освещает. Белеют кресты Далеких героев прекрасных. И прошлого тени кружатся вокруг, Твердят нам о жертвах напрасных. Средь будничной тьмы, Житейской обыденной прозы, Забыть до сих пор мы не можем войны, И льются горючие слезы. Героев тела Давно уж в могилах истлели, А мы им последний не отдали долг И вечную память не спели… Плачет, плачет мать родная Плачет молодая жена, Плачет вся Русь, как один человек Злой рок и судьбу кляня…Бабушка иногда — редко — садилась за рояль и наигрывала этот чудный вальс «На сопках Маньчжурии». На пюпитре стояли старые истрепанные ноты 1907 года и там были и стихи, написанные Степаном Скитальцем на замечательную музыку героя Русско-Японской войны Ильи Шатрова. Ноты вальса появились в 1907 году. Верочка играть не любила, у нее не было слуха. Разучила новый вальс Катя. Да и везде его уже играли духовые оркестры, его слушала, пела и даже кружилась под него со слезами уже вся Россия. Это ведь был не вальс, это был русский реквием, плач, и в нем оплакивала Русь своих сыновей, и тех, которые нашли покой на сопках Маньчжурии, и тех, кто, как Жорж, не обрели иного последнего пристанища, кроме черных глубин чужих свинцовых вод Цусимы, а потом памятных плит дивного храма, но и того вскоре порушенного. Плакала всегда и я, маленькая, когда слышала этот вальс.
И вот однажды, слушая его, — а пел Иван Семенович Козловский, записавший его в 1944 году, пел неспешно, по-старинному, благородно, ясно выпевая слова, будто и ему было о ком плакать в этом вальсе, — и вот тогда-то на один какой-то миг дано было моему сердцу чудо — на одно только наикратчайшее мгновение! — перенестись туда, в 1907 год… То ли проводы на войну были, то ли вокзал, духовой оркестр — встреча выживших, то ли играла вальс дома тогдашняя Катя и слушала его тогдашняя Вера (и я на миг почувствовала, как она слушала!), хотя мнилось мне и присутствие множества людей, множества единого и людей не нынешних (совсем других, увы), а тогдашних, русских, множества, увиденного как бы с какой-то необъятной высоты… В этот же миг — все только в один единственный миг и сразу вместе! — я вдруг почувствовала вполне материально под руками белую плотную ткань матроски и живое присутствие того, кто был в ней — такого родного, — и невозможность ужаса сознания реальности его уничтожения. Наверное, так, как это чувствовала тогда Вера. И тут я узнала, как его любили и как бы я его любила (а я его у ж е любила, а не просто помнила), и какой силы была боль Веры, особенно его любившей, и Кати, для которой он был родной, брат… И матери, и сестры…
В меня вошла их боль и она стала моей и такой остроты, что долго я даже не могла заплакать об этом прекрасном молодом мичмане с благородным и печальным от страшного знания лицом. Это был мой двоюродный дед. «Я» потеряла его в 1905 году в мае…
Теперь и я знала его так, как знали его близкие, жившие с ним, теперь и я вместе с Верочкой шла в тот ветреный и знойный майский день от Почтамта по Мясницкой и мимо меня неслись по улице обрывки множества телеграфных лет, на которых была отбита страшная весть о гибели русской эскадры, и вкруг меня была почему-то опустевшая, онемевшая и застывшая от горя тогдашняя Москва… И только ветер по ней гулял и солнце нещадно палило. А я шла тогда и там, и знала одна изо всех, что будет впереди, и что этой России уже не будет никогда.
На коллаже работы Екатерины Кожуховой: «осень в деревне» — фото Е.Кожуховой; слева: Ольга Гавриловна Жуковская (урожденная Новикова) с дочерью Марией (Машурой); справа — Орехово: 1903 год; Николай Егорович Жуковский (сидит на крыльце Ореховского дома) и его племянник Георгий Иванович Жуковский (Жорж) перед охотой. Внизу — разрушенный храм Успения Пресвятой Богородицы в имении Ольги Жуковской Новое село.
Все фотографии из архива семьи, публикуются впервые.
Глава 11. Сестры
…Кто не терял в этой жизни самого дорогого, тот не знает цены возвращениям.
Но разве можно что-то вернуть? Если только духовно — в любви, в воспоминании, в молитве, в духовном единении душ. А ведь хочется человеку вернуться и в былое: унижает человеческое достоинство и свободу человека эта неумолимая прожорливость времени, то, что не может он владеть убежавшими минутами своей собственной жизни. Правда, лукавое время становится виновником наших лучших воспоминаний, нашего постоянного оборачивания назад, сердечных лобызаний утраченных дорогих дней, поэзии, наконец, но велика ли цена скорби об утратах, если человек «имевший» ни на что доброе не был способен: «Ненавидим добродетель при жизни, — исчезнувшую с глаз долой — с завистью ищем» (Гораций). Глубинная причина наших запоздалых «лобызаний» все-таки в нас самих — мы всегда виноваты перед прошлым, перед близкими, за нами всегда стоит то, что нуждалось бы во врачевании молитвенными воспоминаниями…
Но бывает, пусть редко, и иначе, когда прошлое само идет к нам навстречу, ищет нас и, находя, врачует разрывы, разделения, ошибки. Только могло бы оно пойти к нам на помощь, если бы на то не воля и не указующий перст Всемогущего?
…Был недолгий период в нашей жизни, когда мы обретались на Землянке, как называли в старину московскую улицу Земляной вал. Рядом шумело и чадило Садовое кольцо, гудел как Новый Вавилон Курский вокзал. Но из выходящих во двор окон нашего девятого этажа, мы вкушали другую, казавшуюся нам в отличие от «Вавилона» чуть ли не иллюзорной картину: в последних закатных малиновых выплесках на густо синеющем московском небе рисовавшиеся дивные очертания Кремля, стен, соборов, в оправе всегда столь праздничных огней Москвы. Мы же мысленно пытались восстановить пробелы в чеканном рисунке горизонта, местоположения куполов и колоколен уничтоженных храмов.
В конце Ильинки, ближе к нам, — храма Николы Большой Крест, где служил и проповедовал отец Валентин Свенцицкий, а в начале — ближе к Кремлю — древнейшего московского храма в честь пророка Илии, от которого в то время оставался лишь обезглавленный куб. Ближе к Лубянке мы «дорисовывали» часть Китай-городской стены и величественную часовню в честь великомученика Пантелеймона — храм Афонского подворья, бывшего когда-то приютом многих страждущих московских душ. А выйдя из дома к Воронцову полю, — теперь уже не мы с бабушкой, но я с дочкой, — с головокружительной быстротой окунались в родную стихию подлинной, старинной Москвы — шли к Подколокольному, к Петру и Павлу, к Китаю (так называли раньше москвичи сердцевину первопрестольной, ныне именуемую Китай-городом), к таинственному и страшному своим искалеченным тюремным обличием и тогда еще только-только начинавшему подавать признаки жизни Иоанновскому монастырю, памятному почти всежизненным заточением в нем дщери императрицы Елизаветы Петровны — княжны Таракановой, будущей великой старицы инокини Досифеи, с которой нам еще предстояло «встретиться» в Новоспасском монастыре, где почивали ее останки, где и мы с дочерью обрели свой духовный кров и пищу нетленную.
И все это было тоже ничем иным, как погоней за утраченным, за тем, чем ближние предки наши не много дорожили, а если и дорожили, то не способны были сохранить… Не наказанием ли было всем нам надругательство над святынями нашими за наше маловерие, отступление от Бога отцов и дедов, а может, и прадедов…
До странности пустынно было в тамошних переулках, народу — почти никого, детских голосов во дворах не слышно, да и дворов-то самих уже как не бывало — все живое, «серое» московское население (те же «серые зипуны» Достоевского: только теперь уже не крестьяне, а коренные москвичи) к тому времени уже было выдворено из центра в окраины, а новые хозяева жизни еще не разгулялись (тогда! не теперь…) на полную ногу. Они только начинали в то время свой захват святой московской земли, а потому порядки свои вводили поначалу тихой сапой. Старались не попадаться обывателю на глаза, укрывались в своих конторах и офисах за семью замками без вывесок с плотно завешанными жалюзи окнами. Сидели они там тихо, а с внешней средой общались лишь посредством уличных кондиционеров. А потому эти улицы и переулки пока еще оставались нашими.
В то время еще работали оставшиеся от прежних времен грязноватые и бедные товаром московские магазинчики с осколками разбитых бутылок у винных отделов, с пустоватыми полками и поблекшими этикетками на банках и бакалейных товарах родного отечественного производства. Но мы туда все равно любили заходить — эти «Продукты», «Бакалеи», эти «Овощи-Фрукты» и «Молочные» были своего рода продолжением наших домов, квартир, дворов и улиц. Они были «своими», обжитыми, привычными, они не отторгали, не подавляли человека, не втягивали его в безликие и бездушные ангары гипермаркетов, в них как-то продолжалась наша обыденная жизнь, возникали человеческие связи, симпатии и антипатии, завязывались знакомства. Эти скудные продовольствием и промтоваром магазины не скудны были теплом и простотой, а потому играли свою роль в московском бытии, даруя человеку драгоценное ощущение оседлости и сродства с окружающим миром. Они были частью родного московского «кормящего ландшафта». Конечно, Л.Н. Гумилев мыслил глобальными, эпического размаха категориями. Однако законы им открытые, вполне могли быть неформально соотнесены и с жизнью меньших человеческих сообществ — родов и семей, проживавших не столько в деревнях, сколько в городах.
…Нравы в магазинчиках были, конечно, тоже типично московские. Ругались и грубили, — о, да, на всякий лад и манер, но и привет был, и внимание. Приятие — неприятие: главное — небезразличие и искренность, а потому и ощущение родственности. По обе стороны прилавка можно было встретить своих одноклассников, былых сотоварищей по «двору», знакомых и друзей родителей — ведь раньше подолгу жили на одном месте. Кланялись знакомым лицам, имен которых никогда не знали, да особо и не стремились знакомиться ближе: как-то подспудно чувствовали, что и так наши жизни уже — и на веки — переплелись. Мы верили, что как тот поданный евангельский стакан воды, так и встреченная улыбка глаз и сердца — они никогда не исчезнут и тоже будут воспомянуты на Страшном Суде.
Бывало, годами мы так раскланивались и улыбались друг другу, как хорошие давнишние знакомые: она — мне, быстро заворачивая творожные сырки, а я — ей, всегда любуясь быстротой, ловкостью и добротой ее рук, абсолютной ее незлобивостью и спокойному приятию всего многообразия темпераментов, то и дело вскипавших в очереди, на нее наступавшей.
И вот теперь я спрашиваю себя: почему эти давние связи — мимолетные и, казалось бы, вовсе необязательные, ни на жизнь, ни на судьбу не влиявшие, со временем и даже после моего физического удаления от старой Москвы, странным образом стали набирать в моей памяти силу, смысл, и полноту значимости. Часто вспоминалось: где-то они, и как-то поживают? Да и живы ли? Вот та ветхая старушка, что всегда сидела на скамеечке во дворе под нашим окном на Большой Полянке? Как ее звали? Увы, и ее имени я не знала никогда. А ведь к ней на скамеечку подышать воздухом иногда в самые последние годы жизни, сложив рядом два костыля, подсаживалась моя мама. Прошло двадцать лет, как не стало мамы, как начались наши переезды с места на место, — столько воды утекло…
Казалось бы, что мне до этой старушки? Почему вот она живет, именно ж и в е т во мне? Почему ж и в е т Полянка? Да и многое другое, — зачем не просто помнится, а именно живет?
* * *
Однажды, двадцать лет спустя в нашем храме я вдруг увидела и узнала эту роста совсем уже детского и очень характерной внешности старушку… Мне часто встречался подобный тип в Москве: крайняя забитость от беспросветной жизни и побоев запойного сына или старика-мужа, о чем мог свидетельствовать и синяк под глазом, полнейшая нищета и вечно блуждающая, ехидная (по привычке к вечному вынужденному бытовому бабьему сопротивлению обидчикам, товаркам, и в общем, всем тяготам бедной жизни) и одновременно полублаженная улыбка на лице, а еще и бойкость, шустрость даже, — никакой там подавленности или угрюмости, какая-то природная живучесть всему вопреки, какой-то дальний отголосок старинного московского то ли скоморошества, то ли юродства…
Увидев ее в первый раз в нашем соборе, заволновалась: не та ли она, старенькая, со скамеечки в нашем дворе, что сидела всегда с мамой? Начала высчитывать, возможно ли, чтобы она была еще жива, и потом еще долго все к ней приглядывалась. Но ведь она мне всегда в храме так хорошо по-свойски, как давнишней знакомой, кивала, с готовностью и по-хозяйски пропускала приложиться к иконе, у которой она всегда стояла (хотя вовсе не ко всем была так благосклонна)…
Однажды я рискнула все-таки заговорить, угостила ее яблочком, и она мне опять хорошо так свойски улыбнулась, совсем как много лет назад, когда я пробегала по двору мимо нее, спеша по делам, а она провожала меня совсем такой же вот улыбкой. Возможно, она обо мне знала больше, чем я о ней, ведь они-то с мамой наверняка обо мне — единственной дочери — говорили… И будь она — она, то я ведь теперь могла бы услышать что-то о маме, любое живое слово, живое свидетельство, которому для меня теперь цены не было. И вот, наконец, я спросила у нее, жила ли она когда-нибудь на Большой Полянке. Взгляд ответный теперь метнулся ко мне вовсе без улыбки, но испытующий и даже какой-то строгий, не без грозных искр… «Нет и нет. Ничего подобного. Совсем другой район».
Странный был взгляд… Мистика: словно это была она, но «туда», мол, мне входа нет, и не будет никогда…
Осталось странное чувство, что все-таки я не ошиблась, и совсем, было, дотянулась рукой до прошлого, туда, куда запретен вход, — до мамы. Так было и тогда, почти через год после ее кончины, когда я совершенно непроизвольно, всегда и везде исступленно и неотступно просила Богородицу «дать свидание» нам: мама ушла, не простившись со мной. Меня в ту ночь не было рядом, я увезла из города от страшной жары свою маленькую дочку, а мама ехать с нами отказалась наотрез… Но я должна была вернуться к ней!
И вот однажды Великим Постом, после службы «12 Евангелий», где я огненно молилась о маме и о моем помиловании (а ведь была тогда уж совсем новоначальная), впервые почувствовав духом, что молитва моя услышана, возвратившись домой и заснув от усталости на стуле, я увидела свое вымоленное «свидание» с мамой у ног Великой, Величественной и строгой Жены… Мы с мамой были маленькие, на коленях, обнявшись у ног Той, на которую мы обе не смели поднять глаз… После этого свидания, последними словами которого были сказанные мне то ли мамой, то ли Самой Женой слова утешения, меня отпустило…
Ощущение запрета на грубое физическое вторжение в прошлое — отсюда — туда, внятное ощущение прикосновения к некоей тайне времени: жизни и смерти, этого мира и того, к тайне прошлого, являющего себя не тогда, когда мы того желаем и даже жаждем, но когда то угодно Богу, — все это было почти осязаемым, и вскоре, чуть ли не днями позже (здесь я отсчитываю время от разговора со старушкой, которое было уже почти через десять лет после кончины мамы) нашло себе неожиданное подтверждение…
* * *
…Было 2 июня — это запомнилось. Я возвращалась из Новоспасского монастыря с праздничной службы Вознесения Господня. В государстве этот день был, да и доныне остался будничным, и потому, возможно, с утра как-то меньше было городской сутолоки. Да и день выдался очень хороший: тихий, задумчивый… А потому из Новоспасского я пошла пешком, благо, что от Таганки до Землянки вовсе не далеко. Заглянула по дороге в маленький «Книжный», подумав, дай, что-нибудь хорошее куплю, да не заходя домой, почитаю где-нибудь во дворике — так хотелось продлить это время благодатного покоя и нерассеянной свободы для души, сохраняя то, что несла в себе из храма.
В крохотном «Книжном» посреди веерами разложенных книжных кошмаров, как ни странно сразу на глаза попался сборник воспоминаний о русских паломничествах во Святую Землю, — как он сюда попал? Да и год издания был давний, — чудеса…
Взяв книгу, свернула в какой-то старый двор с развешенным по-старинному на веревках бельем, со старыми тополями, еще живущими в вытоптанной московской земле без единой травинки, нашла истертую скамейку и уселась на нее среди старых кирпичных двухэтажных построек, какие еще при Императоре Александре III строил себе церковный причт, и разломив книгу наугад, начала читать…
И тут же, словно укол в сердце, вспыхнули и зажглись предо мною следующие строки:
«Самая мирная на земле дорога ведет на Елеонскую гору. Такие дороги лежали здесь во времена Христа — песчаные, со щебнем, с известковыми камнями, по которым трудно ходить… В Елеонском монастыре живут около 150 монахинь… Жизнь здесь трудная и бедная…Вода собирается в цистерны во время дождей и ценится на вес золота…поэтому здесь нет ни огородов, ни единого цветка. В покоях игуменьи, матери Мелании, пестрые половички, старомодная мебель в белых чехлах, фикусы. На стенах странно перемешались портреты архиереев и фотографии британских губернаторов Иерусалима… Игуменья вдова известного русского адмирала и племянница знаменитого математика… Здесь настоящий русский уголок…».
Ни мирского имени игумении, ни имени ее покойного мужа-адмирала, ни имени ее знаменитого дяди-математика автор этого текста почему-то не сообщал. Но текст меня поразил до оцепенения. Неужели?!!
…Был день Вознесения Господня. Монастырь на горе Елеон тоже был возведен в честь и на том священном месте Вознесения Господня, где остался отпечаток Его стопы. Нет, не может быть…
Строки, посвященные игумении Мелании, пульсировали: в мгновение ока уже было ясно, кто она — эта матушка игумения, и кто этот знаменитый московский математик — дядя игумении… Скорее открыла оглавление: что я читаю? Оказалось, что случайно мне открылся очерк Антонина Петровича Ладинского, — известного русского писателя-эмигранта, посвященный Елеону и Спасо-Вознесенскому Елеонскому женскому монастырю, который он в 1936 году посетил, отправившись на Святую Землю по поручению парижский газеты «Последние новости».
Пораженная тем, что книга случайно и сразу открылась именно на том месте, где речь шла, по всей вероятности о родном мне человеке, след которого нашей семьей был утерян, я, еще не имевшая никаких тому подтверждений, не пришедшая в себя от неожиданности, уже, тем не менее, каким-то шестым чувством знала, что эта игумения Мелания — моя «потерянная» бабушка — двоюродная сестра бабушки Кати, сестра Жоржа Мария Ивановна Жуковская, та самая Машурочка. Ученый-математик — мой прадед Николай Егорович Жуковский, а муж-адмирал — Дмитрий Всеволодович Ненюков, герой Порт-Артура, Георгиевский кавалер «за отличия в делах против неприятеля», проявивший подлинную стойкость, будучи сам израненным, заменивший убитого командующего 1-ой эскадрой адмирала Витгефта и его начальника штаба. За этого человека, кстати, хорошо знакомого Жоржу и к тому же дальнего родственника ее матери Машура и вышла замуж в 1906 году. Но после революции связь с ними оборвалась: никто в Москве уже не имел сведений о судьбе Машуры, которая пребывала вместе с мужем — адмиралом в это время в Крыму. Да и любое родственное сопряжение оставшихся в Москве Жуковских и Микулиных с Ненюковыми — а оставались стар да мал, — было чревато расстрелом. Шутка ли: один из командующих Белой армии…
Дальнейшая судьба Ненюковых складывалась так… После революции Дмитрий Всеволодович был начальником Одесского центра Добровольческой армии, начальником управления военно-морской базы, а в 1919 — командующим Черноморским флотом при генерале А.И. Деникине, а затем, когда из-за принципиальных разногласий они разошлись (адмирал Ненюков поддерживал П.Н. Врангеля) Дмитрий Всеволодович в 1920 году перешел в штаб к П.Н. Врангелю, который командовал в это время русской армией в Крыму.
Вернувшись в Севастополь, вице-адмирал Ненюков много потрудился для восстановления русского флота, заменял больного адмирала Саблина на посту главкома Черноморского флота, именно ему были обязаны русские моряки успешной организацией эвакуации 2–5 ноября 1920 года «Белого» флота из Крыма в Турцию. Сначала — в Турцию, где большинство моряков нашли свой последний приют в Галлиполи на русском воинском кладбище. Дмитрий Всеволодович с Машурой выжили, и потом жили в Сербо-Хорватском Королевстве, где и скончался Дмитрий Всеволодович Ненюков в июне 1929 года в Земуне.
Машура, разумеется, всегда была рядом и прошла через все круги русского ада вместе с мужем. Но всего этого никто в нашей семье не знал, кроме необычным образом в 1929 году полученной информации: Машура жива, и вместе с матерью Ольгой Гавриловной «постриглась у Гроба Господня». На этом все наши сведения о ее жизни исчерпывались. Много лет ничего не знала и я. А получено это сообщение было тоже не совсем обычным путем…
В 1929 году бабушка сопровождала выставку Русских икон в Австрии, Франции, Англии. Она хорошо говорила по-немецки, хуже по-английски, неплохо по-французски, в то время она уже слыла опытнейшим реставратором и искусствоведом. Вот в Вене на вокзале она случайно (!) — так же случайно, как и я, случайно открывшая случайно купленную в праздник Вознесения книгу, где речь шла о Вознесенском монастыре, встретила своего бывшего мужа — родного деда моего Ивана Домбровского, ставшего в то время уже известным американским художником Джоном Грехамом.
«Привет, Жука!» — бросил он ей весело, как ни в чем не бывало, в этой своей неподражаемо свободной манере. Они немного поговорили. Бабушке тогда было всего сорок три года. Слава Богу, она успела приодеться заграницей, у нее была серьезная миссия и ей, возможно, поэтому была чуть облегчена эта весьма волнительная встреча…
Вот тогда-то бабушка и узнала, что Машура и ее мать Ольга Гавриловна Новикова — обе «постриглись у Гроба Господня». Но больше ничего. Теперь же, когда у меня зародилось предположение о том, что игумения Мелания — это и есть Машура, мне оставалось только проверить мою догадку — ведь мирское имя и фамилию игумении Ладинский в своем очерке почему-то не сообщил.
Не без колебаний я решилась написать в Иерусалим в Спасо-Вознесенский Елеонский женский монастырь Русской Православной Церкви Заграницей и просить, если возможно, подтвердить или опровергнуть мои догадки…
* * *
Бабушка часто рассказывала мне о Машуре… В семейном архиве хранились ее фотографии и письма. И все же образ ее всегда скрывал какую-то тайну, что-то не договоренное, разговорам о ней всегда сопутствовали умолчания. На мои расспросы бабушка Катя отвечала уклончиво, сдержаны были и рассказы о жизни Машуры в России, а потому в моем восприятии образ двоюродной бабушки Марии Ивановны, конечно, занимал свое место, она жила в моей памяти, но как-то очень далеко, и не только территориально. Мне почему-то в детстве представлялось, что, она, не только покинув Россию, отдалилась от нас душевно. Да наверное, и раньше не была особенно близка к ореховским жителям. К сожалению, для такой детской настороженности имелись свои причины…
Это было связано с бабушками Катей и Верой. Я видела закат их жизни. Мне представлялся он таким печальным, а они — такими несправедливо забытыми и заброшенными, что как-то само собой в моем сознании обида моя за бабушек переносилось на всю оставшуюся далекую и немногочисленную родню. Я видела, как много и самоотверженно работала бабушка, как она любила свое дело — реставрацию, какая неустанная она была труженица. К ней приходило много людей за советом и поддержкой. Помню известных сотрудников Третьяковской галереи, бабушкиных учеников — ныне известных реставраторов, молодых писателей. Помню совсем еще молодого Владимира Солоухина, нашего ореховского земляка из ближнего к Орехову села Рождествена.
Бабушка всех принимала и всем безотказно помогала. Помню я, как она собирала свои справки для пенсии, и с какими трудностями и унижениями было это сопряжено. Они и сейчас все лежат передо мной, эти жалкие бумажки — из Новгорода, Пскова, Владимира, Киева, Грузии, Белоруссии, Крыма, Азербайджана — где только бабушка не работала, спасая бесценные фрески древних мастеров. А какая это была тяжелая работа… Холод, сырость, высоченные и шаткие леса, никаких удобств и часто совсем одна. И так из года в год.
А в это же время многочисленные ученики Николая Егоровича из более молодого поколения, в том числе и его родственники, достигшие подлинных высот в науке, высоких чинов и государственных наград (речь идет о 50-х годах ХХ века) те, кому он когда-то так много помогал, к кому был так добр и внимателен, всегда открыт и гостеприимен, теперь почти не вспоминали об оставшихся в семье их любимого учителя старушках, о тех, кто были дороги самому Жуковскому, кто был его семьей, его присными, кто служил престарелому ученому в самые трудные годы революции и гражданской войны.
Жили обе мои бабушки крайне трудно и скудно. Эту нищету скрыть не было никакой возможности, хотя и тень от нее никогда не отражалось на самочувствии и поведении бабушек. Такие люди как они, умели жить светло, бодро, достойно и в унижении, и в забвении. По случаю торжественных юбилеев и выхода новых изданий о великом ученом эти заметные люди непременно подчеркивали свою близость к Жуковскому, и свое родство, у кого оно было, хотя бы дальнее, но на жизни бабушек это никак не сказывалось.
Всех согревало великодушное сердце Жуковского, всем была от него постоянная, доброхотная, и морально вовсе необременительная (для получавшего) помощь, столь просто и тепло умел оказывать ее Жуковский. Почти в каждом своем письме Николай Егорович кому-нибудь да предлагал свою помощь и ею, конечно, пользовались, ибо она была всегда бескорыстна, безвозмездна и никогда не воспомянута, дабы не обременять совести получавшего. Да он и сам первый никогда не помнил о ней по заповеди Евангелия (Мф.6:3–4). А ведь состояния у Николая Егоровича не было никакого — только профессорское жалование, да небольшие гонорары за лекции и статьи.
Но в этом подражать Жуковскому никто не поспешил…
Стоило бы обо всем этом говорить, да думаю, и бабушки, никогда ни на кого не роптавшие и не обижавшиеся, меня бы не одобрили. Но их уже давно нет, а я рассказываю историю семьи и, увы, эту печальную страницу из нее вычеркнуть тоже нельзя. Почему? Да потому хотя бы, что очень поучительны эти контрасты поколений. Сияние личности Николая Егоровича и на его фоне рельефные силуэты людей, которые, став его достойными учениками и продолжателями в области математики и аэродинамики, не захотели или не смогли научиться от него самой главной науке — милосердию и подлинной любви к ближнему.
Вот почему раньше я думала, что и Машура нас тоже просто никогда не любила, что мы ей вообще не были интересны, что бабушка и ее семья была для нее людьми второго сорта. Хотя, разумеется, никогда и тени повода заподозрить такое никто не подавал…
Машура до революции жила в роскошной квартире в самом Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, у нее были высокие связи, соответствующие положению ее мужа: с начала войны Дмитрий Всеволодович был назначен начальником Военно-Морского управления Верховного Главнокомандующего. Некоторое время у Ненюковых в адмиралтействе жила и Верочка Подревская (с 1910 года она уже носила фамилию мужа — Константина Николаевича Подревского), бабушкина сестра, — к Машуре она была много ближе еще со времен ее любви к Жоржу. Верочка тоже не гнушалась светской жизни, была знакома и дружна со всей творческой элитой Серебряного века, и вообще отличалась энергией и деловитостью. А бабушка моя сидела, вернее, возилась с хозяйством в деревне, со своими двумя малышами, и с никогда не иссякавшим потоком людей, искавших ореховского приюта. Было уже смутное время — из западных губерний текли нескончаемые вереницы крестьян с детьми, скарбом и стадами, бежали от неприятеля насельники монастырей, какие-то совсем дальние знакомые семьи и их родственники…
А дед у меня был очень красив, породист, элегантен, необычайно обаятелен, светский изысканный лев, — не долго он побыл с семьей после рождения в 1913 году моего дяди. С самого начала войны осенью 1914 года укатил в Петербург на Николаевские Кавалерийские курсы — он стремился на фронт. Свободные от занятий и плаца часы проводил он все в том же приятном обществе в Адмиралтействе. Обе молодые дамы ему очень симпатизировали. Машура заботливо помогала ему обмундироваться перед выходом в полк. Верочка, как всегда строила глазки, кокетничала, где-то бывала с ним…
А бабушка Катя смогла выбраться из деревни, чтобы только проводить мужа в полк. Судя по тому, с какой глубоко скрытой обидой об этом рассказывал мне мой дядя Кирилл (он всегда и нежно, и восхищенно любил и чтил свою мать — мою бабушку), могу представить, как больно было тогда Кате. Все-таки сестры… Но мне она о том, разумеется, никогда ни словечка не проронила. Из других источников я позже узнавала ее жизнь…
Вот почему с памятью Машуры для меня всегда сопрягалось нечто холодное и немного чуждое. Конечно, это были всего лишь детские интуиции и обиды. Никогда-то и никому-то мы были не нужны: это был мой главный детский вывод из жизни. Возможно потому я так горячо любила ту эпоху истории семьи, где жили Анна Николаевна, предобрейший Егор Иванович, и самый чудный добрый и отзывчивый Николай Егорович, который, потеряв собственных детей, оплакивая любимую дочь и умирая сам, беспокоился о малышах племянницы Кати, писал ей: не тревожься, учи детей, мы поможем им. Этих детей — дядю и мою маму он считал своими…
И вот теперь, спустя столько лет, ко мне возвращалась Машура. Еще одна бабушка. И на это была не моя воля, не мои изыскания и поползновения — я ничего не предпринимала, чтобы узнать о ее судьбе побольше. Но Господь судил иначе…
* * *
Подтверждающий мои догадки ответ из Иерусалима я получила не скоро. Написан-то он был без задержки, но дошел до меня много месяцев спустя: какая-то чуждая сила на каждом шагу чинила препятствия.
И все же ответ из Иерусалима нас нашел. На прекрасном старинном русском языке в дореволюционной орфографии мне любезно отвечала монахиня Вероника (Рахеб). Оказалось, что она, арабская девочка из христианской семьи четырех лет была взята в монастырь, где воспитывалась теми, кто очень хорошо знал и помнил досточтимую мать Меланию, которая действительно была целых десять лет игуменией Спасо-Вознесенского Елеонского монастыря. Из письма и присланных материалов я узнала, что матушка была пострижена в монашество вскоре после кончины мужа-адмирала осенью 1929 года святейшим патриархом Сербским Варнавой, благословившем проходить ее свое монашеское послушание в Елеонской обители. А вскоре святейший патриарх, знавший матушку Меланию как мудрую инокиню с высокими душевными качествами, рекомендовал ее на пост игумении Спасо-Вознесенского Елеонского монастыря.
Игумению Меланию в 1934 году на Святой Земле ждали великие трудности… Обитель после разорения турками в начале двадцатых годов жила крайне бедно, терпя во всем недостаток, просто голодала. А тут еще и пришлось предпринять капитальный ремонт Вознесенского храма, сильно пострадавшего от землетрясения в 1927 году. Закончился ремонт лишь к 1941 году. Игумения Мелания возглавляла монастырь десять лет — до 1944 года, до самой своей кончины — ей было шестьдесят три года, здоровье у нее было слабое, больное сердце. Она так много претерпела и перенесла. А глубоко верующей она была с детства, еще, можно сказать, до рождения. Ведь ее мать, Ольга Гавриловна была предназначена по обету в невесты Христовы. От обета в миру старцы Ольгу тогда освободили. Но Господь обета взыскал. Монахиней стала Машура, а Жорж мученически погиб в бою — удвоенная, обильная жертва во спасение рода, предков была принесена. А потомков не было… Разве что не прямой — двоюродная внучка…
Мать Вероника прислала мне фотографию могилки игумении Мелании: ее похоронили вместе с матерью, Ольгой Гавриловной Жуковской, урожденной Новиковой, также принявшей вместе с дочерью постриг и даже схиму с именем Рафаила. Так они и упокоились под одним крестом: игумения Мелания и схимонахиня Рафаила.
В юбилейном альбоме, выпущенном Русской Православной Церковью Заграницей и посвященном Елеонскому Спасо-Вознесенскому женскому монастырю говорилось о том, как много успела матушка потрудиться для восстановления монастыря. Там была напечатана совсем нерезкая, видно, единственная сохранившаяся фотография игумении: аскетичное, сухое молитвенное лицо, опущенные глаза…
Не раз за время работы над этой книгой прошлое само тянуло ко мне руку, утешая и подкрепляя меня мыслью о том, что коли идет ко мне в руки такая помощь, значит, есть на этот труд воля Божия.
Многое в истории нашей семьи и рода стало оживать и светиться, словно древняя роспись на забеленной стене храма, проступающая сквозь мутную пелену неведения и забвения. Многими сведениями обогатился мой помянник; горячей любовью ко многим живым душам отозвалось мое сердце на приближение к ним. Все оказывалось важно, даже казалось бы, мелочи…
Почему в монашестве Машуре дали имя преподобной Мелании? Выбор имени при постриге всегда несет глубокий смысл, который не всегда и не всем — даже, порой, и тому, кто постригает, являет себя сразу, иногда он открывается позже, а то и только по отшествии монаха ко Господу. Еще раньше, не получив ответа-подтверждения из Иерусалима, я заглянула в святцы: имя Мелания в переводе значило… «черная». Но Машура была русоволосой, сероглазой — в мать, в Новиковых, не в Жуковских. Конечно, выбор имени при постриге мог означать прежде всего духовное сходство: ведь преподобная Мелания Римляныня (- 439 г. Память 31/13 января), в честь которой будущей Елеонской игумении при монашеском пострижении было дано имя, прославилась как основательница первых двух монашеских обителей на святой горе Елеон. Конечно, такое объяснение было бы несомненно правильным и подлинным. Но сама-то Мария Ивановна, конечно, не могла не помнить и такой трогательной детали из ее далекой прежней жизни, как домашнее прозвище дяди Коли — Николая Егоровича Жуковского. Несомненно, для нее в новом имени было сокрыто и нечто очень личное, теплое, о чем она вряд ли кому и не говорила, хотя очень хорошо знала по домашним преданиям, кто и как крестил ее маленькую в 1881 году…
На крестины дочки Ивана и Ольги тогда съехалась почти вся семья Жуковских, и, прежде всего — Николай Егорович, и Анна Николаевна — ведь это была ее первая внучка, провозвестница нового поколения, которого ждали, казалось, великие дела, на которое родители возлагали большие наследственные родовые надежды. Поколения, которому выпали одни великие потрясения…
Крестили Машу в Москве сразу после праздника Успения Божией Матери. Восприемниками были Анна Николаевна и Николай Егорович. Дочь Ивана Егоровича приняла святое крещение с именем Мария в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. И не случайно, что последние десять лет своей жизни Мария Ивановна Жуковская провела вблизи Гефсиманского монастыря в честь своей первой небесной покровительницы. В тех святых местах и совсем неподалеку нашла она и свое вечное упокоение.
После крестин в Новое село вернулись не только счастливые родители, но и бабушка Анна Николаевна. А вскоре появилась и Верочка (Вера Егоровна — прабабушка автора) — ее «выписали» из Орехова, чтобы помогать Ольге Гавриловне нянчить Машеньку. Вере Егоровне в то время было все лишь двадцать лет. Николай Егорович впервые должен был расстаться довольно надолго со своей любимой младшей сестрой, он скучал в своей опустевшей московской квартире и чуть ли не каждый день писал Верочке письма в Новое. Ведь с самых ее ранних отроческих лет «Черненький», — как с детства звала Верочка старшего брата, фактически заменил ей отца, поскольку Егор Иванович почти всю жизнь был вынужден служить на стороне управляющим. В своих письмах младшей сестрице «Черненький», которому было в то время 34 года, по привычке рассказывал сестре обо всех событиях московской жизни вплоть до мельчайших подробностей. Не забывал и маленькую новорожденную крестницу-племянницу:
«Милую Машу поцалуй и скажи ей от дяди Агу. Твой черный».
* * *
Для меня же возвращение Машуры значило много больше: в один прекрасный момент нашел мое сердце и ответ на самый частный, казалось бы, вопрос, который меня все-таки занимал: отчего Ладинский не упомянул в том очерке мирское имя и фамилию Елеонской игумении? Ведь положено было это сделать и рядом с упоминанием монашеского имени дать и фамилию в скобках. А он не дал.
И вот в один прекрасный Божий момент я прозрела: матушка игумения с а м а запретила ему это делать. Она знала, что в Москве живут сестры Вера и Катя, их брат Александр Микулин, что у Кати взрослые дети Мария и Кирилл, и она прекрасно понимала, что если будет опубликована ее фамилия, что все связанное с ее биографией ляжет тяжким камнем на последних родных ей москвичей, и камень этот придавит их — будет стоить им всем жизни. Несомненно, она обо всех помнила и думала, несомненно скучала по родине и близким, несомненно непрестанно молилась на Святой Земле обо всех ей бесконечно дорогих, оставшихся там, дома: о них скучало и болело ее изношенное сердце.
Она боялась за нас, — мгновенно поняла я. Она нас любила. Она была очень близкая и родная. И мы были ей нужны. Была живая связь любви и она вовсе не была прервана, — все это в единый миг исполнило мое сердце горячей ответной любовью. Ее душа подала моей весть об этой любви.
И со слезами, благодаря Бога, я повторяла вслед за Евой, матерью всех живущих вновь и вновь: «Приобрела я человека от Господа» (Быт.4:1).
Ведь что же еще может сравниться в жизни с таким даром?
На коллаже работы Екатерины Кожуховой — слева направо в верхнем ряду: Елеонская Чудотворная икона Пресвятой Богородицы Скоропослушница; игумения Мелания (Ненюкова); внизу: вице-адмирал Д.В.Ненюков (на фото — еще капитан 1 ранга); Москва — Китай-города, Иоанна-Предтеченский монастырь; Монастырь Спасо-Возесенский на горе Елеон (Святая Земля).
…Вера Александровна Жуковская (урожденная Микулина), сестра бабушки Кати, родилась в 1885 году, а через полтора года после нее появилась на свет и Катя. Разница возрастов между сестрами совсем не ощущалась. Но характерами, да и внешне они друг на друга походили мало. Впрочем, в духовном плане при разнице характеров и внешних устремлений век нанес раны обеим сестрам, и раны эти прошлись прямо по сердцу — и у той, и у другой.
Верочка лицом была в Жуковских: яркие темно-карие глаза и волосы, нежно удлиненный овал лица, всегда напоминавший мне своим непорочным абрисом то чудное яичко-личико губернаторской дочки, которое так потрясло заматерелого, но не до последней точки, плута Чичикова. Однако врожденная умильная складка рта на Верочкином личике, была весьма обманчива и отнюдь не свидетельствовала о наличии таковой умилительности в душевных глубинах этой красивой девушки. Нечто в ее внешности и характере понуждало вспомнить о прабабке ее — Глафире Кондратьевне Стечкиной с ее пристрастием к сильным ощущениям и резкими перепадами настроений. Да и внешне Верочка была схожа с прабабушкой, ушедшей из жизни в 33 года. Впрочем, что такое душа человека, как не причудливая игра бликов и облаков, отраженных в волнующихся водах в солнечный и ветреный день…
Катя, напротив, внешне была в Микулиных: глаза светлые пресветлые — в деда ее Александра Федоровича, а лицом — в бабушку-француженку Екатерину Осиповну — четкий, крепкий, даже крупный скульптурный контур черепа. Но при этом сердцем Катя была из Жуковских: доброта добрющая, незлобивость, всегдашняя готовность все прощать, любительница добрых мирных отношений, очень застенчивая, как Николай Егорович, и действительно не ищущая внимания мира и первых ролей.
Верочка ездила верхом в элегантной амазонке, разумеется, на прекрасном дамском седле, которое подарил ей отец, а Катя, взлетев на коня, скакала на нем по-мужски, да еще и в сатиновых шароварах.
Вера обожала общаться, вести дневники, описывать там свои состояния, что видела, где была, что сказала, как и на кого посмотрела и как на нее посмотрели… А Катя писать ненавидела: подвигнуть ее начертать несколько строк было очень трудно. Подруг близких никогда не имела. Но тех, кого судьба ей посылала, привечала. Правда в душу ей, вряд ли кому когда-либо удалось заглянуть.
Уже в пожилые годы, когда бабушка уже тяжело болела, в ее облике начал проступать удивительно мягкий, тихий и благостный лик, столь трогательно напоминавший ее собственную бабушку — Анну Николаевну Жуковскую и Николая Егоровича. Я чувствовала и узнавала в ее лице, движениях и голосе какие-то глубокие родовые черты и неуловимые повадки, сохранившиеся от предков из глубоких вод прошлого; это помогало мне представить и тех, совсем далеких, много живее, нежели только в порожденных рассказами образах, и я часто задавала себе вопрос, почему эти глубинные черты сходства начинают проступать с такой очевидностью именно к старости, да и то далеко не во всякой старости?
С трепетом созерцая это таинство проступания родового сквозь единое и преходящее, мне всегда приходил на память величавая поступь слога Писания: «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто семьдесят пять лет; и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный [жизнью], и приложился к народу своему» (Быт. 25:7–8).
Истаивали земные сроки, и люди, казалось бы, еще среди нас пребывающие, в то же время приближались к Ахерону, и незаметно для бденных уже заносили ногу свою в челнок седого перевозчика.
* * *
…Однажды в Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителя Филиппа Митрополита Московского на литургии, которую служили незабвенный Святейший Патриарх Алексий II и наш Духовник-архиерей (было мне в те годы дано такое неизгладимое из памяти счастие молиться за их удивительными службами), я в какой-то миг подумала, какая была бы радость получить уверение, пусть об очень далеком, но все же подлинном родстве Жуковских-Стечкиных с Колычевыми — родней святителя Филиппа, родстве, которое никогда не оспаривалось в наших семейных преданиях. Я стояла за народом, далеко от раки святителя, но мысленно поклонялась мощам великого заступника и печальника народа Божия, почивавшим с XVII века в юго-восточной углу собора.
Но литургия захватила, отошла и эта мысль… И вдруг я остро ощутила чье-то родное присутствие рядом: кого? — бабушки? — Николая Егоровича? — Во всяком случае, именно того, непередаваемого близкого, очень знакомого, остро и мгновенно узнанного всем моим существом родства, несмотря на пространство в пятьсот лет чудесно сохраненного и явленного в единстве единого существа рода…
Неужели кровное родство может с таким постоянством сохранять свои неизменно-личностные родовые черты, успела подумать я, в то же время не дерзая даже и надеяться, что в тот миг мне был подан ответ на мое вопрошание.
Одно только оставляло сердечную надежду: острота реальности и осязаемости явленного, а так же и то, что обратилась я тогда к святителю Филиппу в дни моей большой и неизбывной скорби, в такое время, когда святые часто приходят к нам на помощь укрепления нашего ради.
Николай Егорович — человек чести, безупречной правдивости и трезвенности духовной, никогда бы не позволивший себе игры воображения в таких вопросах, тем не менее всегда верил в родственную связь со святителем Филиппом как в научный факт. Анна Николаевна поминала самую близкую родню бояр Колычевых — родителей святителя, братьев, племянников и некоторых их потомков, — я уже, кажется, писала о том. У меня же вера в святое родство, которое хранилось всеми коленами рода как драгоценное семейное предание, никогда не вызывало сомнения, прежде всего потому, что я видела зримое подтверждение тому в сходстве инженерной гениальности святителя Филиппа и прадеда моего Николая Егоровича Жуковского.
В научном наследии Николая Егоровича поражает его всеохватность. Во всех областях механики положил он гениальные основания для дальнейших исследований, создал школы, научные направления, «впервые после Галилея объяв своим гигантским умом механику во всей полноте ее совокупности». В особенности замечательны были работы Жуковского в области гидродинамики. На основании установленного им «постулата Жуковского» родилась новая наука аэродинамика, которую по праву называют «русской наукой».
Великий механик-ученый давал ответы даже на самые, казалось бы, малые, прикладные инженерные вопросы, которые он решал на самом высоком теоретическом и практическом уровне, приводя в восторг гениальностью своих решений весь научный мир. В его исследованиях чередовались гидравлический таран с ветряным колесом, прядильное веретено с механизмом для так называемых «плоских рассевов», применяемое в мукомольном деле; за гибкой осью в паровой турбине Лаваля следовал сцепной тяговый аппарат для железнодорожных вагонов. И движение газов, выходящих из дымовой трубы, и движение струй воды в песках — все одинаково привлекало пытливый ум Жуковского. Ему пришлось заниматься и проблемами Московского водопровода и систематически лопавшихся магистральных труб. В 1897–1899 гг. при Алексеевской водокачке была сооружена большая опытная сеть водопроводных труб разного диаметра. В итоге Жуковский нашел блестящее разрешение поставленной задачи. Это — малая толика тем и проблем инженерного плана, от решения которых Жуковский никогда не уклонялся: будь то хозяйственные или военные нужды.
…Восемнадцать лет жизни своей отдал Соловкам игумен Филипп (Колычев). Приняв монастырь в большом расстройстве, игумен Филипп начал строительство с сооружения каменной церкви Успения и уже тут показывал свой удивительный инженерно-конструкторский талант, разместив в помещениях первого яруса собора топочную камеру оригинальной системы отопления. Теплый воздух по внутристенным каналам поступал в помещения второго яруса.
Вскоре начали возводить и Преображенский собор. Основание его в 170 квадратных саженей лежит на кладовых и погребах, а своды подпираются двумя огромными столбами. Все эти постройки, возведенные по чертежам игумена были соединены по принципу большого крестьянского двора высокими галереями, позволяющими обитателям монастыря переходить из здания в здание, не выходя на мороз и в ненастье.
Решая небывало трудные — и не только для своего времени, технические задачи игумен-самородок и технологии использовал подлинно новаторские. Трапезная палата Успенского собора была самой обширной единостолпной палатой своего времени: своды, опирающиеся на мощный центральный столп, перекрывали пространство площадью около 500 кв.м. Преображенский собор был поставлен на перешейке, отделявшем высокое по уровню воды Святое озеро от более низкого Залива Благополучия. Настоятель Филипп соединил Святое озеро каналами с другими семьюдесятью двумя озерами, значительно подняв его уровень. За счет этого он соорудил так называемые «Филипповы мельницы» — поистине замечательнейшее свое изобретение.
Вот как писал об этом Дмитрий Сергеевич Лихачев, не один год проведший в заключении в СЛОНе — Соловецком лагере особого назначения, и хорошо изучивший строительное чудо Соловков:
«Монастырь построен на плотине — частично насыпной из песка, частично каменной. Это позволило в XVI в. сильно поднять уровень Святого озера и воспользоваться водой озера для различных технических целей: вода промывала канализацию, бежала по водопроводам, двигала различные механизмы на портомойне, в хлебопекарне и т. д. Строители монастырских сооружений учитывали зыбкость насыпного грунта и делали широкие основания для стен соборов, создававшие своеобразие соловецких зданий, покатость стен, становившихся более тонкими кверху. Наклон в сторону моря всего монастырского комплекса особенно заметен на площади у Преображенского собора… Одним словом, весь монастырь построен как гигантское гидротехническое сооружение, при этом «многофункциональное».
Для разных монастырских работ игумен Филипп изобрел невиданные дотоле машины: «До Филиппа игумена, квас парили, ино сливали вся братия, а при Филиппе парят квас старец да пять человек, а сливают те же. А братия уже не сливает. А тот квас сам сольется со всех чанов, ино трубою пойдет в монастырь, да и в погреб сам льется, да и по бочкам разойдется сам по всем. До Филиппа игумена на сушило рожь носили многие братия, а Филипп снарядил телегу: сама насыпается, да и привезетца, да и сама высыплет рожь на сушило. До Филиппа игумена подсевали рожь братия многия, а Филипп игумен доспел севальню — десятью решеты один старец сеет. Да при Филиппе доспели решето: само сеет и насыпает и отруби и муку разводит розно, да и крупу само же сеет и насыпает и развозит розно — крупу и высейки. Да до Филиппа братия многие носили рожь на гумно веяти, а Филипп нарядил ветр мехами в мельнице веять рожь», — повествует древний «Соловецкий летописец».
Редкостный конструкторский гений, которым одарил Господь святителя Филиппа помимо великих даров духовных и святости, через столетия сказался в его далеком потомке, да и не в нем одном: замечательным изобретателем был академик Александр Александрович Микулин — племянник Николая Егоровича, конструктор авиационных двигателей, Борис Сергеевич Стечкин — двоюродный брат Николая Егоровича, выдающийся ученый в области гидродинамики и теплотехники, создатель теории теплового расчета авиационных и воздушно-ракетных двигателей; знаменитый конструктор-оружейник академик Игорь Яковлевич Стечкин. С таким даром в этой линии рода рождались почти все мальчики, сыздетства начинавшие преобразовывать и совершенствовать окружающий мир.
Меня же поразило тогда по неизреченной милости Господа это явленное мне особенное и неповторимое начало, объединяющее род, неисчезаемость и неистощимость наследственности. Воистину род не только можно, но и дОлжно было бы воспринимать как некое самостоятельное целое, как некую уникальную личность. А временнЫе дали и пространства воспринимать в ряду преходящих эфемерных земных понятий, потому что не дано времени разрывать нешвенный хитон жизни, сотканный Творцом…
* * *
Казалось бы, некстати незванным гостем напросились эти воспоминания о святом Митрополите Филиппе в мой рассказ о молодости и испытаниях, выпавших на долю двух сестер: Верочки и Кати в предреволюционные и последующие годы. Однако увиделись мне в этих сокрытых от нас таинственных глубинах жизни и нечто очень утешительное для всех нас и свидетельствующее о близости Божией к человеку, об Отеческой заботе Творца о Своем мятежном и маловерном творении, которая даже наши ошибки и падения, даже и самое зло человеческое, которое совершается не без попущения Божия, претворяет в добро, иногда обнаруживающее себя в немалых пространствах судеб человеческих…
…Верочка всегда мнила себя неотразимой и, возможно, отчасти даже неземной пришелицей в этом грубом мире, и везде обставляла себя цветами. Ей так хотелось в это верить, хотя это не было правдой и не соответствовало ее природе. Однако все наперебой усердствовали ей в том услужить: ее комната, благоухавшая множеством цветов, всегда напоминала то ли будуар знаменитой актрисы, то ли цветочную лавку. Этот образ утонченной и загадочной пери довольно долго в е л ее жизнь и настолько даже сросся с нею, что, потом со временем и в совсем иных обстоятельствах его надо было бы отдирать от себя с кровью, потому что довести такую роль до конца очень непростой жизни Веры было делом в тех обстоятельствах неподъемным.
Кате ненавистна была любая рисовка: какая есть, такая и есть. Кокетничать не умела и не любила по причине сильнейшего отвращения к этому занятию. И если ее мужу Ивану Домбровскому или Джону, как она называла его во время их недолгого брака, сестрица Верочка очень даже любила строить глазки, или как это у Микулиных называлось, «делать большие глаза», а так же внезапно распускать свои великолепные волосы, рассыпаться «особенным» смехом, то Катя ничего подобного никогда бы себе не позволила в отношении Константина Подревского — Верочкина мужа, тогда — студента-юриста «сочинителя песенок», человека скорее богемного склада и, возможно, несколько легковесного, хотя и, несомненно, талантливого. Между прочим, Константин Подревский был автором знаменитого романса «Дорогой длинною», и других весьма известных опусов из репертуара звезд эстрады не только тех времен.
Верочка не забыла свою любовь к Жоржу, но теперь она сильно привязалась к
«Сянтику», как она звала Константина: теперь он стал самым дорогим для нее существом.
Познакомились они в 1909 году. На святках устраивались живые картины для благотворительного вечера в пользу бедных студентов в Народном доме. Сюжетом был выбран момент работы Леонардо над своей знаменитым портретом Джоконды. Мону Лизу изображала киевская красавица Гулька Миклашевская (никто не знал ее полного имени), которая наотрез отказалась загримировать свои брови — хотя, как известно, Мона Лиза у Леонардо безброва. Не хватало только молодого красавца-лютниста, который должен был развлекать своей игрой прекрасную даму. Верочка отправилась в университет искать подходящего красавца, и, разумеется, быстро нашла: для нее это труда не составляло. Этим красавцем оказался Константин Николаевич Подревский.
28 мая (ст. ст.) 1910 года они обвенчалась. Невеста была убрана по ее настоятельному желанию живым яблочным цветом вместо восковых померанцевых цветов, принятых в венчальном уборе. Молодые поселились с родителями в Киеве, лето после университетских экзаменов провели в Орехове, а в августе отправились сначала в Астрахань, где жили родители Кости (его отец имел свою гимназию), а затем в Железноводск. Осенью Константин выписал к себе в Киев студента брата Мишу. И все вместе зажили… у Микулиных.
Родители Веры с ее выбором смирились: радовались, что она, наконец, повеселела. А так, конечно, брак был не очень-то обнадеживавшим: студент-юрист, поляк, хотя и православный.
В конечном счете, это супружество не принесло счастья… Константин еще год должен был учиться в Киевском Университете. Состояния не имел. Несколько лет молодые продержались вместе с родителями в Киеве, а когда Александра Александровича Микулина перевели в Нижний Новгород, перед Подревскими встала проблема жизнеобеспечения. Сохранились письма, где Верочкин отец предпинимает одну за другой попытки устроить незадачливого супруга дочери хоть на какую-то службу, но удержаться на месте для Константина Николаевича оказывалось очень трудным. Он был совершенно неприспособлен к усердному труду. Да и отец пока высылал ему средства. А тут и война, призыв…
Константин настойчиво пытался, уже будучи женатым, «подъезжать» и к Кате, — это было в эпоху совместной жизни всех в Киеве. Катя на это реагировала мучительно и мечтала только о том, как бы скорее вырваться из дома. В каком-то отношении эти домогательства Константина и его брата Миши даже подтолкнули Катю к скороспелому решению о браке с Иваном Домбровским. Только бы вырваться…
Шла зима 1910–1911 года. Катю, наконец, родители отпустили в Москву к дяде Коле и бабушке, чтобы она могла там начать серьезно заниматься в Училище живописи, ваяния и зодчества, с условием, что письма писать будет через день, а лето проведет в Орехове. А Верочка, освоившись в новой роли молодой супруги, вернулась опять к своим литературным опытам…
Трудной и даже мучительной была большая часть жизни бабушки Кати, и видно, безропотно, добродетельно и во спасение души своей пронесла она и исполнила ниспосылаемые ей Господом эти многогорькие обстоятельства, коли Господь даровал ей столь светлое лицо в конце ее земного пути. Такой и только такой я знала ее во время моего младенчества, такой любила ее, и иною не мыслила даже! А то, что позже узнавалось по ее рассказам, по фотографиям, а затем и по моим поздним догадкам, находкам и размышлениям, — это отнюдь не могло поколебать моей любви и благоговения перед образом бабушки.
Бабушка терпела и смиренно исполняла путь своей жизни. Я хотела бы верить в то, что после охлаждения в вере во времена ее молодости, она все-таки потом примирилась с Богом. В этом меня многое обнадеживает: и сорок лет ее подвижнической реставрационной работы (хотя среди реставраторов всегда было и есть немало холодных атеистов — такова скорбь русской болезни, дошедшей до того, что к святым образам, к дивным ликам наших сокровищ прикасаются чужие, нелюбящие руки, древние росписи в алтарях наших церквей реставрируют неверующие дамы в брюках — хотя женщине в алтарь вход воспрещен), и те несравненные чудотворные древние иконы, которые она возвращала к жизни…
Я смотрю на икону Николы Липенского Новгородского, — а это была первая драгоценная икона, которую бабушке доверили мастера самостоятельно расчищать и поновлять, и мне светится в ней и ее любовь, ее душа, ее вера. Я слышу присутствие в иконе, которую работал в XIII веке замечательный древний иконописец Алекса Петров, и ее, бабушки духовный вклад.
Без этой любви никогда бы не достичь ей того совершенства — и не только в технике: она рукой своего врачевания иконы шла согласно с рукой древнего, несомненно, глубоко верующего и молитвенного иконописца. И мне кажется, сердца их бились в такт.
Бабушку окружали на редкость верующие люди в ее реставрационных командировках. Придя в самом начале в 1913 года к иконе как к чуду эстетики (об этом будет рассказ позже), она постигла духовную тайну иконы, сокрытую в тайне Первообраза, к которому всегда увлекает душу молящегося подлинная святая икона.
Она познала отблески того мира, откуда пришла к нам эта единственная и несравненная ни с чем в мире красота. За годы своего невероятно тяжелого труда бабушка послужила памяти многих святых, а тот мир в отличие от нашего никогда не грешит неблагодарностью…
Вглядываясь в духовно трудные годы бабушкиной молодости в ее путь издалека и с любовью, в ее охлаждение к вере отцов, — а это, увы, было (хотя насколько глубоко были затронуты сокровенные слои ее души, я не могу судить), мне, как это не парадоксально, открывается здесь и нечто утешительное…
* * *
Еще со времен Гердера и первых немецких романтиков, которых у нас в России прекрасно знали и любили (многие дворяне предпочитали получить в Германии образование), молодость как возрастную метафизическую реалию нередко сравнивали с эпохой «Бури и натиска», как с чем-то именно молодости родственной. Блок писал о юности как о возмездии, и был, несомненно, прав не только поэтически, но даже и с точки зрения христианской антропологии. Именно молодость с ее «бурей и натиском», с ее нередкими уклонениями и падениями, с ее уходами и возвращениями блудных сыновей всегда таит в себе и некий обнадеживающий спасительный залог смиренных возвращений, глубоких раскаяний и примирений, выстраданных и купленных дорогой ценой.
Этим залогом была мысль о земной жизни, как о времени преодоления не только разрушительных натисков молодости, ее нарочитых противостояний прошлому только за то, что оно прошлое, но и отречений души не только от своего безобразия, но и от познанной, в конце концов, своей собственной дурной наследственности, которая и рядом с благими дарами, увы, вполне удобно и с избытком в нас часто соседствует, — преодоления всего, что мешает нам «забывая заднее и простираясь вперед», — стремиться к Богу, «к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13–14), — к главной цели нашей жизни, которая не здесь на земле сокрыта, но там, — в Вечности. И что преодоление всего этого возможно и реально, благодаря тому, что Отец Небесный ниспосылает каждому в жизни спасительные для него, хотя и может быть, предельно непростые обстоятельства, а послушным, не ропотникам и терпеливцам дарует и Свою благодатную Божественную помощь.
И прошлое, и все эти «бури и натиски» молодости, память о своих ошибках и падениях, сознание своей негожести и виновности перед Богом и людьми, излучают в человеке спасительный дух смирения. Таковые становятся много послушнее, попадая в руки духовных отцов, они милостивее к согрешающим братьям, они более защищены от фарисейства — а все это вместе открывает душу грешника, вставшего на путь спасения для приема Божественной Благодати. «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешные спасти, от них же первый (или первая) есмь аз…» — повторяем мы вслед за священником эти молитвенные слова апостола Павла перед Причастием Святых Даров, вспоминая и Савла — ярого гонителя христиан, которым апостол пребывал до момента призвания его Господом, и апостола Петра, отрекшегося от Спасителя в ту страшную ночь перед Распятием Христа и согласно преданию, всю жизнь на рассвете при крике петуха вспоминавшего свое малодушное отречение и горько плакавшего. Самому горячему, огненно любившему Христа, в Духе Святе исповедавшему в Нем Сына Божия, падшему и восставшему апостолу Петру Господь поручает пасти овец Его…
Искушения — это вожжи для человеческого высокомерия, — учат богодухновенные старцы Афона, — и посылаются они промыслительно. И потому некая успокоенность относительно своего состояния, чувство своей якобы добродетельности много опаснее для человека, — непростые испытания ожидают подобных «добродетельных», но часто жестоких людей (хотя они сами этого могут и не признавать), потому что без великих страданий не может умягчиться их сердце, и потому главное — что Христово Евангелие принесло в мир новое в отличие от Ветхозаветных добродетелей понятие о святости человека — понятие осмирении.
И потому — не права ли была Верочка, рассказ о жизни и делах которой мы совсем, казалось бы, упустили из виду, высказавшая в своем очерке 1916 года «Живые боги людей Божьих» (не опубликован, рукопись хранится в РГБ) на первый взгляд, очень похожую мысль: «Я думаю, что добродетельная жизнь с начала и до конца скорее может убить дух, чем порочная». При этом она сама тут же подчеркнула нетрадиционность своего суждения: «Я придерживаюсь на этот счет совсем особых воззрений». Кстати, исследователи, которые обращались к этой рукописи Веры Александровны, почему-то цитировали эту непростую по смыслу фразу с пропуском нескольких слов, а именно: «с начала и до конца», и в результате получалось грубое искажение мысли Веры. А мысль, хоть и слишком лаконично выраженная и не развернутая, рассчитанная на понимающих, — вполне соответствовала учению Церкви о пользе искушений, о чем было немного сказано выше, правда не в тех случаях, когда человек сознательно намеревается своими падениями искушать Бога, сознательно и цинично "идет на грех", — здесь он уже погрешает на Духа Святаго, и именно с этой точки и начинался отход от Православия хлыстов, которых и вознамерилась изучать Вера еще в бытность свою в Киеве.
* * *
Вера, разумеется, понимала, что речь идет об уклонениях от учения Церкви, но успокаивала себя той мыслью, что интерес ее — чисто литературный, этнографический, сектоведческий. Но она была человеком увлекающимся, не холодным аналитиком, а очень эмоциональным, живым, тонко воспринимающим очеркистом-бытописателем; талант у нее был несомненный: блестящая память, острый глаз-алмаз, живой и сильный слог…
Родные на эти новые занятия Веры смотрели сквозь пальцы: она ведь всегда немного чудила. И к этому все давно привыкли. Считалось, что Верочка могла позволить себе быть оригинальной и независимой, хотя все-таки у Александра Александровича Микулина — отца Веры, — чувствовалась некая настороженность в отношении ее исследовательских интересов и связанного с ними образа жизни.
"Что касается твоего большого письма о высших материях, то это относится к отделу праздных разговоров и я не могу согласиться что может доставить удовольствие и быть необходимым поговорить о высоких стремлениях, но в жизни действовать наоборот, не находя даже в своих действиях ничего, что было бы против своих же мыслей и находя полное оправдание всем своим поступкам, идущим зачастую вразрез со словами", — писал отец Верочке 26 сентября 1916 года.
Зная душевный склад и настрой тех лет Александра Александровича Микулина, я не могу не слышать в тех письмах его Вере некоторой напряженности и боли. Однако тем не менее, отец старался ей во всем помочь: покупал и посылал нужные для ее занятий книги, читал и обсуждал с нею ее рукописи, поддерживал Веру в литературных занятиях…
«14 Апр.1917. Нижний.
Милая Верочка, <…> сегодня получил № 3 «Голоса минувшего» — вся книжка «Святой чёрт» Иллиодора, с предисловием Мельгунова, — почитай. Тебе это полезно… Попадался ли тебе на глаза № «Русских ведомостей» из которых я вырезал это объявление. Посылаю на случай — отдай туда своих «Белых Голубей» (из жизни хлыстов). Как Шурин мотор?
Целую тебя — А.Микулин».
Еще в Киеве, вскоре после гимназического выпуска Вера, случайно услышав о неких сектантских собраниях "божиих людей", как они себя называли, — а это были хлысты, — решила тайком бывать на этих собраниях, чтобы посмотреть, что же это такое… Там она впервые услышала нечто нелицеприятное о Григории Ефимовиче Распутине, как о неудавшемся хлысте, увидела этот особенный нестерпимо-переливчатый блеск хлыстовских глаз, почувствовала их магнетизм и решила заняться исследованием этой тайны всерьез. Именно воздействие на людей этого тайного магнетизма больше всего интересовало ее как исследователя. А Верочка была человеком, как мы уже говорили, очень целеустремленным — она умела добиваться того, чего захочет…
Вероятно, и веяния тех сумрачных лет, и мода, или, как возможно, сказал бы в этом случае опытный духовник, — тщеславное желание не отстать от бега времени, повлияли на ее выбор в качестве предмета своих литературных опытов тематики нетрадиционной и одновременно пользующейся усиленным вниманием самых ярких и модных лиц в среде творческой интеллигенции. Иначе как бы ей удалось и войти в литературу и выделиться? Этого-то Верочке несомненно и хотелось, она чувствовала в себе непочатые творческие силы и горячее желание заниматься литературой. А мистический строй души — это ей досталось даром: миновав Катеньку, все мистически-экзальтированные особенности душевного строя прабабушки Глафиры Кондратьевны Стечкиной, той, что грозы любила встречать на плутневском балконе, перешли к одной Верочке. Не потому ли бабушка, когда мне было года четыре, так настороженно разглядывала линии моей ладошки и, качая головой, вопрошала: не в мистическую ли плоскость уходит твой ум?..
Тем временем смрадное дыхание хлыстовства и шире — «неохристианства» уже давно носилось в воздухе в кругах Петербургских властителей дум…
* * *
…Был у Александра Блока преданный друг Евгений Павлович Иванов, человек, считавший себя учеником Мережковского и Розанова, и потому, вслед за ними ступивший на роковые стези «неохристианства». Однажды Евгений Павлович сообщил в письме Блоку, о некоем собрании, где собираются «Богу послужить, порадеть, каждый по пониманию своему, но «вкупе»; тут надежда получить то религиозное искомое в совокупном собрании, чего не могут получить в одиночном пребывании. Собраться решено в полуночи … и производить ритмические движения, для… возбуждения религиозного состояния. Ритмические движения, танцы, кружение, наконец, особого рода мистические символические телорасположения».
На том собрании присутствовали Вячеслав Иванов, Бердяев, Ремизов, Венгеров, Минский с женами, Розанов с падчерицей, Мария Добролюбова, Сологуб… Гости сидели на полу, погасив огни. «Потом стали кружиться», — сообщал Е. Иванов, подчеркивая ключевое слово. «Вышел в общем котильон». Потом Вячеслав Иванов («только благодаря ему все могло удержаться») поставил посреди комнаты «жертву», добровольно вызвавшегося на эту роль музыканта С.: «блондина-еврея, красивого, некрещеного». Он был «сораспят», что заключалось «в символическом пригвождении рук, ног». После имитации крестных мук «(Вячеслав) Иванов с женой разрезали ему жилу под ладонью у пульса, и кровь в чашу…». Кровь музыканта смешали с вином и выпили, обнося чашу по кругу; закончилось все «братским целованием».
Такие собрания, сообщал Е. Иванов, «будут повторяться»…
О подобных экспериментах и Михаил Пришвин свидетельствовал в набросках к неоконченной повести: «Это был вихрь и готовность на всякие опыты (Ремизов, Блок, Кузмин). Собрались для мистерии. На всякий случай надели рубашки мягкие. Сели — на квартире Минского; ничего не вышло. Поужинали, выпили вина и стали причащаться кровью одной еврейки. Розанов перекрестился и выпил. Уговаривал ее раздеться и посадить под стол, а сам предлагал раздеться и быть на столе. Причащаясь, крестился. Конечно, каждый про себя нес в собрание свой смешок (писательский) и этим для будущего гарантировал себя от насмешек: «сделаю, попробую, а потом забуду».
Пышным цветом распускалось на Руси в 1905–1907 и последующие предреволюционные годы это «неохристианство». Страшный соблазн — обновлять христианство, подстраивать его под сиюминутную жизнь, под испорченные вкусы испорченных людей, Вечность под время, Божие под изувеченное грехом человеческое… Эта была адская бездна, буквально засасывавшая в себя легкомысленные души.
Дивное чудо человек — творение Божие, принадлежащее сразу двум мирам — земле и Небу, вещественности (ибо из праха земного сотворен человек) и духу (благодаря вдуновению Божию во уста сотворенного из праха земного Адама), и не во взаимодействии ли этих двух «составов» в тех или иных соотношениях пребывающих в человеке, сокрыт ключ к ответу на вопрос, который апостол Павел задавал ученикам: «Себе искушайте, аще есть в вере, себе искушайте. Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть? Разве точию неискусни есте» (2 Кор. 13:5). Но что значит, «неискусни»?
Неискусни, толковал эти строки святитель Феофан Затворник Вышенский, — значит, не выдерживаете пробы: «кто или в вере храмлет, или в жизни по вере слаб и скуден». Но что значит «в жизни по вере слаб и скуден»? А на этот вопрос отвечал Сам Господь, предостерегая христиан о одной самых разрушительных опасностей — надежде прожить жизнь в промежуточном духовном состоянии, в той самой «теплости», о которой говорит Ангелу Лаодикийской церкви Аминь: «Знаю твои дела; ты не холоден, ни горяч: о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тёпл, то извергну тебя из уст Моих» (Отк. 3:15–16).
Но чем опасна эта «тёплость»? В дерзкой самостийности человека по отношению к Богу, в которой он сам себе облегчает постулаты веры, приспособливает «под себя» и свою мирскую испорченность Божественные Заповеди.
Эта половинчатость, нерешительность, вечные сомнения, эта духовная «промежуточность», «недогруженность», межеумочность человека всегда вели к уклонениям с заповеданного Господом узкого пути. А другие пути вели в бездну — «на страну далече» (Лк. 15:13), к удалению от Христа. Потому что не в пустоте пребывают души «теплых», а в вольном «перебираний верований», в самовольных фантазиях и исканиях легких путей… к святости и радости, минуя Голгофу и Крест, в попытках подправлять заповеданный Евангелием и святыми отцами путь, само вероучение Матери-Церкви…
«Кто не со Мною, тот против Меня; — предостерегает Христос, — и кто не собирает со Мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; и, придя, находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, — и бывает для человека того последнее хуже первого» (Лк. 11:23–26).
Не хотели «собирать со Христом», что для христиан есть жизнь в постоянном, до гробовой доски высоком духовном напряжении, в покаянном и сокрушенном духе, в жесточайшей строгости к самому себе, со Христом и со Крестом, но хотели жить и веровать по-своему, вольготно и к р а с и в о, пребывая в духовном сластолюбии, услаждаясь эстетической стороной христианства (да христианства ли уже?!), забывая о том, к а к обретается каждая капля этой исполненной в жизни этики, что путь к ней лежит исключительно через Крест…
Не хотели искать послушания Богу, хотели жить по своей зараженной грехом и недомыслием волюшке, «творить», выдумывать и чудить, плодить кумиров, к тому же Церковью не благословленных, и вот все эти язвы всеохватно поразили русское общество накануне революционной катастрофы. Большинство при этом было уверено, что здорОво, а потому и пребывали в «пагубной самоуспокоенности», забыв и эти, и другие Божии и апостольские предостережения: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1Кор. 10:12)…
* * *
В то самое время и нашла Вера протекцию к известному сектоведу и народнику, несомненному атеисту Александру Степановичу Пругавину. Исследователи и публикаторы воспоминаний о встречах Веры Александровны с Г.Распутиным, написанных ею и опубликованных в 1924 году, ошибочно называют Пругавина (а именно он ввел ее к Г. Распутину) то родственником (никакое даже дальнее родство с Пругавиным тут места не имело и иметь не могло), то указывают на Николая Егоровича Жуковского — Вериного дядю, который, якобы, дал ей рекомендацию к Пругавину. Ошибка на ошибке… Никакой не Николай Егорович, а директор Пушкинского дома Нестор Александрович Котляревский пришел на помощь Верочке — ведь он был братом Ольги — супруги Иосифа Александровича Микулина — родного брата отца Веры — то есть приходился ей дядей. Он хорошо знал Пругавина и написал ему записку, с которой Вера и отправилась на беседу…
Вообще надо сказать, что Вере Александровне не везло с историками, а они-то спустя чуть ли не столетие налетели на нее, когда со всей очевидностью стал вопрос о канонизации Царской семьи, расстрелянной большевиками в 1918 году в подвале Ипатьевского дома. Вопрос о церковной канонизации, естественно повлек за собой рассмотрение многих обстоятельств и лиц, приближенных к Венценосной семье. Первым камнем преткновения стал Г. Распутин. Вокруг этой загадочной фигуры в 2000 году разгорелась нешуточная политическая борьба (не ослабла она и сейчас). В один миг Григорий Распутин вновь стал одной из самых «публичных» фигур: для одних он олицетворял и православность, и святость и народность, и патриотический настрой Императора и Императрицы. Для других — ничуть не менее чтивших Царя-мученика, Распутин стал олицетворением всего того, что привело Царскую семью к гибели. Рассматривать же инсинуации врагов династии мне здесь вовсе не хотелось бы…
В это время историки извлекли из архивов нелицеприятные и мастерски сделанные воспоминания об общении и встречах с Г.Распутиным Веры Александровны Жуковской, которая в течение трех лет 1914–1916 — постоянно и достаточно регулярно навещала Григория Ефимовича и при этом аккуратнейшим образом записывала ежедневно все, что видела и слышала, а делать это она умела превосходно еще с самых юных лет (у меня хранятся ее дневники). На сей раз, Вера, опираясь на богатые возможности своей поистине писательской памяти, стала хроникером трех лет жизни Г.Распутина.
Вот тут, спустя почти полвека после кончины в 1956 году, Вериной давно усопшей душеньке не стало покоя… Воспоминания ее, представлявшие собой хроникальные и достаточно непредвзятые записи о «трудах и днях» «старца», все-таки полагали некоторое основание считать его тайным хлыстом, или хотя бы человеком, хорошо знавшим тайны хлыстовской магии и учения. Проблема эта исследовалась усиленно и в начале XX века, исследуется и по сей день, но к единому мнению ни тогда, ни сейчас исследователям придти не удалось: ни тем, кто дважды по поручению Царя занимался следствием по этому вопросу, не Чрезвычайному Следственному Комитету Временного Правительства в 1917 году. Всегда находили тайные и мощные силы, которые вторгались в процесс и успешно свертывали разбирательства.
Так и в наше время. В начавшихся в самом конце XX века спорах и дискуссиях, образовалось две партии непримиримых противников. Костью в горле для защитников Распутина, мечтавших к тому же о его канонизации, стали воспоминания Веры Жуковской.
Больно мне было читать самые разные, в том числе и мерзкие наветы на нее. Мол, она и не бывала никогда у Распутина, что ее посещений не зафиксировала Охранка, которая неусыпно вела наблюдение за домом Распутина. Что она… не является автором своих воспоминаний о Распутине, опубликованных в 1924 году, что написал их или сам Пругавин, или В. Бонч-Бруевич — известнейший сектовед, а не только крупный большевик, или еще кто-то…
Авторство Веры и ее самое всячески пытались очернить и дискредитировать… Кто-то пытался и проводить сравнительный анализ текстов ее опубликованных в 1914–1918 гг. книг и злополучных «Воспоминаний» с целью доказать то, что последние не принадлежат ее перу. Но если бы принадлежали, то в этом случае вынималась бы из-за пазухи мерзкая клевета на ее личность…
Но все это была ложь, одна заведомая ложь, и не один раз я принималась за то, чтобы заступиться за бабушку. Все в нашей семье знали, что она, уже живя в Орехове и овдовев, взялась за написание своих воспоминаний о встречах с Распутиным по материалам своих старых дневников. Знали, что воспоминания были опубликованы Корнеем Чуковским в журнале «Современник» в 1924 году, в семейном архиве и других государственных архивах хранились и хранятся рукописи Веры Александровны вполне подтверждающие ее авторство и свидетельствующие о ее писательском таланте и дающие основания судить о ее достаточно отстраненном подходе к тому, что она описывала.
Никто, разумеется, в нашей семье не сомневался о том, что Верочка в 1914–1916 годах посещала Г. Распутина и хорошо знала всю обстановку его жизни этих лет. Тем более, что в те же годы, посмотреть на Распутина выбралась в Петербург и Верина сестра Катя, о чем тоже оставила выразительные, хотя и краткие воспоминания, которые были написаны ею в 1960 году (они хранятся в домашнем архиве) — задолго до того, как возродился к этой теме общественный интерес. Это было личное любопытство Кати, выдумывать что-либо ей было совсем не с руки. Да она и вообще никогда не лгала — не та порода была у человека…
Наконец, не выдерживал критики сравнительный анализ текстов. В особенности, повести веры Александровны «Сестра Варенька», изданной в 1916 году, а так же ее неизданных очерков, посвященных ее путешествиям (1914 г.) по Поволжью и встречам с «живыми богами» хлыстовства.
Меня же в этих скандалах и спорах занимали не только наветы, которые достаточно легко отбрасывались в сторону — никто не предполагал, что у Веры Александровны остались родные и единственная внучка, и что замолвить за нее слово будет кому, — меня гораздо глубже занимало другое: отчего сумело возыметь такую страшную власть над сердцами того поколения и учение хлыстов о «спасительности греха», категорически отвергаемое учением Православной Церкови, и прочие чудовищные эксперименты «неохристианства», а затем церковного обновленчества, в сущности и приведшие в конечном счете к русской катастрофе, ибо «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7).
На коллаже работы Екатерина Кожуховой на фоне вида на Киево-Печерскую Успенскую Лавру — слева направо: Вера Подревская (урожденная Микулина) — под ее портретом — фотография поэта Константина Николаевича Подревского, ее супруга. Справа — портрет Екатерины Микулиной, а под ней — фотография инженера Александра Павловича Рузского — всежизненной неразделенной любви Кати.
Все фотографии из семейного архива публикуются впервые.
…Когда бы не восходил на сердце милый и горький образ Веры, Верочки, Веры Александровны Жуковской, двоюродной бабушки моей, перед глазами сразу из сумрака памяти проступает вполне живая картина с огнем, цветом и даже запахом готовящегося деревенского обеда… Я вижу основательный двухэтажный бревенчатый сруб с теплым, обжитым углом внизу, русскую печь, в устье которой пыхтят в чугунках густейшие русские серые щи, томится гречневая каша, — розовая кудесница от щедрот здешних ореховских медоносов, — дух ее незабвенный и поистине родной, аж до сердца доходящий, наполняет всю горницу. Рядом уже ближе к краю стоят крыночки с румяным солнечным варенцом…
А еще чуть сбоку — горячий белый кафель, к которому так весело прижиматься в ненастные от подбирающейся к нам осени дни, когда дождь мощной своей дланью стелет и стелет все вокруг, и леса, и поля, и надсадно гудит и волнуется старый парк, и вторят ему струи, бубнящие в огромные старинные почерневшие бочки по углам дома, а ты, греясь, уже предвкушаешь, как под распогоживающимися небесами зачавкают сладко под изумрудными травами лужайки дождевые воды, и ты по утру, когда разом отзовутся солнцу все эти изумруды своим торжествующим сверканием безгрешной жизни, — и ты полетишь шлепать по этим, родимым, влажным травам босиком, набираясь памяти о чудной силе и этой чистоте Божиего Творения на всю оставшуюся жизнь…
Хорошо тут греться, да разглядывать чудный молчаливый мир, раскрывающийся пред тобой… Большой старинный умывальник с мраморной доской, старым бронзовым тазом и таким же бывалым кувшином, вызывающим какие-то смешанно-непонятные щемящие чувства, словно все-таки что-то пытаются сказать они тебе, но — что? Слышу, слышу!.. Да вот беда: расслышать-то не могу…
А над ними старое, венецианское, надтреснутое, с местами уже сползшей амальгамой, какое-то «дымное», волшебное зеркало. Задержи в нем взгляд на мгновение, — и увидишь то, чего в комнате нет: Верину прошлую жизнь, — манящую своей страшной непохожестью на все то, чем и как живем теперь мы, или тем более я, но при том такую печальную, даже и скорбную, такую горькую жизнь не унывавшей, и так и не сдавшейся когда-то красавицы, — обаятельной молодой писательницы, а затем ореховской чуть ли не затворницы, которую окрестные крестьяне называли «ореховской барыней».
Барыня-пустынница… Страшно исхудавшая, но подвижная, — нет, не старушка, но пожилая — все-таки дама, хоть и в кирзовых сапогах, и в плюшевом деревенском жакете, под которым что-то очень старое и бедное и темное на выступающих острых, почти девичьих плечиках, и тут же безупречный белый воротничок, старинный крестик и вечная черная бархотка с древней светлой камеей на старческой шее. Всегда навытяжку спина и вскинутая высоко голова. Волосы почти совсем без седины. Темные и еще вполне пышные. Те, что когда-то были поистине роскошными, которыми не случайно она так любила щегольнуть, вдруг в миг вырвав из них несколько шпилек, чтобы рухнул пред всеми этот дивный темно-каштановый обвал. И плюс ко всему — два ярких, очень ярких вишневых глаза, чуть-чуть косящих — не отцентрованных, но смотрящих тем не менее прямо и очень пристально. Такой помню бабушку Веру я.
…А вот какой увидел ее впервые Александр Степанович Пругавин, писатель-сектовед, старый народник и революционер по духу, скептик по характеру, к которому Вера пришла по протекции своего дяди Нестора Александровича Котляревского, академика по отделению русского языка и словесности Императорской Академии Наук, начальника репертуара русской драмы Императорских театров, члена редакции "Вестника Европы" и первого директора Пушкинского Дома.
* * *
Верочке нужно было к Пругавину, чтобы заполучить еще одну протекцию — к Григорию Ефимовичу Распутину, с которым Пругавин был, естественно знаком и о котором вскоре напишет свой очерк «Леонтий Егорович и его поклонницы» (будет опубликован в 1915 году и вскоре в начале 1916 года на тираж будет наложен арест), где под именем Ксении Гончаровой Пругавин оставит словесный портрет молодой Верочки…
«Вскоре после этого г-жа Гончарова посетила меня. Сбросив в передней бархатную элегантную шубку, вошла молодая дама лет 26–27. Стройная, гибкая шатенка, с тонкими чертами лица, с темными живыми глазами, внимательными и пытливыми…
— В данный момент, — сказала г-жа Гончарова, — я более всего заинтересована тем религиозным брожением… или, может быть, точнее будет сказать, тем поветрием, которое наблюдается теперь в разных слоях нашего общества и которое я затрудняюсь охарактеризовать одним каким-нибудь термином. Словом, я имею в виду то полное мистицизма и суеверия брожение, которое выдвинуло у нас разных "прозорливцев", выступающих в роли религиозных подвижников, выдвинуло разных "пророков", юродивых, блаженных. Некоторые из этих людей находят себе горячих и многочисленных последователей и последовательниц среди влиятельных общественных слоев, имеют огромный, прямо поразительный успех… И это в XX веке! (…) Перед этим явлением я останавливаюсь с полнейшим недоумением. И вот поэтому мне очень, очень хотелось бы заняться его изучением и выяснением — подробным и беспристрастным. Не скрою от вас, что это мне необходимо для задуманной мною повести».
В ответ хозяин начинает Веру отговаривать, предупреждая, что подобные исследования сопряжены с возможно немалыми и неприятными неожиданностями которые могут встретиться такой молодой даме на этом пути:
— Я не институтка, а современная женщина. За свою, хотя и недолгую жизнь мне пришлось пережить и тяжелую утрату, и горькое разочарование в людях. Наконец, я много… да, да, очень много видела и испытала. А патологии в современной жизни, к сожалению, сколько угодно, поэтому игнорировать ее невозможно. И те трудности, о которых вы говорите, отнюдь не пугают меня».
Затем Пругавин передает рассказ Веры о ее жизни, в котором ясно прослеживают канва подлинных событий, хотя в то же время многое, но только в деталях! — изменено: по ошибке или нарочно — трудно сказатью… Возможно, Вера намеренно не хотела говорить всю правду о себе, возможно Пругавин намеренно ошибся …
«Она выросла и воспитывалась в помещичьей семье хорошего достатка в одной из подмосковных губерний. Росла под влиянием своей бабушки, глубоко религиозной женщины, сумевшей передать внучке свою горячую и активную веру. С годами религиозное чувство молодой девушки росло и осложнялось. Она увлекалась поэзией, природой, литературой; но эти увлечения не вытесняли религиозного настроения; напротив, и поэзия, и религия, и природа в ее представлении сливались во что-то цельное, гармоническое и светлое. Шестнадцати лет она полюбила троюродного брата, 20-летнего юношу, только что перед тем произведенного в офицеры одного из привилегированных полков…».
Далее следовала истории ее любви к Жоржу, его трагическая гибель, Верины страдания и, наконец, начало ее интенсивной деятельности на литературно-художественном поприще, духовный кризис, с которым было связано и оживление ее интересов к новейшим религиозным течениям того времени. Вот как излагает Пругавин рассказ Верочки о пережитом ею духовном кризисе:
«В результате пережитого кризиса вера, воспринятая некогда от умной и любимой бабушки, горячая, наивная, слепая вера растаяла и исчезла как сон. Но отношение к религии, как к чему-то огромному, важному, безусловно необходимому в жизни отдельных людей и всего человечества, осталось. Остался прежний живой интерес к религиозным исканиям, к новым течениям в области религии и этики. (…) Г-жа Гончарова высказала, что ее особенно интересует личность "старца" и "пророка" Григория Распутина, о котором она слышит со всех сторон и относительно которого она нашла в моих материалах много сведений, исходящих как от его почитателей, так и от его врагов. В обществе о "старце-пророке" создаются и распространяются целые легенды. Он становится исторической фигурой».
Итак, «горячая, наивная и слепая вера» бабушки Анны Николаевны исчезла как сон… Много бы я дала, чтобы поточнее понять, какой смысл вкладывала Вера в эти слова «наивная» и «слепая». Ведь все было не так… Анны Николаевна верила в Бога вовсе не наивно и тем более, не слепо. О том свидетельствуют ее глубокие, мудрые письма супругу, ее рассудительное и выдержанное ведЕние дома, ее поистине христианская твердость и мужество в испытаниях, ведь именно в этом горниле проходила проверку ее вера, которую правильнее было бы назвать глубоким д о в е р и е м Богу. Ни разу в жизни не сорвался с ее уст ропот — ни когда младенцев своих хоронила, ни когда дочь и трех взрослых сыновей отпевала… О такой простоте и преданности Богу можно было бы только мечтать и перед ней преклоняться. А наивной называть только из-за неспособности понять…
Что же случилось в Верой и Катей, и с тысячами подобных им молодых душ в конце истории Российской Империи? Почему их вера не выдержала первых соприкосновений молодости с испытаниями и искушениями жизни, почему не укоренил и не укрепил их веру Закон Божий, который совсем неплохо преподавался в гимназиях и который, несомненно, усердно учили такие исправные девушки, как Вера и Катя; почему не помогло пребывание в церкви и участие в Таинствах (пусть преимущественно только раз в год), почему не смогла передаться им святая вера родительская или, точнее — предков, почему русский быт, казалось бы, тогда еще свидетельствовавший о неколебимости православия в России, не сберег души взрослевшей молодежи, которые подвергались совне таким страшным искушениям и соблазнам?
* * *
«Можно быть в числе христиан, и не быть христианином. Это всякий знает» — предупреждал соотечественников святитель Феофан Затворник. Можно исполнять все уставы Церкви, быть «исправным, степенным и честным в поведении», но не иметь в себе истинно христианской жизни, то есть быть бесплодным. «И часы хорошие идут исправно, — сокрушался святитель Феофан, — но кто скажет, что в них есть жизнь?».
То, что принималось тогда в России за жизнь христианскую, благочестивую, — было сплошным самообольщением. На самом деле эта жизнь уже не одно столетие постепенно растрачивала свою огненную, спасительную силу, свою Евангельскую соль. Но «Аще же соль обуяет, чим осолится?» (Лк.14:34).
Такие молодые души, как Верочка и Катя, — а их было много, добрых, порядочных, с очень хорошими задатками молодых людей, как это не парадоксально, не узнали и не почувствовали живого огня настоящего христианского воспитания, того огня, который возгоревшись в сердце человеческом, сколько бы лет от роду ему не было, влечет душу навстречу Богу, пробуждает в ней ревность изменения своей жизни и, главное, самое себя по Заповедям Божиим; огня, который закаливает нас мужеством познавать самих себя в своих греховных глубинах, в своих недолжных душевных расположениях, противоречащих Христовой Правде и Духу. Этот огонь подвигает человека на самую страшную брань — с самим собой чистоты сердца ради. Вставший на этот путь и много на нем потрудившийся, не без слез и крови с собой поборовшийся, веру свою зловонным ветрам времени уже не подставит и не уступит. Если только духовно задремлет человек или начнет превозноситься и Бог за это попустит ему наказательное падение…
Если бы Вере и Кате открылась Церковь Христова не как некое всем известное учреждение, но как новая благодатная жизнь со Христом и во Христе, движимая Духом Святым, если бы они еще со времен их раннего отрочества начали вкушать этой новой жизни, погружаясь в стихию великой духовной работы человека над собой (а молодости нужны подлинно великие цели, чтобы загорелось сердце, чтобы энергию было куда приложить), о путях и способах которой оставили нам великое научение святые отцы древности и наших времен, — не отошли бы эти юные сердца «на страну далече» (Лк.15:13)
Если бы они еще с отрочества были введены глубоко в мир Евангелия, в познание и п о н и м а н и е Священной истории человека и человечества и единственного пути его спасения, проложенного подвигоположником Христом, в осознание необходимости для всех и каждого не вальяжной, а подвижнической христианской жизни — самоотречения, и напряжения всех сил в духовной работе над своим внутренним человеком, над душой своей, — если бы им открылся весь ужас бездумного существования человечества, все цели своей жизни полагающего только на земле, в то время как все мы умираем, а значит, цели наши не могут быть здесь — они там, в другой жизни; если бы с детства этот необъятный горизонт человеческой жизни, это бездонное (не Кантовское) Небо, этот вход в Вечную жизнь, это всеянное в нас «зерно горушично» — «мнее всех семен есть земных», которое в нас при трудах наших духовных и Божием воспомоществовании возрастало бы и бывало «более всех зелий» и творило «ветви велия, яко мощи под сению его птицам небесным витати» (Мк.4:31–32), — если бы им все это было хотя бы приоткрыто — история России не закончилась бы такой кровавой развязкой, а жизни Веры и Кати, как и множества других их сверстников не оказались надломленными, души — опустевшими и голодающими, а вслед за ними и жизни их детей, уже вовсе не умевших помнить веру отцов; а потом и внуков, которые ценой огромных утрат и скорбей, за молитвы давно усопших благочестивых предков, все-таки вопреки всему потянулись возвращаться в дом Отчь — в Церковь Христову, чувствуя в себе еще пусть слабо, но пробуждающийся, оживающий и возгорающийся спасительный огонь духа, тоскующего о Боге и ведущий к Нему…
* * *
«Я не институтка, а современная женщина». Представляю, к а к сказала это Вера, и какой она была уже году в 1913–1914. Умная, высокая, красивая, в щегольской бархатной шубке с наимоднейшей муфтой, которую она, войдя, умела ловко и красиво отшвырнуть в сторону. Самостоятельная, независимая, благородная… Почему-то тут к месту вспомнилось высказывание уже очень пожилой Анны Григорьевны Достоевской, которая, когда ее спросили, как это она решилась будучи 20 летней девочкой, выйти замуж за старого (на 24 года старше), больного писателя, бывшего каторжника, без средств, обремененного семьей и родными, ответила: «Я же была девушкой шестидесятых годов!». Замечательный ответ, подтверждающий существование в России не только тех уродливо-стриженных женщин-эмансипе революционного типа, но и поколения, я бы сказала, не тепличных, но сильных духом девушек.
Такой была Анна Григорьевна: хорошо воспитанная, и образованная, порядочная и умеренная девушка, которая нашла в себе силы стать опорой своему мужу, взвалить на свои плечи огромный семейный груз и с честью донести его до конца. Так что в шестидесятых годах, кроме многих известных минусов, крылось нечто и положительное, что при надлежащем духовном векторе могло принести замечательный плод для России. Не случайно Достоевский говорил, что будущая судьба России в руках русских женщин. Такие, как Анна Григорьевна, исповедовали высокие нравственные принципы, хранили веру Христову, были готовы к серьезной любви, к несению жизненных крестов — к служению семье и людям. И по многим статьям этот красивый и сильный женский тип с отличием прошел проверку, выдержав и революцию, и гонения, и невзгоды, и нищенское существование, сохранив при том свое человеческое достоинство и души. Вот только в отношении сбережения веры Христовой все же дело обстояло много сложнее…
«Многие переживания», о которых говорила Вера Пругавину где-то в 1913 году, будучи молодой, здоровой и вполне хорошо устроенной женщиной, были явным преувеличением, в особенности в сравнении с тем, что ей еще пережить предстояло: революцию и крушение всего устава жизни семьи, всей России; скоропостижную смерть любимого отца в 1919 году, развод с мужем в том же году, скоропостижную смерть от чахотки всеми любимой кроткой двадцатишестилетней дочери Николая Егоровича Леночки в 1920 году, голод, в 1921 году скорбное умирание дяди Николая Егоровича Жуковского, немного пережившего свою любимую дочь; нелепый брак с Сережей Жуковским, который в 1924 году скоропостижно умер от запущенного аппендицита, бесконечные обыски, затем в 1931 году — лишение всех прав, жизнь «лишенки», тучи над Ореховым — над тем малым наделом земли, который оставили себе Жуковские и Микулины, давно уже — еще до революции — раздав почти все то немногое, что у них было; тяжелая одинокая тридцатилетняя деревенская жизнь, превратившаяся в борьбу за выживание; перо, давно уже выпадающее из рук, невозможность вернуться к писанию, никомуненужность, усталость, болезни, аресты, начало создания музея, война, одинокая и бедная старость, болезни, горькая кончина в больнице.
Вот, только один возглас Веры из тех лет (1933 год) в ее письме В.Д. Бонч-Бруевичу, который был не только влиятельным большевиком, но и профессиональным сектоведом (Вера очень давно была знакома с ним на этой почве):
"Многоуважаемый Владимир Дмитриевич, пожалуйста, если возможно прочтите это письмо сами. Я хочу затруднить Вас последней моей просьбой, последняя она потому, что, сможете Вы ее исполнить, или нет — больше Вас собою безпокоить я не буду. Дело в том, что дальше жить в единоличном хозяйстве нельзя — это нелепо и не имеет вообще никакого смысла, надо или идти в колхоз, или же поступить на службу в ШКМ, где я, отлично зная немецкий язык, могу принести большую пользу, а так же могу заведывать хозяйством школы — но путь мне закрыт всюду, как лишенной прав, а лишена я по какому то сплошному недоразумению, т. к. быть дочерью бывшей помещицы и построить в 26 г. маленький маслозавод с 8-ми сильным двигателем — очень небольшия преступления. Если Вы знаете т. Кутузова и можете помочь мне в том, чтобы меня возстановили, то этим Вы дадите мне возможность попробовать еще в третий и последний раз начать новую жизнь и тогда думаю, что я могла бы попробовать опять начать писать. Но если это не удастся, тогда, не имея возможности жить в Москве и оставаться в деревне, не знаю куда мне уполсти, чтобы докончить свои дни, не надоедая никому. Преданная Вам В.А.Жуковская.
С.Черкутино Ивановской обл. д. Орехово."
Но все это было еще впереди…
* * *
Был и второй этаж в доме у Веры: холодные, нетопленные, запыленные комнаты: одна, две? Не помню… Там можно было видеть давно не знавшие дров камины с прекрасными чугунными барельефами каслинского литья, с бронзовыми подсвечниками и ампирными бронзовыми вазами, в которых годами стояли несменяемыми и неподражаемые Верины сухие букеты (может быть, ваз этих было всего-то три-четыре?..).
Я как-то побаивалась этого нежилого духа второго этажа и ощущения внезапной, словно перед наступлением армии Наполеона брошенности, вовсе неприбранных следов давно оборвавшейся прежней Вериной жизни, о которой свидетельствовали валявшиеся тут и там связанные ленточками пачки писем, совершенно пожухлые маленькие сухие букетики, которые рассыпались в руках, какие-то носовые платочки, кусочки и обрывки ветхих брюссельских или фламандских кружев — видать, ветхие воротнички и подрукавнички…
Эти потускневшие вазы (такие же вазы и канделябры были в главном ореховском доме — те канделябры на первые преподавательские жалования Николая Егоровича с радостью и воодушевлением покупала Мария Егоровна), я особенно помню. Имелись у Верочки и фарфоровые вазы, но они как-то меньше говорили моему сердцу, хотя, несомненно, это был и хороший «сакс» и благородный «бисквит», и мой глаз помнит их где-то на втором плане этой ленты прошлого (все исчезло вместе с письмами и старинной мебелью после кончины Верочки в 1956 году).
…В той ореховской бронзе было нечто специфически ореховское — кисловатый запах метала, изысканная форма узкогорлых ваз, и сильный налет сумрачной печали, так тесно связанный с духом жизни последних предреволюционных лет, родственно сочетавшийся с темными тонами плюша и жухлой сепии выцветших фотографий…
Если бы вдруг по волшебному мановению я могла бы вновь очутиться там в этих комнатах и среди этих вещей, я бы описала несомненно то, что такое особенное излучали все эти предметы. Но теперь, когда я это пишу, вспышки живого тогдашнего их ощущения слишком остры и быстротечны, и не успеть мне передать того, что озаряет молния подсознательной памяти в такие секунды. Где-то в этой книге я уже писала про тайну ореховского парка. О том, что пока мы были или даже бывали там как свои — каждая травинка, каждый клочок мха из-под старых берез, каждый поворот аллеи, каждое свечение солнца сквозь темные стволы старинных лип, — все говорило мне что-то, все имело свое излучение, которое я воспринимала и до сих пор так и не смогла забыть. Теперь же, за давностью времени оно вспыхивает на столь краткий миг, что я не успеваю вглядеться в него. Но я знаю, что возьми сейчас в руки любой предмет из тех — он уже не будет ничего излучать, потому что все это — и природа и вещи, — да! — и мертвая материя в том числе, они живут вместе с человеком, пока он живет среди них. А потом они разлучаются, и жизнь, и память о жизни (жизнь в памяти) постепенно перекочевывает в сердце и там, на больших неприкосновенных глубинах она хранится много надежнее.
Поэтому мы в принципе ничего потерять не можем: живо то, что живет в нас и, наверное, и дальше будет жить в нас и в вечной Вечности. Как оно там будет нам открываться, я, разумеется, не ведаю, но верую, что ничто не пропадет, а пребудет с нами. Вот почему так важно все то, чем мы тут жили…
Все было в уборе этих нескольких комнат когда-то, несомненно, изысканным, — у Верочки был безупречный вкус, я бы даже сказала, безупречный вкус жизни — нечто вроде carpe vitam: такая светлая и уверенная в себе молодость, физическая сила, высокий тонкий стан, богатая одаренность, знания (несколько языков), память чУдная, и вообще умелость на многое, ловкость, молодая храбрость, что так всегда обаятельно дышит в девушке несомненно благородной. А еще и даже извне заметное ясное слышание ею своих собственных внутренних живых источников энергий, эдаких внутренних горячих гейзеров, всегда готовых вот-вот забить через край…
Верочка вовсе не представляла из себя какую-то кисейную барышню: любила и умела взять в руки большое хозяйство семьи, чтобы распорядиться всем как надо: быстро, ловко, споро. Тут она несомненно напоминала Наташу Ростову с ее невероятной подвижностью и расторопностью и яркими зачатками будущей смелой хозяйки большого дома. Верочка умела и любила готовить кушания, и часто сама за это бралась, и как это было неожиданно в ней, как была бы ей к лицу счастливая женская судьба, которая ей все-таки дарована не была…
Путь ее складывался совсем по-другому и как водится среди людей: не по нашей самолюбивой волюшке, а по судьбам Божиим…
* * *
Детей не было. Вера потеряла ребенка от первого брака и из-за неудачной операции лишилась возможности родить. Но душа ее искала любви, она, может, даже больше, чем бабушка моя Катя нуждалась в поддержке родственных чувств, семейственности, искала тепла. Конечно, она очень любила свою семью. Не скрою, с детства Верочка была избалована всеобщим вниманием, привыкла сызмала чувствовать себя центром семейной жизни, принимать как должное похвалы и поклонения, слышать восторженные признания ее достоинств. Но когда стала взрослой женщиной, ей уже стало мало этого успеха в семейном кругу, да и жизнь ведь не стояла на месте: подросли Леночка и Сережа Жуковские, родились дети у Кати — появились новые любимцы…
Весной 1910 года Верочка обвенчалась с Константином Николаевичем Подревским. Начало совместной жизни было овеяно романтикой, но довольно скоро через несколько лет еще до революции брак этот начал как-то таять: жизненные интересы и привычки Кости не совпадали с интересами Веры, которая в эти роковые годы жила, тем не менее, очень насыщенно, ярко. К тому же приходилось все время возиться с устройством Костиных дел, а это не так уж радовало Веру. Сама она уже была глубоко погружена в свои литературные занятия.
Вера много успела за период 1912–1918 гг. написать и напечатать: очерки, повесть "Сестра Варенька", сборники рассказов "Марена" и "Вишневая ветка", она ездила в экспедиции по Поволжью по старым хлыстовским скитам, побывала заграницей, три года посещала Г.Е. Распутина, делая при этом подробнейшие дневниковые записи (воспоминания были опубликованы только в 1924 году), встречалась и близко общалась со звездами Серебряного века; живя в Петербурге у Машуры Ненюковой близко соприкасалась с аристократической элитой.
Душа Веры пребыла тем временем, мне кажется, в состоянии опасной, болезненной неопределенности, в каком-то промежуточном, или, как теперь говорят, маргинальном состоянии.
Вот как она сама описывала свои искания и тупики в письмах к Андрею Белому (письма публикуются впервые. Отдел рукописей РГБ. Ф25.15.13. Орфография сохранена, расставлены запятые):
«1916. 19 окт. Глубокоуважаемый Борис Николаевич,
Посылаю Вам мою книгу и очень бы хотела, чтобы у Вас нашлось немного времени для нея и для меня. Когда то Вы тоже были близки тому, чем я хотела бы жить теперь: Ваш Серебряный голубь. Я была бы счастлива увидать Вас и побеседовать с Вами о многом, что мучает меня, что, конечно, не может стать ясным ни мне, ни Вам в полной мере, но, мне кажется, это и не важно. Когда я читала Ваши книги, особенно последнiя, у меня иногда бывало необъяснимое чувство какого то приближающагося откровенiя и казалося мне, что Вами руководит кто то невидимый и непостижимый, но могучiй, тот Мудрый, кто знает о жизни нашей то, чего никогда не узнаем мы.
Если Вы захотите исполнить мое желание и дать мне возможность Вас увидать скажите мне об этом я буду ждать.
До свiдания
Вера Жуковская. Арбат, Глазовскiй пер. 7 кв.10. тел. 302 50»
И еще одно — через несколько дней:
«1916. 23 окт.
Глубокоуважаемый Борис Николаевич,
Я рада была прочитать записку Вашу и узнать из нея, что ВЫ ко мне придете. Я хочу так о многом поговорить с Вами и даже будет, пожалуй, верно, если я скажу, что у Вас я хочу найти возможность понять то, что не хочет мне дать себя. Я говорю возможность, а не уверенность. Потому что в последнее время я кК (Вера Александровна имела манеру в своих рукописях и письмах вот таким образом сокращать слово «как») то совсем не знаю, что же, наконец, правильно, и есть ли это вообще? Они говорят, что вредно то и другое. Нельзя давать мистике овладевать своей душой, губительный яд наркотика, вред непоправимый отвлеченные размышленiя о мiре другом; но, скажите же мне, что правда и что надо? Ведь никто, решительно никто, не знает этаго и почему реальное, равнодушно сытое и покойное существованiе лучше мученiй ищущаго духа? Я всегда думаю о словах Христа: «Грядущаго ко мне не иждену вон» — но пути Он не указал, Он сказал только путь весте, а где Он, это знает Тот, чья сила неколеблена, чей голос неумолкает, и кто в ночи жизни нашей говорит тем, у кого есть уши и кто «умеет видеть» его. Может быть я не знаю, что надо мне, может быть, я никогда не найду пути моего, но я предпочитаю бродить до изнеможенiя дорогами дальными и окольными чем оставаться у стены, защищающей от холода и ветра…
Я очень хочу видеть Вас. Когда можно Вам будет придти ко мне, скажите мне об этом.
Спаси Христос. В.»
Конечно, многое в этих письмах тридцатилетней Верочки меня сегодня поражает и даже немного устрашает… Я понимаю, когда мы, еще не ведавшие православной веры, метались во второй половине XX века от одной мысли к другой в поисках смысла и цели жизни и своей деятельности, в отгадывании тайны предназначения человека, уповали то на художественное творчество, то чуть ли не на социальную борьбу за справедливость, то искали праведных и мудрых понятий о жизни на самых разных философических материках, в социологии, видели для себя спасительную планиду в самоотверженном служении России, возрождении и восстановлении ее национального самосознания, ее исторического поруганного облика… Мы глубоко погружались в русскую культуру и литературу… И уже оттуда, благодаря великому русскому слову начинали постепенно выбираться на правые стези — к Богу, ведь о Нем нам говорил весь тысячелетний путь России, вся стародавняя жизнь наших предков. И только с этого момента мы начинали чувствовать твердую землю под ногами…
Но Верочка… Как могла она оказаться в такой духовной пустоте к тридцати годам?
Тот, кто действительно погружается в Православии на глубину, кто всем сердцем проникается Евангелием и учением святых отцов, кто начинает послушно канонам церкви, в строгом следовании Преданию возделывать свою собственную душу как невозделанную, заросшую бурьяном целину, тому довольно скоро становится «до боли ясен долгий путь»: то, что некоторые отцы-духовидцы называли «благословением знать путь», который, конечно же, Господь не только указал нам «Аз есмь Путь и Истина и Жизнь» (Ин.14:6), но и проложил его Сам, став человеком и прожив с нами на земле, уча на распутиях, оставив нам Заповеди Свои, понеся на Голгофу Крест Свой и приняв Крестную Смерть во спасение всего человечества, «дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).
Человек уверовавший во Христа и пошедший вслед за ним, уже ничего не станет искать на стороне. С каждым днем на этом пути ему со все большей очевидностью будет открываться невероятная красота, стройность и соразмерность Божественного миропорядка, открываться настолько неотразимо, безоговорочно, блистательно и ясно, что во прах рассыпятся всякие сомнения. Он убедится, что не найдется в мире никакой вещи, чувства, события, вопроса, которые бы не были объяснены с невероятной, не человеческой, но истинно Божественной логикой и Правдой в системе этого миропорядка.
Тот, кто пойдет по этой стезе, кто отведает этой духовной пищи, то не будет «на стороне» искать мистических утешений для души, не удовольствуется суррогатами и не соблазниться легкостью, с которою иные волки в овечьих шкурах обещают человекам быстрое вкушение духовных радостей, причем минуя Крест. Но без Креста нет и Христа.
Однако поколение Веры и Кати в большинстве своем знало, но уже не понимало Православия. Не чувствовала его бездонных глубин, его Божественной духовности — им не дали к этому прикоснуться, не помогли, не открыли — не всем, конечно, — были в то время на Руси великие святые, молитвенники, жила и цвела Оптина пустынь — и одна ли она?! Сколько было дивных монастырей и скитов, подвижников благочестия… Но вот на всех-то не хватало. Что-то иссушило веру и церковную жизнь народа. Иссушило не за год и не десять, — впрочем об этом дальше, а пока — пройдем немного вслед Верочке, полюбуемся на ее расцветающий литературный талант, на начало ее поисков — начало довольно светлое…
* * *
"Давно собиралась я исполнить мою заветную мечту — пойти постранствовать по Нижегородской губернiи. Меня манили туда староверы, мордва и главным образом Светлое Озеро. Я смутно знала, что оно где-то там в Заволжье, где проходит тропа Батыева, но точно не могла указать место. А видеть его мне хотелось невыразимо".
Так начинаются незавершенные «Страннические воспоминания» Веры Александровны Жуковской: путевые записки из путешествия по Поволжью в августе 1913 года (не опубликованы, рукопись хранится в РГБ Ф.369. 386. 15.) к знаменитому Светлояру, — озеру, под воды которого ушел по преданию святой град Китеж.
Как бы мне хотелось возможно больше цитировать здесь Верины писания тех лет, и я это буду еще делать, тем более, что многие из них ждали своего времени чуть ли не сто лет. Какой свежестью, молодостью веет от них, как дышит в строках еще живая старая Россия, узнаваемая многими неуловимыми чертами своими, какая удивительная искренность, открытость слышится у автора… А ведь это главное — слышать не литературу и мастерство литературное, но живое биение сердца автора! Отличная могла бы получиться писательница… Да, в общем-то Верочка и вошла в писательские словари. Но это ли было ей надо, это ли было пределом ее мечтаний и возможностей?
"…Решив пойти, я хотела заручиться хотя каким-нибудь указанiем людей, там бывавших. И обратилась к знакомому священнику на Рогожском кладбище. Он очень заинтересовался моим планом и направил меня к одному из своих духовных детей, видному собирателю старинных икон, только прошлым летом посетившему те места, куда мечтала я направить свои странствiя.
От него я получила рекомендательное письмо в один из скитов (кстати сказать, мне и не понадобившееся) и указанiе на содержательницу постоялого двора в Семенове старуху Самыгину очень приветливую и симпатичную; по его словам, через нее мне легче будет познакомиться со многими тамошними староверами. «Она хоть и крепко придерживается старой веры», — сказал мне мой собеседник, — «Но отнюдь не фанатична. А сын ея даже где-то в Петербурге, в сельскохозяйственном институте обучается; она вам будет очень полезна».
Поблагодарив за письмо и за совет, стала собираться в путь. Сшила себе по-крестьянски ситцевую юбку со сборами и белую кофточку на выпуск, лапти мне привезли из Тамбовской губернiи с твердой подошвой и длинными ремешками, а на голову белый с черным платок, взяла нянину шубейку, еще захватила с собою длинный и теплый морской плащ и какую он мне службу сослужил! — все время вспоминаю его добром.
Хотела я от самой нашей станцiи (ехала я из нашего именiя во Владимiрской губ.) начать мое странствiе в крестьянском виде, т. е. проехать до Нижняго в 3-м классе и там, не заезжая в город, прямо переправиться в село Бор, откуда по шоссе 60 верст до Семенова. Но этому почему-то решительно воспротивились мои и дядя (Николай Егорович Жуковскiй — прим. авт.) решил провожать до Бора меня сам, а дальше, как я уже хочу. Вообще мне пришлось не мало повоевать, пока я убедила своих, что так можно пойти одной и что ничего не случится.
19 iюня 1914 г. мы выехали ночью. Прощаясь, брат сунул мне финскiй нож и покраснев немного, сказал: «А все же на всякiй случай». Но я была убеждена, что когда идешь с добром и ласкою, их же только и получишь в ответ, и я так рада, что, по крайней мере, в тот раз я не ошиблась: к ножу прибегнуть не пришлось ни разу.
Мы были одни в купе; дядя спал, а я сидела у окна, и глядя на пролетающiя мимо искры паровоза, думала с радостью о том, что завтра вечером я поеду совсем одна в эти таинственные раскольничьи леса, о которых я знала только пока из книг Мельникова и что увижу, хотя и печальные остатки тех скитов, где так умели крепко стоять за свою веру и где она была еще недавно так сильна и нужна, что за нее готовы были лишиться жизни.
В 7 час. утра поезд подошел к вокзалу в Купавине — так называется низкая заочная часть Нижняго со знаменитой ярмаркой. Носильщик, схватившiй мою котомочку и дядин чемодан, расхвалил нам гостиницу «Восточный базар» и дядя решил остановиться там. Старик извощик заикнулся было, что хорошiе господа все больше в «Россiи» останавливаются, но носильщик продолжал заявлять авторитетно, что лучше «Восточного базара» ничего не бывает: «там и террас при музыке и вид на Волгу разительный». — «Ну, Восточный базар, так Восточный базар», — решил дядя, и мы поехали.
От вокзала попадаешь в какiя то кривыя улицы, застроенныя деревянными бревенчатыми домами. Дома прочные, крепко сбитые, окна чистыя, с занавесками белаго тюля — герань и месячныя розы; ручки входных дверей светло начищенныя ослепительно блестят, ворота тесовыя и все на запоре; из-под подворотен слышен хриплый басистый лай и просовывается черные злые носы.
Наш старичок показывает неопределенно куда-то налево и говорит своим распевным нижегородским говорком: «А вот здеся то все бывает залито, когда, значит, половодка; ярманка та вся плавает, которые года до второго этажа в ней вода доходит». Он говорит это совершенно естественным обычным тоном, как будто так и надо, как будто вполне понятно, почему место для ярмарки выбрано именно там, где «которые годы вода до второго этажа доходит, а когда и половицы все взламает». Ко всему, конечно, приспособиться можно.
Впереди нас засинело — Волга. Мы въезжаем на мост…"
На фотографии из семейного архива, которая датирована августом 1914 года надпись: "Помни август 14-го…". Слева — направо в первом ряду сидят:
Вера Александровна Жуковская — вот такой она была во время своего путешествия к Светлояру, снимок сделан как раз в те самые дни; Ее отец- Александр Александрович Микулин с внуком Кириллом Домбровским на коленях, далее — мать Верочки — Вера Егоровна Микулина и, наконец, Екатерина Александровна Домбровская (бабушка Катя);
Стоят слева — направо:
Константин Николаевич Подревский — муж Веры, Александр Александрович Микулин-младший — брат Веры и Иван Грацианович Домбровский — мой дед и муж бабушки Кати. Фотография сделана на балконе Ореховского дома.
В эти дни началась I Мировая война…
…Итак, мы оставили Верочку и Николая Егоровича в Нижегородской гостинице «Восточный базар» с «террассом при музыке и разительным видом» на Волгу…
Мирно отобедав, дядя и племянница, столь тесно связанные редкой семейной привязанностью и нежной взаимной заботой, продолжают свой путь, о чем с удивительной непосредственностью ясно и живо повествует в своих, увы, не оконченных «Страннических воспоминаниях» Верочка Жуковская.
«…С этими туманными напутствиями сели мы, после обеда на роскошной, но совершенно пустой террасе ресторана, в гостиничный автомобиль и покатили на Борскую пристань (…) «Первый класс 5 копеек», — заявила нам толстая кассирша и сейчас же, высунувшись побольше, деловито осведомилась, зачем нам на Бор. Дядя охотно объяснил, что я еду в Комарово, а он меня провожает до Бора. Это возбудило большое любопытство. Какой-то купчина, в синей поддевке и новеньком картузе, внезапно оживился, встряв в беседу. «На почтовых, смотрите, не ездите», — авторитетно заявил он, — «И возьмут дорого и крюку 12 верст, а надо вам малым трактом на свойских через Ежово, не в пример способнее». — «Нашел, что хвалить», — вступился старичок в чуйке — Они те всю душу вытрясут, да еще не довезут, лошаденьки то какие». — «А твои что-ли Уткинския хороши, — разгорячась, воскликнул купчина и, обращаясь к дяде, прибавил убедительно: "Да вот коли я вру, сами поглядите на свойских, не в пример, я хоша сам поеду с вами, нешто сравните тут и цена всего шесть рублей, а дорога-то мягкая». — «Оно, конечно», — согласилась кассирша, — «на свойских способнее, а только дух-то порастрясет, это как если». — «Спытай, спытай», — закричал сердито старичок. Но в это время со сходней съехала последняя телега, и дядя, которого этот спор видимо обеспокоил, заторопился на пароход…»
Признаться, чем больше я погружалась в Верино путешествие, тем бОльшее меня охватывало волнение… Подивиться было чему: не только на редкость осязаемым, трогательным и живым картинам той милой, наивной и для кого-то, быть может, чуть ли не дикой Руси, а для кого-то пронзительно родной и узнаваемой, какой она была всего лишь сто лет назад; ее подлинной речи и необычайно живому общению мужиков которое с таким заправским мастерством передавала Вера; неотягощенности повествования какими бы то ни было литературными ухищрениями, умственными рефлексиями и назойливыми всплесками авторских самолюбований, чем так давно уже утомлен нынешней русский читатель, истосковавшийся по чистому воздуху прозы, вместо которой ему то и дело подсовываются бесконечные авторские ипохондрии и духовные беспросветности непонятно чем травмированных сочинителей.
У Веры очерк лился легко, без всяких насилий ни над собой, ни над над читателем, оставляя ощущение правды, шлейф чистоты, искренности, молодой свежести восприятия мира и несомненной любви и сродности автора тому, о чем он писал. Верочка была явно в своей и очень близкой ей стихии…
«…На пароходную палубу с треском въезжают телеги, 18 плотно укутанных дерюгами подвод, совершенно одинакового вида. «Казенку везут в уезд», — в полголоса сумрачно говорит кто-то около нас — «240 ведер тут». По спине как-то неприятно пробежал холодок. Сколько горя, сколько слез, отвратительных сцен, может быть смертоубийств переправляется туда в зеленые высокие леса с этими серыми запыленными телегами и мирно спящими на некоторых из них возчиками (…)
Переезд продолжается всего пять минут и вот мы причаливаем к другому берегу. Песчаный, низкий, неприглядный, заваленный мусором и какими-то досками. Вещей взять некому и пришлось нести дядин чемоданчик самим. Вольнонаемные мужики нахлестывают своих горбатеньких мохнатых лошаденок и мчатся к нам во весь дух, поднимая тучи грязной пыли. Впереди всех скачет на каком-то странном экипаже, вроде старинной гитары, медно-красный высокий старик в разлетающемся синем зипуне, подпоясанный линялым кушаком. «Извощика та что-ли требуется та тебе», — орет он еще издали, наровя подхлестнуть лошаденку под самый хвост, хотя она и так галопирует высунув язык и отчаянно мотая головой. Остановившись около нас «табека», так зовут заволжан из-за их страннаго выговора, мигом подхватывает наши чемоданы. Кидает их на свой дребезжащий экипаж, поворачивает лошадь носом к виднеющимся невдалеке домам Бора и … начинает работать кнутом. Тряска отчаянная на этой тарбатайке. «Держи ты лошадь, эй, дед, держи!», — кричим мы, смеясь и сердясь в то же время…
Старик спросил, куда нас доставить на Бору. Мы сказали. «Эта в Семеновское та подворье, к Мараехе та…». «Думаю вольного найти», — сказала я, — «Наверное здесь есть». — «Верный есть мужик, Григорием зовут та, а прозывают Тихомировым. Да вон он сам та никак едет».
Немилосердно трясясь по ужасному подобию мостовой, мы в несколько минут доехали до большой серой избы, с криво повешанной над воротами вывеской «Семеновское подворье Мараевой»…
Мы сели к маленькому отдельному столу у окна… Хозяйка предупредила нас, что сейчас придут возчики — человек 18, и будут здесь ужинать, но мы поспешили ее уверить, что нам все равно и попросили ее поставить для нас самовар и послать купить лимон. Печенье у нас было с собой.
К окну подошел дядя Григорий. Переговоры окончились скоро, сошлись на 7 рублях, и он ушел пить чай и кормить лошадь. А к воротам постоялого подъехали подводы, с которыми мы ехали через Волгу. Убрав лошадей, возчики стали входить в избу. Входя, каждый творил крестное знамение и кланялся всем присутствовавшим; потом, положив на полати шапку, а кто и зипун, залезал за стол, стоявший углом между двумя стенными скамьями. Самовары поспели вместе. Хозяйка подала нам маленький. А две работницы с трудом втащили огромный тусклый самовар и поставили его на край стола, тот даже крякнул. Когда самовар тяжело уселся, фыркая и кипя через край, хозяйка подала нам чашки. Лимон и сахар в голубой стеклянной вазочке. Затем, отдернув занавеску, стала возиться у печки, сердито прикрикивая на работницу, резавшую на лавке груды чернаго и полубелаго хлеба и раскладывавшую их на резныя деревянныя блюда. Налив две большие миски, одну грибных щей, другую квасу, хозяйка поставила их на стол, словно невзначай опершись грудью на плечо молоденького возчика и отойдя к печке, попросила откушать, чем Бог послал.
— Поднеси-ка, Маревна, чего там, — сказал хмурый, высокий худой мужик. Хозяйка покосилась недоверчиво на нас, но вернулась скоро, покрасневшая, с высоким зеленым штофом и синей чашкой, протянула мальчишке. — «Пей». Тот, покраснев до ушей, затряс кудлатой головой. — «Не потребляем. Не…», — отмахнулся он робко. Мужики смеялись: «Ишь ты, казенку возишь та, а не пьешь», и ласково поругиваясь, жадно глядели на водку. Штоф вскоре опустел, и все весело принялись за еду. Разговор вертелся вокруг той же казенки.
— Мое разумение такое — говорил, встряхивая волосами, высокий благообразный возчик, в синей домотканой рубахе, не принимавший участия в выпивке. — Коли эту самую винополь та порешили, послали бы какой след приказ и уничтожили бы, а то это зря та путается, никакой толка от этих та самых приговоров нету.
— Ни-ни, Митрий Тимофеев, лучше та не говори зря эта — сам востоскуешься по ней матушке, — живо возражал ему другой возчик, маленький и хлопотливый. «Как же та не выпить при случае та», — «Ну, ее, — искренно отмахнулся первый, — сроду во вкусе та не выпивал ее, а теперя и вовсе та не пью, и печали никакой та от того нету. — «А мы вот без нея ета никак не могим, — весело хихикнул маленький и неожиданно вытащив из-за пазухи полбутылки, любовно поскреб белый сургуч, залеплявший горлышко, — «вот она, голубушка, та, а я было за угощением та и забыл». — «Матренушка, — крикнул он, — подай шкалик, матушка, уважь, сударушка».
Из-за занавески выглянула работница: «Какой тебе еще шкалик — лопай из чашки, — недовольно отозвалась она, крепко ставя на стол прежнюю синюю чашку и ворча что-то, опять ушла к себе. «Нам все единственно, — благодушно согласился обладатель полбутылки. — Хошь из плошки, хошь из ложки, хошь из чайника». И ловко выбив пробку, стал наливать, облизываясь. «Ладно, ладно, — заговорил Митрий Тимофеев — «вот опосле Петрова дня будет та приговор на Бору, проводят та твой куму». Но маленький беспечно хлопнул бутылкой по столу и прищурясь, поглядел на недовольного: «Ничаво, нешта в другом та месте не найдешь, колько лет та я ее сердешну крестьянам та доставлял, ужли мне без нея та оставаться, никогда такому не поверю расприказу». — «Опостылила она нам, — заявил твердо Митрий Тимофеев. — От этой винищи вся дрянь та и завелась»…
«Припевай, припевай», — бормотал захмелевший маленький, весело подмигивая. В спор вступили остальные возчики. Галдеж поднялся, лица раскраснелись и кулаки стали высовываться над столом. На наше счастье, как раз вовремя в окошко заглянуло благообразное лицо моего ямщика: «Едем, что ли» — деловито спросил он, засовывая за кушак новенький кнут.
Сердце невольно сжалось — сейчас из под родной верной охраны, от любимаго с детства знакомаго уюта я уйду в чужую сторону одна к совершенно неизвестному будущему. Что-то знакомое вспомнилось. Чувства были те же, когда два года тому назад мы прощались с дядей на шумном Базельском вокзале: он ехал в Женеву, я на маленькую станцию Альбрук, а оттуда в санаторий в Шварцвальд; только настроение тогда было совсем другое: было немножко страшно, но больше всего забавно. Теперь же я была почему то совсем растрогана, и в душе жило какое то торжественное ожидание, как бывает в Пасхальную ночь. Глядя в сторону, дядя сказал, вздохнув: «Ну, пойдем, я уж тебя усажу». Мы вышли…
Мой ямщик старательно укладывал сено в тележке… «Он мне кажется человеком надежным, — в раздумье сказал, наконец, дядя, — да и тот старик его хвалит». Я горячо поддержала надежность Григория, и опять дала обещание быть как можно благоразумнее. «И что это за фантазии у тебя все…», — покачивая головою, говорил дядя, все еще не мирясь никак с моим проектом.
Подходит минута прощания. Дядя и я долго крестим друг друга, наконец, садимся каждый на свою таратайку и трогаемся вместе. До перекрестка ехали один за другим, но вот улицы скрещиваются: «Будь спокоен, родной!» — крикнула я. Дядичка торопливо перекрестил меня еще раз издали, облако пыли скрыло его. Мы повернули — я одна».
* * *
Эти неизвестные (за редкими исключениями) никому и неопубликованные Верины очерки, а потом и некоторые письма из нашего архива, на которые я раньше почему-то не обращала внимания, приоткрыли мне другую Верочку. Не просто красивую, изнеженную и немного капризную, любящую потщеславиться своей внешностью, ставшую потом много более суровой и сухой «не мать и не бабушка», — как осаживала она меня в детстве, но Верочку иную, образ которой вдруг стал во мне оживать, светиться, обретая глубокие и задушевные краски, привлекать к себе мое сердце, что-то подсказывая мне и на что-то указывая мне, и к чему-то взывая: «Услышь, услышь мое сердце, пойми, о чем оно билось всегда, что было в его глубинах, о чем я мечтала, какой я была на самом деле и какой меня видел Господь…»
Тут впервые я узнала в Вере не то, что отличало ее от Жуковских, а то, что ее с ними несомненно роднило. Как же была она похожа и на Анну Николаевну, и на «дядичку» — Николая Егоровича, чем-то и на милую Marie — Марию Егоровну, и на свою мать — Верочку старшую, — шутницу, живую баловницу и всеобщую любимицу, какой та была в юности… Как много доброй закваски взяла Вера у рода своего: и жизненную силу, и энергию, и яркость чувств, и пытливую любознательность, и недюжинные способности, а рядом и трогательную «жуковскую» мягкость, ласковость, тонкую, обостренную чуткость, — что-то старинное, домашнее, патриархальное и вместе с тем — необозримое и необъяснимое, как необозрима и необъяснима вообще всякая человеческая душа, а истинного художника с его глубинами чувств — в особенности.
«Ты видишь, что в тебе невидимо кипит жизнь мыслей, чувств, намерений и только ничтожная их часть высказывается языком или выражается на деле. Так в невидимом, светлом, добром мире кипит совершеннейшая блаженнейшая жизнь. Ангелы Божии». Такое удивительное, неожиданное наблюдение однажды оставил в своем дневнике святой и праведный отец Иоанн Кронштадтский.
Ценим ли мы это Богом дарованное кипение жизни? Почему так часто не желаем даже видеть и радоваться ему и в себе, и в других? Это ли не дар Божий, как и таланты, как и особые сокровища душевные… Почему доверяемся рациональным судам о человеке, который есть столь великая тайна, что и Ангелы порой в недоумении закрывают свои лики крыльями. И хотя по псаломскому слову, Господь мало чем умалил человека от Ангелов (Пс. 8:6), однако в то же время и дал человеку многое, что царственно возвышает его не только над всем космосом, но и над миром бесплотных духов.
Размышляя о природе человека в отношениях его к миру Ангелов, великий богослов и философ Византии XIV века, средневековый мистик, один из основателей исихазма, подвижник-аскет, отец и учитель Церкви, архиепископ Фессалоникийский Григорий (Палама) наряду с другими свойствами человека, которые возвышают его над миром Ангелов, указывал на тройственное строение нашего познания, поскольку только человек из всех созданий вселенной имеет кроме ума и рассудка еще и ч у в с т в а, чувственное восприятие, которое становится источником недоступных Ангелам откровений в познании и творчестве, роднящим человека с Творцом.
Благодаря этой способности человека рождается все разнообразие искусств, наук и знаний — творчество, которое, разумеется, не из небытия созидает нечто, — это удел Божий, но из того, что уже существует где-то в умопостигаемом мире, но в эмпирическом мире доселе реально еще не существовавшее, обнаруживает никому не ведомые дотоле чувства, вызывает их к жизни, словно заново рожденные мысли, предметы, образы, — то есть нечто новое и ценное для созидания жизни всех людей. При этом не разрушающее Божественную ткань мира (что есть антитворчество), но созидающее все л ю б о в ь ю, потому что только так и может продолжаться дело Божественного Творения в человечестве.
Святитель Григорий утверждал, что человеку задано от Бога творить новое: и свою собственную жизнь, прежде всего, раскрывая неповторимый Божий замысел о самом себе, и созидание добра, и нравственных, духовных ценностей, в числе которых, несомненно, должно было бы пребывать и подлинное искусство, которое как где-то уже в этой книге говорилось, — есть отклик на Божественный зов, на Божественной Слово к нам обращенное, восприятие как семени Божественной Искры, слетевшей с Небес. Искусство, которое и будит наши чувства, обогащает их, расширяет наши сердца для восприятия глубин Божественного Слова, Божественного Эроса, — того огня, без которого не дойти нам узким и тернистым путем до соединения со Христом, до заданного нам уподобления Ему.
«Мы ждем в ночной тишине этих звуков, осколков иного мира. Они сверкают, приходят, пронзают наш логос. Мы им внимаем, но что суть они и что есть самое творчество, мы не знаем и не узнаем никогда» (архимандрит Киприан (Керн).
И вот теперь, возвращаясь к Богу и в Церковь после чуть ли не целых жизней, прожитых вдали от подлинной духовной благодати, мы чуть ли не сразу проваливаемся в другую крайность. Начинаем судить обо всем и обо всех с таких ригористических и якобы духовных позиций, с такой жесткой требовательностью к человеку, что как правило, с водой выплескиваем и ребенка. Особенно трудно удается нам примирять искусство и художников-творцов, их непростые характеры и судьбы с нашими представлениями о духовной и праведной жизни. Как правило, перед нами вырисовываются образы грешников. Пусть так, но мы сами настолько несовершенны, настолько еще далеки от истинного духа христианства, от его совершенства, что не можем найти той единственно верной точки, где бы жила любовь и милость к человеку-грешнику, но безусловно осуждался бы грех.
Все знает о человеке Господь, знает, как может сказываться на нем его наследственность, условия рождения и жизни, даже исключительные таланты и дарования, — ведь они тоже могут усугублять или усложнять жизненную задачу и путь человека к Правде Божией, удесятерять тяжесть борьбы с самим собой. Не случайно ведь, люди искусства, творцы, богаче других одаренные, часто труднее в нравственном плане идут по жизни, словно на них сильнее и неотвратимее действуют искушения, словно они удобнее подвержены падениям, хотя бы потому, что сфера чувств, фантазия, восприимчивость у них сильнее развиты и утончены и для противостояния греху такому человеку требуется великая сила воли, духовная умудренность, рассуждение, самообладание. И несомненно — сугубая помощь Божия. Возможно, поэтому у таких людей и судьба складывается драматичнее, а иногда и трагично, и очень немногие, к сожалению, из когорты творцов и художников (действительно щедро одаренных Богом) прорываются к Его Свету и не сбиваются с пути.
Разве ни о чем не говорит нам противоречивый и мучительный путь к Богу Пушкина, страдания Гоголя, которого достаточно жестоко судили современники, да и потомки, которые были не в состоянии ни подъять, ни оценить тяжесть Креста, врученного ему Богом таланта; каторжный путь Достоевского, показавшего миру, какой огранки требует человеческий гений, чтобы быть пригодным для служения Богу…
Несказанная тайна человека — его талант. Это всегда Божественное послушание, данное человеку. Это Крест. И не всякий его может сразу подъять и пронести по жизни.
Можем ли мы становиться жестокими и неумолимыми «осудителями» таких людей далеко не всегда безупречно — без сучка и задоринки проживших свои жизни? Можем ли мы примерять к ним «малокровное морализование» (выражение архимандрита Киприана (Керна)) в оценках их горьких исканий и, увы, падений… Можем ли мы, обличая однозначно сам грех, предвосхищать Суды Божии, становясь судиями человеков, быть может, принижая, сами того не понимая, неведомые нам их жизненные от Бога задания, их внутреннюю жизнь в Боге, их сокрытое от нас покаяние?
Можем ли мы полагать, что и творчество тех художников, все то, что было мукой и Крестом и радостью их жизни, не будет Господом усмотрено и взвешено? Ведь апостол так говорит о грядущем испытании наших жизней, душ и всех наших дел: «Строит ли кто на этом основании (т. е. на Иисусе Христе) из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон» (1Кор. 3:12–15).
* * *
Продолжаю выписывать (с небольшими сокращениями) отрывки Вериных странствий по России, которой уже нет…
«Теперь вокруг дороги стоят высокие сосны, гладкими красноватыми стволами и зелеными коронами уходящие под облака вершин; внизу на песке папоротник, напоминающий кустарник, такой он громадный; его широкие темные листья ползут вниз по корням и поднимаются к стволам узорные, как вырезные раскрытые веера. Тишина бесконечная, с поля едва доносится далекая песня жаворонка, а в лесу не слышно ни одной птицы. Песок зыбучий — не видать по дороге коней (…)
Я соскочила: и Мальчику легче будет идти, и я немного пробегусь, а то стало скучно сидеть неподвижно. Григорий, слезший еще в самом начале леса, идет по боковой тропинке, заложив за спину руки и благодушно посматривает на покорно идущего с пустой тележкой Мальчика. Весь песок покрыт следами босых ног и вафельным рисунком новеньких лаптей. «Отчего столько следов?» — спросила я. «Это Оранскую ходили та провожать из Нижняго, да назад та шли в уезд, что здеся вчера было — беда, чиста та муравьи», — объяснил Григорий, и, помолчав немного, прибавил задумчиво: «Больно чтят та ее в уезде Оранску нашу икону та».
Некоторое время шли мы молча, выбирая самую крепкую тропинку: по песку идти очень тяжело, ноги вязнут и насыпаются полны лапти. Григорiй, глядя на одинокую березу у самой дороги, начинает философствовать: «вот значит та ничего нам не дадено понимать, как же так таперя та дерева, которы с листками зиму всю стоять, за морем та ну а как весна та придет, опять листки та как же растут, во всем милость та», — обернувшись ко мне, он внезапно перебил себя и спросил как то слишком настойчиво: «Вера Александровна, а как ты об отце та Серафиме понимаешь?». — «В каком смысле», — спросила я удивленно, не зная тогда, что это будет вопрос наиболее часто встречающийся во время всего моего последующего пути. «А так, — пояснил Григорий охотно, — как ты думаешь та о ем, почему и што значит и откуда мощи, когда сказано, что та осьмую тыщу лет мощей не будет». — «Я очень уважаю отца Серафима, — сказала я: «он хорошiй был и великiй молитвенник». — «Оно, конечно, коли та свят он, — заговорил опять Григорий, — то и мощи следует та, конечно почтить, ну а почему же бают, што не будет более мощей и которы стары люди в соблазн ба-альшой вошли из за самаго того отца Серафима. Прежние-то угодники иде, али та неугодны уже стали»?
…Отдохнувший Мальчик весело побежал по утоптанной дороге. По обеим сторонам цветет рожь, высокая здесь, густая, сквозь длинные колосья просвечивает сиреневое небо заката. Поднялся ветер и по полю пошли синие волны. Чудесно пахнет дикой ромашкой, васильками и цветущей рожью. Далеко, далеко не видно ничего, кроме синеющих волн высокой ржи. Навстречу едет обоз, хозяева спят на возах. «Это к завтрему на базар та в Бор», — заметил примолкнувший Григорий и вздохнул, — эка благодать та». Пала роса. Мы опускаемся в ложбину, по дну ее бежит маленькая журчащая речонка. Над водой клубится белый густой туман. Это русалки ткут себе, по народному поверию, венчальную фату к Иванову дню. Когда убранные купавами и острой осокой выйдут оне на опушку лесную, ожидая жениха-спасителя. Который не побоится зеленых глаз русалочьих, приголубит ее и поведет в церковь Божию венчаться, с той сгинут чары, и станет она вновь девушкой живой.
«Скоро до Ежова доедем, кормить станем и поспим та маленька, — говорит Григорий и, вдруг остановив лошадь, он соскочил с облучка достав из под него теплый бобриковый халат, он старательно закутал меня: «Мотри, не простынь та грехом, тут не близко, нахолодуешь еще». Эта заботливость меня очень тронула, — недаром он обещал дядичке поберечь как свою. Но крестьяне вообще к своим редко проявляют подобную заботу, так что Григорий был во всяком случае исключением, это мое мнение вполне подтвердилось потом. (…) Совсем засыпая, я слышу едва мерное дребезжание привязанного к передней грядке ведерка».
* * *
Если бы иной, строгий во нравах человек истолковал бы Верин «проект» (путешествие) как странное проявление необоснованного риска и авантюризма, то неплохо знакомый с семьей Жуковских увидел бы здесь деятельную натуру и благостное, не ведающее зла, доброе расположение к миру. Мы бы, уже привыкшие совсем к другим отношениям между людьми, сегодня тому подивились, а тогда Россия иной была и люди совсем на нас непохожие. В том мире — в зоне духовной, в жизни душ человеческих — преобладали светлые тона и энергии, добрая изначальная предрасположенность людей друг к другу, которая порождала совсем иной и ныне нам незнакомый, забытый климат жизни.
Мы, нынешние, даже сами того не подозревая, уже заранее ждем от мира, от людей и вообще со всех сторон враждебности и подвохов, живем на миру как в западне. Напряженные лица, тяжелые взгляды, холодные и настороженные ответные реакции — что это как не действие в человеках демонических сил? Теперь многие идут, бегут к Богу, к спасительной пристани Церкви, но даже и там им оказываются потребны годы и годы для того, чтобы с Божией помощью вытравить из себя эту подозрительность, этот смрад, очиститься и вдохнуть иного воздуха и настроя, чтобы несмотря ни на что — светить миру и излучать в него тепло и любовь.
…Однажды, вначале церковной жизни, когда духовные новобранцы особенно сильно чувствуют носящую их на руках чудную помощь Благодати Божией, когда удивительной ревностью горит такое новорожденное о Христе сердце, и даже тугое кольцо скорбей не способно его погасить, потому что все все в этом море начальной благодати воспринимается иначе, — вот в такое именно удивительное время и привиделся мне тот незабываемый сон, а, вернее, всего лишь одна картинка из сна, живой кадр…
Увидела я храм — не так уж и великий по объемам, но обрамленный не стенами, а высоченными и настешь открытыми до неба арками, без купола, — нечто подобное неземным видениям Джованни Пиранези. В эти арки и сверху вливался необычайный, густой, почти физически ощутимый, насыщенный свет. Шла служба, и храм был до отказа заполнен людьми, которые стояли в страшной тесноте, так что я только что и сумела, как еле-еле примоститься на самом краю последней, (за мной уже ничего и никого не было), а потому мне почти ничего не было видно впереди, кроме спин и голов и этих залитых светом арок. Зато я чувствовала, вкушала и вдыхала совершенно неописуемый — свежий? благоуханный? насыщающий? обновляющий? ликующий? — неземной в о з д у х …
На следующий день я отправилась ко службе в наш монастырь, и там тоже оказалась позади всех. Передо мной были людские спины: у кого почти прямые, у кого — согбенные с низко опущенными главами… И вот тут-то в одно мгновение я и прочувствовала, что такое был т о т воздух, и ч т о такое было там, а что — здесь, у нас. Не просто камера удушья, не просто нехватка кислорода, — нет! Всем своим существом я ощутила страшное давление лежащей на всех впереди стоящих людях тяжести, на их плечах и спинах, и в них самих — во всех телах — тяжесть, пригнетающая долу ужасная тяжесть…. Мне же только несколько кратчайших мгновений было легко, как там, во сне, чтобы я была способна сравнить, но как только сравнила, так все и исчезло: я перестала ощущать гнетущую тяжесть других, впрочем, как и свою собственную.
Многих из прихожан я очень хорошо знала: милые, добрые, поистине церковные люди, но, Боже мой! Что же мы все несли в самих себе и на своих плечах! И что же потребно было сделать человеку, чтобы скинуть, выбросить из себя этот стопудовый груз и обрести ту, неземную легкость, счастье, желание полета…
* * *
Вспоминая о трогательной родовой незлобивости и совершенно естественной благорасположенности к всем людям Жуковских, я вовсе не предполагаю на этом основании утверждать, что внутренняя глубинная чистота и мягкость сердца есть полная страховка от заблуждений, ошибок и греха. Знаю, что и Верочка в глазах строго моралиста подверглась бы, несомненно, жесткой критике. Да и подвергалась! Как во времена революционные, поскольку была знакома с Распутиным и попала в водоворот следствия Чрезвычайной Комиссии Временного Правительства, а там была такая сшибка политических контрастов и подспудных тайных сил, что Верочка вообще чудом унесла оттуда ноги живой, так и в наше время.
Были люди и тогда, и сейчас, которым нужно было кровь из носу опорочить ее жизнь, душу, и самое ее перо ради своих политических корыстей. Мало кому пришлись по вкусу ее объективные записки и зарисовки о хлыстовских «живых богах», о Распутине. А она, может и сама того не сознавая, стала уже настоящим классическим русским «физиологическим очеркистом» — в 60-ые годы XIX века на русской реалистической почве родился такой замечательный, очень жизненный и правдивый жанр документальной прозы, за которым мне почему-то кажется, несомненное будущее и расцвет такой литературы — впереди. И могу попробовать даже сказать, почему…
Как воздух России нужно православное по духу по мышлению, по видению искусство, и в первую очередь литература. Но сочиненные герои, фантазии и вымышленные сюжеты… Как-то это не совмещается с чистотой и святыней религиозно-правдивого взгляда на мир. В такой литературе выше всего будет цениться искренность, исповедальность (великая черта русской классической прозы), а искренность будет цениться такая, где слышен будет действующий в ней Дух Благодати Божией, а не комок «говорящих» человеческих страстей.
Именно по этому пути нащупывания нового, начинали идти русские классики. И Пушкин, и Гоголь — лирические отступления которого в «Мертвых душах» — удивительный прообраз будущей новой русской классики и кстати, самое воодушевляющее чтение для автора данных «Поминаний». Не говорю уж о «Дневнике писателя» Федора Михайловича Достоевского… В синтезе с романной стихией он уже открывал эти удивительные образчики художественной публицистики или точнее русского религиозного реализма: «Бобок», «Столетняя»… Впрочем, тема эта слишком глубока и интересна и требует неторопливости, а нас ведь ждет Верочка и ее странствия, и знакомства с ее редкостными уникумами-героями безгранично многообразной жизни России.
* * *
…Рискованные странствия почти в одиночку, хождения по сектам, по хлыстам — зачем только все это ей понадобилось, чего уж так ей приспичило всем этим заняться? Неприятный А. Пругавин, еще менее приятный Г. Распутин, к которому она ходила почти три года, записывая все досконально и дотошно в дневники, а мы знаем уже, какой остроты и хваткости слух да глаз подарил ей Бог, — кому это все было нужно? А дело в том, что Верочка в это время она работала над романом «Сестра Варенька. Повесть старых годов», и все эти работы мыслились лишь в качестве подготовительного изучения и сбора материалов для будущей книги.
«Варенька» была написана и издана в 1916 году с обложкой и виньетками, сделанными сестрицей Катей. Тон и стиль «Вареньки» совершенно не походил на Верин голос в очерках, — это была интонационная стилизация под старинную речь эпохи Александра I, по-своему приятная, изящная, чем-то напоминающая книгу барона Н. Н. Врангеля «Помещичья Россия», ставшую классикой Серебряного века:
«Душенок мой, дурак, дорогия сладкия губки, кот заморской, милой, милушка, павлин, татарин, сударушка — вот слова ласки, которые говорили русские женщины XVIII века своим возлюбленным», — такой образец амурного "слога времени" и роскошный букет красок усадебного быта конца XVIII — начала XIX веков оставил этот очень известный русский барон-искусствовед и еще более знаменитый Петербургский денди. Это была одна из самых ярких, знаковых фигур Серебряного века, к которому принадлежала своим творчеством и наша Вера Александровна.
Первое, что я прочла когда-то в «Сестре Вареньке», когда мне стало интересно все, что было связано с Верочкой, открыв наугад страницу, были слова о «моей» иконе «Взыскание погибших»:
«Ныне матушке двадцатый день… За обедней встала я у образа Царицы Небесной Взыскания погибших, и так хорошо с Нею и матушкой побеседовала. Ведь ты у Нея теперь, моя голубонька, родимая моя. Расскажи ты мне, как там у Бога? Поняла ли ты жизнь нашу, в скорбях проводимую? Увидала ли радость небесную?…Стыжуся я слабости моей, а ничего с собой поделать не могу — мучит меня мысль одна: в чем сия радость небесная заключена, и можем ли мы здесь хотя бы слабый отблеск ее увидать».
Эта была милая, старомодная, написанная напевным особенным русским наречием дворянских гнезд — не XIX, а скорее конца сентиментального XVIII века повесть о жизни и духовных скитаниях рано оставшейся без матери дворянской девушки Вареньки. И чего там в этом кружевоплетении «века пудры и вздохов» только не было: и радения хлыстов, и томления духа, и поиски озера Светлояра — чуть ли не весь спектр характерных символов, образов и знаков Серебряного века, эпохи заката русской культуры, заката Российской Империи, — заката и умирания всей прежней многовековой русской жизни.
Этот закат горел ярко и страшно. Все в нем было: и безбожие, и цинизм, и экзальтированный нетрадиционный сектантский мистицизм, и томительная тончайшая художественная красота, и тоска по яркой и здоровой народности, и прощание с уходящей натурой — умирающей неоглядной стихией и красотой прежней жизни русской нации, и поиски каких-то новых спасительных путей, способных в искусстве и в жизни остановить этот страшный и стремительный процесс разложения, влить живительную струю. И, конечно, нескончаемый пир во время чумы…
Все это, к слову, фиксировал в своем глубоком сердце и творчестве честный и мудрый свидетель, — но вряд ли все-таки участник (как не была в глубинах своих участницей этого страшного пира и Вера Жуковская) — Антон Павлович Чехов, к личности и перу которого многие критики и до сих пор предъявляют претензии за то, что так ясно и правдиво как врач или даже как священник (последнее представляется мне даже более близким) поставил смертельный диагноз последней русской болезни эпохи великой катастрофы. Она называлась — потеря смысла жизни.
На коллаже работы Екатерины Кожуховой слева направо, на фоне картины Апполинария Васнецова «Озеро Светлояр» — семейная группа, где внизу сидят слева — направо: Екатерина Микулина, рядом Верочка Подревская (Жуковская). На плечи ей положила руки 90-летняя Анна Николаевна Жуковская, рядом с нею в центре — Николай Егорович Жуковский, в гамаке лежит Вера Егоровна Микулина, за ней — Леночка Жуковская, стоят (слева — направо): Константин Подревский (муж Веры), Александр Микулин, ее и Катин брат и неизвестный…
Снимок сделан в Орехове в 1910 году.
Справа наверху — впервые публикуется хранящийся в ОБ РГБ портрет Алексея Григорьевича Щетинина — хлыстовского "живого бога",с которым встречалась Вера Жуковская (отрывок см. в следующей главе)и Григория Ефимовича Распутина.
Отрывки из очерка «Страннические воспоминания — 12–13 г. Из страннических воспоминаний. Путевые записки по Поволжью. 19 июня — 1 авг. 1913 г.» Веры Жуковской (Хранятся в Отделе рукописей РГБ.Ф.369. 386. 15.) публикуются впервые.
По лестнице вверх побежал свет, и дядя Григорий вошел с лампой. Старательно привернув ее, чтобы она не коптила, он поставил ее на край стола, одиноко стоявшего у окон. Потом, подняв с полу халат, он подвинул от стены узенький деревянный диванчик и деловито стал расстилать на нем халат, сложив его втрое. «Ну, вот тебе и постеля та, мягче не сделаешь, — добродушно усмехнулся он, похлопывая ладонью по халату. — Котомочку твою вот так та положил в головах, ладно, таперя ложись та, знай я те одену твоей та одежонкой». — «А как же ты без халата», — сказала я, ложась на мою импровизированную постель. Он весело отмахнулся: «Эка невидаль та, точно мы и безо всего не спали та… не сумлевайся та обо мне, я за дверьми лягу тута, тебя посторожу, обещал старику твоему. Ну, спи со Христом», и старательно прикрыв меня плащом, он захватил с собою лампу и вышел. «Вот добрый», — подумала я радостно, укладываясь поудобнее на жестком ложе, и уснула мгновенно. (…)
За печкой кто-то завозился, осторожно выглянула чья-то голова, огляделась вокруг, как зверек из норы и, видимо уверившись, что бояться нечего, медленно вышло наружу какое то странное существо: девочка, не девочка, и на взрослую женщину не похоже. Маленькая, тощая, в холщевой рубашке, взлохмаченная коса завязана зеленой тряпочкой, на крошечном лице глубокие морщины, а глаза совсем детские. Подошла ко мне, протянула руку и односложно сказала: «Дай». Я положила ей на ладонь свой кусок хлеба с солью. Она быстро слизнула соль, а хлеб зажала в руке, и сев на пол, спросила жалобно: «Сустрела его то?» — «Кого?» — спросила я тихо. Она замигала светлыми веками и, заплакав горько, принялась раскачиваться из стороны в сторону, бормоча невнятно какие то слова. С большим трудом удалось мне, наконец, разобрать: «Ваню, ягодку, Ванятку, Аленку, ох, гроза, быть грозе…» «Ванятка, Ванька» — она плакала так жалостно, с такой безнадежностью твердила это «Ваня ягодка», что у меня навернулись слезы, и, несмотря на чудесное утро, такое душистое, ласковое, мне стало очень грустно. Наклонясь над нею, я спросила ее, о чем она плачет, но, все ниже опуская к полу голову, она твердила, задыхаясь от слез: «Ванятка-аленка, Ваня ягодка…»
Дверь скрипнула, вошел Григорий. Едва завидев его, она мгновенно вскочила и, как мышь, скрылась за печкой. Григорий покачал неодобрительно головой: «Это у нас юродка така, она повсегда плачет та тоску нагоняет, знай пойдем что ля, пойду кладь то снесу»…
Литературному наследию Веры Александровны Жуковской, как и этим замечательным «Странническим воспоминаниям», отрывки из которых я здесь помещаю с удовольствием и трепетом, поскольку для меня они нежданная и негаданная встреча с живой Верой, душа которой светится в этом удивительно правдивом рассказе, — очень не повезло. Удивительно, что почти сто лет пролежали эти очерковые зарисовки под спудом в архиве, проспали сном мертвой царевны. Сколько раз в своих письмах двадцатых — тридцатых годов Вера со скорбью упоминала о своем творческом кризисе, впрочем, скорее о всестороннем кризисе жизни, не только творческом: об опасностях и крайних трудностях ее существования, о беспредельной усталости, одиночестве и почти отчаянии, которое то и дело подходило к ней как ком к горлу. Но характер-то у Веры был все-таки очень твердый, мужественный, и воля железная, и она не только то и дело брала себя за волосы и вытаскивала себя из состояния полной раздавленности обстоятельствами, нуждой и, что особенно тяжко человеку сознавать, — самим собой. И при всем этом она не переставала трудиться: и по хозяйству своему крестьянскому, и по созданию музея памяти Николая Егоровича, и, разумеется, писать: доделывать и переделывать что-то старое, начинать новое… Свидетельством тому — опубликованные воспоминания о встречах с Г. Е. Распутиным, прекрасно отделанная, очень крепкая и талантливая во всех отношениях литературная работа. Обстоятельства у Веры действительно, были крайние в те долгие послереволюционные годы, если в одном из писем В. Бонч-Бруевичу она предложила продать свои рукописи Горькому, что Бонч разумно отверг.
Письма Веры, так же, как и ее очерки, оставляют впечатление искренности, простоты и душевной незамутненности. Даже в годы так называемого ее духовного кризиса, о котором она признавалась в 1914 году Пругавину, проза ее и письма дышат простодушием, а это редкая и столь же ценная черта, сколь отвратительно скрытничание и мудрования, за которыми обычно в подоплеке кроется самое обыкновенное лукавство — то есть, неправда.
Теперь я не сомневаюсь, что тот ее дореволюционный духовный кризис был совершенно поверхностным, врЕменным, и даже, возможно, надуманным явлением. От веяний моды, увы, Верочка в молодости не была свободна, как и многие из нас, коль скоро не могла еще в те годы освободиться от насиловавшего ее душу тщеславия. Зато впоследствии ей в высокой мере удалось избегнуть его благодаря нескончаемым испытаниям, скорбям, потерям и унижениям.
Дореволюционные очерки Веры поражают светлыми тонами повествования и авторского видения русских людей, которые под ее пером рисуются настолько задушевно и правдиво, что некоторые страницы ее документальной прозы вполне могли бы поспорить за литературное и духовное первенство со знаменитым «Мужиком Мареем» Ф.М. Достоевского.
В письмах Вера тоже предельно естественна, искренна, открыта, и… беззащитна. Такая вот была у нее душа христианская и в таком уже внутреннем напряжении она жила, что не могла и не хотела скрывать в себе свою боль и свое собственное самоотторжение. В письмах тридцатых годов — даже к тому же самому, пусть очень давно знакомому, но отнюдь не такому уж и близкому В.Бонч-Бруевичу, Вера не скрывает своих наижесточайших и наигорчайших о себе самой суждений. Словно сознательно и нарочито казнит себя, жалит и ранит…
Отчаянно жестко судит она себя и жизнь свою. Многие ли на таковое способны?
* * *
«Заказное. Москва Воздвиженка М.Кисловка д.№ 5 кв 2
Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу
«Черкутино Ивановской обл. Орехово. В.А. Жуковская
17 октября 1933 года.
Глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич!
Очень досадно, что я забыла Вас спросить: читаете Вы сами письма, или Вам их читает вслух Ваш секретарь: я бы очень хотела написать Вам кое-что относительно своих личных дел, но сказать это я хотела бы непосредственно Вам.
Все время думаю о том, как бы найти свободное время и начать писать ту большую вещь, которую я давно мечтаю написать, но сейчас у меня решительно нет ни одного часа не занятого днем, а к вечеру так устаю, что еле добираюсь до своего любимого стараго дедушкинаго кресла, прочитываю одну-две главы фр. романа и тут же валюсь спать с тем, чтобы встать чуть забрежжит свет, и начать бесконечные хозяйские хлопоты: 2 коровы и лошадь, которая вот уж неделю, как не ходит больше в табуне, поглощают все время. Кроме того, меня одолели материальные заботы: подходит зима. А у меня не вставлены стекла в доме и не покрыта крыша двора, а денег нет. Как было бы хорошо, если бы мне удалось получить что-нибудь за Распутина, так будет жалко продавать корову: это теперь граничит с разорением, потому что, раз продав, купить больше никогда не сможешь, так велика цена. Надеюсь, закончив уборку к зиме сада и обмолотив хлеб, поехать в Москву, тогда я, м.б., буду счастливее, чем в этот раз и мне удастся повидать Вас, а, может быть, Вы что-нибудь устроите к тому времени с моими записками. Почему Вы не советуете мне продать их М.Горькому?
Я хочу еще сказать Вам несколько слов о моем задуманном романе, он называется «Одержимые», и проводит ту мысль, что все люди (есть) чем ни то да одержимые, причем одержимость прямо пропорциональна таланту; попутно с этим в нем детально разбирается дилемма о женщине Дон Жуане. В общем, это будет хроника нашего рода, давшего такого гениального потомка, каким был Н.Е. и таких изумительных по силе духа женщин как мои две прабабушки и бабушка — мать Н.Е., а под конец, — образец истинно бесовской одержимости, как Ваша покорная слуга, которую в средние века обязательно сожгли бы на костре, — но «я из рода саламандр: не сгораю на кострах…», и хотя давно уже с истинно бесовской беспечностью жгу мою жизнь с двух концов, но до сих пор как видите, жива и даже умудряюсь вывертываться из самых рискованных положений.
Но это уже не для секретаря — прошу у него, или у нее, извинения за невольно вырвавшуюся фразу и кончаю письмо во избежание соблазна. А очень бы хотелось с Вами побеседовать…»
Долго колебалась я — публиковать ли это — одно из самых горчайших писем Веры, адресованное В. Бонч-Бруевичу, который ей не раз помогал, спасал ее даже и от ареста, и не только ее, но и тех людей, за которых она просила его по старой памяти (в частности, Вериным хлопотам и заступлению Бонч-Бруевича обязан жизнью мой дед Иван Домбровский), но потом все же решилась я это письмо «открыть», уповая только на одно — на веру в созидательную силу Истины Христовой, без чего мы вообще не можем найти спасительной пользы в размышлениях о жизни человеческой, исполненной, увы, даже, в казалось бы, «безгрешных» личностях неправд и греха; никогда бы не смогли найти того единственно верного и спасительного подхода к ошибкам и падениям своим — и других, и, наконец, к борьбе человека с самим собой за восстановление в себе образа и подобия Божия.
…Передо мной лежало Евангелие, раскрытое на том месте, где повествуется о том, как ко Христу приводят грешницу, застигнутую в прелюбодеянии. «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» (Ин.8:4–5).
Закон Моисея ставил плотский грех, грех прелюбодеяния в ряд преступлений, которые карались смертной казнью. Зачем же тогда эти еврейские начальники привели грешницу к Иисусу, коли и так могли превратить в кровавое месиво? Ответ очевиден: они хотели устроить Иисусу ловушку: или Он по милосердию Своему освободит грешницу и тогда нарушит закон и Сам будет повинен казни, или же исполнит закон, одобрив их действия, но в таком случае нарушит собственную заповедь о прощении и милосердии. В этом случае Он был бы осмеян и посрамлен. «Может быть, в этой толпе были и такие, кто, затаив дыхание, ожидали от Иисуса чего-то третьего, великого и неизвестного?», — вопрошал один из толкователей этого эпизода святитель Николай Сербский (Велимирович).
Хитра и опасна ловушка фарисейская. Шах и мат. Кажется, выхода нет. Закон есть закон. Закон грешницу осудил — смерть ей. Осуди и ты. И мы часто, не отдавая себе в том отчета, попадаем в эту ловушку фарисеев, которые говорят нам, что существует только два пути, два способа отношения к грешникам: черный — осуждение грешника вплоть до побиения камнями до смерти, и белый — оправдание грешника, и тем самым подписывание смертельного приговора самому себе, как покрывателю и оправдателю греха, как ставшему тем самым его соучастником.
Два пути — черный и белый — это Ветхий завет. Но есть третий путь — путь Нового Завета, который принес в мир Господь Иисус Христос: то самое «великое и неповторимое», никогда доселе не бывшее, заключавшее в себе не новую мораль, не примирение двух позиций, дальше которых и мы, именуемые христианами, все никак не можем уйти, но совершенно новую жизнь, полное обновление человеческого сердца, новые законы бытия, которые зиждились бы только на одном слове и понятии и образе действия: Любви.
Той Любви, которая: долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, «не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Любви, которая «никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13: 4–8).
Что же тогда ответил Христос фарисеям? Святитель Николай Сербский приводит народное предание о том, что же в тот момент перстом Своим, склонившись, начертывал на пыли и песке Иисус… А писал Он самые тайные беззакония и ото всех сокрытые грехи обвинителей, о которых никто не знал, кроме Него и их самих. «Они же, услышав т о и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:9).
Можем ли мы понимать это как неосуждение Господом греха? Можем, если только мы согласимся признать себя фарисеями. Евфимий Зигабен, византийский богослов и экзегет, строгий монах, замечательный толкователь Священного Писания XII века, говорит иначе: Иисус Христос знал, что грешница раскаялась всем сердцем и достаточным для неё наказанием служила публичность её посрамления перед многочисленными свидетелями. Другие богословы считают, что Иисус и простил смертный грех этой женщине, поскольку в других евангельских эпизодах подобных этому, Он обычно прямо говорит: прощаются тебе грехи (Мф.9:2; Мк.2:5; Лк.5:20 и др.).
* * *
Увы, не гладко и не безоблачно, не по прописям строгих моралистов слагался жизненный путь Веры Александровны, впрочем, как и почти всего ее поколения. Идти против толпы не всякий человек способен — единицы, и это действительно трудно, если даже, как мы знаем, и дети священников в большинстве своем в XX веке уже совсем теряли живую веру в Бога и связанный с ним благочестивый образ жизни. Единицы священнических потомков жили в венчанных браках, избегали разводов и супружеских измен. Большинство поддавалось веяниям времени и его жесткому диктату. Уже внуков священнических редко крестили… Только глубокая и подлинная вера, просветленная и просвещенная — да, богословски просвещенная (святые отцы говорили, что христианин не только не может, но должен богословствовать!) и опытно, молитвенно, благодатно обеспеченная, давала человеку силу стоять хоть и в одиночку на страже святыни своего сердца.
В 1919 году устав терпеть капризы Константина, — он не умел, не желал и, возможно, даже не мог удерживаться на службах, на которые его устраивали то Жуковский, то тесть его Микулин, он привык жить, как поэт, свободно и полубогемно, — Вера развелась с ним. Распался венчанный брак. Впоследствии у Веры было два очень кратких гражданских брака, после каждого из них она вдовела, а затем затяжное и глубокое одиночество до самого конца жизни. О каких-либо флиртах ее мне неизвестно. Об этом никогда в семье не говорили: все очень любили и берегли друг друга. Знаю верно одно, что искушение выглядеть смелой, свободной и храброй лежало у Верочки на поверхности души, — глубины сердца своего она ничему этому не отдавала. Слишком сильна была в ней привязанность семейная, любовь к своему корню. Она выросла в очень патриархальной среде, в чистоте безупречных отношений друг к другу всех в семье, и в особенности родителей, благоговейно хранивших до конца жизни святыню своей любви, да и всех других близких. Отсюда, из этого святого корня возрастала ее природная мягкость, доверчивость, доброта, ее домашность, даже ее особенная непосредственность. Вера не порвала с той великой тягой к семейственности, очарование которой отличало мир Жуковских. Она вся принадлежала к этому миру. И собственные впоследствии временные уклонения от того, на чем стояла жизнь Жуковских и Микулиных, наносили прежде всего ей самой тягчайшие раны. Она не хотела так жить и потому сама себя жестоко судила.
Этот томительный период ее жизни длился довольно долго — все-таки она умудрилась завязнуть в модных тогда поисках «превратных», как она сама выражалась, путей к Богу, что нашло косвенное отражение в ее «Сестре Вареньке», затронуло и ее собственную душу. И если поверить ее самообличительным словам о том, что она жгла свою жизнь с двух концов, то истоки этой горькой душевной драмы надо было бы искать именно в потере духовных и нравственных опор жизни.
Уж если она умоляла Андрея Белого, как пророка (!) о свидании, надеясь на то, что уж он-то прольет свет в ее запутавшиеся мысли, то не есть ли это очевидное свидетельство того тупика, в который она пришла к 1917 году? А ведь еще совсем недавно в 1914 году, в таком ясном благодушии странствовала Вера к таинственному озеру Светлояру, примечая по дороге дивную русскую красоту, столь дорогую ее сердцу, любовно вглядывалась в размеренную жизнь тогда еще совсем патриархальной деревни, в особенности крестьянских обычаев и нравов.
И что только она хотела и могла найти у Белого — Бориса Николаевича Бугаева?..
«Поехали дальше. По обе стороны тянется порубка высокая, мягкая трава по пояс, вся цветет. Здесь и полевой горошек, желтый и голубой, и яркая куриная слепота с клейкими темными стеблями, и множество серо-синих невзрачных цветов на высоких стеблях, которые мы почему то называли всегда свидригайлы. Их здесь так много, что иногда вся поляна издали кажется одного цвета. Около широких темных пней с подрастающим от корня молодняком, белыми букетами стоят ромашки. Изредка видны желто-бурые шишечки купавок. В Иванову ночь пойдут искать их девушки. Спрятанные с наговорами в тайное место, скажут они всю правду, только надо молча сорвать их, пока на колокольне в селе не отзвонили полночь и не пропели первые петухи.
Стало жарко и захотелось пить… У лесной глубокой и узкой речки мы остановились. Отвязав ведерко, Григорий напоил Мальчика, тот жадно выпил два ведра, остаток недопитого третьего дядя Григорий плеснул на заднее колесо: примета есть. Привязав ведро на место, он спустился к реке и стал умываться, отдуваясь и кряхтя. Возвращаясь ко мне, Григорий с довольным видом заметил, насухо обтирая раскрасневшееся лицо клетчатым платком: «Замечай та, вот в этой речушке та вода летом больно студена та, а зимою ни в какой мороз не мерзнет та, подлинно чудо. Сказали, заговорена та она. Живал тут, бают, та люди стары, свят человек, часовенку поставил над самым тем ключом та, от которого река течет та, ну и заговорил».
Мы проехали ржаное поле и въехали в большое село…
«Что в избу не идете?», — спросила меня хозяйка, появляясь в дверях. «Умыться хочу», — сказала я, оглядываясь, нет ли рукомойника. «Есть то, есть, в горницу ступайте», — живо подхватила хозяйка, беря у меня котомку. «Варенька, воды неси скорейча, да самовар то наставь», — скомандовала она, входя со мною в избу.
Эта действительно заслуживала названия гостиницы: большая, с чистым гладко выструганным полом, яркими ситцевыми новенькими занавесками у печки, большим столом и цветущими на окнах месячными розами. Весь угол занимали образа, и было их тут великое множество. Горели три лампадки, очевидно по случаю долгого отсутствия хозяина. В избе пахло сдобными лепешками и свежевынутым хлебом (…).
Наконец, двинулись дальше. Переехали через мост. Вот и Семенов…
Простились мы с дядей Григорием трогательно, и он заявил мне на прощанье: «Вот как к тебе-то попривык, точно к своей то дочке. Жалко мне покидать то тебя, ты свому старику как будешь писать, отпиши, что Григорий Тихомиров обещанье блюдет свято — одно слово, берег та во как!». Пообещав ему это от всего сердца и поблагодарив еще раз, я вошла за хозяйкой в прохладные сени…
(…) Проспала я недолго и проснулась от какого то тихого шушуканья. Открыв глаза, увидала я старушонку, мывшую меня в бане. Присев на корточки около постели, она что то бормотала. Письменно передать ее говор совершенно невозможно, он напоминал какое то птичье бормотанье, сопровождаемое хихиканьем к месту и не к месту. «Ты что, Анна?», — спросила я, вспомнив, что так ее называла хозяйка. «Я мол не на Светлояр та идешь та?», — поджимаясь как-то и косясь на бок, пробормотала она. Удивленная я села в постели и спросила с забившимся сердцем: «А разве к нему теперь ходят?» — «Та как же та, — поспешно зашептала старушонка, оглядываясь почему то по сторонам. — На Владимирску та сама мольба. Туда недалече, до Шалдежа верст тридцать, да от Шалдежа 25, коли ты туда, я та, скажутка, у нас идут, обратной та тебя и свезет в Шалдеж, а там мигом, курочкой побежишь, зайчиком поскачешь, близко то всего двадцать пять, я мигом, ишь ты Люнда та, мы та на ней не бывали?! та Китеж град та! пресветлый Исус батюшка, я шнурочиком вытянуся, мигом сейчас, Микола мученик», и она убежала, подскакивая и помахивая руками.
Я легла опять. Голова начинала сильно болеть, но в душе было такое чудесное чувство, хотелось молиться и плакать. Ведь я совсем не думала, что Светлое Озеро здесь около Семенова и окончательно забыла, что его праздник 22-го июня. А то, что я в эти числа как раз выехала в мое странствие, было чистою случайностью и, видя в этом невидимое решение чудесное, я чувствовала себя растроганной и невыразимо счастливой.
Видеть Светлое Озеро и холмы, где скрывается невидимый Китеж град, было всегда моей тайной заветной мечтой, и, как всегда, боясь осуществлять ее, я никогда не старалась узнать, где же он находится. Но здесь в Заволжье, как я поняла потом, этот град всем настолько близок и необходим, что к нему относятся так же, как к Святой Земле, если не больше, потому что она далеко и недостижима, а к Светлояру можно пойти каждый день. И идут туда тысячи. До сих пор многие, идя туда, хранят надежду тайную, если не увидать на вечерней заре отражение золотых глав Китежских соборов в светлых водах озера, то хотя сподобиться услыхать по росе малиновый звон Китежских колоколов. Это те, кто через всю жизнь пронес святую веру в чудо, кто сохранил нетронутым сердце чистое, и как сказал Христос: «Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят».
* * *
Чуть более десяти лет назад в церковных и околоцерковных кругах решался вопрос о канонизации убиенной Царской семьи. А в связи с этим требовала осмысления и проблема влияния на семью Государя и Григория Распутина. Тут-то и всплыли извлеченные из забвения «Воспоминания» Веры Александровны. Тут-то началось теперь уже посмертное ее страдание, тут-то и понеслись в адрес покойной резкие, категоричные, да просто неслыханно грубые и жестокие эпитеты, которыми награждали автора воспоминаний свои же русские православные историки. Конечно, она, как человек и как живая у Господа православная душа никому им ни интересна была, ни нужна. Через эту давно умершую, прожившую большую часть жизни в захолустье старушку можно было просто перешагнуть, но очень сильные, яркие, объективные, мастерски написанные воспоминания просто так отбросить было невозможно — их как документальный источник приняла во внимание Синодальная Комиссия по канонизации святых и использовала затем в Докладе председателя этой Комиссии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3–8 октября 2004 года.
Все это не могло способствовать желанному для некоторых людей прославлению Распутина в лике святых (вопрос о том и сейчас не снят с повестки дня). Значит, нужно было любыми путями очернить и опорочить автора этих воспоминаний. Чем и занялись наши православные собратья…
Прежде всего, Веру Александровну обвинили в плагиате. Мол, не ее это рука, и воспоминания о Распутине не ею написаны, это подлог, поскольку ее прежние дореволюционные книги — та же «Сестра Варенька», — написана совсем в другом ключе, — «типичная дамская проза», а текст воспоминаний 1924 года свидетельствует о талантливой и профессиональной руке. О наветах личного плана на Веру Александровну я и не говорю…
Конечно, мне было очень больно за Веру Жуковскую, но еще более меня поразило состояние душ наших православных собратьев, та ненасытная злоба, политическая корысть, ради которой можно было запросто сметать с лица земли все то, что станет ей помехой на пути, не считаясь ни с духом нашей веры, ни с Заповедями Господними…Словно эти люди оставляли свое христианство в храме, когда выходили из его врат наружу.
И тут все менялось: и отношение к грешникам, и отношение к прошлому, и вообще отношение к жизни. Вместо Божиих законов, вместо хотя бы на словах признаваемой Христовой Правды вступала в силу какая-то иная, человеческая правда, а вернее, правды, потому что счета им не было…
Как и к грешникам, так и по отношению к прошлому эти люди умели пользоваться только двумя красками: черной и белой. А вот третий путь — Христовой Правды они никак не могли понять и принять. Черной пользовались обличители, а белой с примесью розового — ностальгирующие, которые тоже не хотели и не могли видеть в прошлом никакой не угодной им ни правды, ни противоречий, но сложностей, ни несовершенств, — всего того, без чего не может существовать этот земной грешный мир.
А где-то совсем рядом — рукой подать — пролегал третий — единственно верный, надежный и святой путь, где только и могли пресечься, «сретиться» Любовь и Правда, как сказано о том в 84 Псалме: «Милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася: истина от земли возсия, и правда с небесе приниче: ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред ним предидет, и положит в путь стопы своя» (Пс.84:11–15).
«Где нет «милости», где «ожесточение», там нет «Истины», — писал своему духовному сыну святитель Игнатий (Брянчанинов). — «Где нет «мира», там нет «правды». А состояние души, чуждое Божественных Истины и Правды, нельзя признать «состоянием от Бога».
Воплотившийся Господь и открыл этот путь истинно христианского сердечного познания, в котором только и можно было обрести и заветное чувство родства, и нелицемерную любовь и сострадание, и научиться слышать боль других людей — стать христианами, не убивающими, но врачующими несовершенства мира даже независимо от времен и сроков. Но те немногие, христиане, которые пытались встать на этот путь, оказывались неугодными и тем, кто с дегтем, и тем, кто с елеем. Они не закрывали глаз на больное, достойное сожаления, на заблуждения и уклонения от истины и даже на падения своих предков, но пытались осмыслить, понять, и объяснить подлинную историю этих болезней, осмысляя их не только как чужие, но и как свои, как единую боль единого грешного человечества, востекая к престолу Божию с горячей молитвой «за всех и за вся». И было в этом, исполненном сострадания и боли любящем и молитвенном сыновнем взоре нечто такое, что могло врачевать даже очень древние, застарелые раны…
«De mortus nil nisi bene» («о мертвых ничего, или хорошо» — Диоген Лаертский), — говорили древние римляне. Удивительно, что истина бережного отношения к душам усопших открывалась даже жестоким язычникам, сидящим в «тени смертной». Но она, как всякая истина, рожденная до Христа, не была и не могла быть совершенной, ибо не явлено было главное — созидающая сила Христовой Любви, которая одна только имела и право и власть являть миру Правду, даже самую горькую и нелицеприятную, как говорил о том когда-то митрополиту Вениамину (Федченкову) святейший патриарх Сергий (Страгородский): «Правда должна быть с любовью, а любовь с правдой». Такая правда не разрушала, но очищала и воскрешала, и обновляла души, помогая и ныне живым и уже отошедшим к Господу.
О том, рассматривая церковную политику эпохи Константина Победоносцева, писал и замечательный историк русского богословия протоиерей Георгий Флоровский: «В православной традиции он дорожил не тем, чем она действительно жива и сильна […] Он был уверен, что вера крепка и крепится не рассуждением, а искуса мысли и рефлексии выдержать не сможет. Он […] верил в охранительную прочность патриархальных устоев, но не верил в созидательную силу Христовой Истины и Правды».
Перед каждым из нас, кто пытается прикоснуться к прошлому, будь то история страны или только история одной семьи, рода или даже одного человека стоит вопрос: выдержит ли этот искус его личное благочестие, достанет ли ему созидательной силы Христовой Любви, чтобы, не прячась от правды, какой бы она ни была, понести ее в своем сердце с состраданием, молитвенно, видя ее во свете Истины-Любви и с глубоким христианским пониманием человека, природы его греховности и того великого, спасительного пути, который проложил в этом мире Господь Иисус Христос…
* * *
Неудавшаяся семейная, личная, как это принято говорить, жизнь Верочки и Кати, Верочкино «хождение по краю» в последние предреволюционные годы, вызывают у меня горькое сожаление. Но я склонна повинить тут и время, в которое не благословлял Господь Россию, отвернулся от нее (на самом деле отворачивалась от Бога Россия…), не умножая семьи, не осеняя русский мир благорастворением воздухов, ни брачного благополучия — почти никому. Пришло для всех тогда время испытаний, время наказания Божия.
Винила я и воспитание семейное, утратившее строгость и бдительность, которые были свойственны Анне Николаевне, хотя и она, увы, имела некое пристрастие к старшему сыну Ивану и пристрастие это не пошло ему в прок. Так и Верочка с раннего детства стала как бы заложницей вечных похвал ее очарованию и таланту, и это аукнулось ей впоследствии. Но больше всего мне виделось и сейчас с особенной остротой видится корень всех бед не просто в утрате веры православной — а в каком-то перерождении самой веры, которое шло очень долго и почти незаметно. Здесь есть с кого спрашивать — история Русской Православной Церкви последних трехсот лет — дает нам ответы на эти горькие вопросы. Фактически церковь православная в православной империи была… гонима или лучше сказать, притесняема. И потому духовное воспитание в церкви и в семье, какое получала русская молодежь, не могло дать им силы, противостоять разлагающему духу времени.
Неизвестно, как бы все это развивалось дальше, но в каком-то смысле трагедия революции для Веры (как, вероятно, и для многих других), несмотря на житейские скорби — развод, скоропостижную смерть любимого отца, полное обрушение всего строя жизни семьи, невозможность что-либо издать из написанного ею к тому времени, — подействовало на нее отрезвляюще. Вот письмо ее Андрею Белому от 18 июня 1918 года, с которого мне кажется, началось ее духовное отрезвление и возмужание:
«Глубокоуважаемый
Борис Николаевич
Очень больно было мне получить последнее такое недоброе письмо Ваше: Я думаю, что всеми незабываемыми часами прежних разговоров наших, когда я у гениального ума и прозрения Вашего, как у живоносного источника, очищала мысли свои; и дух мой с такою силою вставал над всем жизненным обычным, таким ненужным и знакомым, я думаю, что этими часами я навсегда ушла из проклятого круга недоразумения и взаимного непонимания, к котором кружатся миллионы лет все несчастные, мы, люди.
Знаете с чем я, главным образом, шла к Вам в этот раз? Я хотела Вам сказать всю ту муку, то безсмыслие, ту чудовищную нелепость — одним словом все то, куда я даром истратила полтора месяца жизни. Я хотела, сидя около Вас и глядя в Ваши мерцающие глаза, рассказать Вам о том, что сделали они с Россией, с нашей, с горькой, с обманутой, странницей, нищей. С верой безпросветной ожидающей Града Грядущаго. Я хотела Вам сказать о тех слезах — море слез, вылитых на горбатых спинах, медленно тянущихся поездов. Вы не видали как бежит по откосу тень такого поезда, где люди висят меж буферами и, судорожно цепляясь за скользкие крыши, привязывают себя друг к другу? Но каждую ночь один или двое падают и разбиваются и приходят, вернее, подползают, спутники, глядеть на оставшиеся без хозяина мешки, но никто не решается протянуть руку и каждый смотрит за другим…
Это уже не люди, это не Россия, не та, о которой писали Вы прежние чудесные слова Ваши, не такому говорите Вы вдохновенно: Россия, Россия, Россия — Мессия грядущаго дня.
Ни той, ни этой больше нет. Но Вы, величайший из всех живущих в ней сейчас, Вы, кому дан был дар заповедный ведания тайны — неужели Вы не знаете, что же надо Ей и не можете помочь Ей, только Ей, сидящей на погосте у распутья всех дорог?
Помните как сказал Христос, если я говорю худо, покажи это худо, а если хорошо, то за что ты бьешь меня? Скажите мне.
Спаси Христос. Вера Жуковская»
Стремительно набирала силу гроза русского урагана, сносящего все и вся на своем пути. Тут уже было не до изысков Серебряного века и мне нравится голос Веры в этом, пусть еще туманном, но уже сильном письме, ее решимость и ее позиция. Начиналось какое-то новое движение в ее душевной жизни, и пока было трудно сказать, во что оно выльется дальше. Скорби, опасности, смерти близких, — вот что теперь надолго приковывало ее сердце и силы. Но пересмотр, а, возможно, и таинство покаяния, как внутреннего отторжения собственной неправоты, в ней уже жило, как и то, что составляло сердцевину ее характера, ее личности — ее любовь к России, к своему Дому.
* * *
«Вдали показалось широкая долина, кое-где поросшая лесом, в глубине заблистела вода. «Вот Керженец», — сказал мне мой спутник, указывая на воду. С волнением смотрела я на знаменитую реку, приют старой веры. Но здесь он совсем не такой, каким я привыкла себе его представлять. Мы подъехали к длинному мосту, и я с огорчением увидала широкие отмели и застрявшие прибитые к берегу плоты, плотно сколоченные из толстых неотесанных бревен. Обмелевший, узкий в низких берегах, покрытых тощими ракитами, Керженец лежал передо мной, точно скованный великан, замученный и обессиленный. «Шибко мелеет, — сказал ямщик. — А уж в тако то лето, как есть, и вовсе ничего воды нет. Гляди под Быбреевкой застряли та плоты, когда это бывало то!? Скоро вовсе сплаву та не будет, как порубят та леса. А в старину та бают под Быдреевской от края до края вода та шла, вестимо та леса были».
Сердце сжимается гнетущей тоской: не один мелеет Керженец: по всей России прошел топор, падают леса. Скоро широкою отмелью покроется она, и некому будет омыть песок…..
Опять потянулась дымное пыльное поле — пашня, терпкая пыль летит в глаза и густым слоем покрывает лицо. Наконец то вдали показалось широко расползшееся село, нигде вокруг ни веточки, ни у одного дома нет сада. «Вот гляди та, — сказал ямщик указывая кнутом куда то неопределенно, — как два та года тому село сгорело та, и деревьев с той поры не стало та. Таперя не садят, бают: все единственно махнонки будут дерева та итти, не жди дурака, для других та работать».
Задумавши изучать жизнь и обычаи староверов, хлыстов и так называемых их «живых богов», Г. Распутина и его окружение, Вера всегда сохраняла дистанцию и в омут, как действующее лицо, не погружалась, сохраняла себя и свою приверженность тем традициям и тому духу, которые восприняла она в семье. Великое дело — помнить и любить свой стан, свой корень. Сердца своего она никаким свои увлечениям не отдавала. Он всегда так и жило в Орехове, на родине со всей родной стариной. «В тайниках сердца человека складывается порок человека или добро человека… чаще внешнее впечатление само по себе не есть добро или зло, оно нейтрально. Его окрашивает встречная волна восприятия, которая идет от сердца, — так замечательно тонко и утешительно поучал священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский в своем Толковании на Евангелие от Марка. — Если во встречной волне будет элемент зла, то и внешнее впечатление получит преобладающую окраску зла. Не будет элемента зла, впечатление воспринимается, как нейтральное».
Вера очень хорошо это понимала, отправляясь в Поволжье с добром и чистым сердцем. Даже и к Распутину она ходила не как разведчик или чей-то лазутчик, как предполагали многие недоброжелательные (и я бы даже сказала — неистовые) критики ее воспоминаний. Она была честным, спокойным и очень добрым по своей «встречной волне восприятия» «списателем» или хроникером картин той жизни. И это в ней подкупает, дает основание с сочувствием и доверием относится к ее текстам, к движениям ее сердца, не воспринимая ее тексты с «встречной волной» зла и подозрительности.
Вера не вторгалась со своим жестким аршином в жизнь, не втискивала и ее в прокрустово ложе каких-то умовых представлений, зато себя, безусловно, судить — и жестоко! — умела. Она знала Евангелие, помнила грешную самарянку, с которой у Иаковля колодца встретился Иисус, женщину, не ставшую перед Христом изображать из себя праведницу, скрывать свою греховную жизнь и своих пятерых мужей, которые на самом деле не были ей мужами, но проявила такую открытость Слову Божию, такую мгновенную горячность и искренность сердца, готовность и доверие Богу, что стала в один ряд в сознании многих поколений и даже на все времена образом особо чуткой к принятию Христа души, — одной из тех душ, ради которых и пришел на землю и претерпел крестную смерть Господь. Это была душа, сознававшая свою болезнь, в отличие от тяжело больных духовно фарисеев, считавших себя вполне достаточно здоровыми, как в той краткой притче, которую приводит в одной из своих проповедей святитель Николай Сербский:
«В одной больнице было множество больных. Одни лежали в жару и с нетерпением ждали, когда же придет врач; другие прогуливались, считали себя здоровыми и не желали видеть врача. Однажды утром врач пришел осмотреть пациентов. С ним был и его друг, который носил больным передачи. Друг врача увидел больных, у которых был жар, и ему стало их жалко. «Есть ли для них лекарство»? — спросил он врача. А врач шепнул ему на ухо: «Для тех, что лежат в жару, лекарство есть, а вот для ходячих нет лекарства… Они больны неизлечимой болезнью; внутри они совсем сгнили».
* * *
«…Голова болела нестерпимо, и меня хватило только на какие-нибудь полтора часа… «Дальше я не пойду, — сказала я моим спутникам. — Вы идите, а я переночую в деревне и чем свет выйду, попутчики наверное найдутся». Они было запротестовали, не желая оставить меня одну, но я сказала, что обо мне совершенно нечего беспокоиться, т. к. я нисколько не боюсь быть одной. Так и сделали.
Простившись с ними, я подошла к крайней избе и постучала под окном. Окно скоро отворилось, и выглянула взлохмаченная голова: «Што тебе та надо?» — довольно приветливо спросил несколько осипший от сна голос. Я сказала, что прошу пустить переночевать. «Ладно то, ступай то на крыльцо, сейчас та пущу», — охотно согласился мужик, но я поспешно опередила его, сказав, что не хочу в избу, а прошу провести меня в сарай. Он казался озадаченным: «Как же та в сарай то, тама никого нетути у нас то, забоишься, родная, одна та», — нерешительно пробормотал он, скребя у себя в затылке. «Это ничего не значит», — заметила я нетерпеливо. От боли я едва держалась на ногах и думала только о том, как бы лечь. «Ну, ладно то, — вдруг решил мужик. — Сына те вышлю, он те проводит то…». И голова скрылась.
Через минуту дверь завизжала, и на крыльцо вышел во всем белом молоденький щупленький мальчишка с огромной овчинной шубой в руках. Подойдя ко мне, он спросил, удивленно оглядывая меня: «Это ты та в амбар та ночевать, что ли?» — «Ну, конечно», — сказала я, это удивление начинало меня раздражать… «На Светло Озеро, што ли?» — спросил он. «На Светлое», — ответила я. «Да неушто ты взаправду та одна та ночевать будешь?» — вдруг останавливаясь, спросил мальчишка, почти с испугом глядя на меня. «А что же тут такого? — сказала я, подходя к двери сарая и берясь за щеколду, — Эта, что ли?» — «Не. Друга-та; вот: рядом-та». Обогнав меня, он открыл ворота, с визгом и скрипом распахнувшиеся. Я вошла в сарай.
«Есть сено?» — спросила я, пробираясь вглубь сарая. Слышно было, как мальчишка кинул шубу. «Не… Сена та нетути!» — смущенно ответил он, идя за мной. «А вот тут-та, в углу-та мох есть-та, сухой, и овсяницы малость; я те перекидаю».
Глаза привыкли к темноте, и все стало видно отчетливо. Перекидав овсяницу и подбив ее, мальчишка, лопоча что-то своей скороговоркой, приготовился расстелить принесенную шубу, но этому я воспротивилась.
«Спасибо, мне не надо, я не люблю, когда жарко». Постелив половину плаща, я легла на мох и укрылась другой. «Ну, спасибо, покойной ночи». — «Господи Иисусе! — внезапно взмолился мальчик, — ужели-же-та и останешься так та: одна? Пойдем ко мне-та, право слово, идем-та: полог-та у меня там… Как же-та одна вовсе?» — «Да что же тут со мной случиться может? — отозвалась я. — Прикрой дверь, только не запирай, а завтра пораньше приди, меня побуди, ну, ступай». — «Ну и бесстрашна та», — пробормотал мальчишка, выходя и тщательно прикрывая ворота. Стало темно, ушел. Я одна.
В чужой стороне, совершенно незнакомой деревне, где меня не знает ни один человек, лежу в чьем то сарае на мхе. Тихо, где то прошуршала мышь, пахнет кожей и чистой соломой. Сквозь щели в воротах смотрит ночное светлое небо, и ласково заглядывает какая то маленькая безымянная звездочка. Приподнявшись немного, я по любимой, с детства знакомой привычке, бабушкиной, перекрестила все четыре стены и изголовье и, улегшись поудобнее, говорю, несмотря на мучительную головную боль: «Как хорошо».
Открыла я глаза от яркого света: на блистающем розовом небе, в открытых воротах, стоял вчерашний мальчик и, весело усмехаясь, смотрел на меня.
«Листрат тебя та везть та хочет, — живо лопотал он. — Здравствуй, как та спалося та?» — «Очень хорошо я выспалась», — жмурясь от солнца, ответила я, выходя из сарая. Утро было свежее, и я плотнее закуталась в плащ. Солнце, большое и красное, поднималось над рябинами.
«Все я на тебя насмотреться не могу, — быстро шагая рядом со мной, сказал мальчишка. — Ты как легла та одна та в сарае и ночь та спала не бояся». — «Чего же мне бояться», — весело спросила я, бесконечно довольная, что голова совсем прошла. «А кто их знает та, чего боятся та наши та, полож то каку ни на есть нашу девку та?» — презрительно заметил мальчишка; теперь, при солнце, ночевка в сарае представлялась ему, очевидно, много безопаснее, чем ночью.
Мы подошли к избе, и я попросила дать мне стакан молока и хлеба…»
* * *
Сколько нежности, заботы и тепла умела подарить Вера тем, кого любила. Довелось ей ходить в 1920 году за умиравшей в скоротечной чахотке Леночке — любимой дочери Николая Егоровича, а вслед за ней — и довольно долго, за самим дядей, умиравшим в санатории Усово. О многом это говорит — умение нежно, внимательно и ловко ходить за тяжелобольными и очень страдающими людьми. А страдания Николая Егоровича трудно описать: он пережил свою Леночку.
Вера имела дар утешенья. Только вот ее никто не утешил…
А дети… Когда мама моя — Мария Ивановна, в 1941 году решила бросить занятия в Художественном училище и идти сначала на курсы медсестер, а потом на фронт, обе бабушки благословили ее, не задумываясь. Это было в их духе. А потом одна на себе в госпиталь картошку таскала — у мамы тогда уже начинался туберкулез легких, и ее надо было подкармливать, а другая — бабушка Вера — собирала по граммам масло и писала ей трогательные письма: «Ты ведь одна у нас дочка на двоих, береги себя, Маюся (маму в семье называли Майей).
Когда я увидела впервые эти Верины записки на кусочках от ореховских обоев, посланные в госпиталь маме, у меня сердце сжалось: столько услышалось мне за этими словами — ведь тётя Вера в жизни, как ни парадоксально, была очень сдержанным человеком, не любила сантименты, как можно было бы этого от нее, казалось бы, ожидать… А тут звучали такие тонкие и глубокие струны сердечные, такое истинное тепло, на которое невозможно было не отозваться, потому что это были не одни слова — но правда.
Таким же были и другие ее письма из деревни родным, посланные во все годы ее одиночества из Орехова. Особенно люблю я одно, адресованное сестре Кате, которая уже во всю совершенствовалась в реставрации древнерусской живописи и не вылезала из трудных, но удивительно интересных и насыщенных творческими открытиями командировок, и брату Шуре — тогда уже достаточно известному, замеченному правительством, конструктору авиамоторов Александру Александровичу Микулину. А Вера тогда уже и на многие годы вперед была лишь стареющей одинокой хранительницей опустевшего Орехова и неусыпной кормилицей всех родных:
«Дорогая моя Кошечка, ничего про вас не знаю. Кроме того, что деньги вы мне послали, значит получили. Надеюсь, что от квартиры осталось на наем Дуни и ты этот месяц покойнее живешь. Ты мне хотя бы словечко чиркнула о том, чем кончилось совещание в издательстве. Я приеду между 5–8, как только выйдут цыплята, потому что первых без меня, конечно, попортили, ни на кого положиться нельзя.
Я совсем изошла в работе: встаю до солнца и ложусь затемно. Посеяли с Митрием все поля, а в огороде уже взошли все первые посевы — редиска и салат очень хороши, но рассада цветной плоха.
…………………
Дорогой друг Шурик, если ты хочешь увидать редкое по красоте зрелище — море яблочного цвета в Орехове, то приезжай между 26–30, но не позже — яблони сейчас начинают расцветать, но неблагоприятная погода, сушь и ветер мешают цвету. Обещают неслыханный урожай, но до этого еще далеко, а вот полюбоваться цветущим Ореховым я тебе очень советую: ведь не все же время думать о делах, можно немножко подумать о душе.
Я ужасно хочу, чтобы ты приехал, посмотрел на моего красавца рыжего Салтана, он носится по лугу и так хорош, что все им восхищаются. Кроме того, есть еще маленькая рыжая Зайка с белой подбойкой — тоже очень хороша, — словом пастушеская идиллия. Угощу чудными желтыми сливками и только что снесенными яйцами. Хлеба белого привези себе: у меня такой, что тебе будет грубоват.
Дорогой Шурик, сделай удовольствие, приезжай. Дороги до того хороши, что совсем как асфальт: проедешь — не тряхнет. Очень буду ждать, приезжай обязательно. Целую тебя и Веру.
1935. 22 июня.
Вера Жуковская».
Через 21 год именно в этот день — день памяти преподобного Кирилла Белозерского по церковному календарю, Верочка умерла от последствий тяжелого кровоизлияния в мозг, которое случилось у нее в одну из суббот осени 1955 года. Как всегда она отправилась тогда в райцентр Ставрово ко Всенощной службе, чтобы потом переночевав у приятельницы, быть на литургии. Церковные службы она никогда не пропускала, регулярно исповедовалась и причащалась Святых Таин. В тот раз ей стало плохо после всенощного бдения, и она слегла. Болела несколько месяцев. Скончалась в больнице. Хоронить ее приехал только мамин брат — ее племянник Кирилл. Сестра Катя сама лежала в больнице. Брат Шура сестер даже не хоронил…
Шурик и тогда так и не приехал посмотреть на яблони. Он был очень занят.
Для многих Верин хлеб оказался грубоват.
Да упокоит душу твою, милая тетя Вера, наш милосердный Господь, да утешит тебя, да утрет слезы твои, да упокоит в селениях праведных Своих.
Автор благодарит Елену Анатольевну Кожухову, подготовившую к публикации материалы из НИОР РГБ:
Первую публикацию фотографии А.Щетинина — ф 369.427.45
Отрывки из "Странннических воспоминаний…" Веры Жуковской (первая публикация) — ф 369.386.15
Письма В.Д. Бонч-Бруевичу — ф 369.269.45 (первая публикация)
Письма А. Белому — Ф 25.15.13 (Первая публикация).
На коллаже (автор Екатерина Кожухова) в верхнем ряду — слева — направо: Верочка в 1914 году; столетний юбилей Н.Е. Жуковского — в первом ряду стоит справа Вера Александровна; Вера — тридцатые годы; внизу — Верины книги, а в центре — Вера Александровна в Орехове — тридцатые годы.
Все фотографии из семейного архива, публикуются впервые.
Глава 12. Сапфир — камень твердый
…Однажды, роясь в домашнем архиве, я случайно обратила внимание на клочок бумаги — в четвертушку писчей бумаги, на котором бабушкиной рукой, уже не очень уверенной, видно в самые последние годы, более чем всегда крупными буквами был выведен кондак Сыропустной Недели Великого Поста:
Премудрости Наставниче, смысла Подателю, немудрых Наказателю, и нищих Защитителю, утверди, вразуми сердце мое, Владыко. Ты даждь ми слово, Отчее Слово, се бо устне мои не возбраню, во еже звати Тебе: Милостиве, помилуй мя падшаго.Каким драгоценным подарком для меня была эта находка! Этот покаянный кондак Церковь поет на службе Прощеного воскресенья, когда все мы, православные, по древнему обычаю в последний вечер перед началом Великого Поста, перед Чистым Понедельником припадая в земном поклоне, просим друг у друга, у тех, кого обидели, просим и у с в о и х обидчиков первыми прощения, чтобы не дай Бог не осталось у кого на нас не прощенной нам обиды, иначе Бог никаких наших подвигов поста и молитвы не примет. Как много мне сказал этот клочок бумаги о бабушке, о сокровенной жизни ее сердца, — о том, о чем мы, может быть, никогда никому не говорим, кроме как в самой заветной и тихой молитве — мытаревой молитве — Господу: «Милостиве, помилуй мя падшего».
Как реставратор древнерусской станковой живописи, бабушка Екатерина Александровна хорошо знала историю Церкви, как Византийской, так и Русской, Болгарской, Сербской — ведь она сопоставляла в своих изысканиях мотивы фресок, орнаментов разных школ, у нее было много редких старых церковных книг, в том числе и богослужебных. Но этот клочок был списан не для работы, — я это сразу почувствовала, — но для себя. И я сразу переписала кондак и поставила его перед собой. Погружаясь в бездонные глубины каждого слова этой церковной песни, я думала о бабушке и ее жизни, которой я хочу посвятить последнюю главу книги (мне есть еще что о ней рассказать), и о нас, сегодняшних, которым после стольких лет безбожной жизни так трудно даются не столько первые шаги вхождения во врата храма, сколько первые шаги навстречу Евангелию, так как почти потеряна нить духовной традиции наших предков, самые сердцевинные глубины Предания. Разумеется, Святая Церковь хранит Предание, но вот той незримой и невыразимой связи с сердцем народа, которая действительно когда-то жива была на Руси, ее сегодня нет.
Именно поэтому, подбираясь к последним страницам моего старого помянника — старого, потому, увы, что уже и новый появился, тем все чаще я испытываю потребность, вспоминая усопших, припадать к живительному и спасительному источнику Слова Божия — к Божественному милосердию, которое никому никогда не закрывает Врата Жизни, никого не гонит от себя, никем не пренебрегает — к этой великой тайне христианства, редчайшей и почти совсем заботой жемчужине — Христову милосердию к ближним, к грешникам, которое на самом деле и является главным испытанием подлинности нашего христианства.
Отчего же такая редкость подлинное милосердие, почему простирается оно чаще, если и бывает, то исключительно до пределов собственного благополучия. А как станет самому человеку худо, так тут и начинает таять его милосердие к другим страждущим… Отчего, когда протягиваем руку — не с просьбой о материальной помощи даже, а о помощи словом, сердечным участием, пониманием, советом, то и здесь рука наша нередко остается праздной, а то и обнаруживает в горсти своей даже не пустоту, но камень?
Отчего так резко и брезгливо отворачиваем мы свои лица от неблагообразия грешной части человечества? Не потому ли, что себя считаем праведниками, а в силу Божию, способную восстановить и преобразить всякого человека при условии, что он сам себя признает грешником и ощущает тот болезненный «жар», о котором рассказывал Николай Сербский, помочь ему подняться даже до высот подлинной святости, — этой силе Божией на самом деле не верим? Только себе и в себя верим…
* * *
…Поистине необозримо число существующих толкований на Евангельскую притчу о фарисее и мытаре (Лк.18:10–14), в которой сокрыты глубочайшие на все времена назидания и уроки истинного христианства. Не только примеры смирения, которому мы должны были бы научиться у молящегося мытаря: «Боже, милостив буди нам грешным»… Не только урок о молитве, поскольку «церковь, будучи домом молитвы, в то же время есть и судилище Божие: ты молишься, а невидимый Судия внемлет не только словам твоим, но и мыслям и чувствованиям сердечным и производит над тобою праведный суд» (свт. Филарет Московский), — нам был показан в этой притче праведный Божий суд над якобы праведным фарисеем, немилосердно осуждавшим грешников, и грешным мытарем, не ведающим осуждений кого бы то ни было, но только осуждавшим самого себя. Вот его-то Бог и оправдал: мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели фарисей.
Этого никогда не было в мире до Христа… И только это стало нашей русской святыней, нашим особенным «выговором» христианской речи, нашей ответной благодарной мытаревой безоглядной любовию ко Христу. Нашей русской душой, нашей сущностью и нашей единственностью в мире.
Страшное слово в своем толковании на эту притчу произнес блаженный Феофилакт Болгарский: «высокомерие — есть отвержение Бога». Почему? Вот на словах фарисей благодарит Бога, но на самом деле он ведь не Творцу приписывает свои совершенства и добродетели, а только самому себе — инстинктивно, всем своим внутренним убеждением глаголя: «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь…». В этом можно быть уверенным потому, что если бы он приписывал бы все это свое добро Богу, то во-первых, не хвалился бы им, а боялся и трепетал, и не осуждал бы других, кому такового н е д а л Бог. Он понимал бы тогда, что вот его, фарисея, Господь по единственно Ему известному Промыслу удалил от грубых и внешне заметных грехов и грехопадений, даровал ему силы и возможность творить те внешние дела добродетели, которые он творил, хотя никто кроме Господа не знал того, что же происходило в сердце этого фарисея, когда он творил свои «добродетели».
А мытарю Бог попустил долгое время пребывать в низменной неправде стяжательства и сребролюбия, как и другим — «грабителям, обидчикам и прелюбодеям», которых скопом осудил фарисей. Но в отличие от фарисея Господь впоследствии их помиловал за горячее покаяние и веру, как ту блудницу, которая не переставала целовать Его ноги, как только он вошел в дом к Симону фарисею на пир, и когда Симон осудил и грешницу, и даже действия Самого Господа, милостивого ко грешнице, Он сказал: «Одного приветственного поцелуя ты Мне не дал, она же с тех пор, как Я вошел, не перестает целовать Мои ноги, и посему отпущены ей многие ее грехи за то, что возлюбила много, ибо тот, кому мало отпускается, мало любит» (Лк.7:45–47).
«Хорошо случилось, — говорит святой Ефрем Сирин, — что не дал Симон воды для омовения ног Его, дабы не воспрепятствовать тому, чтобы они были омыты слезами грешницы, которые она приготовила для своего Оправдателя. Не огнем согрета была вода, которой омылись ноги Его, ибо слезы грешницы горячи были любовью к нему… она сделала Ему баню слез, а Он дал ей в награду отпущение грехов. Она слезами своими омыла пыль с ног Его, а Он словами Своими очистил недостатки ее тела. Она омыла Его нечистыми слезами своими, а Он омыл ее чистыми словами Своими. Женщина омыла пыль у Господа, Который взамен того омыл ее нечистоту. Ноги Господа омыты были слезами, а слова Его дали отпущение грехов».
…А мытаря Левия Матфея Господь сотворил своим апостолом и первым Евангелистом. И вот что было с этим человеком потом, после того, как помиловал его Господь: впоследствии другие евангелисты в своих перечислениях двенадцати учеников Христа ставили в Евангелиях первым Матфея, а уж затем — Фому, при этом не присоединяли к его имени унизительного прозвища «мытарь» (сборщик податей), не вспоминали о прежнем образе жизни Матфея. Но сам-то Матфей в «своем» Евангелии поступил наоборот: поставил себя после Фомы и сам себя поименовал… мытарем.
Мог ли бывший мытарь, теперь поставленный в ряд апостолов и ближних учеников Христа, впасть в такое осуждение грешников как Фарисей, высокомерно противопоставить себя и свои добродетели этим несчастным? Конечно, не мог, потому что омытый и прощенный Божественным милосердием Сына Человеческого, который за такими, как он, грешниками, «мытарями» и пришел, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:1-10), Матфей, как никто, достоверно знал, что все, что он имеет доброго, он получил.
Вот почему Евангелист Матфей пуще всего боялся заразы фарисейства, самодовольного осуждения грешников и навеки записал себя в вечные мытари, «ибо всякий, возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк.18:14).
* * *
…Помню, ближе к концу семидесятых годов, уже незадолго до того, как началась моя церковная жизнь, был у меня некий загадочный и довольно долгий период, когда во мне, что бы я не делала и чем бы не занималась, настойчиво и неотрывно как некий фон звучали последние слова Евангельской притчи о фарисее и мытаре, где Господь говорит, что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели фарисей «ибо всякий, возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк.18:14). Бывало, что даже и во снах я иногда вновь и вновь переживала эту притчу в каком-то своем очень личном, своеобразном преломлении, с кем-то спорила, что-то кому-то доказывала. А поводов к такому личностному переживанию этих Евангельских слов у меня бывало тогда сполна…
Объяснить, конечно, почему унижение возвышает, я не умела. Но душа моя тогда, сама того не ведая, укрепилась на этих словах, как на каменном основании жизни. Я уже знала тогда, что в них — Господь, в них — Он Сам, а с Ним и весь сокровенный дух христианства.
Однажды в бесконечных спорах и идейных стычках, которые разражались каждый день в нашей редакции, где я работала, и где тогда немыслимо было встретить настоящего верующего человека, я все-таки однажды не выдержала и произнесла вслух это заветное слово. А надо сказать, что в душно-прокуренном воздухе редакционных кабинетов царствовал тогда крайне научный атеизм, многообразный прагматизм, а еще на троне восседала коронованная особа — социальная психология; разумеется, захаживали и философские школы всех мастей. И все они наперебой силились объяснять — каждый по-своему — человеческую жизнь. Хотя сближало это пестрое общество неверие и нескрываемая неприязнь ко Христу.
Мне, тогда еще молодой и, увы, недостаточно успешной журналистке, то и дело крепко доставалось от начальства, которое не только любило запустить неудавшуюся статью через стол прямо в лицо автору, но и сопроводить сие послание и очень острыми словесными приправами. Прозвища, которыми награждала меня когда-то в раннем детстве моя любимая учительница музыки, совершенно тускнели перед этими образчиками новейшей словесности. Однако надо сказать, что я все это как-то хладнокровно сносила, потому что и сама понимала: то, чего ждут от меня и чего я сама бы от себя ждать хотела, у меня действительно не получается. Я знала, что пока не обрету надежные мерила и ветрила для своей мысли, не найду подход, который все в бытии расставит по своим местам, писать не смогу.
Однажды после очередной яростной головомойки у начальства, когда журналистская братия вновь принялась посмеиваться над моим «непротивлением злу» и нежеланием отстаивать собственные права, я, не выдержав, тут-то и произнесла это слово: унижение возвышает. В ответ разразилась громоподобная тишина, которую вскоре прорвал поток уничижительных и яростных в мой адрес филиппик. В особенности мои слова, как неслыханный вызов всему миру, поразили одну очень талантливую особу — она приняла их как личное оскорбление. А особа была очень одаренная, профессионально опытная — в общем, первое перо редакции. Долго она не могла мне забыть это слово, которое вызывало у нее такое крайнее отторжение. Потом, видимо слова забыла, а меня крепко невзлюбила…
Прошло лет пятнадцать. Настигли эту женщину великие скорби. Заболел очень близкий ей человек, и притом душевной болезнью. И вот однажды я узнала, что она приобрела деревенский дом у ограды древнего монастыря в средней полосе России, оставила Москву, и поселилась там насовсем вместе со своим страждущим родственником. Именно там, вблизи порушенных и тогда еще даже не восстановленных святынь ему становилось почему-то гораздо лучше. Правда, говорили, что в монастырской ограде где-то под спудом должны сохраняться могилки местночтимых святых и подвижников благочестия и что это их благостное влияние помогает страждущему.
Вскоре я узнала с удивлением, что и сама та женщина начала воцерковляться. Она приняла активное участие в восстановлении монастыря, писала о нем, собирала старые документы… Однако, судя по рассказам общих знакомых, ей и в новых «духовных» условиях Божественная сентенция о спасительности унижений так все-таки и не легла на душу. Больше того, рассказывали, что вооруженная теперь уже прочитанными духовными книгами, она и в ограде Церкви, как и в прежней безбожной жизни, предпочитала сохранять за собой скорее позиции судии, но уж никак не ответчика…
Хотела бы я спросить ту мою давнишнюю непримиримую сослуживицу: Христос, будучи Сыном Божиим, не унизил ли себя до человеческого бренного образа, не воспринял плоть нашу, не истощил свою жизнь безропотно ради спасения грешного человечества? Или: отчего Евангелисты не скрыли в родословиях Иисуса Христа имена Его грешных предков — и особенно женщин, которых вообще тогда не было принято записывать в родословиях, а тут — в Евангелиях нам перечисляют всех поименно: Раав — блудницу из Иерихона (Нав. 2:1–7), Руфь, которая имела унизительное происхождение, была даже не еврейка, а моавитянка (Руфь.1:4), Фамарь — искусную соблазнительницу (Быт. 3:8), вступившую в связь с собственным свекром, Вирсавию, мать Соломона, которую Царь Давид самым жестоким образом отнял у Урии, ее мужа (2 Цар. 11:12), совершив грех прелюбодеяния с этой женщиною, — почему мы, читающие Евангелие не можем никак принять в сердце и в самое нашу жизнь и как руководство к действию мысль о том, что Иисус Христос пришел в этот мир «спасать не праведников, а грешников» (Мф. 1:1-17)?
…Шел странник из Иерусалима в Иерихон, и был схвачен разбойниками. Они сняли с него одежду вероятно, единственное его достояние — и, избив, оставили на дороге. Шедшие той же дорогой люди равнодушно проходили мимо этого лежащего, истекающего кровью человека. «Прошел мимо» священник. Левит поступил еще хуже: «подошел», «посмотрел», полюбопытствовал, как страдает и умирает человек, и пошел своей дорогой. Одна половина человечества ранила несчастного и бросила умирать на дороге; другая прошла равнодушно мимо его страданий. Все толкователи — святые отцы — сходятся в одном: этот израненый человек — есть израненный грехом грешник.
«Проезжал тем же путем около Иерихона Самарянин некто и, увидев на дороге окровавленного человека, сжалился над ним. Вот всё, что произошло: сжалился над ним, — размышлял над этой Господней притчей архиепископ Иоанн (Шаховской), — Всё другое было только следствием этого: один человек сжалился над другим человеком. Свершилось близкое ко всем чудо, через которое самый грешный и слабый человек делается причастником Божественной силы, правды и славы».
Почему мы, даже искренне считающие себя верующими христианами, не хотим стяжать той простой, но драгоценной жалости к страждущему ближнему (а грех — вот наитяжкое страдание), которую возымел в сердце своем Евангельский благочестивый самарянин? И уж тем более жалости к усопшим?
Однако заждался своего череда мой рассказ о бабушке, который, как всегда, начну я не сначала, а почти с конца…
* * *
Последние сорок лет своей жизни моя бабушка Екатерина Александровна Домбровская — отдала реставрации. Древние полуразрушенные новгородские, псковские, владимирские храмы, а позднее и Ферапонтово, и Чернигов, и Полоцк, и Киев, и Керчь, и Грузия, и даже Баку, в которых она, в 20, 30 годы, а затем и в последние годы войны, поднимаясь на шаткие леса, отмывала вековую копоть с древних бесценных фресок, укрепляла их, уберегала от осыпи, лечила от всяческих грибков и других заболеваний настенной живописи, реставрировала, успев перенять секреты этого тонкого искусства у мастеров-старинщиков, которые в те времена все же еще водились на Руси.
И бабушка тоже стала достойным своих учителей мастером: в полушутку, но с любовью и подлинным уважением ученики называли ее «бабушкой русской реставрации». Действительно: после Великой Отечественной войны в России оставалось всего шесть человек настоящих мастеров-реставраторов, среди которых очень достойное место занимала Екатерина Александровна Домбровская.
Впервые бабушка почувствовала свое призвание как сердечный призыв или даже как зов Божий в 1913 году, когда попала на юбилейную — в честь 300-летия Дома Романовых — выставку русской старины, устроенную в палатах Чудова монастыря в Кремле…
«Вошла! — И никак не могла уйти…Выставлены были памятники древней живописи — иконы XIV–XVII веков и частных собраний. Неужели это были те самые иконы, которые так часто приносили нам в Орехово коробейники из Мстёры и Палеха?! Долго я стояла перед иконой святого воина Феодора Стратилата из Новгорода, читая его житие по маленьким клеймам. Вспомнились слова Иоанна Дамаскина, которые я помнила еще из Истории Карамзина: «Икона — это книга для неграмотных». Но более всего поразила меня на выставке древняя икона — «Молящиеся Новгородцы», удивительная, запечатлевшая в своей двухъярусной композиции не только часть иконостаса — деисусный чин, но и тех, кто перед этим иконостасом молился — «Рабы Божии Григорей, Марья, Иаков, Стефан, Евсей, Тимофей, Олфим и с чаде Спасе и пречистой Богородицы о гресех своих».
Эта икона была словно живой синодик, поминовение давно ушедших сородичей из боярского рода Кузьминых, благоговейных молитвенников, просивших о молитве и потомков… Молящиеся люди, их тонкие удлиненные неземные фигуры, их ноги, казалось бы, не соприкасающиеся с землей, эти два яруса — верхний Небесный и нижний — земной, на наших глазах становящийся тоже Небесным, переходящим из Церкви Воинствующей в Церковь Торжествующую, — все это мне показалось не только чудом красоты, но и явлением бездонной духовной глубины. Вот такой была Русь Новгородская, — подумала я тогда».
Но после той первой, ошеломившей Катю встречи с чудом русской иконы, должны были пройти еще годы, и годы трудные, — целых 11 лет жизни, отданных вовсе не искусству, а самому простому и очень тяжелому крестьянскому труду в полном одиночестве ради спасения от голода старых и малых, оставшихся в роду.
И все же удивительно, что именно Новгородская икона первой заняла ее сердце. Ведь спустя 11 лет после выставки другая знаменитая новгородская икона обрела в бабушкиных руках свои подлинные краски и тона — первой древней святыней, которую мастер доверил реставрировать самостоятельно Кате, был образ святителя Николая — «Никола Липенский». И первой реставрационной командировкой бабушки также стал Новгород…
Новгород и Псков были ей особенно дороги… Городские псковские храмы, Мирожский монастырь, Снетогорский — дня в моем детстве не проходило, чтобы звучали в нашем доме, тая в воздухе как дивные миражи, эти волшебные и сладостные не только для слуха звуки.
И не случайно, что как только впервые довелось мне оказаться на Псковщине в командировке, а было это в середине 70-х годов XX века, я бросилась к стенам Мирожского монастыря. Бабушки уже не было на этом свете, но мне казалось, что я у стен Мирожа услышу, почувствую ее присутствие, встречусь с ней — ведь она оставила там свое сердце…
Сколько раз вот так я неудержимо искала на земле следы тех, кто давно уже был в Небесных Обителях Отца, сколько раз испытывала в этих поисках повторную боль утраты, сколько раз пыталась повернуть вспять время, пока не стал мне, наконец, открываться иной и гораздо более верный путь…
А тогда было лето, вечерело, тихо плескала о берег река Великая — близко от моих ног и от низких стен полуживого, греющегося на закатном солнышке, всеми заброшенного, бедного древнего старика Мирожа. Не помню теперь, были там какие-либо следы человеческого присутствия — какие-нибудь авторемонтные мастерские или склад тары, помню только мерзостное ощущение оставленности, брошенности, обветшания. Клочки скомканных бумах, обрывки газет, пустые бутылки, какие-то тряпки, и чуть ли не на глазах оседающие и расползающиеся древние стены… В Спасо-Преображенский собор попасть было невозможно, и фрески, столь дорогие сердцу бабушки, вживую я так увидеть и не смогла… Как жалко, что я не знала тогда, что и эти горестные развалины Небом не оставлены, что и там царит Дух, что не стерт там и бабушкин светлый след. Знать того — не знала, но сердце человеческое, которое самого человека мудрее, — оно ведало, а потому и запомнило, и вот теперь рассказало, о том, как тосковала моя душа по другой родной мне душе, и как сердце сердцу весть подает.
Часто и с грустью разлуки вспоминала бабушка древнюю Иверию. Она полюбила ее, прикоснувшись к ее храмам, фрескам, к ее глубоким, особенного духа и окраса древностям. Ей было, что вспомнить из своих реставрационных командировок в Грузию.
Впервые бабушка попала на Кавказ в 1936 году. Тогда из музея Метехи в Центральные Государственные Реставрационные мастерские имени И. Э. Грабаря была прислана просьба откомандировать опытного мастера-реставратора настенной живописи для расчистки уникальных фресок храма Кинцвиси — древнего монастыря (XII–XIII вв.), расположенного в ущелье реки Дзама в Кварельском районе. Выбор пал на Екатерину Александровну Домбровскую…
В Грузии ее встретил профессор Шалва Ясонович Амиранашвили, сильно удивившийся присылкой из Москвы в качестве реставратора лишь одной-единственной женщины. Работа в Кинцвиси предстояла очень трудная, для одного человека — непосильная. Бабушка, попросила Амиранашвили называть ее просто Катей. В 1936 году ей уже исполнилось пятьдесят лет, но не любила она, когда ей воздавали даже такие почести, предпочитала всегда оставаться в тени. К тому же по живости ее светлой души, по деятельной активности характера она действительно очень долго и с полным правом могла себе позволить оставаться просто в Катях. Хотя бесцеремонного обращения и даже малого попрания человеческого достоинства никогда, конечно, не допускала. «Не допускай никогда даже пальцем прикасаться к твоему лицу. Лицо человека священно», — говорила она мне еще в раннем детстве.
* * *
…До деревни Кинцвиси добирались на грузовиках, затем пересели на арбы, запряженные буйволами. Тропинка карабкалась на почти отвесную гору; буйволы лезли медленно, отстреливаясь летевшими в рассыпную из-под раздвоенных копыт камнями.
Наконец, добрались до вершины горы и очутились на площадке с редкими каштановыми и буковыми деревьями, в середине которой возвышалась однокупольная, почти квадратная церковь, аскетичной простотой, ясностью и чистотой своей архитектуры напомнившая бабушке ее любимую Новгородскую Нередицу (дело было перед войной и Нередица еще была цела, не разбита в руины немецкими снарядами…).
Катя сразу, еще не переведя духа с трудной дороги в Кинцвиси, поспешила осмотреть изнутри храм, который ей предстояло расчистить фактически в совершенном одиночестве. Заглянув во внутрь, она пришла в неописуемый ужас…
Все стены сплошь были покрыты плотным слоем помета птиц и летучих мышей и огромными клочьями черной копоти. Сами летучие мыши, закутанные в свои крылья, свешивались под сводами. На полу — следы костров, разбросанный хворост, обгорелые головешки, груды золы и мусора…
Вдруг в окно пробился луч заходящего солнца и сразу, как будто в черном грозовом небе вдруг открылся нежный просвет, высветился в этой черноте лучезарный кусочек древней живописи: несколько сантиметров — не больше…
Первую ночь спали как убитые, на земле, постелив бурки, под колыбельный напев птички Сплюшки: «Сплю…», «Сплю…».
На утро соорудили подмостья, чтобы по возможности меньше рисковать жизнью, но настил получился реденьким и узким. Оставшись в одиночестве, Катя забывалась в работе. Но нередко она, холодея, замечала, как под ней начинало ходить ходуном и подозрительно скрипеть на большой высоте разом все это шаткое сооружение. «Господи, помилуй!»… Приходилось умерять свой пыл. И передвигаться с большой оглядкой.
Зато копоть и помет стали все-таки поддаваться: в особо трудных местах приходилось слегка греть внизу воду, таскать ее на подмостья, а затем осторожно с мылом, стараясь, чтоб не получались подтеки, которые могли бы попортить фрески нижних ярусов, смывать эту чуть ли не многовековую коросту. Работала Катя от света и до света.
Приходили из селения грузинские девочки, усаживались вдали на лужайке, натянув юбки на коленки. Они напоминали Кате деревенских девочек из Орехова. Они приносили молоко буйволиц, яйца, лепешки, лук, чеснок, перец и даже кур…Наконец, настал день, когда промытая и укрепленная живопись засияла нежными гармоничными тонами на голубом фоне…
Фрески тоже напоминали бабушке Нередицкие… Особенно хорош был Ангел, который занимал почти всю южную стену храма. Нежно-голубые, белые, охряные тона, четкость рисунка — фигура, крылья, поворот головы, — она видела в рисунке отголоски античности, — все это создавало ощущение летящей, свободной, неземной и победоносной мощи. Это был Ангел, который явился по Воскресении Христовом женам мироносицам.
«В каком-то теперь виде моя драгоценная Кинцвиси! — спустя годы часто восклицала бабушка (это было в 1956 году), ведь прошло более двадцати лет»
В том 1936 году бабушке в одиночку удалось очистить «драгоценную Кинцвиси» от закаменевшей многовековой грязи и укрепить около 800 кв. метров удивительных, неповторимых божественных фресок — всего за два осенних месяца.
Ну, а на следующий год предстояло заняться расчисткой и реставрацией знаменитого Сиони близ селения Атени, а затем ее ждала Вардзия…
К тому времени в Атени проводились основательные архитектурные работы, но для фресок X века опытного реставратора не было. И вновь вызвали бабушку, только теперь с ней отправились еще три человека помощников. Начала она работу с расчистки текстов: приехал Шалва Амиранашвили и показал места, где, по его мнению, могли быть остатки летописных надписаний.
«Месяца августа в день субботний хроникона 73 арабского летоисчисления…Выча сжег город Тбилиси и захватил эмира Сахака и убил его…».
Это была первая надпись IX века, которую бабушка раскрыла в Атенском Сиони.
Среди интереснейших и редких сюжетов росписей Сиона на южной стене особенно выделялась колоссальная фигура воина. Хорошо сохранились его голова, плащ, панцирь, высокие сапоги, копье в правой руке и меч в ножнах. Почему-то именно эта фреска особенно поразила Катю…
Работала бабушка в Сиони долго. Каждый вечер, а часто и ночь, она спускалась в Атени на ночлег, а утром вновь подымалась в гору на работу. Между Сионом и Атени протекал горный ручей, который обычно переходили по кладкам. И вот однажды, когда, закончив свой дневной «урок», работники засветло ушли в Атени, бабушка осталась одна и, как всегда, застряла чуть не дотемна: не любила бросать недоделанное, не выполнять то, что было себе намечено. А ведь от этой работы так рано сгорбилась ее спина: каково это, работать над фресками алтарной абсиды, выстаивая часами в предельном напряжении физических сил, на шатких мостках, изогнувшись к куполу! Но реставрация для бабушки была упоением. В каждый штрих, в каждый мазок, в каждое движение она вкладывала свою любовь, свой трепет перед священной неописуемой красотой.
…Когда же, наконец, Катя вышла из храма, чтобы все-таки спуститься на ночлег в Атени, то поняла, что уже наступает ночь, и вот сейчас все-все, как это бывает в горах, в одно мгновение погрузится в абсолютную непроницаемую тьму. А тут еще и дождь, который лил уже три дня, вдруг припустил с новой силой… Выбора не было. Она пошла к ручью. Да не тут-то было: кладки, по которым обычно его переходили, унесло, а ручей от дождей и ненастья превратился в грозную бурлящую реку. Что ж делать? Начала пытаться перепрыгивать с камня на камень, но ничего не получалось — даже палки в руках не было…Горы во мраке, под ногами вода, камни скользкие. Проваливаешься — вроде не глубоко, но все ж таки до пояса. И несет неизвестно куда!
Очень скоро она выбилась из сил. Тут-то и навалилось уныние: Катя поняла, что с прямой дороги сбилась, что вообще никакой дороги не видно, и речку не одолеть…
…Вдруг!!! Перед бабушкой вырос огромный черный силуэт мужчины. Бабушка была не из робких, но тут… И ужас, и потрясение, и под сердцем холод оставленности. Неужто погибель?!
— Стой! Душе мой! Тут воды много, утопнешь! Деушка! Давай рука твоя…
Что было делать? Доверилась. Вдруг подумала Катина добрая душа: не все же плохие… И — подала руку.
И так — с камня на камень, поддерживая ее и удерживая, огромный человек помог ей добраться до берега, как раз к тому месту, где выходила к реке тропа в Атени. Катя стала звать его с собой в деревню, чтобы он тоже обсушился и поел, но черный витязь, так она потом про себя его называла, от приглашения отказался, и почему-то вновь шагнув в реку, в мгновение исчез в темноте…
Кто это был? Охотник? Но ружья у него не было. Рыбак? Но и на то не похоже… Или это был Витязь с фрески, так поразившей Катю в храме с первого дня, которую она с любовью и усердием отмывала и лечила?
Сколько раз в моем детстве бабушка рассказывала мне эту историю, и я всегда сразу же видела все, как будто это было со мной: и холм, и спуск к ручью, и погрузившийся во мрак противоположный берег, и сквозь бурлящие воды, брызги и ливень — прекрасно-изысканный черный силуэт великого витязя…
А вот лица его ни я, ни бабушка не видели. Во всяком случае, она говорила, что как будто не видела, хотя и говорила с ним на берегу.
«У нас там добра не забывают». Мы обе — бабушка и я, ее сопереживатель, не раз вновь и вновь погружавшиеся в события той удивительной ночи, тоже могли бы с верой услышать эти слова от витязя, как когда-то услышал их один замечательный русский старец. Он получил неожиданное избавление от неминуемой казни в застенках ЧК по небесному заступлению давно усопшего человека, которому когда-то при жизни он сделал добро. А тот, усопший, на Небе о нем не забыл, и старца спас, сказав:
«У нас там добра не забывают»…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой — Фрески XII века, которые расчищала, отмывала и реставрировала впервые Екатерина Александровна Домбровская.
Внизу — ее потрет примерно конца 40-х годов.
…В детстве я могла слушать бабушкин рассказ о таинственном воине, чудесно спасшем ее в ту непроглядную ночь на горной речке, сколько угодно. Настолько все это было живо, ярко и правдиво. Я безоглядно верила в то, что воин сошел с фрески. Удивлялась только отваге бабушки. Я-то не была таковой никогда. На ее долгом и трудном пути таких удивительных случаев было немало. Мне это говорило о близости и отзывчивости иного мира, хотя сама бабушка не позволяла себе высказывать предположений. Притом жизнь ее была богата путешествиями, встречами, опасностями, знаниями, тяжелыми испытаниями, и я не без оснований держала бабушку за бесстрашного человека, который даже в самую трудную минуту не потеряет присутствия духа, и всех вытянет и всем станет твердой опорой. Мы все были за ней как за каменной стеной.
Но вот пришел и мой час встретиться с участием и состраданием иного мира…
Многие годы жизнь моя складывалась удивительно однообразно: одна за другой следовали у меня крупные неудачи, причем происходили они, как правило, в момент наивысшей уверенности в том, что начатое дело или какой-то замысел вот-вот счастливо осуществится, в момент, когда самое это дело становилось мне очень дорого и я начинала чувствовать в нем себя уверенно, когда один только шаг оставался до счастливой развязки и или творческой победы. И вдруг в мгновение ока все рушилось…
Мне нечем, совсем нечем было похвалиться на миру, даже если бы я и вознамерилась это сделать. Душа моя знала свои вины: я знала, почему то-то или то-то у меня не получилось, всегда без исключений могла сама усмотреть объяснения моих неудач и скорбей нигде кроме, как в самой себе, хотя у очень многих моих знаемых вокруг бывали «вины» и почище моих, но такой прямой связи между ними и неотвратимыми наказаниями там почему-то не наблюдалось.
Можно было бы то печальное обстоятельство, что на вступительном экзамене в Консерваторию я не безупречно сыграла сонату Моцарта d-dur, что привело к совершенно плачевному и никем не ожидавшемуся моему провалу объяснить тем, что мой молодой и несколько легкомысленный педагог, который не вылезал из зарубежных гастролей и потому мало с нами занимался, просто «запамятовал» о том, что кроме двух фортепьянных концертов и прочих сочинений в моей программе должна была иметь место еще и классическая сонатная форма, а потому задал мне учить эту сонату всего за полтора месяца до экзаменов, и сложная вещь не успела «обыграться» и «обкататься»…
Но я знала, знала, как складывалась моя жизнь того предэкзаменационного года (хотя громогласные звуки моего бедного рояля и неслись из наших окон эдак по семь часов в день), но мысли-то мои то и дело пребывали в отсутствии, и я улучала часы и минуты, сбегала с каких-то занятий, лгала дома, лишь бы прогуляться по старой Москве с моим сокурсником. Могла ли я потому винить в своей беде кого-то и удивляться, что из сложной и выигрышной программы комиссия первым делом попросила меня сыграть именно эту «злополучную» сонату, хотя преподаватель и заверял меня: не волнуйся, у тебя не спросят ее, я, мол, обо всем договорился…
Программа у меня была действительно большая, эффектная и я даже предположить не могла, что на той сонате сойдется для меня свет клином. Но он сошелся… И это усугубило удар, неописуемый и неожиданный.
Мне было тогда восемнадцать лет, из которых тринадцать лет без праздников и выходных, без отдыха и развлечений были отданы роялю. Все силы и даже здоровье было отдано музыке и будущей жизни в ней… Боль утраты была такой остроты, что много лет потом я не могла даже ни проехать, ни пройти мимо Консерватории и Никитских ворот, где прошла та, может быть, главная часть моей жизни. И теперь нет-нет, да и отзовется на старомодный, благородный и печальный, единственный в природе звук фортепьяно та, казалось бы, давно уже зарубцевавшаяся рана, схоронившая некое особенное и, казалось бы, так и не пригодившееся мне прошлое: тот опыт и ту первую ужаснувшую меня когда-то боль безвозвратной потери.
Не на кого было роптать. Только на себя. Потом пришел черед других утрат, тяжесть которых все возрастала. И вот однажды, — это уже было незадолго до моего решительного и неотвратимого прихода в церковь, мне приснился сон, в котором было предсказано все, что впоследствии свершилось со мной…
* * *
Я увидела себя и маму вместе восходящими на абсолютно белую снежную гору без деревьев и домов, без ничего — крутая огромная белая гора и над ней где-то далеко такое же белое непрозрачное зимнее небо. Мы идем с мамой, держась за руки, и смеемся. Мы ведь были очень дружны, и мама любила и умела посмеяться, — у нее было замечательное художническое свойство — почти детская живость; и вот на середине пути вдруг — провал сознания прямо во сне, но я чувствую, слышу и вижу, что происходит что-то ужасающее, очень страшное, что не возможно стерпеть. Во время сна я вижу все т о происходившее, ужасающее, но оно мгновенно сокрывается от меня… Но вот ужасающее закончилось и я опять все вижу ясно: я медленно и трудно, с великим трудом взбираюсь вверх по горе. У меня разрывается сердце, я горько плачу, и я — одна: мамы уже нет со мной. Из последних сил я карабкаюсь вверх, но остановиться не могу, гора так высока, что лучше не оборачиваться… И вдруг почти на уровне моих глаз, а я пригнута долу, согнута в три погибели, — я вижу прямо перед собой на высоте стопы святителя Божия в полном архиерейском облачении и его золотой посох.
На этом подъем заканчивается. Святитель посохом указывает вправо: там за ровным уже снежным пространством под белым, светло-жемчужным, каким только зимой бывает, небом, я вижу вдалеке очертания низкого из красного кирпича в стиле а-ля рюс времен Александра III, как Исторический музей в Москве, или как строения Шамординского монастыря близ Оптиной Пустыни, невысокого здания. На этом сон мой обрывается: я, кажется, двигаюсь в том направлении…
Когда мне привиделся этот сон, все мои еще были живы. Еще был впереди путь, даже полпути. И все-таки далее все свершалось именно так, как было начертано во сне. Милостивый Господь предупреждал, чтобы была готовой, чтобы понимала неотвратимость, что попущено было это мне пережить…
И вот пришли эти предуказанные дни моей жизни… Несомненно, и раньше мне помогал мой Ангел Хранитель, как помогает он всем крещенным душам, к коим приставлен, и кто не отгоняет его о от себя своим отчаянным цинизмом и безбожием. Были и у меня опасные мгновения в жизни, когда, наверное, помогали мне сугубо Силы Небесные. Когда зимой ночью в чуть ли не бурю вдруг вынужденно садился маленький «Аннушка» прямо на лед Белого моря вдалеке от города и аэродрома и надо было с тяжелыми вещами в легкой одежде и обуви (во всяком случае не северной) идти пешком до города и ты отставал ото всех и никто не оборачивался к тебе — жив ли, тут ли… Когда в другой раз посреди широкой и величественной Мезени под ослепительным мартовским солнцем вдруг начинал уходить под уже помягчевший лед наш газик, и мы выталкивали его втроем, проваливаясь в воду сами, зная прекрасно, что на высоких берегах Мезени только старинные обетные кресты да величественная тайбола (тайга) смотрят на нас, и вряд ли появится спасительный трактор, чтобы вытащить нас из беды, — а дело шло к ночи…
Когда на черниговщине пьяный мужик-возчик неистово гнал по заледеневшей дороге свои дровни, с которыми вместе мотался и ты из стороны в сторону, и как было не вылететь из саней и не остаться под звездами никому не нужным и всеми забытым в этих чужих тебе нежинских полях в нескольких десятках километров от жилья…
Перед похоронами я только и успела бегло взглянуть на церковный календарь: в этот день праздновалась память русского святого конца XIV — начала XV века преподобного Стефана Махрищского. Плохо я тогда еще знала наши русские святцы, и имя препободного Стефана мне ничего не сказало. Да я и мало что могла воспринять. Но увидев имя, все же внутренне в последнем отчаянии душа моя воззвала к нему: «Хоть я и не знаю, кто ты, но помоги мне, помоги пережить этот день!».
Вечером, когда мы вернулись, у меня была только одна потребность — куда-то бежать, но ни идти, ни бежать было некуда. Кто-то позвонил и попросил найти нужную для работы книгу. Я подошла к полкам, наугад взялась за первый попавшийся корешок… Я ничего не видела и не понимала, что делаю: зрение мое и мозг не фокусировались. Машинально потянула книгу, и вдруг прямо на руки мне выпал маленький листок — нечто вроде буклета. А на нем надпись: «Ферапонтово», под которой внизу чьей-то рукой был записан телефон гостиницы.
Через три дня я сидела в поезде вместе с маленькой дочкой, который нес нас в сторону Вологды…
* * *
В Вологде нас кто-то встретил и помог пересесть на такси до Кириллова. И вновь кто-то нас встречал, были люди, которые вели между собой утомительные разговоры, надо было их пережидать… И только на другой день я смогла дойти до Кирилло-Белозерского монастыря…
О преподобном Кирилле я, конечно, знала… Для меня он, как и преподобный Сергий Радонежский был олицетворением чуда русской святости и красой русской земли, высочайшим образцом истинного православного подвижника.
…Начинался август, но почему-то дорога от Святых врат к Успенскому собору была усыпана жухлой листвой. Очень старые деревья и их жилистые корни, перенизывали этот путь, чем-то неуловимым напоминая мне наши Ореховские аллеи. Людей почти не было. Мне хотелось услышать голос самого монастыря, сразу, сразу погрузиться в его стихию, мир и свет, душа моя искала Того, к кому могла бы я припасть здесь — во святом месте — со всем своим необъятным горем. Я знала, что на земле такого человека нет.
Собор оказался заперт, — тогда им всецело и строго владели музейщики, к тому же в нем в связи с близящимся 600-летием монастыря шел ремонт. Мне ничего не оставалось, как приникнуть лицом к каменной стене — с той стороны, где, как мне сказали, находилась неподалеку рака преподобного Кирилла.
Столько лет прошло с тех дней, но ни тогда, ни теперь я не могу усомниться в том, что было испытано мною тогда. Руками и щекой я прижималась к камням церкви как к материнскому сердцу, камни становились мокрыми, а мне в сердце шли волны тепла, милосердия, света, любви, утешения…
Вскоре кто-то неожиданно открыл собор, и меня провели к могилке преподобного Кирилла. Она была раскрыта, снят покров и крышки склепа, вокруг я увидела рядки новых кирпичей, а внутри — песочек, который прикрывала пленка. Там уж я и не помню, что было со мной. Мне дали песочка из могилки преподобного Кирилла, который потом я привезла домой и высыпала там, где лежали мои близкие…
Из Кириллова мы отправились в Ферапонтово. В маленькой сельской гостинице был заказан скромный номер, вообще же в Ферапонтове — большом селе — не было даже столовой, в абсолютно пустой магазин почти ничего не завозили — как только люди там жили. Даже картошки было негде купить… Да и какая картошка на севере… В общем, само Ферапонтово жило огородами да… пищей небесной.
А потом мы пошли в монастырь. Я, конечно, знала, что там фрески Дионисия, знала, что увижу, я с детства видела во множестве изображения на бабушкином столе — ведь она-то и расчищала и реставрировала впервые еще до войны Ферапонтово!
Но когда я только переступила порог собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы, из глаз моих мгновенно брызнули слезы: таковы были росписи храма, ослепившие меня, своей разом увиденной в подлиннике неземной красотой и силой. В тот миг я восприняла их как-то всеохватно — все, что мог сразу схватить глаз, мне открылось с неоспоримой силой первого видения, что там, на фресках — другой мир, другая жизнь, другое Царство, и все-все там другое, и какая же Любовь там царствует…
Может быть, я никогда, — ни до, ни после не чувствовала с такой остротой несопоставимости двух миров — земли и Неба. С высоты на меня вошедшую дышала мягкая улыбка Всемилостивой Богородицы Панахранты. Но чудо: по мере моего продвижения к алтарю лик Ее на моих глазах менялся — теперь он открывался непередаваемой скорбью, даже мукой, с которой взирала Матерь Божия Царица Небесная на весь род человеческий…
Выйдя из собора, я поклонилась мощам преподобного Мартиниана Белозерского, почивавшего рядом в храме в его честь. Преподобный Мартиниан был любимым учеником Кирилла, сменившим Ферапонта в настоятельстве монастыря. Ферапонт же был Кириллу духовным братом, сомолитвенником и сотаинником, — они вместе отправились из Москвы на Белоозеро, когда Кирилл однажды ночью (он пел акафист Богородице) услышал голос от иконы Богоматери: «Кирилл, выйди отсюда и иди на Белоозеро. Там Я уготовала тебе место, где можешь спастись». Отворив окно, он увидел огненный столп на севере, куда призывала его Пресвятая Дева. Вдвоем с единомысленным братом, иноком Ферапонтом они и отправились навстречу великим трудам.
Мощам преподобного Ферапонта я смогла поклониться лишь спустя много лет, оказавшись в Лужецком Можайском монастыре, который престарелый Ферапонт отправился воздвигать в шестьдесят лет. И воздвиг. И там же почил мощами под спудом.
…Тогда в Ферапонтове мне захотелось поглубже погрузиться в житие преподобных Кирилла и Ферапонта. Вчитываясь в житие, составленное прп. Пахомием Логофетом, я неожиданно для себя встретилась и с… преподобным Стефаном Махрищским. Вот кто, оказывается, открыл мне путь к преподобному Кириллу, в Ферпонтово, — к трем святым, которые согрели мою душу в те горестные дни моей жизни! И такое мое краткое воззвание было услышано: «Я не знаю, кто ты, но помоги, помоги мне!»
Именно преподобный Стефан Махрищский и открыл преподобному Кириллу дорогу в монашество, заступился за него перед богатым и вельможным родственником, который не хотел отпускать Кирилла в монастырь, а затем постриг его в рясофор, став первым духовным наставником Кириллу. Сам же Стефан Махрищский был очень близким духовным другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий, когда приходил в Москву, любил побеседовать с будущим святым Кириллом. Так они вместе и пестовали духовно будущего строителя Кирилло-Белозерского монастыря.
Великие подвижники Святой Руси, не погнушались они снизойти до помощи и утешения в скорби даже такому малоприметному, недостойному и тогда весьма малоцерковному человеку, каким я была, — это они соборне привели меня, передавая из полы в полу, к святым, величественным местам Руси, отогрели мое сердце, напитали благодатью, омыли в водах Святого озера, и в святых водах покаяния, благословили целовать драгоценные камни, ступать след в след там, где ступали их «прекрасные ноги», «благовествующие мир, благовествующих благое» (Рим.10:5).
Думаю, это великое утешение, эта небесная забота мне была дана еще и благодаря подвижническим довоенным трудам бабушки в Кириллове и Ферапонтове. Она реставрировала многие древнейшие иконы Кирилло-Белозерского монастыря, увы, разошедшиеся впоследствии по музеям, но не вернувшиеся в иконостас Успенского собора в Кириллове и собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ферапонтове. Ведь это она расчищала фрески Дионисия… «У нас добра не забывают»…
* * *
Я уже говорила раньше, что у бабушки был очень редкий талант — иначе и выразиться не смогу, потому что способность ни на кого не обижаться есть такая же диковина в современном самолюбивом и гордом человечестве, как и подлинный талант. Никогда я не видела бабушку обиженной, не слышала сетований на чьи-то неблаговидные в отношении нее дела. А ведь сколько их было… Много лет пытаюсь я разгадать эту тайну ее характера. Ведь способность не обижаться, не серчать, даже в тайных глубинах сердца, — этим великим даром Бог награждает только подвижников, которые долгими и ревностными трудами и подвигами самоотречения пытаются препобедить ту самую греховную нашу любовь к себе, которая вырастает как стена между нами и ближними, между нами и Богом.
Зато как же часто слышатся возражения: мол, отчего же мы должны преодолевать самолюбие — любовь к себе, когда сказано: «возлюби ближнего как самого себя» (Мф.22:38–40), не понимая истинного смысла Заповеди Божией. По-разному можно любить себя: или как фарисей — самодовольно, или как мытарь — с самоосуждением и болью за свои несовершенства. Истинная любовь к себе жаждет спасения своей души, а не просто благоуветливого жития на этой земле, жаждет преодоления, исправления своих недостоинств, ненавидит их в себе. А это ведь не теплые ванны принимать, — это всегда узкий и крестный путь. Здесь, любя себя истинной любовью человек объявляет войну самому себе, своему самолюбию, своим самолюбованиям, самоуверенности и самоудовлетворению, отрекается от всего этого как от проказы, сознательно и с готовностью идет на то, чтобы претерпевать унижения и поругания («пей поругание как воду» — учит великая «Лествица»), которые ему попускает любовь Божия, и которые дробят как отбойным молотком скалу нашей гордыни. И эта брань Богом вознаграждается: на каждый отвоеванный клочок чистой земли нашего сердца Господь подает нам по каплям дар истинной, святой и чистой от самолюбия любви к ближним.
Неужели бабушка все это успела узнать в своей церковной жизни, понять и сознательно в жизни применять? Из того, что мне известно об их с Верочкой юности, я могу сказать, что сознательно они ничем подобным не занимались. Но все-таки дышали они тогда еще не полностью истаявшим воздухом православия, истины эти впитывали в себя с молоком матери, слышали и воспринимали их в разговорах и поступках старших. Не царствовал единовластно тогда в обществе смрадный дух гордыни, как стал он царствовать в душах людей к концу XX века. Даже в первой половине прошлого века еще чувствовалась стихийная жизнь смиренного когда-то духа народа. Потому наше поколение еще может вспоминать своих дедов и прадедов (хотя бы некоторых!) и по ним догадываться о том, каким был все же когда-то русский народ и как боялся он и не любил проявлений гордыни…
Необидчивость — удивительный залог смирения, мне кажется, что не аскетическими сознательными подвигами приобрела его бабушка, а опытом жизни: многими скорбями, которые она без ропота и достойно несла, мудростью, которую приобрела. И эта мудрость мирные отношения между людьми ставила выше драгоценного собственного самолюбия и спокойствия. Если кто-то рядом был обижен, задет, даже и без всякого с ее стороны повода (уже на моей памяти люди уже на глазах менялись не в лучшую сторону: малейший ветерок, и все готовы были вспыхнуть из-за того, что им показалось, будто кто-то их унизил или задел), Екатерина Александровна мгновенно и без промедлений спешила восстанавливать мир и всегда первая делала шаг навстречу примирению. Она с готовностью просила ее простить, хоть тысячу раз была уверена в том, что повода не подала.
Люди удовлетворенно принимали ее извинения и жили дальше, ни на минуту не усомнившись в том, что они-то и были не правы, что неблагополучно обстоят дела не с чьей-нибудь, но с их душой…
При этом ни малодушной, ни робкой бабушка никак не была. Характер Бог ей дал, как и сестре Вере, — да еще и пошибче! — необыкновенно сильный, мужественный, решительный — редкий для женщин характер. Правда, редкий не для русских женщин, какими они когда-то были.
…Однажды у деда, через три года после их свадьбы, во время катания с гор на санках (дело было на святках в Нижнем Новгороде, где они гостили у бабушкиного отца — Александра Александровича Микулина), сорвалась в сугробы старинная золотая запонка. В ней был вставлен огромный, очень красивый, уникальный, и, вероятно, безумно дорогой сапфир густо темного синего тона. Найти эту запонку, конечно, в глубоченных поволжских снегах не было никакой возможности… Но только не для Кати. Не ради золота и сапфира, а от досады на неисправность, от упрямства в желании не подклоняться искушениям и случайностям жизни, переживая огорчение мужа, Катя заявила всей честной молодой компании, что будет искать сапфир Джона (так бабушка называла деда, Ивана Грациановича Домбровского. Позже в эмиграции он и сам выбрал себе в качестве псевдонима именно это имя — Джон Д. Грэхам) в снегах, пока не найдет. Всем показалось это очень забавным и, разумеется, абсолютно безумным, поскольку безнадежным делом.
Разложили костер, и стали ведрами носить снег на растопку. И когда уже стало вечереть и все изрядно взмокли, проголодались и собрались во своя си, сапфир, как это не удивительно, объявился. И вот ведь не зря же, оказывается, были все эти усилия — дело-то не в сапфире даже. Хотя и в нем тоже. Спустя три года этот дивный камень — символ верности, целомудрия и твердости, вновь появился в необычайных обстоятельствах как некое действующее лицо или, если взять глубже, как некий знак или символ, несущий какое-то смысловое и пророческое значение в жизни этой молодой супружеской четы. Для меня символом этой верности и твердости была сама бабушка. Спасая позже свою жизнь в застенках ЧК, дед расстался с одним сапфиром — его снисходительно принял в дар какой-то чиновник, от которого зависела возможность спасения деда, как польского репатрианта (Польша уже отделилась тогда от России). Но жизнь показала, что только бабушка — она-то и была истинным "сапфиром"! — могла стать деду твердой опорой. Но все сложилось совсем иначе…
* * *
Бабушка Катя вышла замуж за деда Ивана Грациановича Домбровского весной 1912 года. Венчание состоялось в Киеве, где Катя жила с родителями. Верочка с мужем тоже жила вместе с родителями. Народу в доме на Большой Житомирской теперь было особенно много: за стол садилось обедать 16 человек.
Не скажу, следуя влечению любви к правде, уважением к подлинному течению жизни, ибо в ней, в подлинной пряже судеб и кроется действие Промысла Божия, — что для Кати этот брак был радостным событием. Окончив в 1903 году гимназию бабушка несколько лет занималась в Киевском художественном училище — она мечтала поступить в Школу живописи ваяния и зодчества в Москве, стать художницей. Но в Киеве подготовка была слабая. А дилетантизма Катя боялась. Надо было ехать в Москву, однако и заикнуться о поездке она не могла. Для Веры Егоровны, отпустить дочь одну в Москву казалось делом немыслимым.
Прошло несколько томительных лет, полных неопределенности, случайных занятий, случайного чтения, случайных обязанностей. Жизнь в семье в этот период текла по устоявшемуся руслу. Были не богаты. Но все-таки в меру благополучны. Снимали дом, содержали какую-то прислугу. Дочери вполне могли не работать. Да и кем? Где? Гувернантками? Гимназическое образование было получено прекрасное — Катя окончила с серебряной медалью. Знание нескольких языков (французский и немецкий свободно, английский требовал еще дополнительных занятий, польский, украинская мова — это им подарил уже Киев). Катя могла преподавать частным образом почти любой предмет из гимназического курса: так их тогда великолепно готовили. Она хорошо знала астрономию, математику, физику… Но девушки из таких семейств как правило шли работать только тогда, когда подпирала суровая житейская необходимость, или ради идеи — это относилось в основном к молодежи народнической или к тем, кто с особой силой чувствовал свое призвание к той или иной профессии. А просто так, чтобы служить ради получения какого-то излишка личных средств, или тем более ради свободы и личной независимости девушки — этого не водилось в «приличных» семействах. Первопричиной этого неписанного правила, как и вообще большинства старинных русских семейных обычаев, было благородно-христианское отвержение алчности, стремлений к стяжанию лишнего, избыточного, кроме того, что посылает Бог через отца — кормильца семьи. Все это так, но…
После окончания гимназии в 1903 году и вплоть до 1910–1911 годов жизнь бабушки Кати протекала в каком-то вакууме неопределенности, — на всех ее портретах тех лет виден какой-то след сумрачной тени. Она здесь и — отсутствует. В полной мере Катя проживала тогда мучительное состояние жития, которое не знает ответа на вопрос о том, ради чего жить…
Ответ она могла найти только один — любимое дело, профессия, творчество и, если Бог даст, — и своя семья. О жизни, как приуготовлению к вечной жизни, как к стяжанию Духа Святого спасения ради — никто уже тогда не говорил.
Говорят, неумелый пловец в крайних обстоятельствах скорей переплывет бушующую реку: сознание трудностей и опасностей не будет сковывать его члены. А мастер, все понимающий и все осознающий, может и потонуть. Многое знание — бремя, оно сковывает человека, если он не умеет оставлять в своих трудах и делах места Богу. А, как известно, если «источники водные не дадут воды, то не потекут реки, … если благодать Господня не поможет, все у человека останется пусто» (Свт. Дмитрий Ростовский. Алфавит духовный).
Кате доступно было глубокое проникновение в высокие образцы — искусства ли, науки, и трезвая оценка своих возможностей. Огромность задач, высота цели, видение всей ее красоты в ее сложности и гармонии — подавляли. Тем не менее, страстная жажда познания, деятельности, творчества горели все сильнее и, сгорая, накапливали запасы неизрасходованной энергии. Это был форменный кризис, причем кризис, у которого тоже была духовная подоплека. Помощи ждать было неоткуда. Мудрость духовная, когда-то широко и щедро разлитая по городам и весям Руси, давно уже начала оскудевать в среде хороших и верующих людей.
Чтение… Рисование… Родители… Но они были еще не столь стары, чтобы заботы о них потребовали от Кати многих жертв. А в сутках-то 24 часа… Что же было делать? Жить по старинной поговорке: «День да ночь — и сутки прочь»? Или «День да ночь — сутки прочь, а все к смерти поближе…»? Записала на курсы массажа. Занялась тригонометрией и сама всю ее прошла.
Нет, жить «просто так», жить, «как живется», без цели, без направления, без ощутимого движения вперед (хотя «вперед» — это куда?) Катя не могла. Казалось, что жизнь остановилась и никак не может вновь начаться, что молодость ее превратилась в какую-то паузу жизни, время «простоя»…
В Словаре Даля есть старинное, ныне вышедшее из употребления толкование слова «простой» — в смысле пустой, порожний, ничем не занятый. «Простой» души — это когда «закромы просты», когда душа не занята, не сориентирована в главных жизненных целях своих, и эта пустота душу гнетет и мучает, большей частью на бессознательном уровне. Душа страдает и от своей «порожности», и от безвыходности, мечется, ищет причины страдания вне себя, поскольку искать внутренние личные причины этих страданий или боится, или не хочет, или уже разучилась (или не научилась?) сему деланию по загрубению совести. Вот тут и начинается судорожный поиск заполнения пустот хоть каким-то делом, лишь бы оно само по себе было прилично, достойно, и не безобразно, как выражалась бабушка относительно выбора одежды.
Именно этот кризис и поразил глубоко русское образованное общество ко второй половине XIX и началу XX века. Его услышал и постиг Чехов — почти все его герои страдают от этого мучительного духовного недуга. «В Москву! В Москву», — человек рвется бежать хоть куда-то от невыносимой неустроенности собственной души, от страшной своей потерянности и беспомощности, — от всего того, что добрые, хорошие, воспитанные и образованные люди той поры воспринимали как неправильность и порочность обстоятельств и всего того, что их окружало и, бедные! — вместо того, чтобы заняться спасением и обустройством своей души с Богом и в Боге, начинали истово нырять в борьбу с обстоятельствами, с властями, с сословиями…
«Любить!», «Хоть кого!» — лишь бы только прилепить свою душу к кому-нибудь, лишь бы не остаться один на один со своей «простотой» — той, что по Далю — пустота, — стенала бессловесная душа чеховской Душечки. А Котик — неудавшаяся любовь Ионыча, гремела руладами по роялю, — жаждая стать музыкантшей (не из хлеба, заметьте!), не видя вокруг никого и ничего, и себя самое не видя. Бежать куда угодно и бросаться во что угодно. Такие, как Ионыч, плюнув на все эти туманные душевные зовы, выбирали то, что казалось неизменным: сытость, нажива, богатство, комфорт…
И все же, в отличие от нашего нынешнего времени, этот кризис был еще достаточно высокого порядка. В людях все-таки еще говорил, тосковал Дух:
Безверием палим и иссушен, Невыносимое он днесь выносит… И сознает свою погибель он, И жаждет веры… но о ней не просит…Тогда не полностью еще было разбазарено русское духовное наследство. Свое духовное умирание люди ощущали, но уже вряд ли многие из них способны были понять его причины. Волшебное слово «вера» было ими забыто.
А ведь до сих пор мы чувствуем, погружаясь в прозу тех лет, вглядываясь в старые картины, вслушиваясь в музыку, что Россия в то время была еще, как губка пропитана до последнего атома благодатью, верой и православным духом. Обращаясь к свидетельствам столетней давности, мы действительно можем встретить «другую жизнь», других людей, д р у г у ю Россию. Разве не запечатлела это дивное чудо русской благодатной жизни, к примеру, в своих «Страннических воспоминаниях» Верочка Жуковская? В каком же сне забвения были люди того времени, в каком духовном оцепенении, что даже не заметили, как страшный Черномор, пока они пребывали под гипнозом своих эгоизмов и «безысходных страданий» похитил как прекрасную Людмилу их дивную Родину, их несравненный отчий дом…
Но стоит ли торопиться к временам заката… помедлим, пока на календаре лишь только канун нового 1911 года, и Бог еще долготерпит, — Москва вся белая, заснеженная, во всю идет торговля на Рождественских базарах, лихо несутся извозчичьи пролетки, гудят, раскатываются малиновым звоном колокола по первопрестольной столице, куда вот-вот соберется Катя учиться рисованию и живописи. А покамест, она погружена в свою молодую «паузу жизни», в свою безответную любовь, в никем не узнанные и никому не поведанные — даже сестре — страдания ее сердца…
* * *
Еще с гимназических лет полюбила Катя человека, который о том очень долго даже и не помышлял, хотя и был он вместе со своей матушкой-вдовой другом дома и частым гостем у Микулиных. Его звали Александром Павловичем Рузским. Он был племянником известного боевого генерала, военачальника, генерал-адъютанта Николая Владимировича Рузского (1854–1918), сыгравшего, увы, очень неблаговидную роль в отречении Государя Николая II от престола и впоследствии омывшего свою вину мученической кровью. Н.В.Рузский, был зверски зарублен большевиками вместе с другими заложниками в Минводах. Он скончался после пятого удара саблей. Перед этим заложников заставили выкопать себе собственноручно могилу.
Александр Павлович — его племянник, был человеком вполне штатским, мирным, домашним, — типичным русским инженером-интеллигентом. Жил он с матушкой — Александрой Христофоровной и братьями в Киеве, вдалеке от политических бурь, хотя по взглядам был либерал. Женат не был. У Микулиных мать с сыном появлялись вечерами по нескольку раз в неделю. Это были совершенно свои люди. Александр Павлович всегда тут же садился за рояль: он любил музицировать и очень хорошо пел из классики. Ему аккомпанировала Катя, но чаще сам хозяин — прекрасный музыкант Александр Александрович Микулин. Трогательной любви молчаливой гимназистки, к нему обращенной, Александр Павлович так и не заметил…
Однажды Катю попросили навестить Рузских — Александра Христофоровна чувствовала себя нездоровой. Катя зашла в их квартиру — Александра Павловича дома не было. Как и Татьяна Ларина, Катя прошла в кабинет, посмотрела на книги, лежащие на столе, раскрытую газету… Увидела на полочке бюро засохшую гвоздику из петлицы и как-то в миг остро прочувствовала, как скользнул по лицу ее дух какой-то другой, ей совершенно неведомой жизни.
Но что это был за характер, моя бабушка Катя. Скрепить бы ей сердце, да и оставить мысли об Александре Павловиче, постараться преодолеть это непрошенное чувство… А она молча и безответно вот так и «пролюбила» его во всю свою жизнь и уже совсем старенькая, под восемьдесят лет, на мой вопрос, любила ли она кого-нибудь «по-настоящему», отвечала: «Да. Александра Павловича Рузского».
Были ли у Кати возможности устроить свою жизнь? Умная, своеобразно красивая, загадочная девушка из хорошего рода, образованная и не вовсе бесприданница, но никого не было рядом, кто мог бы составить ее счастье. Вообще почти никого не было. Со стороны родителей никаких попыток устроить судьбу девушек не наблюдалось. Ни Катю, ни Веру в общество, в свет специально «не вывозили». «Светскую жизнь» у Микулиных не одобряли. Таким был отец. О богемной жизни и речи быть не могло. Это был тихий, добропорядочный и очень тесный, ограниченный семейный мир… Отец занимался все время своей работой. Мать — семьей и частыми своими недугами. Не было вокруг девушек ни сплоченного живого аристократического круга близкой и дальней родни, который веками решал свои матримониальные проблемы большей частью внутри себя; ни купеческих обычаев со свахами, расчетами и сговорами, и прочими устоявшимися традициями этого сословия. Вообще родных, близких и дальних, становилось все меньше. Достаточно заглянуть в мемуары начала и середины XIX века, чтоб убедиться, сколь многоветвисты были еще в те времена дворянские семейства, и как это благословенное многолюдие помогало решать массу жизненных проблем, в том числе и брачных.
А здесь уже все было по-другому: старинное дворянство, корневое, культурное, весьма давно начавшее беднеть и как-то в ногу с обеднением и редеть. Беднеть-то, правда, начали чуть ни со времен Царя Ивана IV Грозного, когда стали истощаться подрубленные родовые корни многих древних опальных боярских родов. Довершился процесс при Петре I — вследствие введенного им закона о майорате — наследовании имущества по линии старшего сына, а Микулины были в те времена многодетны. Вглядываясь в родословные росписи Микулиных, Жуковских и Стечкиных, не могу не признать, что неудачные, своевольные, неравные браки по прихоти, но не по Божиему благословению, все-таки имели место в истории семьи. Не из-за них ли и началось это оскудение? И житейского благополучия, и потомства, и даже самого семейного устроения…
Однако возвращусь к прерванному повествованию о событиях 1911 года. После нескольких томительных лет киевского бездействия Кате, в конце концов, все-таки удалось упросить родителей отпустить ее в Москву, к своему любимому дяде Коле, — Николаю Егоровичу Жуковскому, чтобы она, живя у дяди и бабушки Анны Николаевны, смогла подготовиться к экзаменам в Школу живописи, ваяния и зодчества у хорошего мастера.
В Москве Катя вскоре поступила в студию художника П.И. Келина. Он сразу из большой группы учеников выделил только двоих: Катю Микулину и высокого, крупнолицего, большеголового, со взглядом исподлобья молодого человека — это был Владимир Маяковский. Между ними завязалось негласное соревнование, а потому каждый тихо торжествовал, когда Келин хвалил кого-то из них двоих в первую очередь…
На коллаже Екатерины Кожуховой — слева-направо: Иван Домбровский, старая Москва, Екатерина Микулина — все — 1911 год — время знакомства бабушки и деда.
Все публикуется впервые и хранится в архиве автора книги.
…Москва Катю опьянила: к дяде Коле постоянно приходили его ученики-студенты, собиралось много молодежи, заглядывали в гости двоюродные и троюродные братья и сестры и, как это раньше водилось, устраивались чаепития за столом любимого и добрейшего профессора, и, конечно, танцы. Правда, инструмента в квартире Николая Егоровича не было, а танцевать-то очень хотелось… Опять же и тут пылкая Катя нашла выход из положения:
— Слушайте все! Наверху у Альштатов есть пианино, неужели они не позволят?.. Неужели мы его не сможем снести к нам… на лямках из простыней?!
И был шум и смех и всеобщее веселье, и Николай Егорович притаптывал ногой в такт, добродушно приговаривая:
— Ох уж эта Катя, затейница, какую штуку выдумала! Да только как такую тягу наверх втащите?
Кате в Москве тогда жилось весело. Она впервые в жизни почувствовала себя свободной, независимой. А независимости она жаждала. Это было в ней врожденное, природное, самобытное. Но это была не та независимость, чтобы никто не мешал пуститься во все тяжкие. Тут было другое — характер. Катя любила одиночество и стремилась к нему, умела быть одна, подолгу заниматься своим любимым делом, погружаться в его глубины, а пустые разговоры и лишнее, кроме необходимого, общение, житейскую болтовню — все это она только терпела. Мечтая о будущем, она не видела себя в открытом служении людям, но видела себя только в тиши своего кабинета или мастерской.
Типичный интроверт, человек, погруженный в себя, сказал бы о ней Карл Г. Юнг. Здесь лежал и корень ее скрытности. Катя не любила «быть наружу», не любила, когда на нее слишком обращали внимание. Потому и в своих мыслях о будущем, она представляла себе и наиболее покойные для ее характера формы деятельности (занятия любимой работой). Без дела она жизни не мыслила. Это и было в ее пониании поисками своего пути. Но, опережая события, скажу, что Господь иначе управил ее жизненные стопы. Рожденной замкнутым и очень скрытным человеком, мечтавшим об «обители дальной трудов и чистых нег», о свободной уединенной жизни, о творческом покое и воле, Кате вопреки всему предстояло отдать себя всецело служению людям. «Интроверту» предстояло преобразиться в опору для других — многих и многих людей. Опору очень надежную, безотказную, безропотную, вдруг явившую драгоценный, хотя и мученический Евангельский талант «носить на себе тяготы» и многообразные немощи очень разных людей.
Всего только через несколько лет судьба Кати так круто повернулась, что она уже никогда не могла принадлежать себе или только себе. Даровал ей Господь — много позднее — и исполнение ее заветного желания обрести свое любимое дело. Им стала реставрация древнерусской живописи. Но до тех времен надо было еще прожить и пережить целых 13 лет — две революции, Первую Мировую и Гражданскую войны.
…В бабушкином сердце была скрыта какая-то пружина, которая могла очень долго, может, и всю жизнь, пребывать в состоянии предельной сжатости. Но и в старости, в тяжелой болезни, в оставленности, в несправедливом не увенчании ее подвижнических трудов, в многолетнем расставании со всем, что любила, бабушка никогда не плакала. Разучилась. Зато научилась преодолевать уныние: «терпение и труд все перетрут» — это была ее любимая пословица. Кстати, любил это присловье и преподобный Амвросий Оптинский, вот только он добавлял третье словцо в поговорку: «терпение, смирение и труд…». Я-то выросла, слыша только два главных слова. А Господь поправил, показав, что без смиренья — даже терпение и труд — не спасают. Духовник же вообще говорил, что терпение без смирения — это катастрофа. Боюсь, что ощущение близости катастроф было бабушке знакомо. Только в силу своей скрытности она никому не подавала виду.
…Сколь о многом теперь, когда и мой возраст уже совсем не мал, когда я, как никогда раньше, отчетливо вижу и понимаю все ранее сокрытые от меня обстоятельства ее жизни и все ее испытания, хотелось бы мне вопросить бабушку о многом. И, прежде всего, о Вере. Но, увы, ее так давно нет, а в послевоенные времена моего детства и юности на эти темы она старалась со мной не говорить. И как ее не понять… Боялась за семью, за меня… К тому же она дала мне возможность пройти с в о й путь и сделать с в о й выбор. Может быть, и это было Богом попущено мне. Пройти свой путь и обрести веру пусть и очень дорогой ценой и с великими потерями. Наверное, из того и как было утрачено в духовной жизни в начале XX века предками, иначе и выходить было нельзя. Надо было понести не только свои ошибки. Сила действия равна силе противодействия.
Но я не в обиде: пусть все будет, как было. Потерями и страданиями, сокрушением от собственных падений и неправд, ошибок и заблуждений подвергались исправлению какие-то глубокие сферы жизни, и не только во мне. Можем ли мы судить Судьбы Божии? Только бы верить, и стремиться слушаться Его…
* * *
Жизнь в Москве была исполнена радостью сопряжения с жизнью дяди Коли — Николая Егоровича. Она очень его любила. Отдыхала и расцветала сердцем при нем. Он брал ее с собой, куда только возможно. Запомнились встречи инженеров-воздухоплавателей в Политехническом, где за столиками с закуской спорила, чуть ли не с пеной у рта, инженерная интеллигенция о будущем политическом устройстве России. Никто, как вспоминала бабушка, не сомневался, что власть должна прийти в руки именно этой высшей интеллигенции и финансистов, конечно, удовлетворяя при этом и справедливым требованиям народа. Хотя, что будет дальше делать с властью данная интеллигенция — мало кто понимал. В то время Катя очень ясно убедилась в том, как безобразно и опасно политическое легкомыслие, ровно столько же безумно и безнадежно, как попытки психиатора разобраться с тайной души человека, бездонных глубин которой сам человек да хоть семи пядей во лбу — постичь не в состоянии.
Бывала бабушка вместе с Николаем Егоровичем и у старинной его приятельницы Гликерии Николаевны Федотовой, знаменитой артистки Малого театра, которая жила неподалеку от Мыльникова переулка — на Чистых прудах. Вместе с Федотовой в качестве ее друга и компаньонки почти всю жизнь прожила Катина тетенька — Александра Заблоцкая, двоюродная сестра Николая Егоровича и его всежизненная любовь. Сашенька тоже всю жизнь любила одного Николая Егоровича, и поскольку во времена их молодости — конец 60-х — начало 70-х годов — в такой патриархальной семье, как семья Жуковских, о браке между двоюродными братом и сестрой и помышлять было нельзя, то брак их и не состоялся. Мамаша — Анна Николаевна Жуковская, даже обсуждать этот вопрос сыну строго запретила. А Николай Егорович был послушен матери во всю ее долгую девяностопятилетнюю жизнь. Он и здесь с миром и добродушием принял судьбу: на мать никогда не роптал (этого и представить себе было невозможно!), а только нет-нет, да и промолвит: «Ах, хороша была девушка Сашенька… Если бы женился, да только б на ней».
И Сашенька замуж не вышла, храня сердечную преданность своей первой любви, прожив и посвятив почти всю свою жизнь Гликерии Николаевне Федотовой. К тому же она имела прекрасный слог, великолепно владела несколькими языками и немало перевела на русский язык прозы и драматургии. Она даже и зарабатывала этим занятием вполне прилично.
Прошли годы, но почти каждый вечер, будучи в Москве, Николай Егорович навещал их, благо идти было недалеко — всего пять — семь минут от Мыльникова переулка — до Чистых прудов… Сидели у самовара, вспоминали старинные театральные премьеры… Николай Егорович очень любил театр, и в особенности Малый, и нередко не замечая того, размышляя о своих математических делах, начинал декламировать вслух что-то из старинного репертуара…
А в это время в студии Келина Катя делала значительные успехи…
— Ну, Микулина и Маяковский, скажу прямо: Школа живописи, ваяния и зодчества вам обеспечена… Экзамен выдержите.
Так говорил Келин. И Маяковский Катю тоже выделял среди других «сахаристых», как он любил выражаться, барышень студии. Как-то после занятий они столкнулась при выходе:
— А вы
Ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
— Что вы такое говорите? — Растерялась Катя.
— Ну, и видно, что и вы «сахаристая барышня», хоть и рисуете здорово…
— Но причем тут водосточные трубы?
— Ничего вы не понимаете! Желтоклюв вы!..
На этом их знакомство не окончилось, через несколько лет они неожиданно встретились вновь. Теперь же, весной 1911 года, Кате надо было ехать в Киев: домашние ждали ее к Пасхе.
Увы, на том ее занятия живописью в Москве и закончились: родители не разрешили Кате летом вернуться в Москву, а потому от мечты поступить в Школу живописи, ваяния и зодчества пришлось отказаться… Отец сказал: «Пожалей мать». И впрямь для Веры Егоровны было немыслимо вновь отправить дочь в Москву, да хоть и к дяде. Разве она не понимала, не чувствовала, какой стала Москва, и что могло ждать там Катю… Вера Егоровна была воспитана в патриархальном, строго православном духе, на нее веяния времени и эмансипация не повлияли. Она знала по своему счастливому супружеству, что такое благословенный брак, и, конечно, желала своим дочерям истинно доброго устроения жизни.
Правды ради здесь уместно было бы вспомнить, что Александр Александрович Микулин был исключительно собственным сердечным избранием Веры Егоровны. И хотя он очень долго — четыре года был постоянным гостем и другом семьи Жуковских, все-таки материнский выбор был иным. Анна Николаевна Жуковская прочила для Верочки очень увлеченного ею барона Рутцена. Однако дочь она сильно не неволила: уговоры были тихими. А Верочка весело парировала все аргументы «за» только одной фразой: «Пусть барон останется при своем баронстве». Она полюбила — и взаимно с первого взгляда молодого, тогда еще студента-техника Микулина. И отвести от единожды принятого ею решения Веру было невозможно. Упрямство было ее «сильной» во всех отношениях чертой…
Что ж, Микулины прожили счастливо, трогательно и благоговейно любя друг друга всю жизнь. Но теперь Вера Егоровна чувствовала материнским инстинктом, что жить в Москве вдали от родителей, от устоявшегося порядка жизни для Кати было бы опасно. Быть может, в другой семье и махнули бы рукой: 25 лет, что ж, пусть сама строит и отвечает за свою жизнь. У Жуковских исстари мыслили иначе: «Береженного Бог бережет». А тут еще неожиданно пришло к Микулиным известие, что троюродная сестра Кати Надя Петрова тайком сбежала со своим поклонником в Америку: без денег, без знания языка, да к тому же и «жених» Надин был из революционеров.
Конечно, Катя пойти против родителей не могла, несмотря на исключительную свою природную независимость, на свою горячую любовь к искусству и явные успехи, которые она делала в своих рисунках и живописи… Мать и сестра, были с детства балованными дочерьми-любимицами, а Катя скорее «гадким утенком», чем-то напоминавшим шекспировскую Корделию из «Короля Лира». К тому же она была и совершенно «домашним» человеком. Нет, даже и в мыслях не могла бы она переступить через семейное благотишье. Таким, кстати, был и Николай Егорович. Семейный мир и покой в житейском отношении был для него превыше всего. И в нем, и в Катеньке личность (взгляды, предпочтенья) побеждали природу — эгоистический позыв устроить свою жизнь исключительно исходя из собственных интересов. Природная доброта того и другого не давала возможности наносить раны другим.
Даже и я, не чужая бабушке и прадеду, чувствовала тогда эту невозможность порвать хоть временно с домом и семьей: провалившись на экзаменах в Московскую Консерваторию, я не отправилась в Ленинград или Горький (вернее, отъезжала, но на другой день возвращалась домой), где бы меня с моими оценками взяли и без экзаменов. Помню космический ужас, пережитый мною в другом городе вдали от своих, когда я представила, что буду жить отдельно — вдали от них… Ничего не поделать: такие были отношения, такая любовь в семье.
Впрочем, будем бояться упрощений. И я боюсь их. В душе Кати Микулиной, как и у каждого человека все это было так сложно, противоречиво и загадочно переплетено. Нам под силу — только отблески жизни ловить, но не самоё жизнь.
Итак, Катя вновь оказалась с родителями в Киеве. Потянулись томительные месяцы жизненного «простоя»… Ей шел 26 год — по уму и сердцу она была уже очень зрелым человеком. И она понимала, куда и к чему этот простой сможет привести пути ее жизни. Перед глазами лежала раскрытая книга жизни родной ее тетушки — Марии Егоровны Жуковской, Mari или Маши, как всегда звали ее в семье. Судьба ее всегда казалось Кате очень печальной и крайне неудачной. Много лет спустя, когда бабушка работала над биографией Николая Егоровича Жуковского (это был самый конец 30-х годов прошлого века), она в черновиках как бы вскользь уронила несколько фраз в подтверждение тому. Мол, Николай Егорович, легче переносил свою семейную неустроенность, поскольку горел любимой наукой и занятия насыщали его душу, а вот у Машеньки не было ничего «своего», чем жить.
Вот так Катенька и думала, причем уже в зрелых годах. В тех бабушкиных заметках мне послышалось некое глухое осуждение не то, что самой судьбы Marie, а ее жизни как образа и символа бесцельного существования. Для таких девушек, как Катя, смысл жизни мыслился только в двух ипостасях — замужество, материнство и обретение своего профессионального «дела жизни». А у Маши ни того, ни другого не было, — она посвятила себя родителям, семье, брату, потом младшей сестре, ничегошеньки не оставив «для себя». Может быть, судьба ее сложилось даже без сознательных ломок характера, — кто знает. Но ведь она все смиренно и благодушно приняла, а прожила всю жизнь в любви, трудах, даря близким радость и заботу. Разве этого мало? И разве такая жизнь — повод для сострадания?
Но Катю в молодости опасность повторить судьбу тетушки, все-таки томила. Великая утешительность Веры была утрачена, а без нее жизнь всегда может обернуться к нам мачехой.
Ни ей, ни Верочке некому было духовно помочь в те годы. Да и стали бы они слушать… Гордость ума — это ведь каверзная вещь: не заметишь, как попадешь к ней в рабство, и ум этот будет перекрывать тебе все спасительные дороги и воздух жизни даже. Какими одинокими и беззащитными, какими горькими становилась тогдашняя молодежь, не ведавшая того, что сама наглухо закрыла души свои для спасительных слов. Мало кто искренне верил тогда в высшую и последнюю цель бытия сокрытую не на земле, а в Боге, в Блаженной Вечности. Мало кто понимал высочайшее предназначение человека, открывавшее ему путь к духовному дозреванию в вечной жизни. Променивали Царствие Небесное на выдуманных идолов, или искали новых самочинных путей к Богу в обход проложенного Христом Крестного пути исполнения Заповедей Господних. И те, и те становились жертвами своего неверия, губителями жизней своих, не способными творить их вместе с Богом, раскрывать и осуществлять заложенную в каждом человеке его собственную линию судьбы. Ведь только вера и молитва, и жизнь в Таинствах Церкви может помочь человеку научиться слушать волю Божию и находить силы ей следовать.
Но все, все складывалось иначе…
* * *
Шел к концу 1911 год. Бабушке было уже 25 лет и она, вернувшись из Москвы, тосковала в Киеве без дела. Научилась с горя массажу. Записалась еще и на агрономические курсы. И хотя все это потом в жизни пригодилось, но тогда это Катю не радовало, да и порадовать не могло. Ни то, ни другое не было ее местом в жизни.
Однажды на скеттинг-ринге ее познакомили с Яном Грациановичем Домбровским. «Элегантный, высокий, с изысканными, но нарочито грубовато-простыми манерами», — так описывала его бабушка. Ян был студент Киевского университета, и ему оставалось учиться еще год.
Бывают такие паузы, особенно в молодости, и в жизни очень основательных людей, которые по природе своей не могут жить абы как… А потому им трудно бывает претерпевать тягучее время самоопределения. Такие торможения в жизни тянутся и тянутся до бесконечности, а молодой характер не имеет еще ни закалки, ни выносливости, ни должного смирения, чтобы с честью перетерпеть такое испытание, и человек срывается: совершает непоправимые ошибки. Жизнь меняет русло, течет «не туда», путь искривляется, пока Промысл Божий, смилостивившись над человеком, не исправит, и не без боли для него, эти ошибки, возвращая человека на дорогу, но уже не в том месте, не в то время, не с теми силами, да плюс еще и с целым букетом «отягчающих обстоятельств».
В такой-то момент «замирания жизни» и познакомилась бабушка с Яном Домбровским…
Ян, а по русскому паспорту Иван, был из весьма родовитой и состоятельной польской семьи. Он был потомком национального героя Польши, создателя польских легионов Яна Генрика Домбровского (1755–1818), сражавшегося сначала под знаменами Косцюшко, а затем в войсках Наполеона. Позднее Император Александр I дал ему чин генерала от кавалерии и сделал польским сенатором. В 1816 г. Домбровский вышел в отставку и, удалившись в свое поместье, занялся составлением записок о военных действиях в Великой Польше в 1794 году. Домбровский отличался большой храбростью и организаторским талантом, пользовался огромной популярностью в войсках. Патриотическая песня польских легионов — «мазурка Домбровского» «Еще Польска не сгинела» стала польским государственным гимном. В Познани, на холме св. Войцеха, в часовне св. Антония хранится как святыня урна с сердцем генерала Домбровского.
Сам же Иван Грацианович, по рассказам бабушки, особо дорожил потомственно-родовой связью с древней святой Домбровкой, первой христианкой-просветительницей Польши — богемской княжной, внучкой святой мученицы королевы Людмилы, принявшей, как и ее супруг, князь Боривой, святое крещение от святого Мефодия — архиепископа Моравского. Из Моравии христианство благодаря трудам равноапостольного Мефодия проникло в Богемию, а оттуда, благодаря Домбровке, вышедшей замуж за первого польского короля Мечислава I — в Польшу. И король, и его подданные приняли христианство по греко-славянскому обряду. Тогда же состоялось и крещение народа. И только позднее, когда король вступил во второй брак с принцессой из саксонского дома, начало усиливаться немецко-латинское влияние. Однако, по утверждению историков, еще в XII веке в городе Кракове и его окрестностях сохранялся древний церковный Греко-славянский обряд богослужения.
Отец Яна — Грациан Игнациус Домбровский, был видный киевский адвокат, вел дела польских магнатов, имел четырехэтажный собственный дом на Бибиковском бульваре. Жил со второй женой в Липках — в богатой, аристократической части Киева.
…Однажды в конце зимы трамвай завез Катю и Ивана за дачи Святошина. Прошлись по последнему снегу на лыжах, провожая зиму. Под лязг трамвая на обратной дороге Домбровский неожиданно сказал:
— Катюша! Выходите за меня замуж!.. Мы подходим друг другу, разве вы это не заметили? Приходите ко мне, я покажу вам мою коллекцию старинного оружия, представлю моим родителям, как будущую жену. Приглашу Гульку Миклашевскую… Потом вас обеих провожу…Так — решено?
«Что заставило меня пойти вопреки желанию?», — сокрушалась бабушка. — «Все та же тоска, бесцельное препровождение времени…»
С Гулькой (бабушка так никогда и не узнала ее подлинного имени) действительно встретились, но родителей Яна дома не оказалось. Пока любовались старинными кинжалами и саблями, Гулька исчезла… Катя заторопилась домой. От проводов отказалась. Шла одна, а вечер был уже поздний. И вдруг… навстречу — Александр Павлович:
— Екатерина Александровна! Откуда это вы идете одна? Почему вы в наших краях?
Ей так захотелось тогда подойти к нему, поговорить, попросить совета, рассказать, как тяжело у нее на душе. Но потом подумала: какое ему до меня дело? И, передав привет его матушке, поскорее пошла домой.
А спустя несколько дней, явился к Микулиным Ян, прошел в кабинет отца и сделал предложение. Отец потом позвал Катю. Он выглядел очень расстроенным. Все-таки поляк, хотя и родовитый… А Катя опять же неожиданно для себя самой ответила согласием. Отец, такой всегда сдержанный, чуть не по-настоящему заплакал, когда жениха и невесту поздравляли шампанским: видно, иначе представляли отец и мать будущий брак своей дочери. Очень уж показался им Иван Грацианович не ко двору скромному, семейно-уютному, по-старинному простому и теплому укладу жизни Микулиных и Жуковских. Правда, Ян ничуть не изображал из себя светского фата, а наоборот, говорил, что мечтает уехать куда-нибудь в захолустье, получить место в каком-нибудь уездном городишке. Но это совершенно не соответствовало ни его внешнему облику, ни его образу жизни. Хотя, — говорила бабушка, — он весь был соткан из противоречий.
Началась подготовка к свадьбе.
* * *
Ян был не просто красивый и очень видный молодой джентльмен из высшего круга, но это был действительно редких талантов неожиданный и удивительно своеобразный человек, враг всяческой пошлости, банальностей и шаблонов. Таким его видели все. В том числе и позднее — его критики и рецензенты в Америке, когда он уже стал там прославленным художником и взял себе американский псевдоним: Джон Д. Грэхам. Там Грэхама воспринимали прежде всего как исключительного оригинала — личность экзотичную и парадоксальную, смаковали его афоризмы и остроты, однако его творчество ценили очень высоко. Дед же, вероятно, считал нужным соответствовать им по принципу: хотите так? Что ж, получите! Каков запрос, таков и ответ…
И вот уже трещат морозы И серебрятся средь полей… (Читатель ждет уж рифмы розы; На, вот возьми ее скорей!)А бабушка видела его совсем иным: «Дед твой был и хорошим, и очень добрым человеком», — так всегда говорила она мне. И спустя много лет, после его и ее кончины, когда я перечитывала письма деда из заграницы, куда он эмигрировал в 1918 году, военный фронтовой дневник 1915–1916 годов, посвященный бабушке, мне действительно открылся в своей глубине и красоте совсем иной образ деда, — быть может, и европейца — по манерам и лоску, оригинала по творческим талантам, но человека с подлинно русским сердцем.
…Подошла Пасха 1912 года, она была не ранняя в том году (7/20 апреля). Киев цвел, благоухал… До венчания Кати и Яна оставались считанные дни. В доме Микулиных шли бурные хлопоты: шили дорогое и модное приданное для Кати — иначе тут было никак не обойтись, — какие-то платья в обтяжку, дорогие пуховые одеяла. Катю замучили ненавистными ей бесконечными примерками, которые она, крайне неприхотливая в отношении нарядов и всех дамских изысков, ненавидела. Средств у Микулиных, конечно, было в обрез, но, как всегда, дорогой дядя Коля — Николай Егорович Жуковский, всеобщий помощник и выручатель, прислал любимой племяннице на приданное.
Венчание состоялось по православному обряду, хотя Ян был крещен католиком. Однако по духу своему и жизни — во всяком случае, так было до Америки, Ян не отделял себя от жизни Православной Церкви: он чтил праздники, иконы, особенно Казанскую икону пресвятой Богородицы, молился по-русски, читал псалмы по церковно-славянски. Это, кстати, очень отозвалось в его военных — времен Первой Мировой войны — дневниках…
Катя все время подготовки к свадьбе жила как во сне. Словно в насмешку, одним из шаферов у Кати оказался Александр Павлович. После свадебного обеда у Микулиных, все поехали провожать молодых на вокзал: молодая чета Домбровских отправлялась в свадебное путешествие заграницу…
Бабушка вспоминала последние минуты этих проводов, как она стояла у окна купе и растерянно-грустно смотрела на всех своих дорогих близких, на старинных добрых друзей родительского дома. Когда же раздался второй звонок, Александр Павлович вдруг протянул к ней руки:
— Екатерина Александровна! Прыгайте к нам, пока не поздно!
Но… Было поздно…
Раздался третий звонок…
Прощай, юность!
* * *
Странным было и свадебное путешествие молодой четы Домбровских.
Катя заграницей еще не бывала и, конечно, мечтала повидать знаменитые «священные камни Европы», по выражению Достоевского и потому сердце ее было полно радостных ожиданий. «Но кто этот изящный молодой человек, который укладывает на полки чемоданы? Неужели мой муж? Может, я все-таки привыкну и полюблю его?».
Куда они ехали, каков маршрут придумал Ян, она и не знала…
Львов — тогда австрийский Лемберг, затем Швейцария… «Нет, не совсем Швейцария, — поправлял Ян, — Женевы и Невшатели мне изрядно надоели…»
— Жука, — так с самого начала стал называть Катю Ян, — смотри-ка, вот и твоя любимая природа!
«Природой» оказались повсеместно разбросанные между холмами Альп огромные плакаты: «Нет лучше какао Ван-Гутена», — вполне в стиле экстравагантных чудачеств Джона (а бабушка называла его и Яном, и Янеком, и Джоном, и Жаном…Сам же дед предпочитал только одно имя — Иван).
А затем была долина Ломбардии, Венеция: зеленоватые воды канала, гондола — в гостиницу плыли, а по сторонам Катя разглядывала великолепные образцы старинного итальянского барокко, дома, обросшие по выступающим фундаментам зеленым мхом… Кате так хотелось посмотреть мозаики собора святого Марка, Дворец Дожей, и, конечно, множество других знаменитых достопримечательностей, но Ян на это сказал:
— А знаешь, Жука, пойдем-ка лучше в кино!
Было мне в Венеции жарко, И смешно кормить голубей, А на площади святого Марка Был бомбино, мой чичисбей…Эта популярная тогда песенка, сочиненная Костей Подревским, мужем Верочки, все время назойливо звенела в Катиных ушах. Никакого чичисбея у нее, конечно, не было. Был Ян, который презирал все банальные туристические справочники, начиная со знаменитого немецкого Бедекера, с их исхоженными тропами и разглядыванием всем известных памятников и достопримечательностей. Истоптанными дорогами он принципиально не мог ходить …
Потом они побыли в Ницце, Монте-Карло, Марселе, откуда, — это уже было требование Кати, соскучившейся по дому, они поплыли в Константинополь, чтобы вернуться морем в Россию. Стамбул пронзил Катино сердце красотою своих христианских святынь, фресок и мозаик, своим древним византийским колоритом, экзотикой, и неевропейской светоносной живописностью.
Но вот, наконец, и Одесса. Мы почти дома! Вот только получить бы скорее денежный перевод от всещедрого дядюшки Коли. А пока молодоженам придется питаться по очереди, да и то одним только продуктом — мороженным, как самой дешевой пищей в Одессе!
…Перед свадьбой познакомиться с родителями своего будущего мужа Кате так и не довелось. Родители Яна совершенно игнорировали предстоящую женитьбу сына. Он за них извинялся, говорил, что они полны польских предрассудков и не хотели видеть женой единственного сына — русскую. И только когда они вернулись в Россию после свадебного путешествия, Ян передал от Домбровских приглашение все-таки посетить их, чтобы познакомиться. Катя ехать не хотела. Но настоял отец: надо же было узнать семью Яна.
Скрепя сердце, надела она купленное в Вене черное платье, и они отправились в Липки, не ожидая ничего хорошего от этого визита. Их ждали к обеду. Было довольно много гостей. Седой, с коротко подстриженным бобриком отец Яна был элегантен и суров. Кругом звенела польская речь. А к Кате начали обращаться почему-то по-французски. Вот тут-то и сработала скрытая механика подлинного бабушкиного характера: ее оскорбило это французское обращение, это тонкое унижение ее как русского человека, ведь все там отлично владели русским языком. И тогда бабушка сказала по-французски, что она отлично владеет этим языком, но предпочитает говорить по-русски там, где ее понимают. А потом упорно отвечала краткими русскими фразами на польские и французские любезности, с которыми к ней обращались. Через некоторое время отец Яна нанес официальный ответный визит Микулиным, и на этом знакомство Кати с семьей мужа закончилось.
* * *
Год с небольшим после свадьбы в мае 1912 года Ян и Катя прожили с Катиными родителями в Киеве. Джон оканчивал университет. В июне 1913 года за три дня до памяти преподобного Кирилла Белозерского родился сын. После долгих споров назвали его Кириллом. В роду этого имени не было ни у кого. Лето 1913 —го года, как всегда провели в Орехове, зиму в Киеве. А уж в августе 1914 года в Орехове — в этом родном прибежище от всех невзгод — всю собравшуюся там семью застало известие о начале войны.
Мобилизация… Цвели липы, гудели пчелы, вокруг благоденствовала обычная вековая деревенская жизнь, но мира в душе уже ни у кого не было…
Джон, как единственный сын, мобилизации не подлежал. Он решил исполнить свой экстравагантный замысел о тихой семейной жизни в маленьком провинциальном городке (правда, у Джона еще были колебания: или ехать в русское захолустье — или путешествовать на Таити, или в Австралию. Слава Богу! Выбор он тогда временно остановил на русском захолустье…).
Через дядю Сергея Александровича Петрова — председателя земской управы во Владимире, нашли место для Джона даже не в городке, а в большом фабричном селе под названием Южа, где находилась прядильно-ткацкая фабрика купца Балина, неподалеку от Шуи Владимирской губернии (ныне Южа находится в черте Ивановской области). Вокруг довольно дикие, пустынные, с чудесными озерами, лесами, ягодами места. Джону, как юристу, предстояло разбирать претензии рабочих к своему хозяину Балину.
Впервые Катя и Ян с сыном Кириллой, как стала называть его няня Ганна, украинка в пестром очипке, — целая семья из четырех человек, — тронулись в начале октября, пока еще не стали реки, в путь по Оке до Балинской пристани к своему самостоятельному бытию и первому своему собственному супружескому дому…
Южа была всего лишь большим селом, но там имелись и хорошие дома для служащих фабрики и обильно оснащенные «колониальные» магазины, где можно было купить дорогие вещи: фрукты, духи, конфеты… Правда, не было керосинок, решет, самоварной трубы, что хозяйственная и домовитая Катя скоро очень хорошо прочувствовала, устраиваясь на новом месте в небольшом доме с необходимой обстановкой от хозяина Балина и настоящей русской печкой, к которой ей еще предстояло привыкнуть.
«Дорогие любимые!
Спасибо, мамуля, за письмо, я уже по Вас всем соскучилась страшно, как будто дома, а вместе с тем и не дома: очень уж привыкла к жизни всем вместе. Хозяйство мое наладилось. По возможности, взяла здесь девушку. Готовить она не умеет, тесто знает, готовлю с ее помощью сама. Жанчик пока на мою кухню не жалуется. Готовлю по книжке Вертерна и оладьи вышли очень хороши… До сих пор не могу купить решето и сита нигде нет и скалки для теста, так что раскатывать приходится бутылкой или пеналом, но это все вскоре образуется. Бумочка (сынок Кирилл- Е.Д.-К.) уже совсем привык, кушает хорошо, гуляет каждый день… Обедаем часа в два, а часа в четыре после Бумкиного обеда ездим с Джоником верхом, если дождь не сильный. Здесь есть замечательные лошади киргизцы — небольшие, плотные лошадки с подстриженной гривой, кожа на шее собирается в складки. Бегают невероятно быстро. Я никогда таких не видела. Один из них может пройти 15 верст в полчаса полным карьером. Ездить на них одно удовольствие… А вообще здесь почти никого нет, все, кто были летом, разъехались. Теннис сняли, есть только сносные кино. Довольно большая библиотека и бильярд в клубе, в котором можно со скуки поиграть днем, когда никого не бывает…»
Ну, скуки-то у Кати не было. Она вообще не признавала скуки за всю жизнь: у нее всегда находилось дело. И с меня даже за употребление этого слова в детстве строго взыскивалось. Скучал Джон, часто ворчал, что надело ему все, что никакого дела ему до претензий рабочих к Балину нет, что ему тут не место… Следовало того ожидать. И Катя на это реагировала вяло. Она была ко всему готова, понятно, что такая тихая жизнь старосветских помещиков была не для Джона. Во всяком случае, Джона того времени. О, ему надо было прожить много десятилетий в Америке, Франции и Англии, повидать множество стран и народов, поменять несколько раз политические и даже религиозные взгляды, не говоря уже о женах, чтобы фактически вернуться всем своим существом душой и сердцем в конце пути в эту забытую Богом Южу. В село, заброшенное в глуши лесов, окраину Владимирской губернии, где несколько семей служащих фабрики вечерами собираются в клуб почитать газеты, а жены их щиплют корпию для фронта, шьют солдатские рубахи и тихо беседуют о своих женских делах, где в кроватке посапывает маленький сын, а Катя, отложив в сторону свои прежние мечты об интересной работе, о деле жизни и об искусстве, с удивительной способностью устраивать теплый очаг в любом месте вселенной, готова хоть тысячу лет вот так прожить в такой вот Юже со своим мужем и детьми, исполняя свою неяркую и нехитрую на первый взгляд, женскую службу, исполняя своим любящим сердцем вечное тягло женской доли…
На фотографии из семейного архива (снято в Орехове) слева — направо: сидят за столом Вера Егоровна Микулина, Николай Егорович Жуковский, Иван Грацианович Домбровский; стоят: Леночка Жуковская, Саша Микулин, Екатерина Александровна Домбровская с новорожденным сыном Кириллом и няня Ганна.
Снято летом 1913 года.
«О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно?… Что значит странный голос твой…?», — вопрошал, прислушиваясь, Тютчев. В детстве меня, склонную к разглядыванию всяких невидимимых и, казалось бы, только в моей фантазии существующих вещей, очень занимал вопрос о том, что происходит с деревьями зимой. Умирают ли они? Спят ли, как медведи в берлогах? Не говоря уже о том, что, имея под руками немало рисунков, акварелей, живописи, — благо альбомов-то у нас хватало, — я почему-то более всего любила разглядывать именно картины зимы, а в них природу — не только деревья, но и кусты и редкие ветлы, и засохшие под зиму стебли репейников.
Вот они-то, эти хилые стебли в белоснежных спящих неизмеримых наших равнинах, такие редкие, одинокие, пригнутые ветрами, такие изысканные в нашем русском зимнем пейзаже, как одинока, тонка и изыскана прикровенная жизнь русской души в снежных пустынях времен и пространств нашей истории, которые никому кроме нас не понять, не нарисовать и не спеть в томительной и протяжной песне, пространств, которые и научили нас, русских — тех родных наших, что жили задолго до нас, ни больше, ни меньше, как добру и самой любви, чтящей благоговейно тепло и уют, очаг и ласку, ломоть хлеба в прикуску к милосердному взгляду из сердца, дарованному замерзшему в жизни путнику, — вот они-то и приковывали всегда мои взоры…
За эту самую, услышанную и оплаканную радостотворной слезой нашу русскую участь, ее боль и сладость, ибо она есть и любовь, и несомненный путь к спасению, — вслед за мамой всем сердцем я полюбила несравненную художницу Анну Петровну Остроумову-Лебедеву. Не за Петербургскую ее графику, великолепную, вздымающую душу восторгом величия сугубой венценосной Петербургской красоты в несбыточных мечтаниях Серебряного века об умершем и незабвенном веке XVIII с его дивными парками и усадьбами, — но за маленькие скромные зимние деревенские шедевры графики Остроумовой. Конечно, при этом я, как и мой дед, — я должна здесь оговориться, правды ради, — могла, конечно, любить… все. Или почти все.
Вот уж у кого была явлена достоевско-пушкинская всеотзывчивость — безмерная широта восприимчивости к красоте, к духовности во всех ее самобытностях, так это у него, у моего легендарного и ни на кого не похожего деда. Упокой, помилуй, Господи, душу его… Я знаю, за к о г о прошу, мое сердце это знает, этому радуется и с любовью вопиет к Божественной Любви.
…Мой жизненно-художественный аппетит был, пожалуй, всегда почти столь же ненасытен, сколь не знала границ фантазия, и восторг пред существующим. В этом и главная была причина бед: крест и мука, а вовсе не роскошь существования. Правда, если бы мне объяснили, что в этом и живет в тебе часть твоего деда, может быть, этот крест и эту муку я несла бы рачительнее и осторожнее. А, может быть, говорили, да я не упомнила? Но нет, меня ни о чем не предупреждали…
А свойство это осталось и совсем не ослабло с годами. Поэтому мне не очень трудно о нем писать и его понять… Наследственность.
Вот и сейчас — уже к концу жизни (моей и жизни рождения этой книги, в которой я пыталась еще и еще пожить жизнями своих предков, услышав их безмолвные слова), я все еще не могу насытиться дивным лицезрением этого бытия. Весь мир располагается передо мной, как открытая книга, хоть я и никуда теперь не иду и не еду, и не все страницы этой книги мною даже любимы (хотя если б стала вглядываться, кто знает?). Но душа все так же готова охватывать и вбирать в себя много, безмерно много, вслушиваться и вглядываться в этот сказочный мир.
С ненасытностью прерываю я свои чтения и размышления, и погружаюсь в поглощения сквозь окна воспламеняющегося на моих глазах запада, выбрасывающего в небо нежно-апельсиновые, воспаленно-алые, цвета «сомО» — лососевые, волнующие и несомненно пугающие меня чем-то полоски, которые быстро распространяются по всему горизонту и к югу, и северу, словно небо выкладывает нам какой-то тревожный ультиматум, который кроме меня сейчас, боюсь, никто и не собирается читать. Но то, что там имеет место текст, у меня сомнений нет.
Я вбираю в себя сырость и свежесть оттепели и легкое дыхание улиц, зябнущих от все еще медлящей зимы, фиксирую глазом клочки забытой травы, а поздним вечером, когда мы уже никому не нужны и свободны, как перст, встречаю такую же одинокую звезду, которая возгорается не только над огромным, стиснутым и скорченным, как та несчастная евангельская женщина (Лк.13:10–17) городом-мучеником, но и там — над заветными просторами заброшенных полей, где живет мое сердце:
My heart's in the Highlands, my heart is not here, My heart's in the Highlands a-chasing the deer…Пусть у Бёрнса горы, а у меня поля. Мелодия-то одна. Всегда ближе всего мне было вот это: сочетание безмерных великих снежных пространств в сумраках умолкнувших коротких зимних дней, от которых невольно сжимается предчувствиями сердце человека, и слабо светящегося огонька — от керосинки? — в оконце, издалека зовущего тебя в свое тепло, в свою жизнь, где в нескольких квадратных метрах убогой хижины совершается величайшее таинство — чье-то человеческое земное существование, в которое и ты можешь войти ненадолго.
«О чем ты воешь, ветр ночной»… Потому-то и занимали меня зимние деревья — немые свидетели всех этих событий. Вот стоят они под ветрами и изморосями, уже не стыдясь своей беззащитной худобы, безропотно принимая на себя все то, что пошлет Бог: роскошную снежную опушку или смертельный ледяной панцирь… Но сами-то они живы? Или наполовину умерли, впав в кому зимней спячки?
Говорили мне, что деревья зимой не растут, пребывают в странном покое, который ни есть, ни жизнь, ни смерть. Оказалось, что это не так. Именно зимами в деревьях (и кустарниках тож) происходит какая-то сокровенная, ушедшая на глубину под землю, никому не ведомая, но очень важная работа жизни. У них зимой растут корни. Медленно и осторожно продвигаются они вглубь земли, все дальше и дальше уходя от поверхности, ища в глубинах чистые и сладкие соки жизни, запасаясь ими, быть может, не на один век.
Не так ли и человек в свои томительно долгие и какие-то неявные событиями и проявлениями его личностной сущности годы где-то глубоко и незримо изменяется в скорбях и страданиях, претворяя свое, казалось бы, бренное и никчемное бытие, насыщенное долголетним терпением неопределенности и все более скромных мыслей о самом себе в подлинную меру своего личностного роста?..
* * *
Я видела перед собой всегда эти снежные пространства России, эти сирые, пригнувшиеся к снежным перинам ветлы, а представляла себе в этих пространствах всегда жизнь двух человек: моего деда Ивана и бабушки — молодой, сильной, но такой трогательной в своей сокровенной женской слабости. Что только не говорили и не думали близкие об их коротком браке, об их странном нахождении друг друга и быстром сговоре (иначе не сказать: немного помолчали и скоро договорились связать навеки свои жизни, помятуя о том, что если «Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).
Что только потом не писали о моем деде, ставшем знаменитостью там, в Америке, как не жонглировали якобы всем понятными и известными фактами его жизни, мол, он был то-то и то-то: и человек Серебряного века, со всеми его декадентскими вывихами, и европеец и законченный денди, бесподобный нонкоформист-оригинал и джентльмен до мозга костей, хотя никогда не был снобом, и не имел в себе никаких признаков высокомерия, экстравагантный и непредсказуемый в своих пристрастиях и увлечениях самыми разными течениями искусства — от Паоло Учелло, «своевольнейшего из художников», по словам Вазари — до Пикассо; от негритянского искусства — до русской иконы, и что при всем при том он был еще и «добрый малый», и хороший товарищ, который всегда помогал тем, кто попадал в трудное положение; был человеком, имевшим несколько браков, и при этом то ли истовым католиком, то ли сокровенным православным, то ли сказочником и магом, увлекавшимся всякими гадостями магнетизма и прочей алхимией, и Георгиевским кавалером, действительно проявлявшим подлинную храбрость и умение воевать в годы I Мировой войны.
Но нет, куда там было справиться с этим феноменальным человеком историкам искусства и критикам. Вместо портрета живой личности с несомненным внутренним стержнем (вот его-то ухватить никому не удавалось!) предлагался пестрый и бессмысленный конгломерат противоречий, которые подавались биографами всегда с большим или меньшим восхищением (таланта-то не признать было невозможно) и с… непременной ухмылочкой, с которой обычно набрасывают портреты людей чудаковатых, которые «взрослым» и не чудаковатым кажутся какими-то смешными и странными детьми.
Между тем и бабушка ведь тоже была человеком не простым — и о ней можно было сказать, что она соткана их противоречий (как она говорила о Джоне, что я уже и упоминала). Следуя по следам ее бесстрашия, ее мужества, ее подвижнических трудов и трепетно-нежного отношения к семье и детям, удивительного сплава женскости и мягкости этого отсека ее сердца с какими-то монашески-аскетическими глубинами ее личности, — я поражаюсь интуиции деда. Предлагая ей связать свою жизнь с ним, он ведь сказал, что они подходят друг к другу и, несомненно, был прав. Бабушке нужен был семейный очаг и уют, а он долго не мог усидеть на месте и фактически сбежал от этого очага на войну. Проявив там не раз подлинный героизм и заслужив Георгия. Но и Катя, обретя любимое дело, предалась ему безоглядно, и детей в конченом итоге вырастила ее мать — уже старенькая Вера Егоровна, поскольку реставрация требовала почти постоянных и долгих отсутствий Екатерины Александровны.
Как и дед, бабушка имела неутомимую жажду познания. Ей бы наукой серьезно заниматься, хотя она и занималась ею как искусствовед, правда, вынужденно упустив время и оставшись без фундаментальной систематической подготовки. Это восполнимо, но всегда на многие годы становится фактором торможения. Бабушка тоже, как и супруг ее, была очень не похожим ни на кого человеком. В ней были какие-то неизрасходованные за жизнь глубины. Я думаю, если бы жизнь сложилась иначе, дед не пошел бы на войну, не попал бы в верную до самого конца Государю «Дикую дивизию», а когда она была расформирована, арестован и приговорен к расстрелу, если бы он не был вынужден, чудом избежав смерти, репатриироваться в Польшу, и они бы прожили вместе еще годы, занимались бы своими профессиями, растили бы детей, путешествовали, проводили лета в Орехове, — я думаю, это была бы идеальная и на редкость красивая пара.
Но… почему-то ничему этому не дано было случиться. Свел их Господь вместе и скоро разлучил навеки, покрыв эти великие земные и временные пространства между ними глубокими снегами и столь же глубоким молчанием. Но не забвением: тот маленький и теплый далекий свет в оконце, где совершалось в укромном жилье тихое и великое таинство жизни, где незаметно росли и прорастали вглубь корни, Бог сохранил. Его не забыл и не потерял из виду Джон. Его — на другой стороне света — помнила и берегла в глубинах сердца Катя. Может быть, так и надо было для личного духовного возрастания и становления, для подлинного спасения? Не всем ведь дается счастье вкусить спокойной и благой жизни в супружестве здесь. У некоторых оно оказывается столь кратким, словно не бывшим, а влияние на развитие души на протяжение всей жизни оказывает огромное, хоть и незаметное.
Может быть, услышал Господь все тихие токи сердец этих двух человек, и где-то в вечных селениях соединил их еще раз, теперь уже навсегда… И не потому ли свет того огонька до сих пор настолько согревает и мое сердце, что я испытываю потребность этим светом и теплом от избытка поделиться с другими…
Бабушка так и осталась одна. У деда были в Америке жены, — с первой, с которой он уехал из России, он развелся очень скоро, — никаких чувств взаимных у них не было. Со второй женой прожили довольно долго, и вновь был развод. И только последняя, ее звали Констанс, — очень добрая и заботливая женщина, стала деду другом на многие годы, и он оплакивал ее, когда овдовел. Но скоро-скоро мы услышим его собственный живой голос, и узнаем, чем и кем на самом деле жило его сердце…
* * *
Выйдя замуж за деда моего Ивана Домбровского, Катя все свои мечтания оставила в стороне. Дед, закончивший Киевский лицей, истинный шляхтич и денди, решил устраивать жизнь с Катей в маленьком городке, чтобы там служить и слагать поэзию тихой семейной жизни. Бабушка все это сразу приняла — наверное, она могла бы именно так и прожить с ним целую жизнь. Кириллу было всего несколько месяцев, когда поздней осенью 1913 года они переехали вчетвером с няней и мальчиком в Южу. Но через год тихая жизнь закончилась осенью 1914 года. Джон заявил, что они поедут в Нижний Новгород на Рождество к родителям, куда уже был переведен Александр Александрович Микулин, но что в Южу он больше не вернется. Праздники прошли очень весело. Именно там и тогда состоялась потеря и чудесное нахождение сапфира: снега, опять глубокие снега…
К концу святок выяснилось: Янек (и так звала мужа Катя) подал заявление на годовые, для окончивших университет, курсы в Николаевское Кавалерийской училище имени Архангела Михаила. Выпускали юнкеров — корнетами.
— Средства найдутся, — как всегда беспечно решил Ян, продам запонки — они дорогие! На первое время хватит(экипировка кавалериста-офицера стоила очень дорого). Напишу, наконец, отцу… Может, пришлет. Ну, там видно будет! В общем, завтра я уезжаю, а ты, Жука, не горюй, радуйся на Кирилла Ивановича. А я так прозябать больше не могу…
Бабушка осталась в Нижнем до лета, потом все отправились в Орехово. Что делать дальше — ей было совсем неясно. Ведь у нее не было кроме Орехова даже своего дома. Но ход жизни подсказала война. По разверстке в Орехово пригнали стадо коров из Польских губерний, занятых немцами — штук 15. С ними прибыли беженцы: пожилая полька с двумя огромными перинами и сыном Владиславом. Коров разместили у Жуковских в скотном дворе, который недавно перестраивал старший Микулин. За прокорм дойных коров и уход за ними, молоко оставалось в пользу хозяев. Александр Александрович приобрел бидоны: предполагалось отдавать молоко на станции Ундол для отправки в Москву знаменитому держателю московских молочных — купцу Чичкину. После долгих обсуждений Жуковские и Микулины решили закрыть и утеплить часть Ореховского дома, где на зиму вести все это хозяйство останется Катя с Верой Егоровной и маленьким Кириллом с няней Ганной и непутевым и бездельным ее сыном «Прохвиром».
Так фактически определилась Катина судьба вплоть до 1924 года. Она энергично взялась за хозяйство. Ей приходилось рассчитывать корм, чтобы хватало его и на увеличившееся поголовье, разливать молоко по бидонам, да и помогать в уходе за коровами. Правда, вскоре — во второй половине ноября Кате пришлось уехать. Джон вызывал ее, чтобы она проводила его на фронт, так как их выпустили раньше срока. Выходил Джон в в Черкесский полк «Дикой дивизии», — наиболее известной среди других мусульманских формирований во время I Мировой войны благодаря отваге своего личного состава, верности воинской присяге. «Дикая дивизия» (в ее состав входили полки: Кабардинский, 2-й Дагестанский, Чеченский, Татарский, Черкесский и Ингушский) — стала гордостью российской армии. Это было уникальное по своей организации, многонациональному составу всадников и офицеров, по царившему между ними духу воинского братства, солидарности и взаимовыручки воинское соединение. Черкесский полк, в котором служил офицером дед, остался верен до конца Государю.
В конце августа 1917 года командир Кавказской Туземной конной дивизии генерал-лейтенант князь Багратион получил 22 августа 1917 года от Верховного Главнокомандующего телеграмму с предписанием поступить в распоряжение командира 3-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Крымова. Дивизии предписывалось вступить в Петроград и занять районы города, куда входили Московская, Литейная, Александро-Невская и Рождественская части. Дивизия должна была разоружить все войска (кроме училищ) Петроградского гарнизона и всех рабочих заводов и фабрик указанного выше района; усмирить все попытки беспорядков и неповиновения, установить охрану тюрем и арестных домов; занять железнодорожные вокзалы, расположенные в указанном районе.
Однако Кавказская Туземная конная дивизия оказалась заблокированной на станции Дно. Ее 3-я бригада — Ингушский и Черкесский полки, были выдвинуты в авангард, но из-за разобранных путей остановилась на станции Вырица. Проследовав далее в сторону Петрограда, бригада остановилась у станции Семрино, где ее продвижение и было окончательно остановлено. Полки ожидали приказа о дальнейших действиях, которого так и не последовало. Навстречу бригаде были выдвинуты революционные войска… А Временное Правительство срочно отправило агитаторов из числа членов Всероссийского мусульманского совета, во главе с председателем, которые пытались объяснить всадникам, что те не имеют права участвовать в подавлении свободы русского народа… Историки справедливо говорят, что мятеж был подготовлен из рук вон плохо. Однако для меня важно, что на самом острие корниловского наступления оказалась только 3-я бригада Кавказской Туземной конной дивизии, состоявшая из Черкесского и Ингушского полков. А там сражался мой дед. Но это было еще впереди. Сейчас же Кате и Джону предстояли покупки очень многих интереснейших вещей для обмундирования. Помимо обязательных шашки и кинжала — винтовку трехлинейную казачьего образца, 3-х линейный револьвер, существующий в казачьих частях, с обязательным запасом патронов — боевые патроны в патронташах по 30-ти и в накладных на черкесках для газырей карманчиках, в нагрудных газах по 28-ми…
Джон был страстным любителем экзотики, старины, особенно оружия. Не даром он приглашал Катю в Киеве в гости смотреть его коллекцию. И вообще, как спустя лет 40–45 на мой вопрос о профессии деда, отвечала бабушка, — он был коллекционером.
Разумеется, она говорила это с улыбкой. Возможно, она все-таки не очень ценила его художественные достижения. Правда, в Советском Союзе пятидесятых годов ей трудно было о них судить. Исследования деда по истории искусства дошли до нас только тогда, когда ни Кати, ни Джона уже не было в живых… А картины его впервые привезли вместе с выставкой Американских художников-эмигрантов в 1977 году. Помню, пошли мы с мамой на вернисаж в Музей Изобразительных искусств на Волхонке ни о чем не подозревая, но в один прекрасный момент я вдруг увидела знакомую подпись: — Джон Д. Грэхем (John D. Graham). Ни я, ни мама тогда не были уверены, что и вправду мы видим полотна деда и маминого отца, настолько мало мы имели представления об его искусстве. Но оказалось, что это правда: это были его работы. Мне тогда он показался чем-то близким к полотнам Модильяни и совершенно загадочным… Тогда его возвращение к нам только начиналось.
* * *
Провожать Джона Катя отправилась в Петербург — там был родной для Жуковских дом Машуры и адмирала Дмитрия Всеволодовича Новикова. Оказалось, что Джон стал там частым гостем — как писала матери бабушка — «Джон пользовался большой симпатией Машуры». Она помогала и обмундировывать его.
Никто никогда не слышал от бабушки сетований, осуждений и жалоб. Но ей, несомненно, было тогда больно. Приходил барон Рутцен — давнишний, да и вечный поклонник Веры Егоровны, которого она раз и навсегда отвергла ради Микулина. Но дружбу с семьей Жуковских Рутцен сохранял многие годы. Приехала Верочка, — в то время как раз посещавшая Г.Е. Распутина, хотя набожно-консервативная Машура и Дмитрий Всеволодович были, разумеется, не очень тому рады. Захотелось и Кате взглянуть на Распутина, как она выражалась, трезвыми глазами.
Сели они с Яном на извозчика (Николаевцам не полагалось ходить по улицам пешком) и поехали на последнюю квартиру Распутина. Ян остался ждать Катю внизу, а она поднялась на бельэтаж. Поразило Катю обилие дамских калошек под вешалкой, заваленной дорогими манто.
В почти пустой комнате со столом, стульями и телефоном она ждала не долго. Далее передаю слово непосредственно бабушке, как она сама записала этот рассказ:
«Дверь отворилась и передо мной предстало яркое видение. Шелковая, голубая русская рубаха на выпуск, резко-синие плисовые шаровары, блестящие лакированные сапоги, шитый шелковый поясок с кистями, гладкие напомаженные волосы на пробор, бородка — напоминающая некоторые иконописные подлинники, неприятные серые глаза, пристальный взгляд.
Таков был он — пророк, святой или просто шарлатан. Распутин уселся против меня колено в колено.
— Ну и что? — Поглядеть пришла? Что-ж, гляди! Ты сестра пчелки, што-ли? (он любил давать прозвища) — занятная бабенка. Да и ты не плоха! Она-то все с хлыстами возится. А ты?
— Нет, — ответила я.
— Ишь ты…
Он крепко зажал мои колени своими. Я резко отодвинулась.
— Ишь! — строгая. Моей благодати не хочешь…
— Меня на извозчике муж военный дожидается, — сказала я первое, что пришло на ум.
— А, что-ж не сказала… Давай его сюда. С тобой видно каши не сваришь. Благодати моей не хочешь… — повторил он привычную видно фразу.
Вошел Ян, стараясь сохранять серьезный вид. Он поговорил с Распутиным о войне, церемонно называя его — Григорий Ефимович.
Внезапно резко зазвонил телефон на стене.
— Угомону на вас нет! — ворчливо поднялся Распутин. — Ну! которая звонит-то? Приду, приду!.. Высылайте што-ли за мной..
— Из Царского… то и дело звонят…
Мы поспешили уйти, что ему — можно, то с нас спросится. Ни за что я бы во второй раз к нему не пошла…»
* * *
Наконец. настал день отъезда и Катя поехала с Яном проводить его до Киева — о том он ее настоятельно просил. Хотелось перед расставанием и фронтом вернуться хоть не надолго в город, в котором они познакомились, венчались, прожили свой первый супружеский год, где родился Кирилл, — город, который оба они так нежно и пылко любили…
Перед самым отъездом Ян решил кутнуть, позвал своего старого приятеля и они отправились в ресторан «Континенталь»…
Уселись под пальмами в переполненном, несмотря на войну зале, и вдруг, неожиданно на эстраде появился… кто бы мог подумать?! Маяковский, в ярко-желтой кофте и с нарисованным сепией верблюдом на правой щеке. Вышел, встал, оглядел зал и — заявил:
Вашу мысль, Мечтающую на размягченном могу, Как выжиренный лакей на засаленной кушетке, Буду дразнить об окровавленный сердца лоскут; Досыта наиздеваюсь нахальный и едкий…Публика была ошеломлена, а он продолжал кидать в нее отрывками из «Облака в штанах» про то, что «Главой голодных орд,/ В терновом венце революций /Грядет шестнадцатый год".
Свист, улюлюкание, гвалт и брань взорвали зал. А Маяковский спокойно постояв, ухмыльнулся и ушел за сцену.
— Пойдем, посмотрим на него ближе, — сказала Катя Джону, — Он, наверное, меня вспомнит…
Маяковский ее узнал тут же: «А… Художница! Что ж ничего не вышло? А ведь начинала здорово… А знаете, все-таки жаль перуанца. Зря ему дали галеру. Судьи мешают и птице и танцу и мне и вам, и Перу»…
Мы вернулись в зал, договорившись с Маяковским, что дождемся и его и Бурлюка, который еще не выступал, и поедем вместе ужинать к Толочинову — приятелю Джона.
Появился толстый Бурлюк, тоже в желтой кофте. В зале поднялся невообразимый гвалт. Маяковский вскочил на стол и начал выкрикивать свои дерзкие рифмы:
…Выньте гулящие руки из брюк: — Берите камень, нож или бомбу, А если у которого нету рук Пришел чтоб и бился лбом бы!..Все повскакали с мест, забегали официанты. Маяковский грузно спрыгнул со стола, запустил куда-то стул и спокойно вышел из зала. У Толочиновых нас ждал обильный стол, старушка хозяйка, писательница и много гостей.
Когда все основательно «выпили и закусили», начали приставать к Маяковскому, почему он в желтой кофте. Он спокойно ответил:
… Хорошо, когда в желтую кофту Душа от осмотров укутана! Хорошо, Когда брошенный в зубы эшафоту, Крикнуть: «Пейте какао Ван Гутена!»Поднялся всеобщий смех. Бурлюк вынул из кармана баночку с сепией и кисточку и предложил разрисовать желающих. Скоро за столом сидели киевские магнаты, разрисованные рыбами, тиграми, стрижами и т. д. Все хохотали, глядя друг на друга. К счастью Ян, как военный избежал разрисовки, это было бы совсем не по форме. Катю, как единственную гостью женщину, тоже пощадили, да она бы и не дала себе пачкать лицо. Маяковский тоже пошел и смыл своего верблюда. После ужина он наклонился к Кате:
…Я сразу смазал карту будней Плеснувши краску из стакана: Я показал на блюде студня Косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы Прочел я зовы новых губ, А вы Ноктюрн сыграть Могли бы На флейте водосточных труб?Она вздрогнула: вспомнилось — Москва, 1911 год, мелькнула перед глазами площадка лестницы и презрительный взгляд Маяковского…
— А вы хоть и буржуйка, а мне чертовски нравились там у Келина.
— Что-то я не замечала, — сказала Катя, очень смутившись.
…Проводив Янека, Катя задержалась дна на два в Киеве, хотелось походить по местам полным воспоминаний, взглянуть на дом, где жили Микулины, заглянуть в разросшиеся киевские сады. Хотя была уже поздняя осень — ноябрь месяц, но в Киеве еще было тепло, даже кое-где на деревьях светились желтые листья и не все упавшие каштаны были сметены с улицы. Сквозь витрины магазинов виднелись, несмотря на надвигавшийся голод, пирамиды распрекрасных фруктов.
Чтобы не поддаваться грустному настроению, Катя решила перед отъездом зайти повидать Александра Павловича и тем еще больше разбередить свою душу.
Александр Павлович, поседевший и постаревший, был один. На него гнетущее впечатление произвела кончина матери — Александры Христофоровны, он очень сильно был к ней привязан. Посидели они за одиноким чаем, вспоминая прежние дни. Постояли у рояля Александры Христофоровны, который ни разу не открывался после нее. И вдруг Катя решилась сказать Александру Павловичу все:
— Неужели вы никогда не замечали, как вы мне дороги, как я одного вас на всем свете по-настоящему любила?
Он схватился за голову и заметался по комнате.
— Как я мог! Слепой глупец! Не видел своего счастья, прошел мимо, мимо, мимо… И вас загубил!
Катя не сказала больше ни слова. Ушла молча, а на другой день уехала и больше никогда Александра Павловича не встречала, мне кажется, она даже не знала, как сложилась его дальнейшая судьба: выжил ли он в Киеве, когда власть пришла к большевикам?
Теперь же она спешила к своим: ее ждала деревня, сынок, мать и работа, на многие годы тяжелая крестьянская работа. Хотя и очень любимая ею. К Рождеству ждали в деревню отца и Верочку с Костей… А Ян Рождественский сочельник встречал уже в Галиции, в горах Румынии. Там он и начал вести дневник. Теперь он передо мной — небольшой блокнотик, весь исписанный очень мелко, карандашом, почти стершимся. И все-таки необычайно нежные, удивительные слова любви, адресованные Кате, я прочесть, слава Богу, смогла. Да и весь этот дневник, который дед вел почти в течение двух с половиной лет войны, был для нее и о ней. На первой странице был нарисован Георгиевский крест, который за храбрость в боевых делах он вскоре получил, и посвящение: «Сей дневник посвящается моей дорогой жене Екатерине Александровне Домбровской».
* * *
«О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно?»…
Опять между ними были пространства и снега и вновь светил тот огонек, побеждая пространства…
Дневник деда трудно поддавался расшифровке: походные условия, дождливая зима, грязь, многое скороговоркой… Без малого сто лет назад написанные строчки. Боевые передислокации, описания сражений, живописные картины мест, людей, которых он видел из окон на улицах на стоянках, какие-то передышки в имениях знати между тяжелыми переходами. Очень подробное и красочное описание встреченных там красивых женщин. Но красота эта была взята глазами художника и набрасывалась словесно карандашом за неимением красок. И то и дело после этих «этюдов» и набросков — слова, обращенные к жене. Вот запись 12 декабря 1916 года (знаки препинания расставлены мною, отточия там, где не смогла разобрать слова):
«Вчера вечером Были у Мари Ф… обедали в … имении Димитриу, пили много. Барышни все прелестны. Дима был весел как всегда, и острил; ночевали в доме Ребреско, где принимала утром меня прелестная девушка. Мне страшно видеть их недумаюшие глаза, в которых только и видно усилие не думать об ужасной действительности. Кто знает? Какая в общем грусть… и эти девушки называют меня красивым и льстят, и тем инстинктивно отталкивают меня. Кто знает, какие идеалы у них разбиты, сколько горя утопили в этом веселье. Только она одна, моя милая, близкая и любимая понимает это, как все вообще понимает. Жука дорогая. Как мне грустно без Тебя, любимая, увидимся ли еще, родная. И все думаю, и не знаю, когда Господь приведет увидеть Тебя, женщина моя самая тонкая, умная, хорошая досталась мне, и счастье мое тихое, моя дорогая…»
«Счастье мое тихое…»
Дивизия движется рывками. Иногда приходится по 19 часов проводить в седле. Остановки в хатах и в имениях, а то и в хлеве… В одном местечке — неожиданная встреча со знакомым из Киева и письмо присланное с ним от отца. Пока где-то примостившись, он писал ответ, полк быстро снялся с мета и двинулся в неизвестном направлении. Ян делает вечером этого сумбурного дня в своем дневнике трогательную запись:
«И только искренняя молитва моя Царице Небесной Ея Чудотворному Образу в Казанском соборе, Казанскому Образу помогли мне выбраться и найти свою команду, найти кров у священника…»
22 декабря 1916 года. «Вчера вечером пришел полк Татарский, сотня ингушей, и полк кн. Магалова принял нас под свою команду. Сейчас здесь масса офицеров: Коваленский, кн. Орбелиани, Ходжи Мирзоев, гр. Бобринский, Безсонов и другие…
24 декабря 1916 года. Дорога на горы.
«…Шел дождь, туманно, все промокли и холодно, а нам приказали удерживать эту позицию, во что бы то ни стало. Провести здесь ночь будет тяжело… И это сочельник. А там дома мои маленький Бумчик (так отец называл сына)… Сейчас разложили костерчик в трехстенном сарайчике и сушимся…Ноги замерзли, а теплые сапоги я оставил в обозе. 13 1/2 ч. Снег перестал. Конь ест сено под одной крышей со мной… только что резали молодого трогательного барашка и острым кинжалом сводили его пушистую шкурку. И я не смотрел как прежде его, и даже как будто с удовольствием, как быстро и легко отделяется шкура от туши и жира. Думаю сейчас о милом моем доме. Где все полно любви, где милая моя Жука всем своим видом выражает любовь и заботу. Что там хорошо и скоро засверкает милая елка… Снег пошел сильный. Но я еще любуюсь дивным ландшафтом долины и гор»
Ночевки под открытым небом на мокром сене в снегу зимой, тяготы фронтовые, напряжение боя, взятие той или иной высоты и каждый день: «мечтал быть рядом с Жукой», «мечал о том времени, когда мы будем вместе читать книжечки». Но обстановка становится все напряженней сутки за сутками. Атака за атакой…
Иван читает 90 псалом Царя Давида. «Все пути с гор закрыты, а враг телесно и артиллерией нас превосходит»
«15 часов положение ужасное…Это мне в отместку за то, что вначале первые полтора месяца войны были мне легки. Помилуй Царица Небесная Казанская — »
27 декабря. «Сижу у костра и собираюсь опять высушить замерзшие ноги, холодные. Спим часа по три, четыре в сутки. Рядом со мной вокруг костра сидят на корточках по мусульманскому обычаю. А пули посвистывают кругом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
28 декабря. Та же высота. «Ночь была ужасно холодная. Спал у костра с всадниками. Проснулся в 3 часа от сильного мороза…пришло только что известие, что сегодня нас сменяет пехотная дивизия. Общее ликование. Есть слухи, что нас отводят в Подольскую губернию формировать Туземную дивизию и на отдых…»
Спустя 50 лет после его кончины (он скончался в Лондоне в 1961 году после операции по поводу саркомы) и почти 95 лет после его эмиграции из России, подлинный образ деда «вернулся» в мою жизнь, принеся мне любовь, жалость, нежное сострадание к нему, — могла ли я не сострадать близкому человеку, чье внутреннюю сердечную доброту, простоту и русское тепло его личности так и не увидели и не признали люди в чужих странах во всю его жизнь!
Только бабушка, сын, да, дерзну сказать то же теперь и про себя, — только мы знали и любили его подлинным. И об этом я еще буду говорить…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой: слева — направо — Иван Домбровский в форме корнета — выпускника николаевского кавалерийского училища имени св. Архангела Михаила; Он же в форме своего Черкесского полка — незадолго до отправления на фронт; две известных работы деда — верхняя — автопортрет с георгиевским крестом в солдатской форме — воспоминания о I Мировой войне (работа 1942 года); ниже портрет женщины с собачкой.
Все фотографии из семейного архива, а также документы (военный дневник Ивана Домбровского) публикуются впервые.
…Проводив мужа на фронт, Катя долго бродила по осеннему Киеву… И вновь захватывало ее прежнее чувство никчемности и ненужности своей, безнадежность найти стержень своей жизни, вырваться из этого затянувшегося «выживания». Но в чем этот стержень? И что есть подлинная жизнь, о которой тоскует, которой просит душа ее? И кого просит? Господа? Но веру, как живую силу жизни, как стержень жизни, помогающий выбирать не ложные пути, само живое общение со Христом было Катей, как и многими ее сверстниками, как и почти всем поколением, утрачено. Детской вере, тому, что она чувствовала сердцем в общении с бабушкой Анной Николаевной, должно было придти на смену сознательное духовное научение, духовное з н а н и е. Но редко кто имел тогда наставников, способных помочь человеку, мало кто даже знал, что в каждую минуту жизни своей он должен искать и слушать волю Божию, учиться постигать ее в обстоятельствах жизни, а не в своих собственных незрелых и страстных хотениях, а услышав, слушаться, постепенно опытно удостоверяясь, что большего блага, чем положиться на Бога — для человека в жизни нет.
Такое духовное устроение в корне меняло человека, спасало от уныния и одиночества, даже характер его обновляло и соответственно образ жизни, в котором все теперь бывало освящено светом Божественной любви. Как описать ее?! Как описать это удивительное и благодатное чувство, когда тебе путь и формально плохо, что-то не удается, чего-то ты лишен, и жизнь твоя кажется тебе прозябанием, но в то же время в сердце цветет тихая радость и удивительное ощущение близкого присутствия Божия, и ты молишься только об одном, чтобы дал Он терпения и смирения не вырываться из святых рук Небесного Отца.
Вот она, наша русская беда-то: хотя как раз в те времена истинные духовники были везде, только захотеть да помолиться, и Бог непременно указал бы тебе — т в о е г о, да только редкие души имели такую потребность. А родители, даже искренне верующие уже не умели правильно духовно установить своих чад. То, что было передано им по наследству, что у них было инстинктом, — в то время уже требовало и духовного рассуждения, а его-то и не было.
«От Господа стопы человеку исправляются, и пути eго восхощет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку eго», — разве помнила Катя эти строки из 36 псалма? Да и читала ли когда толком Псалтирь?
…«Утешайся Кириллом Ивановичем», — сказал, уходя на фронт, муж. Почему же ее не устраивает то, что есть? Разве не указан ей маршрут самой жизнью? Ведь забот на нее сваливалось немало, а на Янека уже надеяться было нельзя. Понимала, знала, что она теперь одна должна будет заботиться о сыне, о маме. Она чувствовала, что и отец как-то «подался», устал, что начало таять его здоровье и когда-то неиссякаемая энергия, хотя лет-то ему было не так уж и много. Каково-то ему теперь, одному в Нижнем после счастливой тридцатидвухлетней семейной жизни… Как тяжело ему много раз в году проделывать труднейший и утомительный путь в Орехово…
В деревне Катю ждали готовые ответы на все ее вопрошания. Молоко, которое продавалось у Чичкина в Москве, еле покрывало расходы на уход за скотом. Корм дорожал. Правда, молока было достаточно, чтобы снабжать маслом Николая Егоровича в Москве и отца в Нижнем, к которому тогда на время перебралась Верочка — начинались семейные нелады у них с Костей…
В канун Рождества все собрались в Орехове. Но было как-то невесело: наступающий 1916 год не сулил ничего радостного. Шла война, и все ближе, все ощутимее подступал голод.
За трудами незаметно прошла зима. К Троицыному дню вновь вся семья собралась вместе. Цвела черемуха и яблони. Молодежь отправилась рубить по оврагам молодые березовые веточки, чтобы убрать дом и иконы к святому празднику. Энергично действовала топором и Катя, складывала березки на возок, да вдруг почувствовала себя как-то неважно…
На другой день в праздник, когда вернувшись из Церкви, все уже пировали за столом, пришлось срочно посылать на деревню за бабушкой Дарьей — повитухой «легкой руки». Но маленькая Маша — Майя, как ее звали потом дома в честь майского дня рождения (по старому стилю), появилась на свет без помощи повитухи — та только окунула ее в припасенное корытце. Так родилась моя мама…
Осенью написал Ян, что ожидается командировка в Петроград, и он зовет Катю приехать повидаться. Стадо беженских коров уже эвакуировали к тому времени из Орехова куда-то дальше, а то и разобрали, кто куда… Можно было отправляться в Петроград. Приближался февраль 1917 года…
Роскошную столицу Катя не узнала. Город кипел, везде сбивались кучки демонстрантов с лозунгами «Долой самодержавие» и «Хлеба!», их разгоняли конные войска, у булочных стояли длинные хвосты, а в Адмиралтействе в квартире адмирала Ненюкова, куда, как всегда, приехала Катя, царило полное смятение…
26 февраля было воскресенье. Машура с матушкой Ольгой Гавриловной ходили к ранней обедне, — с утра было тихо, но уже днем началась перестрелка. Обитатели Адмиралтейства сбились во внутренних коридорах — толстенные стены не пропускали пуль. В городе началась паника… Через некоторое время бледный дядя Дима вылетев из кабинета известил всех об отречении Императора в пользу Великого князя Михаила — шефа «Дикой дивизии».
— Войска его в грош не ставят, — заявил Ян.
— Не говорите так! Теперь он Император Всероссийский, — прервал его Дмитрий Всеволодович. — Мы ведь будем ему присягать.
Наконец, 2 марта как черт из табакерки возникло Временное правительство. Стало, правда, потише. Пустили дорогу Москва-Петербург, и Катя собралась как можно скорее возвращаться к детям. Ян сказал ей, что хотел бы совсем уехать ото всей этой неразберихи. На что Катя сразу заявила ему прямо и бесповоротно: из России она никуда не поедет. Вечером проводила Яна на фронт: больше им не суждено было повидаться в России.
…Тем временем в адмиралтейской квартире паковали дорогой хрусталь: надо быть готовыми ко всему. Но Кате все это было не по душе, она была сотворена из какого-то другого теста. В кармане ее лежал билет до Москвы…
В Москве пока было вроде тихо. Николай Егорович беспокоился, когда откроют университет: приближалось время экзаменов. Верочка вообще не проявляла никакого интереса к революционным событиям: она с мужем поселилась в симпатичном особняке на Кудринской улице. Каково было удивление Кати, когда дверь ей открыл совершенно незнакомый господин — сутулый, худой, быстрый, нервный, с длинными волосами и неповторимыми голубыми глазами:
— Борис Николаевич Бугаев, — отрекомендовался он Кате. — Вернее, Андрей Белый.
Вскоре, весь извиваясь, он начал декламировать стихи. Что-то вроде:
В темном зале В темном зале Пробежало домино…Андрей Белый показал Кате свои картоны с дикими рисунками и геометрическими разноцветными фигурами, пояснив, что так он изображает мысли людей и демонстрирует их перед публикой. Кате все это в особенности после Петрограда показалось жутким. «Нет, мистика не для меня», — решила она, и поспешила в деревню…
* * *
В Орехове Катю ждал большой деревенский сход, собравшийся у Жуковских. За большим столом сидели бородатые в поддевках старики и бабы, молодежь, почему-то не призванная в армию или уже оттуда дезерировавшая, стеснилась вокруг стола. Александр Александрович Микулин говорил, что они с Николаем Егоровичем уже давно порешили передать миру часть земли: из 75 десятин пахотной земли, Жуковские оставляли себе 15 десятин, небольшой лесок Сосны и Морозовский овраг. На остальное была оформлена дарственная Ореховскому обществу. Старики встав, благодарили, по-старинному встряхивая волосами, бабы кланялись. Но когда Микулин посоветовал не делить подаренную землю по душам, а запахать и засеять сообща и делить потом урожаем, снявши его, поднялся шум и гвалт.
— Так что выходит, я выйду с конем, убирать буду сам пят, а делить поровну с безлошадными?! — вскакивал деревенский спорщик Аким, — Нет моего на то согласия!
Спор продолжался долго и разрешению не поддавался. Страсти кипели до того времени, когда Микулин обещал дать безлошадным своих коней на пашню. Тут договорились…
Смутным было лето 1917 года. Деревня жила одной мыслью: «надо кончать войну». О том, чем и как она может закончиться для России не думал и не умел думать никто. Только о том, как это я буду пахать на других — безлошадных… А в это время во весь рост уже подступал грозный призрак — голод. В деревне не было ни керосина, ни спичек, ни бумаги…
В это лето Кате не оставалось ничего другого, как пройти окончательную проверку на крестьянское звание. Да ей и привычна была во многом эта жизнь: запрягать лошадь, выезжать с плугом на пашню, выходить с косой и серпом на заре, навивать воз сена на роспуски, вязать его, чтобы не съехал. Но тут, конечно, когда все разом навалилось на одни ее плечи, с прежним сравнивать не приходилось. От зари до зари работала она одна-одинешенька (только на уборку иногда приходил за часть урожая из соседней деревни помощник Андрей).
Она часто почти без сознания падала на землю, минут пять-десять лежала плашмя, понимая, что больше не сможет двинуть ни рукой, ни ногой, что все жилы ее надорваны. И все-таки вставала: осенью надо было отвезти в Москву дяде и сестре немного продовольствия на зиму. А пока приближалась молотьба… Как же справиться, когда все машины, какие были у Микулиных, забрала деревня?
Пошла из дома в дом по Орехову, расспрашивая, не сохранились ли у кого старинные цепы. Нашла два исправных: отшлифованная толстая палка в рост человека, а к ней на конце куском кожи весьма искусно привязана свободно движущаяся тяжелая дубина в руку длинной с утолщением на конце. Цепом взмахивают особым способом, опускают его с силой, и дубина, ударяя на развязанный сноп по колосьям, вымолачивает зерно.
Сказать просто, а не умея, только разметаешь колосья по току. Не говоря уж о неподъемной тяжести сего орудия, коим даже крепостные крестьяне в старину в одиночку никогда не работали.
А Катя работала. Заходили деревенские бабы и старики, стояли, смотрели… Вспоминали стародавние годы, дедовы времена, но… никто не помог.
Тем не менее Катя была счастлива тогда: хлеб обмолочен и не пришлось кланяться «занятых своим делом» ореховцам, как она, тонко выражаясь, говорила о них. И действительно: молотилка, конфискованная у Жуковских, ведь требовала нескольких человек для обслуживания своей работы…
Осенью, пока совсем не размокли глинистые владимирские проселки, в октябре 1917 года, отправилась Катя в Москву с двумя огромными кошелями наперевес. Главный продукт составляло накопленное за лето топленое масло, мед и гречка. Как радовался Николай Егорович деревенскому гостинцу из родного Орехова, скрывая ото всех в глубинах сердца острую боль о разрушающейся жизни, о том, что дожила Россия до таких страшных дней, о Кате, которая надрывается одна…
Только это и розовые щеки двух малышей искупали для Кати все ее непосильные труды, лишения, огорчения и даже тяжкий крест одиночества.
В Москве бушевало восстание. На Пресне шел бой. Николай Егорович выходил на Мясницкую вместе с Катей — усидеть дома было невозможно… Прибегала дальняя родственница у которой сыновья-кадеты были в расстреливаемом Кремле. Она металась по Москве, разыскивая хоть тела их, и уже совсем ничего не страшилась, только бы найти сыновей. Вдоль улиц текли красные ручьи. Валялись убитые лошади. Некоторые дома были совершенно разбиты…
* * *
Но подошла и поздняя осень. Холодные ветры, лужи и голые поля, унылое мычание коров, ставших на «дворы»… Не слишком-то приветливое время. И даже на Катю с ее невероятной волей и энергией стала находить меланхолия, которая отразилась в ее стишке, тогда же сочиненном, что для нее было делом невиданным:
Лишь старые елки за прудом Тебе рассказать бы могли Мои невеселые думы В такие осенние, хмурые дни. Смеется мой мальчик, хохочет Кудрявая дочка весны. Меня же всегда одиночество гложет В такие осенние хмурые дни…Много можно рассказать о ней, удивительной и загадочной русской женщине. Что это за силища в ней была? Какой мужчина был бы ей подстать, — я и не знаю. Но только вот разве подстать подбирает пары Господь? Не кресты ли?
Наваливалось одиночество, тоска, и Катя шла учить деревенских ребят. А следом за тем ставила в деревне спектакли, собрав всю наличную по избам молодежь. В доме Жуковских строили помост, сцену, на занавес определяли занавески с окон, освещали сцену керосиновыми лампами. Стульев было излиха: рассеянный Николай Егорович каждый год закупал по дюжине и слал их в Орехово.
А в соседней комнате устраивали для всех чай. Кулисами служили свешивающиеся на планках обои или живые елки. А костюмы… Катя все сундуки перерыла дома и в деревне, выуживая старинные кофты с басками, широченные юбки, повойники, старинные русские рубахи, поддевки… А за актерами дело не стало: все просились «играть на киатре».
Сколько задушевного и красивого сделала она в те годы в деревне… Сколько отрады людям подарила… Долго все помнили, как ставили песню: «С ярмарки ехал ухарь купец»… Купца изображал замечательный парень, гармонист и красавец Федя Перфильев. А вокруг на сцене были ларьки с прислоненными граблями и серпами. Были разложены желтые тыквы, красные грозди рябины, зеленые плети с огурцами — красотища! В ларьках сидели певцы деревенские. Сначала Федя играл за сценой, пел весь текст песни. А потом и появлялся красавец купец и обманутая им девушка — Настя Данилова ее изображала. Голос у Насти был бесподобный! Катя потом Настю в Москву возила, показывала профессионалам. Ее брали учить с охотой. Да Настя наотрез отказалась уезжать из деревни.
А когда не было репетиций, вся молодежь собиралась на огонек к Жуковским. Катя читала вечерами Гоголя, Пушкина, басни. А помогала ей Вера Егоровна…
Так шли годы. В 1919 скончался отец. Его привезли в Орехово, вся деревня провожала и искренно плакала. Каждый месяц в два свободных дня он проходил в любую погоду 17 километров в Орехово пешком. Весна была очень холодная и сырая, он простудился и заболел. Похоронили Александра Александровича на семейном погосте на холме Круче.
На следующий год — заболела скоротечной чахоткой тишайшая и кроткая Леночка. Николай Егорович тоже болел — был в санатории: слишком поздно им дали паек — Леночка быстро сгорела. Она отошла ко Господу весной 1920 года. Николай Егорович угасал в тяжелейших душевных страданиях за нее. На Бога он не роптал, но сердце его изболелось. Скончался он весной 1921года. Его провожала вся Москва — весь путь до Донского монастыря служились панихиды…
В 1923 тяжело занедужила болезнью с редким названием «пляска святого Витта» маленькая Мая, — сказались на ее детской нервной системе вооруженные обыски, которые несмотря ни на что проводились в доме Жуковских чаще даже, чем раз в месяц, — раз 18 в год. Разумеется, в семье царило в такие дни страшное напряжение, а дети это очень остро чувствуют… Повезла ее Катя по рекомендации врачей в Крым, в Судак. Немного подлечили.
В 1924 году скоропостижно скончался сын Николая Егоровича двадцатичетырехлетний Сережа.
К этому времени Кириллу уже исполнилось одиннадцать лет. Учиться дома ему дальше уже было никак невозможно — решили переезжать в Москву, оставив Орехово на Верочку. Кате предстояло искать какую-то работу, чтобы кормить семью в городе. И вновь искать себя и свой путь…
* * *
Осенью 1917-го года Иван Домбровский после неудавшегося выступления полка в защиту Государя вернулся в Москву. И хотя он переоделся в штатское, все равно сразу угодил в застенки только что созданной ВЧК, а затем, чудом (как рассказывали бабушка и дядя, — хлопотать-то хлопотали, но исход дела решили те самые золотые запонки с огромными сапфирами, одна из которых тонула в Нижегородских сугробах) оттуда выбравшись, избегнув верного расстрела, он должен был покинуть Россию как польский репатриант (таково было официальное условие его освобождения).
Дед попросил у бабушки развода, во-первых, потому, что она заранее предупредила Яна, что Россию не покинет, а, во-вторых, чтобы он мог в таком случае взять с собой заграницу в качестве жены богатую наследницу купца-миллионера Веру Соколову (им — то и принадлежал дом в Мыльниковом переулке, который много лет снимал Николай Егорович Жуковский).
«Прости, Жука, — сказал он бабушке, — что еду не один, — но ведь у нее есть «камушки». А куда без них заграницей?».
Бабушка не только дала развод, но на все это, как говорится, закрыла глаза. Никогда, ни в одном письме, ни в одном разговоре Катя не бросила в адрес мужа укорного слова. Кажется, даже в сердце ее оно не звучало, хотя в какое время и с какими заботами и на какую участь оставалась она в России с двумя маленькими детьми, стариками и без профессии, которая могла бы ей обеспечить кусок хлеба. Она приняла это определение своей судьбы со с м и р е н и е м.
Глубоко переживала за Катю только очень непосредственная по характеру и чувству Вера Егоровна. Но Кирилла это не коснулось: уже отрок, он отца не просто любил, — обожал: в том была заслуга матери. Отец б ы л, присутствовал, благодаря бабушкиной сердечной мудрости и великодушию всегда рядом с сыном: человек чести, красивый, бесстрашный, утонченно образованный и творчески окрыленный. Потом отец и сын всю жизнь переписывались по мере возможности.
Кирилл действительно во многом пошел в отца и даже в чем-то, возможно, перехлестнул подлинник, потому что брал пример все-таки с несколько схематичного образа, а не с живого человека, причем с образа человека, каким дед был в расцвете своей молодости и сил, — когда и формировался облик Кирилла. В то время как в последней трети жизни старший Домбровский очень менялся — он твердо и уверенно шел к самому себе. В итоге насколько трогательно-мягким и сердечным человеком при всей его экстравагантности был отец, настолько сухим, сдержанным, и даже несколько мизантропичным, как и подобает джентльмену, вырос сын.
Подражать манерам и стилю Джона Д. Грэхема было не так уж и сложно, тем более, что у Кирилла были на то прекрасные данные, а услышать душу и биение сердца отца, то было труднее. Боюсь, что и сама Катя не очень-то привечала в муже его сердечные движения, словно не замечала их, то ли в силу самозащиты, чтобы легче пережить расставание, то ли уже начинал действовать начавший появляться у нее с годами скепсис. Сдержанный, культурный, но он имел место быть, однако я по сейчас этот бабушкин скепсис держу лишь как своего рода забрало — прикрытие от ненужных вторжений и травм души, в которой, увы, жило много не залеченной боли. Той самой боли, которую однажды я с такой пронзительной силой услышала, понимая, что это именно з е м н а я прожитая боль, но не отзвук вечной участи бабушки. Эта боль, разделенная нами вместе, невероятно приблизила меня к ней. Значит, не только живым нашим современникам потребно наше сострадание и сердечное участие, но и к усопшим. Сострадание к усопшим в их прожитой на земле жизни…
Эта мысль, приоткрывшись мне, показалась мне поразительной и многозначительной, еще более углубляющей то незабвенное наставление духовника о веточках, которые очищают корни. Какой смысл сострадать прошлому, которое не вернуть и не исправить? Оказывается, сострадая ушедшей жизни, мы действительно что-то меняем в ней, что-то очищаем, оплакав слезами сожаления, что-то — никуда от этого не деться! — как старинные русские духовники на исповедях, которые брали руку исповедовавшегося грешника и клали его себе на шею, со словами: «грехи твои, чадо, на вые моей», так и мы что-то перекладываем с них на свою выю.
Со-страдание… Один подходит к страдающему и умудряется восчувствовать страдание того, другого (умудряется, потому что на самом деле истинное сострадание — великая редкость!) и сразу тому, другому становится легче… Чудо христианской жизни, которая на этом и стоит — на сострадании, на воспитании в своем сердце этой великой способности, которая на самом деле действенной становится только тогда, когда уже д а р у е т с я Богом тому, кто старался сострадание стяжать…
Сострадание — это молитва, и даже больше, чем молитва, это — соборная природа Церкви, неразрывное единство нового человечества в Церкви; и только в Церкви по-настоящему воплощается это таинство сострадания людей вне зависимости от времен, пространств и всех прочих земных разделений.
Сострадание, как действие любви, — есть даже нечто большее, чем молитва и ее прошения. Оно жизнеобразующая; жизнетворная, созидающая сила, которая и в любых вечных снегах способна растопить кусочек земли чтобы дать пробиться к солнцу какому-нибудь хилому подснежнику или медунике…
* * *
Еще не было получено дедом американское гражданство, но он использовал все возможности, чтобы не терять связи с детьми. Кириллу — 7 лет, Майе — 4 года. В деревню доходит открыточка с изображением ночного Нью-Йорка, Гудзона, на обороте которой несколько слов: «Папа целует Киру и Майю и ждет письма от вас. Получили ли вы картинки, которые я Вам прислал»?
Открытки и письма шли в Россию непрерывно. Правда многое терялось, не доходило, возвращалось к деду обратно, хотя адрес всегда был написан правильно.
«Дорогая моя маленькая Маюшечка! Отец о тебе часто думает. Девид Смит (эта супружеская пара приезжала в Москву в тридцатые годы и дед передавал с ними подарки для детей — прим. авт. — Е.Д.) и его жена очень тебя полюбили. Я очень по тебе и по вас всех скучаю. Как только дела позволят, так приеду в гости…»
«Дорогой Кируша, напиши дорогой, что тебе, маме и Майке нужно, я вышлю. Напиши, как здоровье, и как у вас все. Я по-прежнему занимаюсь живописью и литературой. Живу один и работаю. Много думаю о всех вас и очень был бы счастлив получить письмо от тебя. Целую вас всех. Отец.»
«Дорогой Кируша, посылаю тебе несколько наших фотографий. Давно не было от тебя вестей. Я тебе писал из Mexico, а так же отсюда многократно — письма и открытки. Получил ли ты их? Ответь! Сие письмо посылаю заказным. Ты меня много раз спрашивал, что прислать мне из Москвы. Если ты можешь найди мне старое издание басен Крылова с иллюстрациями в одном томе, изданное приблизительно в 90-х годах… Я сейчас очень много работаю над новыми книгами по искусству. У меня есть для тебя журнал по искусству французский, как я послал тебе прошлый год. Я скоро его тебе вышлю. Как Майка и мама, почему Майка никогда не пишет? Мне бы очень хотелось получить от нее письмо о ее житье, о ее вопросах, я так бы хотел помочь ей моим советом. Обнимаю тебя и всех вас. Любящий вас отец».
«Дорогой мой мальчик! Как грустно мне было услышать, что твое здоровье не очень крепко. Смит мне ничего не сказал. да он и не очень разговорчив. Всех чувств высказать нельзя. Знаю только то, что не имел понятия о состоянии твоего здоровья. Когда я видел маму в последний раз (Джон и Катя встретились в 1929 году, когда Катя повезла в Европу выставку русских икон — об этом ниже…), то она ничего связного мне сказать не могла. Да и я был запутан тогда в самом себе. Скоро пошлю тебе книгу по рекламе лучшую что есть, а также книгу по архитектуре. Пошлю по почте костюм. В июле выезжает наша приятельница Ester Tulman очень милая девушка, говорит по-русски и член компартии. Она зайдет к вам в Москве…»
Дальше в этом письме шли сетования на материальные затруднения (написано в мае 1937 года), а так же удивительная программа восстановления и поддержания здоровья, написанная специально для Кирилла. Дед был знатоком в этом деле, спортсменом и вообще очень следил за своей формой.
В другом письме он трогательно наставлял Кирилла, как ухаживать за зубами, писал о своей работе над книгой о негритянской скульптуре, которую называл самой замечательной в мире:
«Негритянская скульптура это величайшее из того, что человечество когда-либо произвело. Греческая и египетская хуже. Доисторическая скульптура и негритянская самые высокие в истории человечества, потому что они наиболее культурные. Доисторическая культура очень глубока и построена на знании основных принципов, а не на нагромождении деталей. Обнимаю вас всех еще раз. Любящий вас отец».
* * *
…Что же Катя? К тому времени, когда дед писал это письмо о скульптуре негров, — а это был 1937 год, — Катя стала уже одним из опытнейших и известнейших русских реставраторов. Ее уже звали любовно коллеги «бабушкой русской реставрации» (хотя бабушкой она стала лишь в 1945 году). Екатерина Александровна, любимая ученица Александра Анисимова, уже давно и глубоко занималась чисто искусствоведческими аспектами истории древнерусского искусства, вопросами технологии реставрации, и попутно готовила Материалы к биографии Николая Егоровича Жуковского, которые и издала в 1939 году в полном собрании сочинений своего знаменитого дяди. Это было уже совсем другая Катя — сильная, развернувшаяся: уже всем было виден размах ее крыла. Но и на этот отрезок своего жизненного пути она положила подвижнические труды.
…Приехав в Москву с детьми и матерью в 1924 году, за что только она не принималась, — пыталась шить, брала заказы и печатала по ночам на машинке с иностранным шрифтом, благо владела языками, но прокормить семью этим было невозможно, тем более, что и Верочка в ту зиму 1924 года жила с ними. Ее, как всегда, окружали интересные и известные в то время люди. Среди них был и замечательный русский искусствовед Александр Иванович Анисимов, прекрасный портрет которого Б. Кустодиева широко известен, как и стих Максимилиана Волошина «Владимирская Богоматерь», который он посвятил Александру Ивановичу, открывшему и спасшему столько древних чудотворных святынь Руси и написавшему дивную и глубокую работу об этой главной святыне нашего народа.
Вот отрывок из стихотворения «Владимирская Богоматерь», написанного Волошиным 26 марта 1929 года:
Сколько глаз жестоких и суровых Увлажнялось светлою слезой! Простирались старцы и черницы, Дымные сияли алтари, Ниц лежали кроткие царицы, Преклонялись хмурые цари… Черной смертью и кровавой битвой Девичья светилась пелена, Что осьмивековою молитвой Всей Руси в веках озарена. И Владимирская Богоматерь Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам На порогах киевских ладьям Указуя правильный фарватер. Но слепой народ в годину гнева Отдал сам ключи своих святынь, И ушла Предстательница-Дева Из своих поруганных твердынь. И когда кумашные помосты Подняли перед церквами крик, — Из-под риз и набожной коросты Ты явила подлинный свой Лик. Светлый Лик Премудрости-Софии, Заскорузлый в скаредной Москве, А в Грядущем — Лик самой России — Вопреки наветам и молве. Не дрожит от бронзового гуда Древний Кремль, и не цветут цветы: Нет в мирах слепительнее чуда Откровенья вечной красоты! Верный страж и ревностный блюститель Матушки Владимирской, — тебе — Два ключа: златой в Ее обитель, Ржавый — к нашей горестной судьбе.Поэт не ошибся, точно предрек о ржавом ключе: в октябре 1930 года А.И. Анисимов был арестован по делу о «шпионаже и вредительстве через Центральные государственные реставрационные мастерские». Отбывал наказание в Соловецком лагере особого назначения, работал в музее Соловецкого лагеря, реставрировал иконы, читал доклады. В 1937 году переведён в Беломоро-Балтийский лагерь. В августе 1937 года в лагере был арестован и приговорён Тройкой НКВД к расстрелу. Расстрелян 2 сентября 1937 года в урочище Сандармох под Медвежьегорском.
Александр Иванович был главным учителем Кати. У меня хранятся его работы с посвящениями ей как любимой, верной и самой талантливой его ученице.
Благодаря Верочке познакомилась Катя и с очень славной молодой женщиной Ольгой Бубновой. Она работала в Историческом музее. Впоследствии в 1937 году Ольга разделила участь мужа — известного большевика Андрея Бубнова, она была арестована и расстреляна в 1938 году. Арестовали тогда и заставили пройти через пытку лагерей даже их маленькую дочь, вышедшую на свободу уже взрослым и совершенно больным человеком и не вскоре после смерти Сталина.
Бабушка дружила с Ольгой, любила и всегда поминала ее с благодарностью и скорбью. Это была веселая, красивая, хорошо образованная и прекрасно воспитанная женщина из богатой и культурной купеческой семьи, высокая, волоокая, — той самой особо ценимой бабушкой византийской красоты. Ольга-то и отвела Катю на Красную площадь в храм св. Василия Блаженного, где тогда в небольшой и темной келье работал изумительный мастер-реставратор Евгений Иванович Брягин, которого все там звали не иначе как кудесником. Катя увидела лицо отшельника, острые серые глаза, прядь темных волос, свешивающуюся на высокий лоб.
А Брягин сурово оглядел Катю: «Пока еще не видано было девок реставраторов», — пробурчал он. — «Ну, пожалуйста, я Вас прошу», — умоляла Ольга. — «Ну что с тобой делать: гляди, учись…». Он наклонил голову над совершенно черной доской, обмакнул кисточку в один из стоящих перед ним пузырьков, смочил квадрат сантиметра в три и… чиркнув спичкой, поднес ее к смоченному месту. Вспыхнул синеватый огонек и тут же погас. Одно движение кистью с жидкостью из другого пузырька и мастер стал осторожно удалять всю лежавшую сверху масляную краску острым ножом. Он несколько раз повторил эту процедуру, и наконец, как в открытое окно, на темной стене засияли божественные краски древнего письма…
Уже в 1926 году Катю, проявившую в ученье невероятную ревностность и талант, зачислили как мастера-реставратора в Центральные Государственные реставрационные мастерские. Это был самое интересное и плодотворное время ее реставрационных командировок (о них расскажу немного в эпилоге). А в 1929 году Екатерина Александровна Домбровская уже сопровождала выставку древнерусских икон в Берлине, Кельне, Вене, и Лондоне. Вот тогда-то на вокзале в Вене и произошла встреча бабушки и деда. Каким-то образом ей удалось предупредить Джона о приезде в Вену. Он был в Европе, и конечно, поспешил ей на встречу. Свидание их долго хранилось в глубочайшей тайне. И было оно странное — ни как у людей, а в духе все того же неподражаемого Джона.
— Привет Жука! — крикнул он ей, как только она вышла из вагона. — Поздоровались… Как-то бегло и смущенно поговорили о детях, о жизни, о делах. Мне-то бабушка рассказывала об этом свидании не раз, но что я могла понять тогда, хотя главное, кажется, улавливала. Сердце свое Катя держала в кулаке, хорошо зная Джона, который когда-то в Венеции вместо музеев и Дворца дожей повел ее в медовый месяц в кино — лишь бы только не идти проторенными туристическими толпами банальной публики. Нет, еще нельзя было давать воли сердцу, хотя потом уже было поздно…
Джон сделал тогда ее быстрый портрет маслом — он хранится у меня. Замкнутое лицо, сжатые губы, опущенные глаза, выразительный разлет бровей — красота и сила личности и каким-то образом таинственно запечатленное присутствия искуса, как чего-то мучающего человека… Полная закрытость и отдаленный тонкий отзвук скрытого страдания. Написано резко, размашисто, очень мастеровито и — красиво. Портрет приковывает к себе взор.
Много лет я смотрю на этот портрет, вызывающий у меня всегда перевитую вместе боль и любовь к ним обоим, — разлученным, попавшим в водоворот истории, не успевшим преодолеть даже самих себя к тому времени, когда им была дарована близость.
Вот что мешало им больше всего — «самость», как выражаются отцы Церкви. И там и там была сильная индивидуальность, и там и там было много «самости», и в каждом был свой излом и своя закрытость при внешней благородной простоте. А простоты Божией, к которой люди чаще всего приходят лишь через аскетический христианский подвиг смирения и очищения сердца от страстей, и, конечно, страданий, которые выпрямляют и очищают души, — у Джона и Кати ни в молодости, ни даже в 1929 году не было.
В портрете бабушки есть тайна, есть шифр. Я пытаюсь разгадать его много лет и понять: намеренно ли запечатал дед загадку в портрете, или «запечаталась» она у него непроизвольно — иными словами Сам Господь заложил ее, может быть, для меня, чтобы вот я могла написать эти свои предположения о них двоих. Предположения моей любви и сострадания. Примут ли они их там? Не согрешу ли перед ними и Богом ошибкой?
А тайна в том, что в этом портрете бабушки я вижу, глядя на него в разное время и в разных освещениях, то ее лицо, то… лицо самого деда. Вот что оказывается-то: они были невероятно похожи друг на друга! Он в ней запечатлел и ее, и самого себя. А наверху кистью набросал по-французски: G'est moi Graham, Qui vous parle…
Только позже — во время войны и к концу ее они оба изменились в духовном плане. Как я чувствую — в значительно лучшую сторону. В сторону подлинной простоты. Все напускное постепенно ушло, испарилось, осталась правда, причем правда познанная и узнанная и прожитая их сердцами… А вместе с правдой пришла и подлинная простота и открылись шлюзы сердца и растаяли снежные пространства…
* * *
«October 19. 1945.
Дорогая Жука!
Спасибо тебе за письмо, получил его в августе. Рад был узнать, что все здоровы. Я много раз писал все эти годы, но, видно, письма терялись. Кроме вас у меня нет никого на свете. Другие мои дети, но в совершенно ином духе и я их даже не видаю, сердца нашего русского в них нет. Мне будет 9-го января пятьдесят девять лет, но силами я совершенно не изменился, а видом, говорят, тоже мало. Я много знаю по гигиене, чего и доктора не знают и пишу книгу по медицине. Хотел бы я с вами поделиться моими знаниями по этому вопросу. Но все же мне, как ни как, а почти 60 лет, то подумать надо. За эти годы у меня собралась порядочная библиотека редких книг 16 века и ранее и позже томов больше 1500. Кроме того рисунков старых мастеров и прочее. Хотелось бы, чтобы это досталось Кируше и тебе. Эти вещи высочайшей редкости и интересны для художника и писателя. Живу я один в разводе с моей последней женой. Мне грустно, что Мая мной не интересуется, но твоя и Кирина любовь мне единственное утешение.
Моя живопись отошла от модернистов. Я ближе других живущих художников к старым мастерам. Книг я написал несколько: историю цивилизации от 25000 лет раньше нашей эры, до наших дней, книгу по психоанализу и пр. и пр.
Я твое письмо получил в августе, шло оно восемь месяцев. Я не мог тебе ответить раньше, потому что здесь жара такая, что я пластом лежу. Нигде в тропиках так не жарко, даже в Гвиане, в болотах и там лучше, чем здесь. Я живал много в тропических климатах и знаю многих людей оттуда, но ничего не может сравниться с здешней жарой, влажной, подавляющей, люди сходят с ума и даже есть что кончают самоубийством.
Жизнь бы мне хотелось окончить около Вас, моих любимых. Жука родная. Пиши. Когда тебе досуг. Я буду писать Вам тоже аккуратно.
Как здоровье Кирилла, он должен наблюдать за своим здоровьем, скажи ему мне писать.
Обнимаю Вас всех крепко и целую
Твой Иван.
P.S. Есть ли дети у Киры и как Майка и ее дочь или сын напиши, когда дитя родилось и как имя ея мужа и дитяти. Очень нескладное письмо, но не знаешь с чего начать, а многим хочется поделиться.
Graham.
54 Greenwich Avenue
New York City -11
United States of America».
«Октябрь 25. 1946
Дорогая Жука –
Не получил ответа на мое последнее письмо. По твоему желанию купил тебе акварельные краски Виндзор (самые лучшие) для твоей работы в музее и так же лучшие кисточки. Теперь вопрос, как выслать. Я боюсь, что пошлина будет тебе большая и не слишком ли будет тебе тяжело ее заплатить. Тебе может придется заплатить пошлины около пятнадцати долларов на наши деньги. Дай мне знать по воздушной почте, что тебе лучше — послать ли эту коробку красок или лучше купить другую коробку красок подешевле чтобы тебе было меньше пошлины. Дай мне знать по воздушной почте т. к. я должен через месяц 22 ноября выехать в Париж. В Париже мой адрес:
C/o American Express
11 Rue Scrible
Paris. France
Если я не получу твоего ответа до отъезда здесь то буду ждать в Париже и тогда оттуда вышлю.
Посылаю тебе мою фотографию. Если можешь, то пересними мою карточку в Кавказском костюме снятой у Машуры в квартире и другую кабинетную, где я снят с тремя товарищами. Книга обо мне выходит, хотел бы поместить эти карточки.
Обнимаю тебя и детей.
Твой Джон.
Внучка миленькая, поцелуй ее от меня».
«13 декабря 1947
Ghon D. Graham
Hotel Luzern
Lugano (Ticino)
Sviss
Дорогая Жука — спасибо тебе за письмо. Я рад, что ты наконец, получила краски. Спасибо за фотографию Маи, она молодцом. Хочу тебе послать несколько итальянских детских книг для младенческого возраста иллюстрированные в красках с движущимися частями. Прямо произведения искусства — ничего лучше я не видел. Я только что вернулся из Италии и собираюсь провести здесь в Швейцарии несколько недель, на коньках побегать ведь я делаю фигурную езду на коньках, — так это называется? Словом фигурное конькобежничество. А потом уеду в Италию, где я думаю поселиться на некоторое время, если удастся. Я как-то просил тебя несколько раз написать мне день твоего рождения — т. е. только число и месяц, укажи так же по которому стилю ты считаешь, лучше мне дать по старому (…)»
Когда бабушка скончалась, через некоторое время мы с мамой разбирали ее вещи: не то, что лежало в несгораемом шкафу, а то, что было в ящичке ее маленького старинного еле живого письменно стола, который когда-то во время учебы в гимназии подарил ей отец. Там был заветный ящик. Он почти всегда при жизни бабушки был закрыт, а в ящичке — я видела несколько раз, — лежало уже совсем ветхое черное шелковое портмоне, которое бабушка купила в ту поездку в Лондоне в 1929 году. Я знала, что там она хранила самое заветное. Она и сама мне о том говорила, но мы с ней бумажничек этот открывали редко: она только показывала мне воздушный лепесточек настоящего золота с куполов Новгородской Софии. Ведь в Новгороде она работала, пожалуй, больше всего.
И вот теперь мы с мамой смогли увидеть, что же хранила как самое заветное наша бабушка. Мы увидели наши собственные маленькие карточки, небольшую фотографию молодой Веры Егоровны и отца — Александра Александровича Микулиных, старинную прапрабабушкину брошку из Плутнева — ту самую… И единственный конверт с письмом.
Это было последнее предсмертное письмо деда из Парижа 1958 года. Через три года он скончался в Лондоне. Но после этого письма, вероятно, в Москву он уже больше не писал…
В нем он впервые в жизни обратился к Кате по имени:
«16 juin 1958
Дорогая Катюшка, давно тебе не писал. Мне уже перевалило за 70 лет. Вот уже сорок лет как я уехал из Москвы. У вас многое новое, конечно. Хотел бы знать, живы ли вы и здоровы, вот и все. Я сейчас здесь в Париже, если можешь, напиши мне сюда. Я пишу и занимаюсь метафизикой. Жена моя последняя была большой доброты — несмотря на мой трудный характер. Она скончалась два с половиной года уже от рака после страшных страданий. Теперь я одинок совершенно. Довольно тяжело.
Я всегда о вас всех думаю, конечно. Может быть больше сейчас, чем когда — либо. Буду ждать письма. Обнимаю вас крепко.
Твой Джон.
Hotel Saint-Romain. Paris I. France»
Для меня последние письма деда стали одним из самых больших откровений…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой — фотография Ивана Грациановича Домбровского (Gohn D. Graham) сороковых годов, а так же — обложки некоторых его книг, изданных заграницей.
Фото из семейного архива публикуется впервые.
Эпилог
…Так сложилось, и возможно, промыслительно, что работа над последними страницами этой книги пришлась на последние дни уходящего 2011 года, и, может быть, именно поэтому или еще по каким-то более глубоким и мне неведомым мотивам, — взять хотя бы шторм, пронесшийся по северным странам Европы и захвативший наши края как раз в те самые дни, — ощущение драматизма истаивающего и уходящего в Вечность, но напоследок настойчиво о чем-то и толкущего в сердце бытия было очень сильным. И я дерзнула нарушить традиционный классический «протокол» эпилога…
…Монотонно била о рамы плохо закрытая балконная дверь, а за ней в окнах неистово, словно безумные дервиши раскачивались из стороны в сторону и мотали у моих окон свои худые гривы высокие березы, будто собирались они, мучимые болью, вымести своими волосами московские улицы.
Мокрый асфальт — никаких следов от щедрых снегопадов и белоснежных перин, которые еще давеча погружали Москву в благостную дрему. Теперь же все нервы города были оголены. И всё вместе, — и эта буря, и то далекое, но реально бывшее, что вспомнилось мне тут же при виде этих раскачивающихся словно от нестерпимой боли берез, — все сошлось в узел к последней точке этой книги, понудив меня еще раз пережить те мгновения прошлого, которые я всегда уклонялась вспоминать, с содроганием понимая, что только чудная великая сила милости Божией сохранила меня тогда, хотя сохранять меня было вовсе не за что…
Много позже открылась мне тайна святой Божественной Любви, которой должен подражать всякий человек, глядя на страждущего брата, слыша «воздыхания окованных» грехом, когда каждый день, отходя ко сну и крестя свой одр, словно божественный нектар в устах испытывала я каждое слово молитвы святого Иоанна Дамаскина: «Аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, и аще праведного спасеши, ничтоже велие, но на мне грешнем удиви милость Твою…».
…В такую же вот пронизывающе ветреную зимнюю ночь, подстать только великопостным мартовским холодам, когда стынут не тела, но шествующие за Господом на Голгофу души, и случилось мое тогдашнее внезапное и безрассудное бегство…
Был поздний ноябрь, а может, даже и ранний декабрь, холодный, сырой и бесснежный, ночь бездомности и безвременья, какое, казалось бы, только одна молодая сила может подъять и претерпеть, сколько бы это безвременье не преследовало ее бедную, дотянув все-таки до того долгожданного часа, когда придет этому безвременью конец и настанет для человека, наконец-таки, подлинная жизнь, которая в идеале у каждого Божьего призывника должна, рано или поздно, претвориться в ж и т и е, обретшее свой смысл, устремленное к Богу с такой силой, с какой несся на «источники водные» тот божественный елень, сжигаемый нестерпимой горечью безбожного бытия: «Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже» (Пс.41:2–3).
Евфимий Зигабен, знаменитый монах-толкователь Псалтири пояснял: желая выразить великое и чрезмерное желание свое к Богу, царе-пророк Давид употреблял для сего в пример оленя, потому что «олень, имея естественный жар, а особенно, когда возжигается весь извлекаемыми им из нор чрез вдыхание в себя и пожираемыми многими змиями, имеет посему великую жажду и сильное желание к воде».
Вот и Пушкин, брат наш во Христе, узнал ту жажду и тот сжигающий нутро огонь, и взрыдал о душе своей в конце жизни, воплотив священное слово Псалтири в свою чуть ли не последнюю тайную исповедь:
Напрасно я бегу к сионским высотам, Грех алчный гонится за мною по пятам… Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, Голодный лев следит оленя бег пахучий…Вижу и себя бегущей, мчащейся, летящей — по рельсам и шпалам и рядом с ними по горбылю ската, по пожухлой траве… Дороги нет, пути нет, и я не ведаю куда бегу, жегомая огнем и чувствуя его под ногами, а вслед себе — некую мистическую силу, гонящую меня, настигающую и угрожающую… Пробираясь по каким-то окраинам деревень в незнакомых местах в темноте я давно потеряла путь и потому, услышав издалека стук колес, я, летя напролом, обрела этот путь и теперь несусь по рельсам, спотыкаясь и проваливаясь в мокрую, рыхлую землю, чтобы только не сбиться и не потерять прицел. Долететь бы до станции… Быть может, там пошлет мне судьба последнюю электричку… А может, сшибет она меня раньше или сила лихая настигнет? И кто знает, куда бегу я: к дому или назад?
Откуда храбрость, откуда решимость вот так одной, под ночь сорваться с места, вырваться из чужих людей, из тепла и безопасности, чтобы вот так нестись наугад, будто за мной действительно пущена страшная погоня, через поля в ночи, в надежде добежать и спастись (от кого?!!) от пребывания там, где не дОлжно мне было больше быть, там, где так схватывало мое сердце ощущение чуждости, безлюбия, безместия, — а вместе — адского холода и адского пламени одновременно.
Уж лучше такая ночь и голые пространства, чем холод чужой — не той, не твоей жизни. А что она — не та, моя душа ведала изначально. Всегда, с самых первых взрослых шагов жизни — да с самого детства! — сердце знало, что хочет оно и ищет в этой жизни только одного: «тихого и безмолвного жития… во всяком благочестии и чистоте», но почему же не там оказалось? Почему сбилось с дороги? Почему поверило чужим басням?
Слышало, да не слушало, слышало, да не верило, принимая голос совести и правды Божией лишь за несбыточную мечту.
…Помню, когда, наконец, вышла я из вокзала в город в ту страшную ночь — вокруг было уже светло то ли от рассвета, то ли от чистейшего снега, покрывшего город за то время — за те годы, а я, кажется, годы бежала сломя голову, не зная куда, жегомая и палимая… В этой чистоте был такой покой, такой мир, такое счастье, такая отрада душе и ангелами тогда привиделись мне люди, которые еще на рассвете, спешили на скромные дела своей жизни, на невидимые миру свои труды: «Все стало чисто и ясно. Снег все вымыл и высветлил, хотя твои вчерашние заботы все еще при тебе. Но таким светлым и чистым утром можно все начать сначала. Кофе. Душ. Книги. Но что-то опять из цепи жизни утеряно, утрачено. Можно плюнуть и забыть, но что будешь делать, когда будет утрачено последнее звено?»
Тогда-то я и сделала, вернувшись домой, эту первую запись для будущей книги (о ее существовании во мне я тогда, правда, еще не знала) и теперь, как оказывается, главную и последнюю запись о том чистом снеге, и о том, откуда и куда я бежала …
Было это очень давно. В январе 1965 года.
* * *
«Огня приидох воврещи; на землю, и что хощу, аще уже возгореся (Лк.12:49)». Без этого ниспосланного на землю наших сердец Божественного огня не одолеть ни нам, немощным, ни даже богатырю Святогору тяги земной, не оторваться от тепла и уюта покойной или хотя бы просто привычной жизни, где ты несмотря ни на что, все же сам собой доволен, обольщенный по неопытности сладким мурлыканием демонов.
…Был такой простой крестьянский парень — Симеоном звали, он имел великую богатырскую силу в теле и характере, и жил в миру не без греха. Бросил девушку, им соблазненную, зашиб однажды в пьяной драке человека… Но призвал Бог душу эту ко спасению, провидя в парне том задатки великих духовных сил — будущего святого молитвенника за весь мир. А сильному человеку и брани под силу, но в конце-концов, решился тот парень идти на Святую гору Афон спасаться в монашеском подвиге, но чувствуя, как мир еще держит его, держит мертвой хваткой изнутри его самого, он написал записочку святому праведному отцу Иоанну Кронштадтскому, не застав его в Кронштадте: «Батюшка, хочу пойти в монахи; помолитесь, чтобы мир меня не задержал». И уже на следующий день почувствовал Симеон вокруг себя «адское пламя», которое «гудело» с тех пор не переставая повсюду, где бы он ни находился… А потом стал этот парень тем, каким его хотел видеть Бог: великим смиренным молитвенником, преподобным Силуаном Афонским — вчерашним крестьянским сыном великой Руси.
«Необходим и для нас этот огонь, для наших оледеневших сердец, чтобы разогревать, размягчать, переплавлять и очищать их всегда, чтобы просвещать и обновлять их», — записывал в своих дневниках святой Иоанн Кронштадтский.
Незаметно для невооруженного огненной верой глаза выходила Русь из церковной ограды, из-под Божиего крыла и опеки, не один год и не один век, самообольщенная и считающая себя имеющей, в то время как нищала духом, уже нагая, все более прикипающая земле и греху, ищущая утоления жажды своей во всем, кроме одного — устремленности к Богу; уходила на сторону далече как евангельский блудный сын, но, в отличие от него еще долго не умиравшая с голоду прадедовскими святыми благодатными наследствами, прадедовскими молитвами. И только огонь адский под ногами, возженный милостью Божией, очень долго полыхавший огонь страданий, бесчисленных смертей и испытаний мог заставить ее начать просыпаться и думать о возвращении…
Для кого-то это обращалось отчаянным бегством, для кого-то неуверенными шагами, но для всех путь к «тихому и безмолвному житию… во всяком благочестии и чистоте» открывался только как единственный: как вышли из церковной ограды, чтобы натерпеться горя на юру мира, так должны были мы и вернуться через ту же церковную ограду к самим себе, к своему подлинному Отечеству, дарованному нам Богом; Отечеству, которое без Христа жить не может, но только умирать.
По классической литературной традиции эпилог должен собирать, увязывать и подытоживать главное, дополняя недосказанное о судьбах героев и даже, возможно, чуть-чуть предсказывая о будущем, забегая вперед… Как вот, к примеру, не расцвел же лопух на могиле Базарова, а расцвели цветочки, засеянные любовью и молитвами его горячо верующих матери и отца, благодаря сокровенной мягкости и любви его собственного сердца, сохраненной и согретой остатками родительского тепла и добра, сердца, не предавшегося всецело врагу и сохранившего где-то в глубинах как святыню некую малую жемчужину или даже просто зерно, которое и расцвело на могиле Евгения Базарова, названного «благородным» (Евгений — значит «благородный») не без умысла автора.
Под подушкой Раскольникова в эпилоге лежало Евангелие и сказано там, что он уже стал замечать, какая пропасть разверста между ним и людьми, и как близка и мила людям бедная Соня, а главное, он начал сознавать, что еще великим подвигом придется искупать ему будущую жизнь и любовь Сони… А понять необходимость подвига — разве не есть свидетельство осознания великости своего греха и вины перед Творцом?
Именно в эпилоге Родион Романович видит то, чем же поражено (заражено) человечество: «каждый был убежден, что истина заключена в нем одном и никто не знал, что добро, а что зло; все погибало», и понимает сердцем, что имя этой болезни — неверие и полное добровольное рабство демону гордыни (что связано намертво), для которого нет разницы между добром и злом, лишь бы жил человек не по воле Бога, а по своей собственной, греховной. Греховной даже, казалось бы, в делании добра.
…В таком-то рабстве и жила уже огромная Россия времен Тургенева и Достоевского, времен моих прабабушек. В это рабство постепенно впадали новые и новые души и поколения, и дети праведников в том числе — их, как Базарова — мать уже не могли искупить молитвы праведных предков, беззащитные души калечились, ломались семьи, погибали молодые, великий разлом в бездну открывался и увеличивался на глазах по всему священному телу Руси…
В каком-то месте книги рассказывала я о том, как виделось мне всегда начало нашего восстановления из пепла — как некое тихое и неостановимое движение навстречу друг к другу, движения любви — дальних предков и нас, потомков, обретших все-таки после долгих и тяжких блужданий ту единственную тропу, и тот единственный путь, где только и могла бы произойти наша встреча и начаться срастание разрубленного врагами тела великого богатыря — России и всего нашего сродства и единства. И потому только в этой книге появлялись отрывки, свидетельствующие о двусторонности срастания: о его медленности и болезненности.
* * *
Но вот, наконец, у меня и сказалось почти все, что ждало своего часа быть узнанным многими. Все поминаемые мои близкие из помянника (а сколько там и в безразмерном сердце может жить и дальних, о коих не может забыть благодарность духовного сыновства, — о старцах и старицах, о великих исповедниках и хранителях святой веры нашей, преподобных наставниках благочестия, невинных и безымянных жертвах гонений за Христа!) были провожены до последнего земного предела — до врат Вечности.
Конечно, многое еще можно и нужно было бы добавить и о славных трудах Екатерины Александровны Домбровской, столько сделавшей для спасения и расчистки древнерусской живописи во всех почти без исключения древнейших храмах Руси и не только… О ее замечательных копиях шедевров монументальной храмовой живописи, которые она делала еще до войны. И промыслительно: увы, варварскими бомбежками были уничтожены вместе с этими неповторимыми фресками и сами храмы, и остались только хорошо, если редкие черно-белые снимки, рукотворные копии, да руины. Великолепным копиистом была Екатерина Александровна, чья жизнь — удивительная — еще достойна многих описаний и воспоминаний.
…Можно было бы сказать еще о написанных ею книгах, посвященных Николаю Егоровичу Жуковскому, о ее статьях и трудах по технике реставрации, и истории древнерусского орнамента, о ее крестьянских работах в деревне в годы Великой Отечественной войны, когда она, уже пожилая, вновь взялась за плуг и еще много потрудилась ради того, чтобы поддерживать близких…
Даю слово ее письмам. Я мало их цитировала, но никакой комментарий не скажет о ней больше, чем ее собственные простые и искренние строчки, написанные таким простым, крупным и разборчивым почерком…
20 ноября 1941 года. Орехово.
«Здоровье мое хорошо, совсем исправилось (приписка на полях; — здесь и ниже прим. мои — Е.Д.).
Дорогие мои любимые Кириллок и Лизанька (сын и невестка), как то вы живете? Получили от вас много телеграмм с предложением ехать в Пермь, и совсем собрались, но тогда поезда шли лишь до Коврова (та же Владимирская губерния), а дальше предстояло ехать от станции к станции… Мы сейчас все живем в Орехове, здесь еще Вера Шипова (урожденная Петрова) с двумя детьми. Деревня нас затянула. Хозяйство у Верочки крайне запущено, с июля ей не шлют зарплату (речь идет о хозяйстве музея) и потому работники ушли, так что я сейчас вспомнила прежние годы и исполняю роль конюха и рабочего довольно успешно. Если я уеду, Верочке совсем пропадать, а я думаю, что Орехово все же единственное место, где можно просуществовать без заработка. По-видимому, Мая все же будет работать в госпитале, а я буду жить в деревне до последней возможности, в случае крайней необходимости уеду на северовосток, где будет Мая, а затем проберемся к Вам, но я ни минуты не допускаю мысли жить в Перьми… Если не сможем вернуться домой, на что я однако твердо надеюсь, постараемся проехать в Тбилиси и искать там вторую родину.
Пока мы живем хорошо и если бы не тоска по родным и любимым и по дому, здесь было бы хорошо…»
10 января 1942 года.
«Дорогие мои любимые, родные!
Недавно я ездила на Копчике (старая рабочая лошадка) во Владимир повидать Маю. Она работает в госпитале в челюстном отделении. Больные ее полюбили и врачи ею довольны. Работы много с 7 утра до позднего вечера, кормят в госпитале. Маюся похудела и кудри ее отросли, но дух у нея бодр, только скучает по скульптуре и рисует наброски из окна госпиталя (на этих рисунках схвачено много эпизодов бомбежек — наброски эти заменили Майе Домбровской вступительные экзамены в Строгановское училище в 1945 году, — настолько достоверны и талантливы они были…). А я совсем стала деревенская, будто бы не было пятнадцати лет жизни в Москве. Если бы не тоска по Вас и не забота о будущем общем нашем, мне здесь было бы хорошо. Зима нонешний год на редкость великолепна. Я привыкла. Не мерзну и днем совсем не вхожу в дом. Работать я опять могу как раньше. Радостные известия с нашего фронта совсем нас окрылили и подбодрили, мы начали мечтать о весне, готовить семена и чистить плуг и борону. Я даже принялась за семейную хронику. Все зависит от хода войны. Мы ждем победного конца и я надеюсь, что скоро мы опять будем вместе».
29 мая 1942 года.
«Дорогой и любимый Кирилл, ты себе не представляешь, как я была счастлива, получив твое письмо… Я рада за вас, что Вы теперь с друзьями и в своей сфере, я думаю работа в студии для тебя будет очень интересна и полезна, ты сможешь на ней применить свои способности… Я давно хотела, чтобы ты работал в кино. Беспокоит меня отъезд Лизы за Генрихом. Легко сказать, ехать в такую даль, но зато если она счастливо вернулась, я ужасно рада, что Лизанька наконец нашла сына (юношу Генриха — сына от первого брака Лиза оставила перед войной в Польше, а в данным момент ехала за ним на передовые позиции). Будь ему хорошим другом. Пришлите мне Ваши карточки и карточку Генриха не забудьте. На днях я нарочно схожу (35 км.) во Владимир, чтобы вместе с Маей и Леной (врач, начальник отделения госпиталя, сестра Лизы) порадоваться на твое письмецо…
Я живу хорошо, здоровье мое укрепляется (бабушке было уже 56 лет), я теперь могу много работать и не устаю. Мы устроили грандиозный огород, если все вырастет, овощей будет в избытке, посадили картошки, посеяли яровой пшеницы (уже взошла) и даже посеяли лен и гречу. На прошлой неделе мы с Копчиком гастролировали в колхозе Калиньево (помогали колхозу на пахоте), могу гордиться, что по всем моим квалификациям получила признание первоклассного пахаря, вспахала полтора гектара в три дня, норму повысила в день на десять сотых. Постепенно стараюсь привести в порядок Верочкино хозяйство, вспомнила старину, сама чиню сбрую, столярничаю и слесарничаю. Если бы я не тосковала так по вас всех, мне было бы хорошо. Здесь такая великолепная весна. Маюся моя родная хотела приехать на пять дней в отпуск но что-то не едет. Я отправляюсь к ней поглядеть на нее, я теперь хожу во Владимир прямым путем через Жерехово на Юрьевское шоссе, так лишь 32 км. и очень красивая дорога…»
Конец декабря 1942 года. Из Орехова — в Новосибирск.
«С Новым Годом, дорогие мои Кирилл и Лизанька. Будем надеяться, что в 43 году опять все будем вместе. Мне так грустно, что я не могла послать Вам ничего существенного. Как-то Вы живете, родные? Теперь я только могу тосковать душой о Вас, а помочь не могу… Дорогие любимые, постоянно о Вас беспокоюсь, как Вы переносите холода, есть ли у Вас теплые шапки, валенки, рукавицы… Здесь у нас морозы 40–35 градусов по Цельсию. Хожу в куртке, которую вы мне подарили, и в шлеме. К морозу совсем привыкла. На дворе теплее чем в доме. Ночью вода мерзнет на столе. Сплю на лежанке. Но, оказывается, в деревне холод все же гораздо легче переносится, чем в городе. Я живу хорошо. Все бы хорошо, но что-то каждую ночь вижу тебя, сынок, во сне…».
10 февраля 1943 года. Владимир.
«Дорогие мои любимые! Каждый день такие великолепные известия с фронтов, опять жить хочется, чтобы увидать, как будет хорошо, когда эта ужасная война кончится. Скоро весна, дорогие. Я пока еще в деревне. В Москве в Академии без меня, кажется, ничего не двигается. А я как-то раздвоилась. И по своей работе скучаю: я ведь не дописала третью часть своей книги, и поправлять надо все, что война разрушила. Новгород и Киев, наверное, скоро будут наши. Все памятники потребуют реставрации… Лошадь мы еще не достали, но не теряем надежды (старый и верный Копчик пал). Семена у нас все готовы — их больше, чем в прошлом году. Я рада, что мой табак вам доставил удовольствие. Я достала семена турецкого и уже приготовила место, где его посадить, он будет великолепен, лучше покупного. В прошлом году я садила дыни. Они вышли плохо — очень маленькие, но были вкусны и необыкновенно душисты; теперь я знаю, как их сажать… Если бы я поработала еще лето, Орехово прокормило бы и музей и московских, но без меня все развалится. Верочка последнее время стала все болеть, у нея постоянные головные боли. Начала писать Жуковского к 1947 году (сто лет со дня рождения). Очень трудно…»
8 января 1946 года. Москва. Сыну Кириллу — в Берлин.
«…Здоровье мое сейчас Слава Богу хорошо. Дома все благополучно. Мая с утра до ночи работает. Детка (Екатерина младшая, которой уже почти год) наша радость, растет и становится очень бойкая. Она будет умная, добрая и ласковая. Я ее очень люблю. Она мне напоминает моего Килялю. Она твоя крестница. Меня сейчас разрывают на части. Наши реставрационные дела в положении полного неустройства. Умер П.И. Юкин и теперь осталось нас всего 3 реставратора, а работы масса. И к юбилею (Н.Е. Жуковского в 1947 году) надо готовиться, писать биографию… Родной, я получила письмо от твоего отца очень милое и трогательное. Я мечтаю о его переезде к нам. Посылаю тебе копию. Само письмо мне будет нужно в посольстве, если можно будет что-нибудь предпринять (Ничего не получилось). Целую тебя, родной. Будь здоров. Мама».
Поздняя осень 1946 года. Сыну Кириллу в Потсдам.
Я только что вернулась из летних путешествий. После Владимира (Реставрация фресок в Троице-Сергиевой Лавре) ездила работать в Керчь и в Киев. Керчь совершенно разрушена. Склеп Деметры был в совершенно невозможном виде, там жили немцы, и было раньше бомбоубежище, можешь себе представить, что сталось со стенами и сводом. Деметра уцелела, я сделала что могла, привела склеп в порядок. В Киеве работала без удовольствия. Там в управлении много хозяев, а толку никакого. Исписала «десть» бумаги на заключения и рада была уехать. Предполагалась экспедиция на Балканы, куда и меня включили, но видимо, в виду холодов не поедут. Хочу побыть дома и заняться Жуковским… Сегодня мороз, но показалось солнце. Мая ушла в институт. Она теперь на 4 курсе. Хорошо лепит и рисует. Наша радость — чудесная, толстенькая, розовая Катюшка — спит. Она твоя крестница, детка великолепная. Очень хорошенькая и умная, говорят, похожа на меня, моя радость. Не забывай. Мама».
19 апреля 1955 года Москва. В Орехово — сестре Вере.
«Дорогая Веринька, как ты там изворачиваешься, наверно сидишь без копейки и топишься сырыми ивовыми дровами, от которых кроме дыму и угара ничего не получишь. Начал ли у Вас таять снег, грачи давно прилетели, жаворонки тоже, дороги наверно почернели и осели. Нынешний год ждут большого паводка. Не самостоятельные наши ореховцы. Какие бы пруды могли сделать внизу и на Морозове. Ничего нет невозможного, было бы желание… Я все пишу Жуковского и совсем с ним замучилась, не знаю, чем кончится. Шура (брат) совсем отступился и не приходит, как его дела — не знаю, кажется поправились… Я бы на твоем месте постаралась бы вспахать полосу вдоль канавы от ясени до дороги, унавозить и посадить там картошку и овощи. Только надо загородить хотя бы лапником от кур. Все это конечно почти невыполнимо чужими руками… Я не лежу все время, хожу, но отеки не проходят. Видно так уже будет до конца».
Это письмо было написано за год до кончины Веры Александровны и за десять — до смерти бабушки. Уже осенью Екатерине Александровне пришлось забрать тяжело больную сестру к себе в Москву. Сама Екатерина Александровна уже в это время была очень больна. С этого времени она уже не выходила из дома, хотя и жили мы в Москве не высоко — в бельэтаже. Но и этого уже не позволяло измотанное ее, еле живое сердце. Только живая память поддерживала ее воспоминаниями об ореховских полях и жаворонках, которых она уже больше никогда не смогла ни увидеть, ни услышать, как не вижу их уже много лет и я, и вряд ли увижу.
Благодаря удивительной любви и уходу за бабушкой моей матери она прожила в таком состоянии целых десять лет. Скончалась в марте 1965 года.
Из некролога искусствоведа В. Филатова «Памяти Е.А. Домбровской»:
«Екатерина Александровна Домбровская начала свою работу в 1925 году. Особенно много сил и энергии она отдала сохранению и раскрытию памятников Новгорода и Пскова. Трудно отыскать хотя бы один памятник монументальной живописи новгородской и псковских школ, к которому не прикасались бы ее руки… Сразу же после изгнания фашистских войск она приняла горячее участие в спасении памятников живописи, пострадавших в Великой Отечественной войне. Работая в труднейших условиях разрушенного Новгорода с августа 1944 года по 1948 год, она спасает фрагменты росписей начала XII века в куполе Софийского Собора, в башне собора Юрьева монастыря, в руинах церкви Спаса Нередицы(1199 год), в церкви Благовещения в Аркажах, в руинах церкви Николы на Липне (1292 год), реставрирует росписи Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине (1378 год), Рождества на Поле (конец XIV века), в церкви Георгия в Старой Ладоге, а также работает над продолжением раскрытия фресок в соборе Снетогорского монастыря во Пскове»
(Древне-русское искусство. М.1968).
* * *
Дед мой Иван Домбровский — Джон Д. Грэхем — перед кончиной в 1961 году все свое собрание ценнейших книг и картин и какое-то другое имущество завещал бабушке и сыну Кириллу. Но извещенный о том через Третьяковскую галерею сын от наследства отказался. Он работал в кинематографе, мечтал о заграничных командировках и боялся, что станет невыездным. Раза два ему выбраться в Европу все же удалось тогда, но не более.
Кирилл Иванович Домбровский, дядюшка мой и крестный, всю жизнь очень много и творчески трудился. Это в нем было наследственное — святое, а не просто честное отношение к своему делу. Он стал кинорежиссером документалистом, снял несколько хороших, очень профессиональных и качественных научно-популярных фильмов. Кроме того, он был научным консультантом серьезнейших производств по оптике. Вот и он, как и бабушка Вера, как и бабушка Катя, тоже принимался в конце жизни за написание семейных хроник, но не успел. Он трогательно почтительно и нежно любил мать и я приведу только один пример из его юности, достойный удивления в особенности в наше-то холодное и безлюбовное время. О том поведал мне всего-лишь один листок чудесной плотной бумаги, название которой мне точно не известно, с красивым рельефно оттиснутым лиловой краской вензелем «Д» в левом углу (вензель Домбровских), найденный, конечно же, все в том самом незабвенном несгораемом шкафу.
1929 год. Москва, 7 декабря. Бабушкины именины, Катеринин день… И вот в этот, всегда традиционно праздничный в нашей семье день, мою 43-летнюю бабушку поздравляет ее сын Кирилл. Ему 16 лет. Он воспитан в старинном русском духе с небольшим английским акцентом, несмотря на то, что рос он первые 10–12 лет (самых страшных лет революции и гражданской войны) в деревне.
Вот здесь, в Орехове, без дров, без керосина, без спичек, без бумаги, без денег, растила моя бабушка своего сыночка и дочь. И умудрилась дать им и образование и воспитание. Только в 1924 году, когда Кириллу было 11 лет, они уехали в Москву и мальчик поступил в школу. И вот теперь в 1929 году Кирилл дарит матери чашку тончайшего китайского фарфора (где-то значит, тогда еще можно было таковую приобрести), хорошо зная давнее пристрастие Екатерины Александровны к хорошему тонко-светящемуся фарфору и чаю. Хотя о каких пристрастиях в ее реальной жизни можно было говорить?! Это были давно уже не пристрастия, а лишь беглые воспоминания о пристрастиях.
А еще Кирилл на этом чудном листке какой-то особенной бумаги сочинил и очень красиво изобразил свой поздравительный стих:
Тебе, Привыкшей к Лондонской этичности, Любящей выпить чашку чая, Дарю изящную безделку из Китая, Полну нелепой экзотичности. Пусть глядя на нее, Ты будешь думать О маленьком сынишке Бумми.Какие родословные разыскания могут восстановить и оживить этот день 1929 года, мою бабушку, только что вернувшуюся из заграничной командировки (она сопровождала первую выставку русских икон заграницей), сына ее Кирилла, в шестнадцать лет среди нэповской Москвы хранящего каким-то образом познанные рыцарские понятия, трогательные чувства сыновней любви к отцу и матери, а уж о ее неизбывном и горячем материнстве, о ее трепетной, заботливой любви к «сынишке» Бумми, к дочке, а потом и ко всем, кто прибивался к ней, и говорить не нужно — об этом она сама свидетельствует в своих письмах.
Упокоились мои бабушка, мама, дядя, его вторая жена, и мой безвременно скончавшийся от болезни в 28 лет старший сын Егор (Георгий) у стен Донского монастыря (в эту-то могилу и посыпала я в 1994 году освященный песочек из захоронения преподобного Кирилла Белозерского), совсем неподалеку от Николая Егоровича и его детей — Леночки и Сережи, которые нашли свое упокоение за алтарем Большого Собора Донского монастыря.
* * *
«Кая житейская сладость пребывает печали непричастна; кая ли слава стоит на земли непреложна; вся сени немощнейша, вся соний прелестнейша: единем мгновением, и сия вся смерть приемлет. Но во свете, Христе, лица Твоего и в наслаждении Твоея красоты, егоже избрал еси, упокой, яко Человеколюбец», — поет святая Церковь на отпеваний усопшего, не возбраняя и нам проливать слезы любви о дорогих нам душах, о предстоящем расставании с ними и, быть может, очень долгом ожидании встречи. О том и сам умирающий молится, когда читают ему Канон на исход души: «По плоти сродницы мои, и иже по духу братие, и обычнии знаемии плачите, воздохните, сетуйте: се бо от вас ныне разлучаюся».
Но кто не забывал об усопших, кто молился всем сердцем о них, кто находил в себе силы понести не только славные воспоминания, но и трагические страницы судеб отошедших ко Господу людей, кто не закрывал глаза на их ошибки, на что-то горькое, но оплакивал их, братьев своих по земной крестоносной жизни, кто решался, быть может, даже взять на себя часть того непомерного груза, с которым ушла родная душа в мир иной, — а молитва истинная — всегда оттягивает на себя часть ноши того, о ком мы искренне и всем сердцем молимся, кто в сострадании и сочувствии соединялся с усопшими душевно так близко, словно они — живые — были совсем рядом, кто чувствовал, как сердце сердцу весть подает, кто присовокуплял к их, услышанным нами скорбным воздыханиям и свои молитвенные прошения и свою горючую слезу, кто чувствовал их небесное заступничество и молитву и участие в наших жизнях, — тот не усомнится: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38).
И вот теперь, когда я окончательно проводила своих, попросился на свет эпилог эпилога, потому что в последний момент припомнилось мне, как стояли мы с дядюшкой Кириллом Ивановичем осенью 1996 года у наших родных могил и как вдруг с высоченного старого клена, который обвил наше место своими корнями, упала ему на голову большая сухая ветка. Удара сильного не было, но мы все замерли, и он, и все мы поняли, о чем она сообщала…
Кирилл Иванович отошел ко Господу весной 1997 года в день космонавтики, о которой и снимал все свои основные фильмы. Потом я приходила туда уже одна или с детьми — сыном и дочкой, с невестками и внуками… И каждый раз поминала добрым словом дядю и крестного своего, посадившего в 1965 году, когда скончалась бабушка, на ее могиле жасминовый куст — который взял он отростком из Орехова, когда пришлось ему ее хоронить. А отросток был не простой — он был дитем от куста и прямым потомком тех кустов, что сажал в 50-ые годы XIX века мой прапрадед — Егор Иванович Жуковский, любитель цветов и знаток роз всех сортов, но преданный ценитель единой лесной медуники.
Жасмин тот и доныне цветет у наших могил. А на землице растут лилии, которые сажал еще Николай Егорович в Ореховском парке. Они там, уж не знаю, живы ли, а на нашем последнем клочке сухой московской земли вот уже 47 лет живут и не выводятся, хотя каждый год я вижу, что их выкапывают соседи, но лилии Жуковского растут и растут себе уже на многих других могилах Донского кладбища.
Мне не жалко. Лишь бы в сердце моем они не засохли. Потому что я верю: что ничто не умрет, как не умерло вместе с Николаем Егоровичем (увы, не рассказала я о его последних днях…) и бабушкой наше Орехово. Как не умрет любовь к нему и память вместе со мной. Как не умирают наши мысли и даже отдельные слова: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда"(Мф. 12:36).
А об Орехове я часто вопрошаю себя, как Достоевский у гроба первой жены: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?», — увижу ли Орехово? Может ли оно быть и там? Будет ли? Или будет что-то настолько прекрасное и преображенное, что душа моя забудет все, о чем проливала столько слез на бренной земле, что было ей бесконечно мило и дорого в этой жизни… Неужели и там я не увижу Орехова? Да что — Орехово, а близкие? А сын?
Их увижу — это я точно знаю. Когда-то в юности один раз в жизни довелось мне оказаться под общим наркозом. А он на меня не действовал почему-то: мозг упрямо работал и работал, и я слышала, как они переговаривались: «Ну, поддай ей побольше…». И с третьего раза я забылась. А, может, и немного умерла. Потому что как пишут знатоки этого вопроса (а я о том никому никогда не рассказывала), понеслась моя душа по черному туннелю со страшной скоростью к светящемуся концу, и я влетела туда и узрела там море света и тут же ко мне стали сретаться — не слетаться! — ликующие души: прозрачные в светящихся контурах каких-то неземных одеяний вроде тел, — такие радостные, такие любовные, такие родные! Как много их было, и я всех, оказывается, знала: даже тех, о ком успела только подумать, что, надо же — они умерли более ста лет назад! А они меня знали и ждали, и вот так встречали… Радость их было не описать. Были там и живущие тогда еще на земле, но я и этому нисколько не удивлялась, — так должно было быть, времени-то, возможно, уже у них там не было, и уже отирал Господь всякую слезу, как предвосхищено нам в Откровении святого Иоанна Богослова о тех, кто «Не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Отк.7:16–17).
Там была и бабушка моя, и Машура и возможно, тогда еще живая на земле мама… Но тут душа моя понеслась обратно, чтобы получить свои отрезвляющие пощечины по щекам, но пока неслась она, я ликовала: смерти нет! Мне открыли самую великую тайну и я теперь точно знаю, что смерти нет.
Прошло очень много лет, и я ничего не забыла. И ухожу с кладбища всегда в мирном и светлом духе. И радуюсь, и жду спокойно, — дел-то еще немало. Но смерти — нет. Это точно. Другое дело, какая участь в бессмертии ждет каждого из нас, что пожнем мы там и каким увидим посеянное нами здесь, но это уже другой вопрос — вопрос жизни.
Все помещенные в Эпилоге письма публикуются впервые.
На коллаже Екатерины Кожуховой слева — направо в верхнем ряду:
Екатерина Александровна Домбровская с дочерью Марией Ивановной Домбровской в Орехове на жатве 1947 года. В центре — одна из последних фотографий Е.А. Домбровской. Под ней ее портрет маслом 1929 года работы мужа — Джона Д. Грэхема — хранится в архиве автора. По сторонам уникальные копии Новгородских фресок работы Е.А. Домбровской — хранятся в архиве автора.
В левом нижнем углу — фотография внучки Е.А. Домбровской 1955 года.



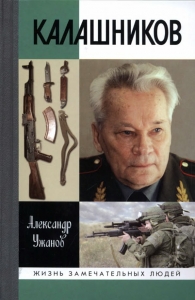
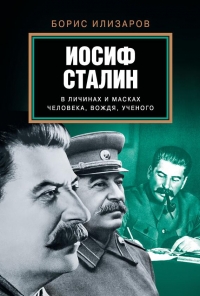
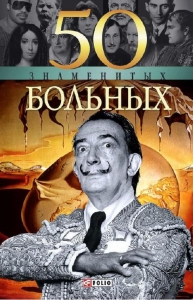


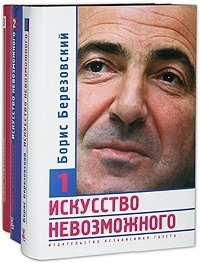
Комментарии к книге «Воздыхание окованных. Русская сага», Екатерина Домбровская-Кожухова
Всего 0 комментариев