Владимир Стеженский
От автора
Владимир Иванович Стеженский.
Берлин, сентябрь 1945.
* * *
Свои дневниковые записи я начал вести еще задолго до войны. Время тогда было сложное и тревожное. Каждый год происходили громкие политические процессы, жертвами которых становились известные партийные и политические деятели. Будучи школьником старших классов, я занимался в историческом кружке у профессора Московского университета М. Зоркого. Мы изучали историю партии, но не по краткому курсу, а по стенографическим отчетам съездов, пленумов и другим материалам, которые тогда можно было получить в любой городской библиотеке. Я читал острые критические выступления, направленные в адрес Сталина и начинал понимать, почему многие бывшие соратники Ленина превращались во «врагов народа» и агентов империализма.
Надо сказать, что в нашей семье отношение к Сталину всегда было негативным, особенно после того, как жертвами сталинских репрессий стали два моих близких родственника. Один двоюродный брат был заместителем маршала Тухачевского по научно-технической части, и когда маршала «разоблачили», моего брата отправили в длительное тюремное заключение. Второй двоюродный брат, Юрка, был еще школьником, когда случилась беда. Он поехал в Гагры на каникулы, где жил и работал наш дядя (тот был мебельщиком-краснодеревщиком, оформлял интерьер на даче Сталина на Черной речке). Когда работы подошли к концу, дядю арестовали, и вместе с ним арестовали моего Юрку как «пособника врага народа». В 17 лет его отправили в сибирские лагеря.
Когда началась война, я был студентом известного московского института ИФЛИ. Осенью тридцать девятого я был призван с первого курса на действительную военную службу, но, уже через год освобожден от воинской обязанности по причине сильной близорукости. Призыв в армию мне не грозил, но когда немцы стали все ближе подходить к Москве, вопрос о службе в армии я для себя уже решил. Осенью сорок первого записался на курсы военных переводчиков при Военном институте иностранных языков. По окончании их в звании лейтенанта я попал на фронт, в апреле сорок второго года. Служил в разведотделе штаба 383-й стрелковой дивизии, которая в боях за освобождение Крыма стала называться «Феодосийской», а за взятие Берлина — «Бранденбургской».
Служил я в должности военного переводчика разведотдела, временами исполняя обязанности помощника начальника и даже начальника этого отдела. Поэтому о том, что происходило на фронте, знал не только из сообщений Совинформбюро, но и из фронтовых и армейских оперативных сводок, разведдонесений, трофейных документов, от пленных немцев, которых мне приводили. Многое нашло тогда отражение и в дневниковых записях, которые я отправлял домой, в Москву, пользуясь надежной оказией.
Впервые я перечитал записи весной сорок шестого года, когда приехал в свой первый послевоенный отпуск. Перечитал и пришел в ужас. Даже некоторых записей, попади они в чужие руки, было бы достаточно, чтобы отправить меня в места отдаленные на долгие годы. Там было много горькой правды и ни одного упоминания в позитивном контексте нашего «великого вождя». В то время это было немыслимо. Я немедленно вырезал и уничтожил многие строчки, абзацы и даже страницы. Теперь, старательно роясь в памяти, я пытаюсь восстановить утраченное с помощью сохранившихся писем и отдельных заметок.
Главное в этих записях — не конкретные исторические факты и события, они давно всем известны, а моя личная реакция на них, реакция двадцатилетнего паренька, попавшего на фронт и пытавшегося объяснить себе то, что не поддавалось тогда объяснению, а также попытка понять происходившее моих фронтовых друзей и товарищей, реакция пленных немцев, которых мне приходилось не только официально допрашивать, а часто разговаривать с ними по-человечески, по-товарищески. Мне довелось прочитать немало трофейных дневников и писем, в которых нередко можно было найти похожие мысли, наблюдения, пожелания и прогнозы.
Солдатский дневник (Военные страницы)
1941 год
22.06.41.
Сижу дома, готовлюсь к экзамену по истории. Родители на даче с моим братом. Тишина и покой. И вдруг по радио: «В 12.15 началась война…». Сволочи, наглые звери, они уже сегодня утром бомбили Киев, Севастополь, другие наши города! Сейчас выступает Молотов. Запомнились его последние слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Да, на нас они зубы свои сломают. Как все неожиданно, но у меня все эти дни было какое-то предчувствие, что на днях будет война. И все же неожиданно.
Потом пришел мой школьный друг Артур, и мы пошли с ним на Арбат делать необходимые покупки. Купили соли, спичек, сахара. Везде длиннющие очереди, на улицах полно людей. Что-то будет… Все время думаю о своем самом близком школьном друге, Вовке Галюке, который еще с осени тридцать девятого служит на Черноморском флоте. Сейчас он где-то под Севастополем.
По радио объявили, что введено «угрожающее положение», теперь и под Москвой можно ждать немца.
Но все-таки у меня завтра экзамен, надо зубриться. К вечеру вернулись родители. Лёня, мой младший братишка, остался на даче с домработницей. На улицах погасили фонари. Затемнение. Это новое слово, придется к нему привыкать. По радио предупредили: если в комнатах горит свет, необходимо закрывать окна изнутри занавесками, покрывалами, одеялами, чтобы свет наружу не проникал.
24.06.41.
Сегодня было первое, так сказать, боевое крещение. Около четырех утра со стороны Потылихи вылетело около трех десятков самолетов. Летели они спокойно и уверенно, как к себе домой. Несмотря на сплошную завесу огня из зениток и пулеметов, ни один на наших глазах не был сбит, хотя стрельба продолжалась минут двадцать. Мы даже подумали, что это учебный полет наших эскадрилий. Официальных сообщений об этом пока еще нет. Во всяком случае, ощущение не из приятных.
Вчера обстановка в Москве стала спокойней, на улицах меньше народу, сократились очереди. Появилось много людей в противогазах, штатских.
В кино идут наши старые фильмы — «Профессор Мамлок», «Семья Оппенгейм», «Александр Невский». В газетах и по радио теперь восхваляют, превозносят их военные успехи.
Вчера сдал историю, получил «пять». Был у Вовкиной мамы, она очень волнуется за него. Где-то он сейчас. А где мои одноклассники, ныне студенты Геолого-разведочного, МИИТа?
Скорей бы уничтожить эту нечисть. Как только закончится сессия, нас всех куда-нибудь мобилизуют. В институте создают дружины медсестер, юношей старших возрастов мобилизуют в армию. Многие записываются добровольцами.
Только что передали, что утренняя тревога была учебной, самолеты, столь нахально летавшие над Москвой, были нашими.
Настроение у меня спокойное, только чертовски досадно, что «их» так медленно гонят, «эти» сволочи уже заняли три наших города.
26.06.41.
Вчера сдал последний экзамен, но как-то не чувствуется, что сессия окончилась. Послезавтра под моим «командованием» вся наша группа выезжает на работу в подмосковный совхоз. Всех куда-нибудь направляют — на завод, на фабрики, в госпитали, а нас — в совхоз.
Получил письмо от Вовки, посланное 22 июня. Пишет, что видел, как немцы бомбили Севастополь и как падал в море сбитый немецкий бомбардировщик… Вчера провожали нашего одноклассника Витьку Миркиса на фронт. Настроение у всех было бодрое, но тревожное.
Немцы все еще наступают и довольно быстро.
9.07.41.
Вот уже больше недели нахожусь в совхозе «Тарасково» под Каширой. Целый день работаем в поле. Первое время трудно было переносить жару, но теперь привык. Народ в нашей команде хороший, дружный, есть, правда, любители курортной жизни, но мы их быстро приводим в порядок. Вчера отправили обратно в Москву трех человек.
Беспокоит отсутствие вестей из дома. Постараюсь вырваться на денек в Москву, разузнать, как там все. Несмотря на нашу глушь, здесь уже было несколько воздушных тревог. Ходят слухи о «неизвестных с револьверами». Мы тут тоже поймали одного «диверсанта», но при ближайшем рассмотрении он оказался своим.
Вчера был у нас корреспондент «Учительской газеты», интересовался, как мы тут живем, работаем. Обещал написать о нас очерк в свою газету, так что мы теперь тоже войдем в историю.
У нас есть одна очень хорошая девочка, которая мне нравится. Но пока это не главное в моей жизни.
Сегодня опоздал на работу: шла носом кровь. Еле остановили, но со мной это бывает. Говорят, вечером устроят баню, хорошо бы. Помыться очень не мешает.
16.07.41.
Уже прошло полмесяца, как мы сюда попали. Работаем с утра до вечера, но уже привыкли. Только вот кормят плоховато. Почти каждый день мне приходится ругаться из-за этого с директором, грозить московским начальством.
Вчера задержали тут какого-то подозрительного типа. Ходил и расспрашивал, сколько человек в совхозе мобилизовали, сколько мужчин еще осталось и т. д. и т. п. Я и один совхозный паренек отвели его в дирекцию совхоза, а оттуда его под охраной двух рабочих отправили в Каширу.
Нет вестей из дома. Я тут командировал в Москву одного нашего мифлийца, чтобы он все разузнал, а он там загулял и до сих пор не вернулся. Беспокоит молчание Вовки. У него вчера был день рождения, как-то и где он его встретил… Нет вестей от Артура и от моей подружки, одноклассницы Машеньки, которую мои друзья зовут Мэри. Мечтаю о кружке холодного пива и чашке домашнего чая.
18.07.41.
Вчера у меня было какое-то странное и тяжелое состояние. Беспокоился, не случилось ли чего с Вовкой, с Мэри. Основания для этого, увы, есть. Дома, слава Богу, все в порядке, Леня на даче, мама часто остается с ним.
На фронте появилось «Смоленское направление». Плачевная новость.
21.07.41.
Настроение улучшилось. Девушка, которая мне здесь понравилась, нравится теперь еще больше. Зовут ее Нина. Сегодня она уехала в Москву. Я попросил ее зайти ко мне домой, тем более что живет она совсем рядом, у бабушки. Родители где-то в местах отдаленных.
1.08.41.
Завтра будет уже месяц, как мы находимся здесь, в нашем благословенном Тараскове. Привыкли мы к нему все, даже дома в Москве не чувствуем себя так уютно, как здесь. Впрочем, в Москве сейчас мудрено так себя чувствовать. Вчера я был дома и стал свидетелем ночной тревоги. Да, это не то что наблюдать за вспышками на далеком горизонте! К счастью, разрушений в городе не много. Жаль, что пострадал театр им. Вахтангова.
Дома все в порядке. Артур в Москве каждый день ждет призывной повестки в армию. Если повестки не будет, договорились, что он приедет к нам в совхоз. Мэри уехала в Свердловск. Обидно за нее, напрасно уехала, в Москву немцы не войдут! Артур прямо вне себя, я его хорошо понимаю. От Вовки пришло письмо от 9 июля. Жив, здоров, где он сейчас, одному Аллаху известно. Леха Постный, школьный приятель, на даче.
Мои попытки полакомиться традиционным пирожным в «Автомате» на Дзержинке оказались напрасными. Угостился мороженым в «Арктике», очень уж малосладким.
Сделав все дела, я на всех парах помчался к своим тарасковским пенатам, к Нине. Я за эти дни полюбил ее еще больше, хорошая она девчонка.
5.08.41.
Время идет своим чередом. Каждую ночь прилетают «гости». Но нас не бомбят. По ночам дежурю в пожарке. Работа идет теперь гораздо лучше, почти каждый день перевыполняю норму, а вечером иду гулять с Ниной. Это самые лучшие и светлые часы.
Приезжал вчера директор треста. Теперь нам стали давать молоко и овощи…
18.08.41.
Немцы заняли Смоленск, они уже в четырехстах километрах от Москвы. Вот результаты нашего словоблудия, подкрашенного розовой водичкой. Теперь я почти уверен, что скоро нам придется в темпе перебираться на восток. У нас здесь все в порядке, только настроение у большинства очень подавленное.
Обещал приехать Артур, но что-то задерживается. А теперь, может, и вовсе не приедет. Как хорошо, что здесь есть такая замечательная девушка — Нина. Невольно вспоминаю Загорянку, знакомство с Мэри. У них есть что-то общее, но еще никто из девушек не относился ко мне так тепло, но в то же время с такой суровой дружеской требовательностью, как Нина.
Я вспомнил одну девушку, с которой познакомился в Загорянке, дочь бывшего «латышского стрелка». Ее звали Дагмара, она была года на три старше меня, студентка МГУ, восторженная поклонница Сталина. Поклонение это она унаследовала от своего отца, который работал у Сталина еще в первые годы советской власти. Помню, что у них на даче и в московской квартире было полно портретов и фотографий Сталина, причем многие с его дарственными надписями. Я влюбился в эту Дагмару, попал под ее влияние и вскоре к ужасу моих родителей купил большую фотографию Сталина и прикрепил ее над моим письменным столом.
Шел тридцать восьмой год. В конце года отец Дагмары, как и многие бывшие «латышские стрелки», был арестован и расстрелян, а вскоре Дагмара и ее мать были высланы из Москвы, и они навсегда исчезли в «сибирских просторах».
Портрет я изорвал в мелкие клочья и осторожно, чтобы ничего не заметили соседи, спустил в унитаз.
22.08.41.
Сегодня ночью был первый крупный воздушный налет на наше Подмосковье. А над Москвой виднелось зарево и разрывы зенитных снарядов. Как там все, как дома?
Приехала Нина, рассказывала, что творится в Москве, на улицах и на вокзалах — прямо волосы дыбом. Молочную нашу на Зубовской разбомбили, на Смоленской тоже много домов разрушено. Мой дом пока в порядке, обсыпают его зажигательными бомбами, но дежурные, в основном из наших жильцов, нейтрализуют их в ящиках с песком.
24.08.41.
Второй день я в Москве, приехал вместе с Ниной за стипендией. На фронте дела неважные: взяли Николаев, Кривой Рог, Первомайск и Кировоград. Сегодня в газетах опубликовано обращение к жителям Ленинграда с призывом, всем встать на защиту города. Да, дела, дела… У нас в Кашире «они» летают как у себя дома, бросают листовки — «пропуска в плен» и т. п. Мишка рассказывал, что над их деревней сбрасывали плитки шоколада. Вот как у немца агитация поставлена!
10.09.41.
Несколько дней я в Москве. Прощай Тарасково! Главный подарок, который я там получил, — это Нина. Я чувствую, что с каждым днем люблю ее все больше. Иногда она делается какой-то странной, не такой, как в совхозе. Часто производит впечатление человека, который свои глубокие и нелегкие мысли пытается скрыть под радостной детской наивностью. Ничего, если это так. Страшно, если радостная наивность превращается в такой вид оптимизма, который называется «куриным». Но я верю, что это не так, поэтому не боюсь за нее.
Институт наш перевели на Погодинку. Знакомые места. А на прежнем месте сделали военный госпиталь. Говорят, что на Погодинке мы ненадолго. Отправят нас в Ашхабад или еще куда-нибудь в Среднюю Азию. Но я бы не мог сейчас туда уехать, даже с моим «белым билетом». Ведь немцы все ближе и ближе к Москве…
А пока болезненно хочу света. Когда наконец осветятся московские улицы, заиграют окна магазинов яркостью своих витрин! Когда можно будет совершить нашу традиционную прогулку по Кремлевской набережной, через Красную площадь, мимо аптеки «Ферейн», к кафе «Автомат» за традиционным пирожным — Наполеон. А пока хотя бы немножко света, хотя бы крошечных фонариков, узкой светлой полосой уходящих в даль Садовых…
24.09.41.
На днях в Институт приезжали представители Военного института иностранных языков, выясняли, кто и в какой степени владеет немецким языком, предлагали поступить на курсы военных переводчиков при этом институте. С немецким у меня были давние, прочные отношения. В детские годы со мной занималась учительница-немка, и я мог вести по-немецки несложные домашние разговоры. Тогда же меня часто вывозили на лето в Крым, в Судак, где родители снимали комнату в доме местных немцев. В школе немецкий язык считался предметом второстепенным, и я его основательно подзабыл, и только поступив в ИФЛИ, я стал опять серьезно заниматься немецким, который стал одним из любимых мною предметов. И не только мною: в нашу молодую преподавательницу О. Н. Филиппову дружно влюбилась тогда вся мужская половина нашего курса. К концу второго семестра мы уже разговаривали по-немецки почти свободно.
Я посоветовался с моими друзьями и родителями. Отец подумал несколько минут, а потом спросил:
— А евреи записываются? И лишь после того, как я выяснил, что многие студенты-евреи уже записались, отец дал мне свое благословение, и я подал заявление на курсы.
5.10.41.
И вот опять я солдат. Опять я маленький винтик в огромной скрипучей и несмазанной машине, называемой Армией. Правда, пока еще солдат в штатском. Короче говоря, меня зачислили на курсы военных переводчиков. Пройдет время занятий, и я поеду на фронт вести приятные беседы с пленными. Видно не судьба мне закончить ИФЛИ. Ну, да может, все это к лучшему. Я верю в свою Судьбу и в то, что она меня не обманет, определив мое место. Кто знает, может быть, мне еще придется побывать в Европе, даже в самом Берлине.
А сейчас вспоминается время моей военной службы по призыву, мой 629-й стрелковый полк, где я служил армейским почтальоном, вспоминаю штаб нашей дивизии, может быть, в таком же придется мне скоро занять место военного переводчика. Вспоминаю последнее лето, оно было жаркое, душное. Вот я медленно бреду между деревьями, попирая своими коваными сапогами нежную молодую травку, цветы, ловлю ящериц. А вечерами возвращаюсь в свое «почтовое отделение» — небольшой сарайчик в две комнатки и туалет. Рядом конюшня. И никакого начальства. Каждое утро езжу на почту, отвожу письма однополчан, привожу письма и посылки. Причем в штаб, в санчасть, в столовую разношу их сам, за это обеды получаю лучше, чем комполка. А вечером в мой сарайчик доносятся звуки какого-то печального танго. И все мысли мои в Москве. Да, в мирное время лучшей должности, чем полковой почтальон в армии, нет.
Нет, не гожусь я к военной жизни, но, видно, придется привыкать. Недаром мне в детстве одна старушка нагадала, что я буду генералом.
А Нинка… Кажется, я не смогу пробыть без нее и одного дня. Но ведь это только так говорится «не смогу». Человек все может. Но неужели, когда я вернусь, ее взгляд будет уже чужим и холодным? Неужели мне второй раз суждено испытать это… Но не нужно так мрачно думать, она меня любит. И вообще, сейчас не время об этом. Кто знает, может быть мне… Но не верю, не верю, мы еще будем «жить и жить, сквозь годы мчась»!
21.10.41.
Сегодня с утра отправился в Южный порт. Провожала меня только Нина. С родителями и Лёней попрощался дома. Когда-то теперь увидимся…
Нас уже ждал большой белый пароход «Карл Либкнехт». Сначала погрузили курсантов в военной форме и офицеров. Им предоставили каюты на 1 и 2 палубах, предупредив, чтобы они в военной форме не появлялись на палубах. Нас, еще не обмундированных, разместили в верхних каютах. По особой команде мы должны будем выходить на палубу и изображать из себя гражданских беженцев.
Куда мы плывем, никто из нас не знает. Думаю, через пару дней мы раскроем этот страшный секрет.
5.11.41.
Вот уже больше недели мы в Ставрополе. Здесь сейчас наш Военный институт и еще какие-то гражданские институты и техникумы. Сейчас сижу на занятии по практике языка. Настроение ужасное. Из Москвы ничего нет, полная неизвестность. А радио вещает о почти ежедневных ночных и дневных воздушных налетах и «некотором количестве жертв». Некоторое количество! Хоть бы одно слово из дома! От Нинки!
Сейчас будем переселяться из нашего мало-мальски приличного общежития в какое-то отверстие — без кроватей и матрацев! Опять вшей кормить будем. Странные вещи творятся в нашем вселенском бардаке: в Москве студентов выбрасывали из общежитий, чтобы разместить военных, а здесь выбрасывают слушателей военных курсов, которые через пару месяцев пойдут на фронт, чтобы вселить студентов. Таковы порядки. Нашего бы генерала заставить недельку поваляться на холодном полу в комнате, где через щели в потолке видно небо, тогда, может быть, он подумал бы и о нас.
Очень хочется сладкого. За стакан чая с горячим пирожком с вареньем отдал бы что угодно. Да, когда-то мне посчастливится снова пить чай с пирожками…
6.11.41.
Переехали, холод собачий. О простынях придется пока забыть до лучших времен. Говорят, что скоро нас переведут в более человеческие условия, хотя на это нельзя надеяться.
Когда сюда перебрались, я сел на голую кровать, поежился от холода, потом достал кусочек шоколада и съел с хлебом. Сразу стало легче. Вот только вшей боюсь. А при таких условиях, когда нельзя раздеться, им полный разгул.
Болезненно хочется сладкого. Я теперь не представляю, что было такое время, когда я ел мороженое, мед, варенье, пил какао и сладкий чай. Но я верю, что это не навсегда исчезло. Вообще-то, если подумать, то все это пустяки в общем комплексе жизни. Но все-таки, все-таки…
Теперь уже ходим в военной форме. Поем песню, которую сочинил один наш курсант Има Левин:
Шагает наш молодчик, Военный переводчик, И он, и он Совсем не обучен…Как только ложусь спать, думаю о Москве, о Нинке. Но сегодня нужно будет думать о том, чтобы не замерзнуть, ибо холод у нас такой, что даже в шинели долго не просидишь. Ну, да ничего, как-нибудь переживем.
8.11.41.
Праздники. Прошли они так: вчера встали мы в четыре тридцать утра и отправились на нефтепромысел. Целый день рыли траншеи для нефтетруб. Погода была ужасная, пронизывающий ветер со снегом. Потом было праздничное угощение: картошка, селедка, белый хлеб и, самое главное, — сладкий чай. Я выпил больше шести стаканов. Удивляюсь, как в меня все это влезло. Правда, организовано все это было по-нашенски: за четырехместным столом было поставлено десять порций праздничного угощения. Наши ребята, стоя, жадно набивали рты картошкой, рвали руками селедку и, захлебываясь, пили чай. Среди них был, как говорится, и автор этих строк.
Вечером в ожидании переправы около трех часов стояли на берегу Волги. Шел снег и дул резкий ветер. Постояв, отправились обратно в столовую, где нам предложили переночевать. Я ухитрился устроиться в бараке и даже спал на кровати. С вечера было тепло, но к утру я здорово промерз.
Кажется, я никогда не мерз так, как вчера и сегодня. Если не заболею, сочту за чудо. Вчера получил огромный подарок: телеграмму из дома от 5 ноября. Все здоровы, все в порядке. Только от Нины ничего.
9.11.41.
Сегодня прочел доклад Сталина. Скорей бы наступил этот «переломный момент». А то немцы уже под Симферополем. Сволочи-немцы разбомбили Большой театр и университет! Как обидно, черт побери! Что вообще в Москве теперь делается, хотя бы на денек там оказаться! Когда я снова, Москва, тебя увижу, пройду по своим любимым переулкам, по набережной, по Красной площади, когда я снова увижу улицу Горького, побываю в Художественном театре. О, сто дьяволов и одна ведьма! Как гнусно сейчас сидеть здесь, в этом паскудном отверстии!
Что-то у меня с ногой, распухла и воспалилась, может быть, от холода, говорят, бывает. Сейчас перебрался в местный парткабинет. Здесь тепло и уютно. По радио звучит музыка — Шопен. Давно я не слышал музыки. А за окном ревет ветер, грохочет по крыше оторванный лист железа, бьет в окна мокрый с дождем снег. Хорошо бы у нас в общежитии опять протопили печку, а то сидеть там в шинели и щелкать зубами от холода не очень приятно…
Сегодня ночью мне приснился Юрка, мой двоюродный брат: худой-худой, маленький какой-то. (Слова проклятий тем, кто, сломал ему жизнь, позднее были вычеркнуты мною из текста.)
13.11.41.
Война докатилась и до нашего отверстия: с сегодняшнего вечера вводится затемнение. И так заниматься было неуютно, а теперь еще хуже будет. Ну, да как-нибудь перекурим. Нога моя, которая уже больше недели гноилась и опухала, вроде стала получше. Это наш военфельдшер меня исцелила. Симпатичная женщина, не то что санаторные врачи.
16.11.41.
Сегодня первый выходной, когда нас никто не теребил. Немножко отдохнул. Ходят слухи, что пришла почта. Скорей бы хоть одно письмо из Москвы от мамы, от Нины…
Вечером устроили мы пиршество: вареная картошка в мундире. Замечательная вещь! Хотим на днях сварить пшенную молочную кашу с тыквой. Очень хочется каши. Тут в столовой несколько раз давали кашу, но мне не доставалось.
17.11.41.
Наконец-то получил открытку из Москвы. Дома пока все благополучно. Исторический музей, где сейчас работает отец, хотят эвакуировать из Москвы числа 20-го. Тогда в доме будет полная неразбериха. Нинка уехала с нашим институтом в Ашхабад. Когда-то теперь связь наладится? Группу студентов нашего института уже дипломировали и отправили на Западный фронт. Там решат, кого в какую армию, а может быть, и за линию фронта.
26.11.41.
Время идет своим чередом. Изучаем армию противника, особенности его языка. Преподаватели у нас хорошие. Если бы было время да более подходящие условия, можно было бы многому научиться. Срок нашего отъезда, по слухам, через один-два месяца, хорошо, если продержимся здесь до Нового года. Из дома что-то давно ничего нет. Получил зато письма от школьных подружек — Мэри и Маргариты, Марго. Чувствую себя хорошо, только нога, сволочь, не заживает. Надоела она мне до чертиков.
3.12.41.
Наконец-то получил записку от Нины. Она в Муроме, едет в Ташкент через Куйбышев. Когда-то теперь увидимся. Да что там увидимся, хоть бы связь какую наладить. Мама дала телеграмму, что посылку из Москвы выслать пока нельзя. Что поделаешь, зато не буду беспокоиться, что уеду до ее получения. Когда отчалим, неизвестно, вероятно, к Новому году. Эх, послали бы через Москву! Вот счастье было бы! Ужасно скучаю по своей родной Москве. Неужели эти сволочи-немцы будут топтать своими сапогами наши московские улицы! Нет, нельзя себе это даже представить.
7.12.41.
Вчера и сегодня уехали еще две группы наших курсантов. В Куйбышев. А оттуда на фронт, какой — неизвестно. Сейчас сижу возле своей кровати. Вечереет. В соседней комнате играет патефон. Старые знакомые пластинки. Вспомнилась наша дача в Загорянке, терраска, Мэри… Хорошо, что у нас наладилась переписка.
11.12.41.
Наших погнали на работу, а я со своей ногой сижу дома. Читаю какую-то старую хрестоматию. Замечательные народные песни, стихи. Так грустно стало. Был бы я сейчас в Москве, сидел бы в литкабинете, копался в книгах. Черт бы побрал эту войну, когда она только кончится!
13.12.41.
Последние дни радио передает весьма утешительные сводки, а сегодня даже просто радостную: от Москвы гонят немцев на запад с огромными для них потерями. Они, сволочи, оказывается, уже были в Истре. Теперь нажать бы на них посильнее, глядишь, осенью мы бы имели возможность пить чай у себя дома. Завтра выходной. Нужно сходить утром на базар, — промыслить чего-нибудь.
А сейчас пришел из корпуса: воровал дрова. Лазил какими-то задворками по пояс в снегу. Ноги все промочил, но зато приволок целое бревно, выше меня ростом. Наши все ушли в баню, а я сижу со своей ногой. Она все еще болит, гноится и т. п. Я уже начинаю впадать в полное уныние. Хоть бы до отъезда успели меня маленько подлечить.
А сейчас я, пожалуй, лягу спать. Очень хочется кусок сливочного торта. Как приеду в Куйбышев, первый рейс — в кондитерскую.
17.12.41.
Положение на фронтах улучшилось. Наши освободили Калинин и еще некоторые города на юго-западе. Сижу сегодня дома. Должны были меня отправить в санчасть, но врач не приехал, так что я пока на свободе. Но нога, сволочь, болит все сильнее. Боюсь, что эта пакость будет распространяться дальше. Скорей бы вылечиться, а то потом времени не будет. Врачи велели мне есть больше витаминов. Но я и так пью каждый день пол-литра молока и ем сырую луковицу. Куда уж, кажется, больше. Да еще капли какие-то.
Получил письма из дома, а от Нинки — ничего. Где-то она сейчас, моя родная.
20.12.41.
Получил пять писем от Нинки. Ура! Ура! Эх, что бы я сейчас отдан, чтобы повидаться с ней хоть пять минут! По неофициальным источникам наш выпуск намечен на 2 января. Числа десятого будем в Куйбышеве, а там куда судьба забросит. Я верю, что моя судьба будет хорошая и позаботится обо мне как всегда. Двадцать восьмого декабря я торжественно отпраздную ее день.
Дома пока все в порядке. Скучаю очень, но что ж поделаешь, обстоятельства сильнее нас.
23.12.41.
Лежу в санчасти. Везет мне, черт подери, как утопленнику. Скоро уезжать, а я все со своей ногой. Получил сегодня письмо от Сони, моей одноклассницы. Не узнав толком о причинах моего отъезда из Москвы, она упрекает меня в трусости, малодушии и прочих «достойных» качествах. Но я рад, что она этим возмущается. Хорош бы я был, если бы в самом деле убежал из Москвы в эти трудные для нее дни.
Холод в этой санчасти жуткий, больные все разбежались. Я бы тоже с удовольствием умотал отсюда, да лень барахло опять перетаскивать с места на место. Бог даст, может, затопят, тогда потеплее будет… А нога, подлая, дергает и болит. И холод просто невыносим. Сейчас пойду в коридор, погреюсь, поучу новые слова и лягу спать.
27.12.41.
Убежал из санчасти, уж очень там холодно. Но моя подлая нога все еще болит. Завтра опять уезжает 45 человек. Когда же придет наша очередь?! Может, улыбнется счастье на несколько дней попасть в Москву. От Нины уже несколько дней нет никаких вестей. Послал ей перевод, но ведь пока дойдет — долгая история. Из дома тоже ничего нет. Завтра будет почта, должно же и для меня что-то прийти.
28.12.41.
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ, день моей судьбы, но пока что-то ничего радостного он мне не принес. Писем пока нет. Правда, вчера нам выдали белый хлеб, так сказать, давно забытый пищевой продукт. Сегодня полакомимся. Но все это ерунда и не суть.
Между прочим, если подумать хорошенько, то впереди ничего лучше того, что мы имели в нашем отверстии, нас не ждет, но все-таки неудержимо тянет уехать отсюда. Заниматься нет никакого настроения и желания. Даже читать не хочется.
31.12.41.
Где и как только не приходилось встречать Новый год. Сейчас сижу у себя в комнате, только что пришел из бани, замечательно помылся. Боюсь только за ногу, не загрязнить бы ее.
Начальство наше решило проявить о нас трогательную заботу и распорядилось всех курсантов в обязательном порядке отправить для встречи Нового года в санаторий. Но у меня, к счастью, есть медицинское освобождение, и я могу сейчас спокойно лечь спать. Буду видеть во сне свою любимую, больше мне ничего и не надо.
Что-то принесет мне этот новый, сорок второй, год. Обычно четные годы не были для меня особенно благоприятны. Но будем надеяться, что к осени я уже буду дома, в своей родной Москве… Да, мечты, мечты…
Ну а сейчас ложусь спать. Самые горячие новогодние поздравления шлю домой, Нинке, Вовке, Артуру и всем нашим славным членам 10 «Б», где бы они ни находились. Придет время, мы снова соберемся вместе, устроим нашу традиционную елку и провозгласим наш первый традиционный тост: «За прогресс!»
1942 год
2.01.42.
Завтра наш выпускной вечер. Наконец-то! Только нога, подлая, болит как никогда. Вчера и сегодня весь день спал. Врач сегодня осмотрел мою ногу и утешил меня, сказав, что при правильном лечении все могло бы пройти за пять-десять дней. Да, черт возьми, скоро будет три месяца, как я не снимаю повязки. Десять врачей меня лечили, и никто не мог вылечить. Как я поеду, не представляю, но чертовски хочется и как можно скорее.
4.01.42.
Наконец вчера был выпускной вечер. Длинные столы были уставлены тарелками и стаканами, генерал произнес очень хорошую речь, словом, все как положено. Восьмого числа я должен ехать на фронт, на юг. Фронт хороший, теплый. Жаль только, что не удастся попасть в Москву. Ну да ничего, придет время, побываем и в Москве.
Прослушали вчера и сегодня напутственные лекции генерала. В нашей будущей профессии не должно быть никаких ссылок на мораль, прямоту, порядочность и тому подобные принципы, которые хороши только в их абстрактном значении. Для меня это не было чем-то новым или противоречащим моим собственным убеждениям. Я давно считал, что цель оправдывает средства. Вот Нинке моей эти откровения пришлись бы не по нутру. Так что хорошо, что она не поступила на эти курсы.
6.01.42.
Нога все болит и болит, хромаю, как фавн. По всей видимости, восьмого не уеду. О, тысяча дьяволов!
Получил вчера письмо от Нинки, она уже в Ашхабаде. Слава Богу, теперь за нее спокоен. И вчера же получил потрясающее известие: Артур эвакуировался в Башкирию. Бежать из Москвы в эти трудные дни! Вряд ли можно подобрать соответствующее этому поступку слово. После всех разговоров, которые мы с ним вели на эту тему. Не могу в это поверить. Впрочем, может у него было, как у меня, ведь и обо мне ходили такие же слухи.
9.01.42.
Вчера уехала моя группа. Проводил Бочарова, Шаховича и всех наших. Когда же меня вывезет отсюда кривая? Вчера было у меня все начальство. Решили направить меня в куйбышевский госпиталь, обещали дать валенки и все такое прочее. Дай-то Бог, а то здесь совсем загнуться можно от тоски и голода, ведь в столовой почти ничем не кормят, даже хлеба не дают. Я питаюсь преимущественно луком и сухарями.
12.01.42.
Слава тебе, Господи, отбыл. Сейчас еду на санях вниз по матушке-Волге. Изумительно красиво и величественно! С одной стороны Жигули, поросшие лесом и покрытые мохнатым снегом, а с другой — бесконечная белая равнина. Ночевали в одном селе. Как приятно после долгого пребывания на холодном ветру посидеть у горячей печки за стаканом чая.
В эту минуту сижу в избе, в селе Ширяево (приятное сердцу название, напоминающее Ширяево поле рядом с нашим Институтом), готовлюсь лечь спать, ибо выедем мы отсюда ночью. В Куйбышеве пойду в госпиталь, дали направление. Постараюсь сходить в театр, в кино и еще куда-нибудь. Как хорошо, что я еду отдельно ото всех, без начальства. Еду на Южный фронт, в Каменск под Ростовом-на-Дону.
14.01.42.
Я в Куйбышеве. Нахожусь в госпитале, куда вчера меня положили. Едва сюда добрался, так скверно себя чувствовал. К ноющей ноге прибавился еще живот, голова кружилась, и я едва передвигал ноги. Ходил по городу в поисках пищи. По дороге видел людей, тащивших откуда-то бублики и белые булки, но все магазины пусты, а там, где было что-то, стояли такие очереди, что я не решился даже близко подойти. Ни в одну столовую меня не пустили, несмотря на мое фронтовое свидетельство. Вообще, отношение к военным здесь паскудное. При мне вожатая трамвая чуть не сбросила на улицу одного раненого командира, который пытался войти через переднюю площадку.
Ходил я так, ходил, пока не встретил наших — Бочарова и других. Они меня подкормили печеньем, конфетами и даже угостили половинкой пирожного.
Сколько я пробуду в этом госпитале, никому не известно. Вероятно, не так просто отсюда выбраться. И как поддерживать связь с Москвой, Ниной, не знаю. Да еще мое зимнее гражданское барахло беспокоит: я сдал его на хранение в Дом крестьянина, боюсь, как бы его не сперли.
17.01.42.
Медленно ползут дни, скука одолевает жуткая. Хорошо, что последние дни вечерами было кино. Кормят тут скверно, мало и невкусно. Постоянное ощущение голода. И это в военном госпитале! Нет, бежать отсюда ко всем чертям! Лечат меня хлорированным углем, вроде помогает. Средство это новое, так что я здесь в роли подопытного кролика.
Эх, попасть бы сейчас в Москву! Как я соскучился по дому! Где-то сейчас мой Вовка? Когда получу от него хоть какую весточку. Вспомнил я наше старое доброе время, наш 10 «Б», как ходили мы в «Автомат», как выпускали газету. А наши вечера… традиционные елки, встречи Нового года…
Когда же кончится эта война! Двигаемся вперед мы медленно, а как весной будет? Ведь нужно хлеб сеять, картошку сажать. На старых запасах далеко не уедешь. Картошка уже по 40 рублей ведро, а с каждой неделей будет все дорожу. Как-то там мама и все наши? Туго им приходится. Скорей бы получить деньги, пошлю тогда сколько-нибудь. А как моя Нинка… Да, черт побери, трудное сейчас время.
Читаю сейчас Гейне. Какие замечательные стихи! У меня с собой его маленький сборничек, еще из Москвы взял.
21.01.42.
Дела у меня ничего, может, скоро выпишут. Скорей бы! Здесь холод собачий, не лучше, чем в нашей ставропольской санчасти. Да и кормят паршиво. Читаю все, что попадет под руку. Очень понравился рассказ Лавренева «Чертеж Архимеда», хотя, если хорошенько подумать, вроде нет в нем ничего особенного, но, когда читаешь, восхищаешься большим мастерством автора.
А сейчас читаю литературные заметки Пушкина. Я прочитал их впервые два года назад. Какая блестящая публицистика, какая глубина мысли! Ирония Пушкина всегда величественно благородна, без крикливой раздражительности Много интересных наблюдений:
«Однообразность в писателе доказывает односторонность ума, хоть, может быть, и глубокомысленного», или: «Есть два рода бессмысленности: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами, другая — от полноты чувств и мыслей, но недостатка слов для их выражения».
22.01.42.
Холод здесь собачий — 7–8 градусов, а на улице минус сорок. Чтобы как-то согреться, целый день сплю, даже бока болят. На днях по радио, если не ослышался, выступал Долматовский. А ведь его считали погибшим. Как хорошо, если это действительно он выступал. Талантливый поэт, от него многого можно ждать. У меня с собой книжечка его стихов, привезенная из Москвы.
25.01.42.
Сегодня температура в палате упала до рекордной цифры: 6 градусов. Приходится все время лежать в постели, укрывшись всем, что попадает под руку. О, сто дьяволов, долго ли они будут морить нас холодом!?
Читаю сейчас «Избранные места из переписки с друзьями». Какая жуть! Даже нельзя себе представить, что это писал Гоголь. Сколько ханжества, пресмыкательства, что и читать противно. Имеющиеся блестки мысли (особенно в статье об особенностях русской поэзии) тонут в мутной пене самых диких откровений.
Скорей бы выписывали, нет сил лежать в этом бардаке. Белье постельное не меняют, кормят сверхскверно, словом, полный кошмар!
28.01.42.
Последние запасы моего терпения истощаются. До чего же здесь бардак! Ходят разные комиссии, что-то проверяют. Сплошная комедия. Хорошо, что хоть малость подтопили, а то бы совсем окоченели. Нога болит, опять ухудшение. От бешенства готов перекусать всех врачей или оторвать эту чертову ногу! Впрочем, отрывать жалко, еще пригодится.
Вчера был в кинозале. Смотрел «Девушку с характером». Хоть там нет малейших следов даже самой примитивной художественной логики, все-таки посмотрел на свою Москву. Я бы сейчас с громадным удовольствием посмотрел «Подкидыша», по той же причине. Перевели меня на санаторный стол. Спохватились, сволочи. Лучше поздно, чем никогда.
На юге наши вперед продвинулись. И вообще, пока я туда доберусь, там уже весна будет.
31.01.42.
Последний день января, не хуже и не лучше остальных. Правда, теперь каждый вечер можно смотреть кино. Сегодня была «Бесприданница». Какая изумительная вещь! Который раз я ее смотрю и каждый раз с восторгом. А то эти «ура-картины» из серии «и в воде мы не тонем, и в огне не горим», всякие «Танкисты», «В тылу врага» и им подобные, которыми нас усердно потчуют, чертовски надоели.
Вообще, надоело здесь несказанно. Теперь даже санаторный стол не радует. Нога все ноет и ноет. Врач утверждает, что к понедельнику все пройдет, но я уже четыре месяца слышу подобные заверения.
Хочется написать какое-нибудь стихотворение, но что-то не сочиняется. Письма из Ставрополя мне не переслали. Очень волнуюсь о доме. Уже больше месяца я не знаю, как там у них дела.
ИФЛИ начинает занятия в Ашхабаде 2 февраля. Да, когда мне снова повезет сесть за книгу? Скучаю по русскому языку. С каким наслаждением взялся бы сейчас за Пешковского, Шахматова, даже Федоруком бы не погнушался. Но, как сказал Брюсов: «Сломай свой циркуль геометра… и т. д.» Придет и мое время.
А вдруг меня убьют? Как-то не могу себе даже представить, что меня могут убить. Нет, нельзя… Я хочу жить, работать, учиться, любить…
1.02.42.
Много думал об Артуре. Я давно уже не верю, что он «эвакурнулся» в башкирский совхоз. Ведь и Нинка мне писала, что он ушел в военный батальон. Я раскаиваюсь в своем письме, но оно было вызвано соответствующей обстановкой. А если это правда? Нет, этого не может быть. Скорей бы наладить с ним связь и узнать, где он и как. Неужели эта война отнимет у меня самых дорогих друзей? Вовка, Артур… Двенадцать лет мы были вместе, сколько хорошего дала мне эта дружба. Разве можно забыть наши загородные поездки с Артуром в Подрезково, в Загорянку… А наши бесконечные разговоры долгими зимними вечерами, наши весенние прогулки по ночной Москве… А первый месяц войны? Каждое утро после ночной бомбежки первый звонок Артуру: «Жив, старик? — Жив». Да, что говорить, вся моя жизнь, все мои радости, горе и неудачи со мной были друзья, всегда в тяжелую минуту я имел дружескую поддержку и необходимый умный совет.
Сегодня после долгого перерыва сел за шахматную доску и к огорчению своему обнаружил, что стал туго соображать, аналитические мои способности здорово притупились. Когда же смогу вырваться из этой оцепеняющей мути, именуемой пребыванием в госпитале? Сейчас сижу в ожидании жареных пирожков, которых не ел с 7 ноября. Кино сегодня не было: старик наш опрокинул киноаппарат.
5.02.42.
Нога, как-будто, приходит в порядок. Но боюсь, как бы не сглазить. Скорей бы вырваться отсюда, может, удастся заскочить в Москву. Надежды, правда, мало, но чем черт не шутит.
6.02.42.
Наконец-то получил телеграмму от мамы. Слава Богу, все здоровы, а то я чего только не передумал. Теперь бы о Нинке узнать что-нибудь и тогда можно со спокойной душой ехать на фронт.
Сегодня почему-то ясно вспоминался наш последний комсомольский воскресник в Москве. Как хорошо тогда было работать рядом с моей любимой. А потом мы сидели в садике и с аппетитом поедали огурцы, хлеб и сыр — наш трудовой завтрак. И он же обед. С ней все легко было! Разве я болел бы так долго, если бы она была рядом?!
У нас в палате есть один пациент, молодой рабочий. Очень хороший парень, простой, открытый. Много пришлось испытать ему в жизни. С малых лет работал, пойти учиться не мог: биография не позволяла. Вспоминая свою жизнь, а ему еще только тридцать лет, он часто с горечью мне говорил: «Так вот ничего хорошего не пришлось мне повидать…»
Да, какое счастье, что я имел возможность учиться, читать все, что хотелось, заниматься в историческом кружке у профессора М. Зоркого, в литературном — у К. Зелинского. Если бы я вдруг очутился на его месте, то, наверное, повесился бы. Пусть он материально в несколько раз лучше меня обеспечен и все такое. Тут я просто ярый идеалист.
Эх, скорей бы пришла возможность учиться, учиться, учиться! Сейчас читаю очень интересную статью о влиянии творчества крепостных поэтов первой половины 19 века на фольклор и наоборот. Очень интересно. Вот замечательная тема для будущего исследования.
Прочитал первую книгу «Самгина». Если бы половину рассуждений и всякой воды выбросить, замечательная бы вещь получилась.
14.02.42.
Четыре дня не мог ничего записать. Наконец меня выписали из госпиталя. Я попал в город и был совершенно подавлен местным бардаком. Боже мой, что здесь творится на вокзале! Бесчисленные толпы людей с потными обезумевшими лицами, много ночей лишенные сна, мечутся от одного окошка к другому, от одного помощника коменданта к другому и всюду наталкиваются на бездушно-казенный ответ: ничего не могу сделать, мест нет.
Я уже совсем упал духом, и если бы не получил хорошего жилья (а жил я в пункте сбора начсостава резерва, пользовался спецбуфетом и др.), то совсем бы скукожился самым постыдным образом. Правда, талонов на обед мне не давали, продуктов на дорогу тоже не хотели дать, но я взял себя в руки.
В ночь на тринадцатое я тщательно обдумал план сегодняшнего дня и с моральной помощью моей любимой, которая устроила бы мне хорошую взбучку за мою паническую растерянность и уныние, получил талоны на обед, продукты на дорогу, получил баранки и белые булки и, самое главное, сел в поезд.
Сейчас уже больше двенадцати часов сижу в вагоне. Когда мы отправимся, известно одному Аллаху. Но, какое счастье, что я уже не в Куйбышеве. Гнуснейший город! Единственным светлым пятном было мое посещение филармонии. Слушал шестую симфонию Чайковского, выступление Ойстраха и Гилельса. Но настроение не совсем соответствовало слушанию музыки, да еще торопился в общежитие, так что Гилельса не успел до конца дослушать. Серьезная музыка требует иной обстановки.
Когда сидел в агитпункте в ожидании поезда, смотрел фильм «Моя любовь». Заметил, что смеялся в такие моменты, в которые раньше я грустно думал об убожестве фантазии режиссера. До чего я отупел за это время! Заметное понижение интеллектуального уровня.
15.02.42.
Сейчас перебрались через Волгу. Громаднейший мост! А всю ночь стояли. В вагоне творилось что-то невообразимое: людей набилось черт знает сколько, вонь, духота, темнота, махорочный прелый дым. Плакали дети, тяжело, с хрипом, дышали старики. Сейчас стало немного легче и тише. А я опять, как нарочно, чувствую себя скверно: болит горло, знобит и с животом неладно. Думаю ехать в Москву, а там видно будет.
20.02.42.
Вот я опять в Москве. Приезд мой также неожидан для меня, как и для моих родных. Что стало с нашей Москвой! Ничего и никого не узнать! Пустые магазины, худые озлобленные лица. До чего все похудели, особенно мама и моя тетя Кока. Что-то дальше будет… А ведь перспективы достаточно мрачны.
Сегодня целый день ходил по квартирам своих друзей и близких. Никого в Москве нет. Ни одной души. Артур в армии, призвали из Уфы. Стало быть, он все-таки эвакуировался… Заходил к родственникам Нины. Очень хорошо поговорили. Видел несколько раз мою однокурсницу Лиду. Она работает в военторге, недалеко от нашего дома. Славная девушка. Вспомнили мы с ней добрые старые времена, наш институт. Да, было время, ценить его только не умели.
Дома у нас совсем плохо. Мама так похудела, что узнать трудно. Мяса не видели уже два месяца. В комнатах такой холод, что все перебрались в одну комнату.
21.02.42.
Был у своей школьной учительницы по литературе Евгении Николаевны. Она уже два месяца без работы. Все наши учителя без работы. Встретил на улице профессора Радцига, молодец старик! Рассказал, что наш ИФЛИ слили с МГУ и там уже идут занятия. Надо будет съездить, посмотреть, может, увижу кого из наших студентов.
Ездил на вокзал. Вроде бы уехать не так уж сложно, послезавтра пойду оформляться. Надо ехать, здесь уж очень мрачно. Да и документы мои скоро кончатся.
Был вчера у Жорки дома, мы с ним несколько лет за одной партой сидели. Родители не имеют о нем никаких вестей, волнуются, не погиб ли он там, на Западном фронте. Когда же кончится эта бойня! Сегодня все ждут сообщений о каких-то поразительных наших победах, но я, откровенно говоря, не очень на них надеюсь.
23.02.42.
Вчера пришли очень тяжелые вести о Вовке. Его знакомая девица Клара переписывалась с его матерью и написала, что катер, на котором плавал Вовка, затонул, и очень немногих удалось спасти. Я даже не допускаю мысли, что с Вовкой может что-нибудь случиться страшное. Завтра пошлю запрос в Бюро потерь Красной Армии. Господи, когда же все это кончится. Ведь каждую секунду кто-нибудь погибает. Это на фронте. А сколько гибнет в тылу от «переизбытка» продуктов! Сердце болит за Нинку, как она там. Завтра пошлю ей перевод.
Из Москвы думаю уехать послезавтра. Сегодня весь день ухлопал на то, чтобы получить… 900 граммов сушек. Это на всю дорогу до Южного фронта. Хорошо еще, что Лида обещала кое-что достать, а то туговато мне придется. Завтра попробую достать талончик в Военторг. Здесь почти такой же бардак, как и в Куйбышеве, концов днем с огнем не найдешь.
Сейчас слышна стрельба. Давно я ее не слышал. Да и москвичи успели от нее отвыкнуть. Немец, вероятно, хочет прилететь на наш сегодняшний праздник.
25.02.42.
Сегодня уезжаю из Москвы. Когда-то снова сюда попаду. Разбирался вчера в своих книгах, тетрадях, записках… Грустно. Скучает по мне литература, всякие Тимофеевы, Поспеловы… Ну да, может быть, еще встретимся. Два раза я поступал в ИФЛИ, третьего, видно, не миновать. Ну, прощай, моя Москва! Придет время, я опять буду здесь.
27.02.42.
Еду, еду уже третий день. Почему-то на юг в Донецк едем с Казанского вокзала. Курский закрыт. Провожал меня отец, подарил в качестве талисмана свои часы, свидетели первой мировой войны, и красивый кожаный портсигар, чтобы они на фронте всегда были со мной.
В вагоне холодно. Хорошо, что мама сделала из моего мехового полушубка теплую куртку под шинель. Народу полно, в основном военные. Многие уже были на фронте, возвращаются из госпиталей, из командировок… Не очень разговорчивый народ. На мои вопросы, как обстоят дела на фронте, как наше наступление на юге, отвечают: приедешь и сам все увидишь. Ну что ж, приедем, посмотрим.
26.03.42.
Вот уже скоро месяц, как я лежу в госпитале в Лисичанске. Поездка моя на фронт окончилась весьма бесславно: сыпной тиф и снова больничная койка. Надоело страшно. Болезнь моя протекала очень тяжело, и я мог запросто отдать Богу душу. Я думал о том, что скоро наступит весна, зазеленеют леса, а я не увижу всего этого. Я не мог себе представить, что буду лишен всего этого. Мысль о невозможности такого печального исхода помогла мне побороть болезнь.
Интересно, что, думая о будущем, я больше мучался оттого, что по окончании войны я не смогу попить газированной воды с сиропом. Вероятно, у меня в эти минуты был очень сильный жар, и стакан холодной газированной воды казался высшим наслаждением. Еще одно интересное обстоятельство способствовало моему выздоровлению. Когда я впервые пришел в сознание, я заметил в левом углу моей простыни маленький розовый цветок, заботливо вышитый нежной девичьей рукой специально для меня. Я был еще слишком слаб, чтобы подтянуть его поближе, но в моем воображении виделась уже зеленая трава под этим цветком, которая как от ветра колыхалась при каждом моем шевелении. Прошло много дней, когда я достаточно окреп и подтянул к себе простыню с этим розовым цветком. И я увидел, что это был не цветок, а номер госпиталя, наскоро вышитый полинялыми красными нитками.
Сейчас я почти уже выздоровел.
27.03.42.
Очень беспокоюсь о своих домашних, ведь они могли легко от меня заразиться. Не менее беспокоит молчание Нинки… Чтобы быстрее проходило время, учу слова, читаю военный разговорник. Как хорошо, что я взял с собой книжечку стихов Гейне. Какое огромное наслаждение я от них получаю, замечательные сонеты. Очень понравился перевод прощальной песни из «Чайльд Гарольда». Да все стихи так хороши, что не нуждаются в похвалах.
30.03.42.
Получил вчера письмо из дома. Слава Богу, там все в порядке. Но от Нинки ничего нет, телеграмму в Москву она не послала. Я прямо совсем голову потерял, не знаю, что и думать. Но, думай — не думай, все равно ничего не придумаешь. Только бы она была здорова.
31.03.42.
Чувствую себя хорошо, прямо сейчас хоть вставай с постели и беги отсюда. Только вот ноги еще плохо меня держат. Погода переменилась: морозит и сильнейший ветер. Все эти дни была слышна сильная канонада, которой раньше никогда не было слышно. Я уж, грешным делом, подумал, что придется нам отсюда драпать. Это было бы не очень приятно, тем более при таком состоянии, как у меня.
Сегодня дали вдруг сверхусиленное питание: сыр, целую селедку, да еще у меня была бутылка молока. Денег вот только почти не осталось. Если бы удалось получить за март, каждый день был бы на «усиленном».
1.04.42.
Уже апрель. Три месяца прошло с тех пор, как я получил последнее Нинино письмо. Сейчас (в который раз) перечитал все ее письма, достал ее карточку и смотрел, не отрываясь.
7.04.42.
Чувствую себя хорошо. Сейчас весь наш персонал переезжает в другой госпиталь, а нас, выздоравливающих, бросают здесь. Посмотрим, что из этого получится. Меня, вероятно, скоро вообще выпишут. Пора бы уж. Слабость еще очень пока на меня действует. Ну да на месте поправлюсь. Ведь уже весна, все тает, тепло.
Со мною в палате лежат ребята, которые по нескольку месяцев находились в захваченных немцами селах. Много кое-чего порассказали…
Ко мне в палату части заходят медсестры из других отделений, где я раньше лежал, когда был в тяжелом состоянии, справляются о моем здоровье, рассказывают, каким я был: по три дня ничего не ел, не разговаривал и буквально жил на одних уколах. Тогда меня выхаживала Люба, очень славная и милая девушка, сильно выделяющаяся среди остальных сестер, которым место скорее в публичном доме, чем здесь. Даже писарь из штаба, когда заходит сюда, всегда осведомляется о моем здоровье. Приятно чувствовать к себе такое отношение.
11.04.42.
Переехали на новое место, за Донец. Очень хорошее здание, есть водопровод, уборная, душ, радио, словом весь необходимый минимум удобств. По дороге видел разлив Донца. Сильное впечатление! Мы ехали по узкой полосе дороги среди затопленного леса и полей. По обеим сторонам, куда только глаз хватает, вода, вода и вода.
Здесь один сержант мне рассказывал, как он был в немецком плену и как убежал оттуда. Правда, все это было сдобрено разгулявшейся фантазией, но во многом и правдоподобно. Другой сосед рассказывал о жизни в Румынии и Бессарабии. Что там было и что там стало. Не раз приходилось краснеть от стыда, слушая, что там себе позволяли некоторые наши командиры.
Не могу написать письма Нинке. Получается что-то не то и не так. Неужели это результат ее долгого молчания?
16.04.42.
Получил вчера открытку из дома. Наконец-то мое первое послание отсюда доползло до Москвы. Хоть теперь они знают, что я жив и близок к тому, чтобы быть здоровым.
Выписываюсь дня через два. Мама пишет, что Нинка прислала ей письмо. А мне ни строчки. Странно все это, не знаю, что и подумать. Скорей бы уехать отсюда. Отпуска после болезни мне не дают, мотивируя это тем, что я, дескать, далеко живу. Ну, да леший с ними.
Прочел я вчера свою историю болезни. Да, действительно, совсем на ладан дышал.
А какое ласковое сейчас солнышко, как громко чирикают воробьи! И зачем эта проклятая война! Ведь скоро уже май, зазеленеют леса, появятся из-под земли первые ландыши, распустится сирень, и защелкают соловьи, которых так много здесь, по-над Донцом. И в это радостное время будут каждую минуту погибать десятки и сотни людей, молодых, здоровых, сильных, оставивших дома жену, невесту, мать! Когда же кончится это побоище…
Я часто думаю, что если бы я был техническим специалистом, то работал бы над изобретением таких снарядов, которые имели бы самонаправляющий ход и без промаха попадали бы в танки и самолеты противника. Тогда бы мы быстрее разбили немцев, и война бы окончилась. Но пока у нас таких снарядов, к сожалению, нет, и конец войны отодвигается все дальше.
18.04.42.
Завтра выписываюсь. Дадут мне дней десять отпуска при части, который вряд ли мне понадобится. Значит, опять потрясусь на привычных поездах с бесконечными пересадками, комендатурами, продпунктами и прочими удовольствиями нынешнего передвижения.
Меня каждую ночь донимают сны. Раньше, до болезни, я обладал счастливой способностью засыпать, едва только голова касалась подушки, и не видеть никаких снов. Теперь вижу сны, часто тревожные. Какое-то предчувствие, что с Нинкой что-то произошло нехорошее. Когда же я смогу что-нибудь узнать, получить от нее письмо, хотя бы маленькую записку…
19.04.42.
Не выписали!
22.04.42.
Сегодня наконец выписался. Теперь опять новые пути и дороги. Переплывал Донец на лодке, около трех километров. Мне еще не приходилось плавать на лодке по лесу. Но ведь и на санях по Волге тоже раньше не ездил. Пока добрался до квартиры, семь потов сошло. За назначением нужно идти в станицу Рубежную. А там, куда Бог пошлет.
Получил здесь на почте два письма из дома. От Нинки ни полслова. Чувствую, что Нинкино отношение ко мне изменилось, что она успела забыть все, что между нами было. Чем сильнее я отгоняю от себя эту тяжелую мысль, тем настойчивей она возвращается обратно. Мама пишет, что у нее подобные же мысли о причинах Нинкиного молчания. Неужели, все это так…
Если взглянуть на небо, Будто больным и не был. Ласково солнце светит, Мягко смеется ветер. Небо глубокой синью Голову мне закружило, Солнце весенней силой Сердце мое напоило. Сегодня весна и солнце, А завтра… Что думать о завтра, Зачем воровать чужое, Себя выдавая за автора. Лесозавод, Лисичанск24.04.42.
Второй день нахожусь в Рубежном. Замечательный городок, маленький, аккуратный и весь в зелени. Правда, самой зелени еще нет, но сколько здесь деревьев, белой акации, тополей, кустарников. Особенно хорош так называемый городок ИТР, расположенный в парке. Он выделяется своими белыми двухэтажными домами, окруженными густым лесом молодых деревьев и кустов. Как, вероятно, хорошо и красиво было здесь до войны. Сейчас во многих местах видны следы повреждения построек, всюду требуется ремонт, но, видно, не до этого.
Вчера за день я так устал, как никогда не уставал. Добирался сюда самыми разными путями: в тамбуре товарного вагона, пешком и на двух попутных машинах. Целый день ждал тут одного майора, который должен определить мою судьбу, но так и не дождался. Сейчас сижу в парке, любуюсь прекрасным весенним утром и жду девяти часов. Потом пойду опять добиваться аудиенции.
Погода здесь совсем майская. Вчера вечер был такой теплый и приятный, что невольно располагал к наилиричнейшему настроению. Только эта тяжелая неизвестность, ожидание письма, в котором должно быть что-то неожиданное и страшное, отравляет все.
25.04.42.
Опять еду. Скоро буду, как Маяковский, измерять свое время километрами. Но в настоящий момент я, к сожалению, не еду, а сижу в Синтяновке, маленькой паршивой железнодорожной станции. Связался с одной машиной, которая идет в Ворошиловград, но она застряла здесь и, кажется, всерьез и надолго. Еду я в Ровеньки, потом в Ворошиловград, где точно назначат место службы. На всю дорогу дали кило хлеба и семьдесят грамм сахара. Хорошо, что купил в Рубежной яиц, да еще тут словчил и пообедал, а то туго бы мне пришлось. Все-таки надеюсь сегодня приехать в Ворошиловград, а там видно будет.
26.04.42.
Сегодня наконец получил назначение. Еду в штаб 383 стрелковой дивизии на место какой-то Щербаковой, которая будет отозвана как «не справившаяся с работой». Боюсь, как бы и меня в скором времени не отозвали по той же причине. Здесь, в Разведотделе армии, очень симпатичные сотрудники. Посмотрим, что будет на новом месте.
Теперь хоть получу постоянный адрес, восстановлю со всеми связь. Все время думаю о Нинке, Артуре и Вовке. Всех порастерял…
27.04.42.
Наконец-то доехал, прямо не верится. Пока буду при штабе дивизии, а там видно будет. Здесь довольно прилично: есть баня, в которой я сегодня уже успел побывать, есть электричество, да и квартира ничего. Работа предстоит большая, но интересная.
Читаю сейчас немецкую нюрнбергскую газету. Очень любопытно. Примечательны объявления: «Погиб смертью героя в возрасте 21 года наш любимый сын, лейтенант Георг Талхеймер, кавалер ордена Железного креста 2 степени, участник похода во Францию. В тяжелом бою на Восточном фронте, мужественно отражая контратаку, 17 января 1942 года отдал он свою жизнь, пожертвовав ею для фюрера и защиты своего отечества. Через жертвы самого лучшего взрастет для нашего народа великое будущее. В глубокой скорби…» Прямо надгробный гимн.
А вот еще объявление, несколько иного рода: «Коммерсант, 31-го года, рост 170 см, худощавый, самостоятельный (собственное предприятие) ищет энергичную волевую девушку из хорошей семьи…»
Наши родители не могут сообщить о гибели своего сына на фронте, даже если он не лейтенант, а генерал, ни в одной из наших газет об этом не напишут. В первую мировую войну это было возможно, а сейчас нет. Ну а без объявлений о поисках подходящей девушки можно пока обойтись.
Вспоминал я сегодня четыре месяца моих скитаний и лежаний по госпиталям. Все-таки много они мне дали. Сколько интересных людей увидел, столько нового для себя узнал. Но если бы все это время я был на фронте, было бы лучше, какая была бы у меня профессиональная практика!
28.04.42.
Подходит к концу второй день моего здесь пребывания. Пока моя работа заключается в хождении в столовую и слушании патефона.
Но скоро, вероятно, будет что-нибудь более интересное. Сегодня организована охота на фрицев, может, кого поймают. А вообще здесь атмосфера душноватая. Начальник мой весьма ограниченный солдафон, его помощник — штабной шаркун, влюбленный в свою собственную персону. Все изрядно пьют и развлекаются «клубничкой». Результаты плачевные: за несколько месяцев ни одного пленного фрица, зато с нашей стороны за эти два дня, как я здесь, четырнадцать человек перебежало к немцам! Жуткое происшествие!
Отправил сегодня открытки маме, Нинке и Мэри и домой денежный перевод.
1.05.42.
Если здесь все так и будет продолжаться, то, кажется, я совсем с ума сойду. Эти помощники начальника разведки круглые идиоты и недоноски. Целый день крик, шум, гам. Эта Щербакова — девица, мягко выражаясь, наилегчайшего поведения. Противно быть невольным свидетелем всего происходящего. Когда же кончится мое одиночество и найдется здесь хоть бы одна родственная душа! Хоть бы фрица какого поймали! Читать нечего, делать нечего, а целый день слушать патефон или просто смотреть в окно невмоготу. Завтра буду просить, чтобы отпустили съездить в полки, посмотреть, как у них дела. Хоть некоторое разнообразие в жизни.
А ведь сегодня праздник, Первое мая. Впервые мне приходится отмечать его вне Москвы. Этот праздник был одним из самых любимых. Погода сейчас совсем не майская, холодно, ветер. Вдали постреливают фрицы. Во вчерашней листовке они грозили всякими ужасами тем, кто не «одумается» и не перейдет на их сторону. Обещают «райскую жизнь», вот сволочи! А ведь находятся простаки, верят всему этому.
Райскую жизнь мы сами будем делать, во всяком случае без помощи немцев.
А настроение такое гнусное, что дальше некуда. Хочется убежать куда-нибудь. Что-то сейчас Нинка делает, неужели мне так и не напишет.
2.05.42.
Сегодня, слава Богу, Щербакова и старший помощник нашего начальника от нас уехали. Кончился этот всегдашний бардак, хоть можно вздохнуть спокойно. Принесли мне сегодня несколько старых немецких газет за октябрь-ноябрь сорок первого года. Некоторые статьи можно прямо перепечатывать в наших газетах, изменив только названия объектов и фамилии действующих лиц.
3.05.42.
С нашего балкона, оказывается, хорошо видны немецкие блиндажи. Сегодня опять фрицы над нами летали, а наши часовые, радуясь случаю потратить патроны, открыли по ним бешеную стрельбу из винтовок. Некоторые энтузиасты палили даже из пистолетов. И смех, и грех, шума много, а толку никакого. Вообще, за последние дни фрицы заметно активизировались. Сегодня обстреливали из орудий прилегающие к нашему поселку населенные пункты. Скоро и до нас очередь дойдет. Ждут их наступления в самом ближайшем будущем. Посмотрим, что из этого получится.
6.05.42.
Вчера и сегодня был в полках. Не почерпнул уверенности в наших будущих успехах.
Как хорошо сейчас в поле! Всюду молодая яркая травка, деревья покрываются листвой, высоко в небо ввинчивают свои трели жаворонки. Завтра предстоит серьезное дело. Должны быть трофеи: фрицы и документы. Надо будет постараться, чтобы и меня взяли как участника.
8.05.42.
Из вчерашней «большой охоты» ничего не получилось. Бардак и отсутствие четкой и до конца продуманной организации привели к большим потерям с нашей стороны и ни одного пойманного фрица! До тех пор будут нас бить немцы, пока у нас не будет строгой, до мелочей продуманной организации операций, неуклонного выполнения всех пунктов ранее намеченного плана. Сильная сторона немецкой тактики та, что во время боя они с педантичной последовательностью и настойчивостью следуют заранее разработанной схеме и никогда во время операций не изменяют ее. Они знают, что перестройка «с хода» неизбежно повлечет за собой всякие неурядицы, которые приведут, в конце концов, к провалу операции. Поэтому у них не бывает таких случаев, чтобы их артиллерия или авиация били по своим войскам.
Вчера приехал сюда начальник разведки нашей армии и дал мне хорошую взбучку за безделье. Взбучка совершенно справедливая и своевременная, но интересны причины, побудившие его устроить ее мне: «От безделья у вас могут появиться мысли (!), и вы еще, чего доброго, станете много думать о завтрашнем дне». Вот что, оказывается, самое страшное. Но напрасно ваше беспокойство, начальник. Думать о завтрашнем дне еще не наступило время.
10.05.42.
Идут, погружаясь в вечернюю мглу, Колонны маршевых рот, И дом, развороченный, на углу Оскалил беззубый рот. И в небо бросают тревожный свет Яркие вспышки ракет. Четвертые сутки там, за рекой, Не утихает бой. А где-то рядом в тени ветвей, Где вишня в саду цветет, Громко и радостно соловей Песню свою поет. Сейчас я с тобою. Все чувства мои, Все мысли мои с тобой. Как странно, что здесь вот поют соловьи, А там не стихает бой. Завтра я снова пойду туда, Где пули вокруг свистят, Быть может, опять возвращусь назад, Иль не вернусь никогда. Я много уже исходил дорог, Но верность свою сберег. Ни грохот снарядов, ни близость огня — Ничто не изменит меня. Я верю, я знаю, что день придет, Кончится эта война, Свободно и радостно расцветет Новая наша весна. И мы вернемся к себе домой, Мир утвердив везде. Я знаю, что встречусь тогда с тобой В этот счастливый день. Красный Луч, шахта 7–811.05.42.
Был в разведке. Сидел в маленькой деревушке метрах в ста от фрицев. Строчили пулеметы, трассирующие пули прорезали воздух, над нами летали самолеты, а рядом в саду пели соловьи. Пели, будто и нет никакой войны.
Фрица, конечно, ни одного не поймали. Еще раз с прискорбием пришлось убедиться, сколь грандиозен у нас бардак и сколь велика беспечность. У немцев прекрасная оборона, масса сигнальных средств, делающих невозможным незаметный подход противника, а у нас есть места, через которые может пройти целая дивизия со всем своим обозом, и никто этого не заметит.
Позавчера немцы разбили нашу батарею, выкатав на открытую позицию свои пушки. А наши минометы не могли открыть по ним огонь, так как у нас существует суровый, «паек» — одна мина на три миномета в день. И если командир допустит перерасход, его отдадут под суд. Поэтому, пока мы добивались разрешения превысить «норму», пока все это увязывалось с высшим начальством, немцы сделали свое черное дело и совершенно безнаказанно ушли.
Возвращались мы из разведки обратно в четыре утра. Шли по балке, кругом яркая зеленая трава, цветы. Воздух чистый, свежий, бодрящий. А соловьи! Боже, мой, сколько соловьев! И все поют. Стрельбы никакой не слышно: и наши, и немцы спят. Господствует весна, май и соловьи.
12.05.42.
Опять был на переднем крае. И опять наша операция успехом не увенчалась. Шли на передовую через большую деревню. Там все как-будто вымерло, нигде ни души. Дома заколочены, во дворах стоят бесхозные телеги, сани. В садах цветут яблони, груши, расцветает черемуха. Странной кажется мертвая тишина в такой громадной деревне, но страннее всего то, что на самом переднем крае, метрах в пятидесяти от фрицев, живут наши люди. Каждый день над ними и около них разрываются мины, свистят пули, а они все еще не хотят никуда уезжать и живут всей семьей, с маленькими ребятишками. Когда мы туда шли, нас обстреливал немецкий снайпер. Пули свистели совсем близко от моей головы. Ощущение не из приятных. Так же не из приятных близкий полет мин. Сегодня разговаривал с фрицем, только, к сожалению, не «нашим» (т. е. пойманным разведчиками не нашей дивизии). Ничего, я думаю, скоро буду иметь дело и со «своим».
Получил вчера большое удовольствие от концерта армейского ансамбля. Многие номера можно смело показывать в Москве. Был и в кино, смотрел фильм «Свинарка и пастух». Ничего, но, во всяком случае, сталинской премии не стоит.
16.05.42.
День своего рождения встречаю на новом месте. Старое насиженное гнездо пришлось покинуть. Очевидно, из-за опасности быть разгромленными авиацией или артиллерией. Я до сих пор только удивлялся немецкому долготерпению.
На новом месте в отношении природы прямо рай земной. За домом большая заросшая балка, в которой поют соловьи и цветет всякая черемуха. Но в отношении элементарных удобств здесь, понятно, ничего нет Будем жить в одной комнате, спать, где придется и т. п. Но ничего не поделаешь: война.
Черт побери, ведь сегодня мне двадцать один год стукнул. Что же дальше будет? Эдак, пожалуй, и не заметишь, как доживешь до седых волос, не сделав ничего путного.
17.05.42.
Опять переехали. Но здесь еще хуже, чем на старом месте. А на фронте дела у нас невеселые. Бои идут под Керчью, но мне думается, ее уже оставили. Неужели фрицы будут и дальше наступать? Правда, на Харьковском направлении наши войска якобы успешно продвигаются вперед, но я что-то не верю этому. После того как я насмотрелся здесь на всякие безобразия, неурядицы, легкомыслие, если не сказать преступления, то приходится только удивляться, если это сообщение — правда. Настроение паршивое, всякие древние воспоминания лезут в голову…
Высокое начальство нас совсем загрызло. Каждый день приезжает кто-нибудь «сверху» и пилит. Капитан наш получил уже два выговора.
Вчера был у нас фронтовой ансамбль. Слабее нашего армейского. Понравилась только одна песня — «Ой, Днипро, Днипро». Хороши слова Долматовского и мотив волнующий.
Получил два письма из дома и одно пересланное от Вовки. Пишут, что жизнь в Москве трудновата, особенно теперь, весной. Как только получу деньги, надо будет выслать еще перевод.
21.05.42.
И наказал же нас Господь! Четвертый день гостит у нас «верхнее» начальство, да такое тупое и надоедливое, что просто ужас. Целый день пилит и пилит, но ничего путного не скажет. А дела наши весьма…
Пленных нет, зато фрицы угоняют наших прямо взводами. У соседа почти каждый день «язык», а у нас ничего. Так нам не везет… Целый день вертимся как белки в колесе, да еще по ночам приходится дежурить.
22.05.42.
Сегодня наконец поймали фрица. Вернее, он сам к нам перешел. Австриец 26 лет с незаконченным высшим образованием. Ценных сведений дал мало, мы и без него их имели. Кругозор его очень узок. Поговорил с ним на общие темы. Литературы не знает даже своей. Спросил о Гейне, молчал, как будто не слышал такого имени.
Русских писателей совсем не знает. Опрос проходил в такой нервной и напряженной обстановке, что мне удалось выяснить только малую часть того, что надо было бы. Я волновался и безбожно коверкал язык, но тем не менее мы хорошо понимали друг друга. Устал сегодня как черт. Всю ночь не спал, да еще сейчас половину ночи нужно продежурить. Завтра, вероятно, перейдем жить в блиндажи. Так что с жизненными удобствами нужно распрощаться. Необходимо сходить в баню, но нет времени.
Хоть бы этот старый хрыч «сверху» уехал от нас поскорее. Надоел как пес. Бормочет весь день и несет какую-то ересь, что, дескать, он предупреждал, а его не послушались, и поэтому такие печальные исходы последних операций. А исходы, действительно, печальны: самые лучшие люди в разведке убиты или захвачены фрицами.
26.05.42.
Все идет своим чередом. Бардак у нас не становится меньше, хотя работы все больше и больше, спим по 4–5 часов в сутки. На фронтах дела неважнецкие. Официально объявлено, что мы ушли с Керченского полуострова, сдали Барвенково. На Харьковском направлении мы вроде продвигаемся, да что-то очень медленно.
Мы переселились в блиндажи. Здесь сыро и холодно, как в могиле. Хорошо еще, что спать разрешают в сарае.
Беседовал вчера с одним нашим разведчиком, вернувшимся с той стороны. Население, говорит, голодает и с нетерпением ждет нашего наступления. Но есть и такая сволочь, которая идет в «добровольные» украинские батальоны и служит в полиции, в немецких спецотрядах и др. Был он в Мариуполе. В магазинах торгуют только железо-скобяными товарами. Работают кинотеатры, показывают наши «нейтральные» картины — «Антон Иванович сердится», «Волга-Волга» и тому подобные.
Вчера мне принесли документы одного убитого немецкого ефрейтора. Впервые увидел «Полевой молитвенник». Молитвы на каждый случай жизни. Интересно наставление «Каким должен быть немецкий солдат».
29.05.42.
Получил два письма из дома. Вовка прислал мне в Москву письмо от 5 мая. От Нинки ни слова… Был вчера в бане. По дороге заходил на нашу старую квартиру, хозяева встретили меня как родного.
Обратно шел пешком, полем, заросшими балками. Мягко грело солнце, заливались в небе жаворонки. А вдалеке шел бой, дымились развалины деревни, сожженной немцами, ухали артиллерийские разрывы. Как я ненавидел в эту минуту войну и в то же время понимал, что ее нужно продолжать, продолжать до полной нашей победы.
Вечером мне принесли документы немцев, убитых во время вчерашнего боя. Ничего нового. Перед нами все та же 4-я горно-стрелковая дивизия. У одного солдата в книжечку было вложено стихотворение. Я не имел возможности перевести его целиком, но общий тон был очень грустный: «…мы добыча земляных червей» — вот характерная строка этого стихотворения.
30.05.42.
Уже прошел месяц, как я здесь, а по моей военной специальности мало пришлось поработать. Нет фрицев. Я имею в виду нами пойманных. Поэтому приходится сидеть у телефона и записывать в «талмуд», что на высоте такой-то показалась одна лошадь, что три фрица в трусах разгуливают возле своего блиндажа и тому подобное. Впрочем, в последние дни активность фрицев заметно усилилась. Появились танки, летают большие группы самолетов. Ожидается их наступление. Неужели будем отходить?
Получил письмо из дома. У них плохо с питанием, а у меня, как нарочно, вычли целиком зарплату — по займу, так что послать домой нечего.
Вот сейчас сижу и думаю: неужели Нинка до такой степени могла все забыть, что даже на мое письмо не хочет ответить, неужели все, что между нами было, прошло так быстро и незаметно? Неужели, когда я чуть не отдал Богу душу и в бреду повторял ее имя, она не вспомнила обо мне, не чувствовала, как я люблю ее и как она дорога для меня? Если это так, то на этих страницах никогда не появится ее имя, она перестанет существовать, умрет для меня. Моя любовь не будет принадлежать человеку не достойному ее. Мне легче будет это перенести, чем год назад. По сравнению с тем, что у меня отняла эта война, эта потеря не может быть самой тяжелой. Самое дорогое для меня есть и будет не чувство, а мысль. Я живу, я вижу мир, я думаю. Вера в лучшее будущее поможет мне пережить мрачность настоящего.
31.05.42.
Наше наступление на Харьковском участке окончилось весьма плачевно: свыше пяти тысяч убитых и семьдесят тысяч «пропавших без вести», так у нас называются пленные. И никаких результатов, ничего не взяли, ничего не освободили.
Получил письмо от Мэри: Артур в Уфе с стройбате. Но все-таки в армии.
2.06.42.
Украина, Украина, Что с тобою стало? Знать, не добрая година Для тебя настала. Поросли поля бурьяном, Не дымятся печи, Над рекою ив склонились Согнутые плечи. Там, где были смех и песни, Только стоны слышны. Украина, Украина, Соловьи да вишни. Над тобой сгустился вечер, И в дыму заката Лишь обугленные травы, Сожженные хаты. И разносит по дорогам Ветер черный пепел. Украина, Украина, Голубые степи…Это стихотворение написано под впечатлением увиденного огромного села Ново-Павловка, в котором не осталось ни одного жителя. Конец этого стихотворения должны написать наши танки, пушки, самолеты, но пока до этого, ох, как далеко, а куриный оптимизм я никогда не терпел.
6.06.42.
Получил вчера письмо от Вовки от 29 мая. Чертовски рад. Теперь бы только наладить нашу переписку. Мне так недостает его писем! А вот из дома что-то ничего нет…
Приехал новый помощник моего начальника, теперь, может, полегче будет. А в остальном все по-старому: ни фрицев, ни гансов не было и нет. С «верхов» каждый день дают нам встрепку, а с нашего капитана как с гуся вода. Блат у него тут большой, да еще умеет вовремя Лазаря спеть, поэтому до сих пор и держится. У нас тут будет женское пополнение. Всех тыловых крыс заменяют женщинами. Давно пора, а то отрастили себе животы, наплодили всяких писаришек и холуев. Только ведь это ненадолго, пройдет время, и тылы наши снова обрастут всякими приспособленцами.
Получил вчера письмо от Нинки Шевцовой и от Мэри. Нинка прислала бодрое письмо, хотя жизнь там у них, как говорится, ниже уровня. Питается преимущественно «затирухой». Сей продукт оказывается водой с замешанными отрубями. Да, несладко сейчас многим приходится. Как-то там мои дома, неужели тоже питаются «затирухой»?
10.06.42.
Сейчас около трех часов ночи. Я дежурю у телефона. Пока все тихо, хотя «сверху» приказали привести все в боевую готовность. Были замечены колонны немецких войск с танками, двигающиеся из Сталино в Чистяково. Но вряд ли в ближайшее время начнется что-нибудь серьезное. А пора бы. Сколько можно ждать, когда мы начнем гнать немцев?
Наш капитан завтра уезжает. Наконец-то его отозвали. Доверить такому, мягко говоря, легкомысленному человеку руководство разведкой было большой ошибкой «верхов». Вообще, у нас идет полная смена кабинета. Начальник штаба новый, еще несколько новых на штабных должностях. Что это нам даст, пока судить трудно, поживем — увидим. Был сегодня в бане, организованной начальником санчасти, очень неплохо помылся.
16.06.42.
Вот вчера был у нас бардачок, прямо махровенький. Только я лег спать в нашем сарае, врывается капитан и как безумный прыгает между моей постелью и помощником. Я быстро оделся, прибежал в блиндаж. Время — половина второго ночи. На дворе гроза, ливень, ни черта не видно. Капитан стучит телефонной трубкой по столу, отчаянно хрипит и матюкается. Я в полном недоумении. Что случилось? Оказывается, был получен срочный приказ организовать во всех полках разведоперации и к 8.00 утра доставить взятых пленных к вратам второго отделения. До рассвета остался всего один час, а еще ничего не сделано. Пока вызвали нужных людей из полковых штабов, отпечатали срочные приказы, прошло много времени. Нереальность распоряжения стала всем ясна. И тогда начальник штаба приказал перенести начало операции на сутки позже. Наш капитан опять с пеной у рта метался от одного телефона к другому, опять срочно будили машинистку, печатали новые приказы и т. д.
Вот за это и бьют нас немцы. Если бы все приказы, которые у нас отдаются, сначала хорошо продумывались и, главное, точно исполнялись, то мы давно уже были бы в Берлине. Так думают и говорят почти все наши командиры, но отдают потом самые нелепые и противоречивые приказания и распоряжения.
18.06.42.
Боже мой, когда же мы избавимся от опеки начальства! Каждый день приезжают целые команды из армии, с фронта и даже из Генштаба. И каждый считает своим долгом дать какие-то «исключительно важные», по его мнению, указания. Может быть, сами эти указания и хороши, и правильны, но мы получаем их так много и такие разноречивые, что окончательно в них запутались. Капитан наш совсем потерял дар речи и может только материться. Между прочим, он все у нас держится. Просто удивительно, как ему это удается.
Сегодня в «Красной звезде» прочел корреспонденцию «Ночные дикторы». Это про наших разведчиков, с которыми я провожу занятия. Там же упоминается Готфрид Фюрст, мой первый пленный. Так что и моя работа вошла в историю Отечественной войны.
Просматривал я тут одну немецкую газету, литературное приложение к «Штуттгартер блатт». До чего же убогий материал! Вот стихотворение, называется «Равнина над Киевом». Набор символических слов. Все худшее, что есть в стихах, например, Стефана Цвейга, здесь сконцентрировано. Удручающее впечатление. Есть там одна новелла «Власть моста» — противопоставление «милой нежной природы» и «холодной мокроты моста». И это размазано на сотни строк. Когда-нибудь, когда кончится война, интересно было бы поработать над темой «Деградация немецкой литературы в предвоенный и военный период». Но это планы далекого будущего.
22.06.42.
Сегодня тяжелый день, а для меня, как выяснилось, вдвойне. Год тому назад началась война. Не думал я тогда, что придется отмечать ее годовщину здесь в блиндаже. Год тому назад я думал, что пройдет самое большее месяц и мы уже будем в Берлине. Так нам внушали много лет. Я мало что принимал тогда на веру, но в мощи и всесокрушимости нашей Армии я не сомневался. И вот что получилось: где мы и где немцы.
Сегодня я получил письмо из Ашхабада. От Толи. Вот несколько строк из этого письма: «Ты теперь человек военный, стойкий, и поэтому скажу тебе прямо — о Нине не думай, не стоит она этого. Вышла замуж за одного нашего выпускника — азербайджанца, хорошо зарабатывающего и которого она, вероятно, так же любит, как и тебя». Что можно еще добавить? Не случайны были весной тревожные мысли. Я предчувствовал, что именно так все кончится. Тяжело у меня сейчас на душе, не скоро все это изгладится. Ну что ж, на войне без потерь не бывает.
Вычеркнуть ее из своей жизни, значит вычеркнуть свои самые светлые и счастливые дни, когда мы были вместе…
Время рассудит нас. Никто не виноват в том, что произошло. Даже самые пылкие письма — плохая пища для чувств молодой девушки в двадцать лет. Мы слишком мало были вместе, чтобы расстояние и время не могли подействовать на нашу любовь.
24.06.42.
Вчера попался фриц. Как его взяли, неизвестно. Очень разговорчивый, так что мы с ним легко договорились. Он подтвердил, что перед нами по-прежнему 198-я пехотная и 4-я горно-стрелковая дивизии. А позавчера явился один штатский перебежчик, по-видимому, немецкий лазутчик. Рассказывал, как там жизнь, на той стороне. Немцы безобразничают, но еще больше старается наш брат. Полицейские, сотники особенно усердствуют, служа немцам.
Положение на фронте не из блестящих. На Харьковском направлении немцы наступают, Севастополь со дня на день должен пасть, если уже не пал. Черт возьми, когда же мы начнем наступать!
Получил открытку от Любы Щечковой, однокурсницы. Очень обрадовался, так давно искал о ней каких-нибудь вестей. Она в штабе соседнего корпуса, где-то недалеко. До чего у меня пустой и ничтожный начальник. И столько времени держится. А до чего жалок был вчерашний фриц — грязный, одет в какую-то вшивую хламиду. И вот такое дерьмо все еще продолжает нас бить, и довольно чувствительно. Эх, если бы наше начальство занималось делом, а не шлялось по бабам, давно мы уничтожили бы всю эту напавшую на нас нечисть.
26.06.42.
Немцы снова напирают. Взяли Купянск. Теперь Лисичанск и другие города потеряли железнодорожную связь с Москвой. Севастополь пока держится, но я думаю, только в наших газетах. Когда мы начнем действовать! Получил два письма из дома и неожиданную открытку от Любы Колесниковой, которая выхаживала меня в госпитале. Очень хорошее теплое письмо.
28.06.42.
Сегодня прочел в газете то, что давно надеялся прочитать: доктор Сокольский, который вылечил меня от тифа, награжден медалью «За боевые заслуги». Я бы орден ему дал. Послал ему сегодня поздравительное письмо.
Прочитал новую повесть Панферова. Бездарная вещь. Хоть и называется «Своими глазами». Вряд ли он все это видел в действительности. Задумка была неплохая: показать, как в огне битв и сражений живут и проявляются такие человеческие чувства, как любовь, жалость, сострадание и т. п. Но получилась какая-то фальшивая, слезливая халтура, наспех шитая гнилыми нитками. Майор Шилов, командир полка, все время появляется перед читателем со слезами на глазах. Попадание комиссара Левченко в плен и вся его дальнейшая история до такой степени неправдоподобна и надумана, что не выдерживает никакой критики. И прочитал книжечку Каверина «Домик на холме». Маленькие, но блестяще написанные рассказы. Нет ни ходульной патетики, ни фальшивой чувствительности. Сюжеты отточенные и правдивые.
30.06.42.
Сегодня пытались вести силовую разведку. Готовились, готовились, а обернулось все скверно: большие потери и никаких результатов, т. е. ни одного пленного. Подробных сведений у меня пока нет, но хорошего, ясное дело, ждать не приходится. А ночью приехали представители политотдела армии. Взяли меня в работу «за распространение вражеской пропаганды». Дело в том, что в нашем протоколе опроса пленного, который я вел, было со слов этого фрица записано, что немецкие солдаты получают питание три раза в день, что им дают конфеты, шоколад, водку. Не думаю, что он нам врал, зачем? Тем более что перебежчик, которого я опрашивал раньше, говорил то же самое. Да и в протоколе, который нам выслали из штаба армии, говорилось о таком же питании немецких солдат, даже с более «крамольными» подробностями. Но правду у нас, как видно, не очень любят, даже если она «для служебного пользования». Теперь срочно надо потребовать от полков этот «опасный» документ обратно.
Немцы опять умело используют провал нашей сегодняшней операции для своей пропаганды. Вот к чему приводит необдуманность. Не так нужно было проводить эту операцию, ну а после драки, как говорится, кулаками не машут.
Вчера беседовал с одним нашим агентом, который уже четвертый раз возвращается «с той стороны». Много подонков еще есть на свете. Там создана особая украинская дивизия из дезертиров, бывших заключенных и тому подобного сброда. Читал я «Мариупольскую газету». Раболепные статьи с призывами чтить немецкую армию и вообще немцев — «освободителей», с призывом к нашей молодежи ехать в Германию на работу и другими подобными призывами и обещаниями райской жизни при немцах.
1.07.42.
Настроение поганое, чувствую какую-то ужасную усталость, даже не физическую, а духовную. Хочется заснуть и не просыпаться до конца войны. Наш капитан Артюшенко на нервы действует. До чего ж халтурщик! Вчера звонил мне Павлов из разведотдела армии, просил письменно сообщить обо всех его «похождениях». На черта мне это нужно, он сам прекрасно все знает, пусть сам и разбирается. Просто гнать его отсюда нужно поганой метлой.
2.07.42.
За последнее время участились случаи переброски к нам немецких шпионов. Вчера задержали трех молодчиков. Обучались они во Львове, при себе имели кучу документов и справок на все случаи жизни. Многие документы сделаны очень липово. Фамилию нашего начштаба они не знают, комиссара тоже. Да и на штампе вместо «Штаб 383 с.д.» стоит «Управление 383 с.д.». Сегодня еще одного «гуся» привели. Вчерашние показали, что «абсольвенты» львовской школы будут засылаться в нашем направлении. Так что скоро надо ждать еще «гостей». Всех их отправили в особый отдел армии.
3.07.42.
Получил письмо из дома. Мама все беспокоится, как я переживу Нинкину измену. Я уже писал ей, что любовные переживания я отложил на «после войны». Сейчас не до этого. У нас здесь много симпатичных девушек, но не было случая, да и желания познакомиться с кем-нибудь поближе. Полная импотентность, но это сейчас к лучшему.
А на фронтах все печальнее и печальнее. После Курского появилось Белгородское направление. Вчера приезжал один сотрудник НКВД, который был на Изюмско-Лиманском направлении. Наши отходят.
Вчера после долгого перерыва на нашем участке появились наши двухмоторные бомбардировщики. И сразу же немцы двух подбили. Один сгорел в воздухе, другой приземлился на их территории. Вот, черт возьми, как они работают! А наши зенитчики хоть бы за все время одного фрица сбили. Да, слабо мы еще воюем.
5.07.42.
Новостей особых нет. Есть только сведения, что немцы числа 7–8 июля начнут наступление на участке нашего правого соседа. Там против нас стоят итальянские части, что, по словам одного перебежчика, станет неожиданностью для нашего командования. Доля правды в его словах есть. Действительно, когда мы узнали, что немцы заменили свои части итальянскими, то решили, что на этом участке наступления не предвидится. Сегодняшняя авиаразведка выявила, что перед нашим фронтом происходит концентрация пехоты и танков, чего раньше никогда не было. Правда, сегодня наша авиация бомбила эти районы, но ведь всего не разбомбишь. В общем, поживем — увидим. Обидно, если придется драпать. Когда же, черт возьми, второй фронт откроется. Дождемся ли мы?
6.07.42.
Несколько дней у нас новый помощник разведки — Петровский, сын бывшего председателя Ленсовета. На фронте с начала войны, был ранен. Парень вроде неплохой, но очень нервный, с психом. Я только сегодня узнал, почему он такой: отца недавно арестовали. Десять лет без права переписки. Так что обижаться на его нервную систему было бы глупо. Когда он психует, я стараюсь отвлечь его чем-нибудь и уж тем более не подливать масла в огонь. Вспоминаю уехавшего помощника Малофеева. С ним можно было иногда отвести душу.
А сейчас чувствую себя одиноким. Хоть бы чаще письма от Вовки приходили. Артур совсем замолчал. Иногда так тошно становится, что хочется заснуть и не просыпаться, пока война не кончится. Но работа зовет, и подобные мыслишки быстро улетучиваются. Хоть бы влюбиться в кого-нибудь.
8.07.42.
Сегодня или завтра переезжаем на другое место. Наши штабы прыгают, как зайцы. А у немцев штаб 198-й пехотной дивизии с января стоит в поселке Красная Звезда, да еще в большом доме. И не боятся, хотя наша авиация летает над ними почти каждую ночь.
Наши опять драпают. Бои идут уже неподалеку от Воронежа. Вот вам, как у нас писали, «неудавшееся весенне-летнее наступление немцев». Ждать, пока наши союзники откроют второй фронт, бессмысленно. Англичане крепко завязли в Африке, и им пока не до нас. А мы, черт побери, так легко отдаем наши города, забывая, что брать их обратно будет гораздо сложнее. Непонятные вещи происходят. Где же наша боевая мощь и несокрушимость, о которых так много писали. Ведь у нас должно быть достаточно сил и техники, чтобы противостоять их натиску. Немцы собрали в один кулак дивизии с разных фронтов. Почему же мы не можем создать два кулака? А сколько наших дивизий прокисает где-то в тылах? Ведь можно же их собрать и бросить на решающее направление. Сколько можно ждать?!
9.07.42.
Перебрались на новое место, очень красивое. Большая заросшая балка, кругом поля: кукуруза и подсолнух. Наверху маленький хуторок, весь в вишневых садах. Блиндаж только тесноватый, а для спанья строят нам сарайчик. Здесь много такого, что очень напоминает Тарасково и то, что я должен забыть. Но не все так легко забывается, черт возьми.
А наши сегодня опять отошли. Сдан Старый Оскол. Неужели и Воронеж возьмут? На нашем участке к немцам каждый день прибывают все новые и новые мотомеханизированные войска и танки. Скоро и нам придется драпать.
11.07.42.
Сегодня кончилась наша спокойная жизнь: немцы начали наступление на нашем правом фланге. Они выбрали удачный момент, когда наша дивизия отходила на новые оборонительные рубежи, а на оборону левого фланга нашего соседа вышла другая дивизия. Каким-то образом они узнали об этом и воспользовались нашей обычной неразберихой. Пока им удалось продвинуться сравнительно немного, но что будет дальше, сказать трудно. Решение нашего командира дивизии: отстоять прежние рубежи.
Сейчас сижу у телефона, дежурю. Два часа ночи. Второй помощник нашего начальника Каменев рассказывал про нашего капитана Артюшенко. Позавчера тот был дежурным и по своему обыкновению завалился спать. Потом, когда ему доложили, что у левого армейского соседа немцы силою двух батальонов перешли в наступление, он спросонья решил, что это происходит у нашего левого соседа. Примчался в разведотдел. Я ушел в сарай спать, а Петровский уже спал. Артюшенко его разбудил:
— Немедленно подымайтесь!
— Что такое?
— У соседа прорвали фронт до двухсот танков противника и полк пехоты. А вы тут спите! Немедленно запросите обстановку, примите меры!
— Вряд ли ночью они что-нибудь увидят.
Артюшенко как заорет:
— Принять все меры! И Стеженского немедленно разбудите!
— А его-то зачем? Я буду выяснять насчет танков, а он что будет делать?
— Как что? Вы не понимаете, какая сейчас обстановка! Через пару минут нас уже здесь не будет!
— Понял. Сказать ему, чтобы собирал вещи.
— В общем, принять все меры! Отвечаете головой.
Такой у нас начальник, идиот и недоносок. Как он до сих пор у нас держится, диву можно даваться. Вчера вызвал его ночью начальник штаба, а он в загуле в городе. Другого бы за это под суд, а ему сошло.
12.07.42.
Начался драп. Бои идут от поселка Красный Кут. Скоро и мы драпанем отсюда. Времени 14.00. Темп нашего драпа увеличивается. Наш правый сосед оставляет населенные пункты один за другим. У нас уже все собрано, вещи, документы, часть сожгли. Для меня главное — словари и справочники, личные тетрадки. Невдалеке запряженная пролетка.
Но мы, вероятно, будем драпать на машине. Все время слышны взрывы, где-то что-то ликвидируют.
13.07.42.
Обстановка становится все более напряженной. Красный Кут сдан.
Все приказы командарма ни к чему не привели. Не смогли его отстоять. Были также приказы выбить немцев из поселков Шахта 12 и Шахта 152, но и они остались невыполненными. С немецкой стороны введено в бой уже 9 танков. Не исключено, что их появится больше. Все время над нами пролетают немецкие бомбардировщики, которые бомбят наши тылы. Слышны залпы наших «катюш». Но что-то они пока мало помогают. Где-то рядом бьет наша дальнобойная артиллерия.
Сегодня весь день немцы бомбят наши пути подвоза. Свыше 30 самолетов бомбили поселок Штеровку невдалеке от нас. Сбили один немецкий самолет, но летчики выбросились на парашютах над занятой территорией. И сбили его не зенитчики, которые вообще палят в белый свет, как в копеечку, а наши пулеметчики. Нашей авиации вообще не видно. Ждем приказа о перемещении нашего КП.
14.07.42.
Уже на новом месте. Пришлось отойти, хотя наши дрались замечательно. Военный совет армии вынес благодарность всему личному составу нашей дивизии. А вчера опять была бомбежка. Самолетов тридцать непрерывно бомбили поселок Шахта 21. Были видны огромные клубы дыма.
Сегодня ночью опрашивал одного пойманного фрица. Такая попалась сволочь, прямо редкая. Все врал и старался все запутать. Сегодня с утра немцы опять нас бомбили. Сосед наш отходит, а то бы мы еще продержались.
16.07.42.
Противник остановлен. Несмотря на все попытки немцев развить наступление, наши отбиваются, и успешно. Особенно отличилась наша артиллерия, много фрицев уложила.
Сегодня взяли пленного, наши ребята из 691-го полка отличились. Так что я могу гордиться своим полком.
Этот фриц был еще наглее позавчерашнего. На мои вопросы отказался отвечать, дескать, солдатская честь не позволяет ему стать изменником. Все мои пропагандистские ухищрения ни к чему не привели. «Вы имеете свои убеждения, я — свои», — отвечал он. К открытию второго фронта отнесся более чем скептически. Когда я спросил, знает ли он, что города Кельн и Эссен почти целиком разрушены английской авиацией, он спокойно ответил, что разрушения не так велики, как мы думаем. Когда же я пытался утверждать, что от Кельна ничего не осталось, он рассмеялся и спросил: «А вы там были?» Пытался я также узнать, что врут им офицеры про наших комиссаров, он тут же ответил: «То же, что и вы про наших офицеров». В общем, махровый фриц.
Поговорили с ним и о литературе. Из наших писателей знает Толстого, читал только «Крейцерову сонату». О Пушкине самые смутные понятия. О Горьком вообще не слыхал. Гейне не читал и не знает о нем. Зато, как и многие фрицы, с кем приходилось беседовать, знает «всемирно известного» писателя Ганса Гримма, автора «Народ без пространства», жизненного, разумеется. А потом приводили ко мне двух гражданских. Тоже пришлось с ними повозиться. Похоже, что засланные немцами.
Есть здесь одна связистка, очень похожая на Нинку тарасковского периода. Зовут ее Рая, фамилия Василенко. Вот пока все, что я о ней знаю. Но она мне нравится. Смеется так же, как Нинка.
17.07.42.
Приказ получен: будем отходить. У нас принято говорить «отступать». И отходить далеко.
А ведь на нашем участке немца мы остановили и здорово потрепали. Но зато правее нас они уже заняли Миллерово и будут двигаться с севера на Ростов-на-Дону. Кругом нас взрывают шахты, заводы, административные здания. Мы уже собираем вещи. Писем нет ни от кого, так как связь с Москвой прервана. А сколько труда и нечеловеческих мук на все это ушло! Настроение прегнусное. Когда же кончится наш драп.
Лисичанск взят немцами. Видимо, в моей меховой куртке, которую я оставил своим хозяевам квартиры на хранение, будет теперь щеголять какой-нибудь фриц. А что стало с моим госпиталем, медсестрами…
18.07.42.
Отходим. Отходим по ночам под проливным дождем. Сзади горящие дома, густой дым, взрывы. По грязным разбитым дорогам тянутся вереницы подвод и автомашин. Мелкими группами уныло двигается отходящая пехота.
Наша полевая кухня где-то затерялась. Хорошо, хоть по дороге можно всласть поесть вишен и меда.
Настроение поганое. Тяжело покидать землю, с которой успели породниться. Вернемся ли мы сюда когда-нибудь. Писем не получаю, не знаю, как дома, кто сейчас где и как. Дождь не перестает, небо плачет, провожая нас. Останавливаемся в незнакомых селах и поселках. Заводим патефон, шутим, смеемся, но у каждого на душе кошки скребут. Хоть бы отвлечься чем-нибудь или кем-нибудь.
19.07.42.
Мы уже в Ростовской области. Прощай, Донбасс, прощай, Украина! Теперь вся украинская земля захвачена немцами. Густые вишневые сады, темные задумчивые терриконы, беленькие приветливые деревушки и поселки — все осталось позади. В ростовских хуторах население относится к нам совсем по-другому. На Украине каждый готов был отдать все, что у него было, и обижался, когда мы за это платили. Здесь без скандала нельзя достать глоток молока.
Сегодня был такой случай. В каком-то хуторе вдруг подходит ко мне наш офицер, старший лейтенант, и обращается по-французски. Я сначала никак не мог понять, что это значит и кто этот офицер. Потом познакомились, разговорились. Оказалось, что он весьма симпатичный человек с высшим образованием, учился в дипломатическом институте Наркоминдела. Немного владеет немецким. Но дело не в нем, хотя и в нем много непонятного. Привел он меня в одну избу. Хозяев никого нет. Открыли дверь в одну комнату, смотрю, висит белое полотнище с надписью на немецком языке «Добро пожаловать!», поверх полотнища — икона, украшенная цветочками. Мой новый знакомый рассказал, что здесь когда-то, лет двести тому назад, жили немцы-колонисты. И вот даже обрусевшие за эти годы жители хутора явно предпочитают своих далеких предков, чем нас. Такие вот дела. Мы молча постояли перед этой избой, не зная, что нам предпринять. Но уже послышалась команда нашего начальства: «По машинам!», и мы распрощались. Он пошел к своим, я — к машине.
Отсюда, где мы находимся сейчас, до Ростова километров пятьдесят. Всю ночь сверкали зенитки, полыхали сброшенные немцами осветительные ракеты. Видно, сильная была бомбежка. Нашу дивизию, вероятно, вскоре бросят туда, чтобы задержать немцев, наступающих с Воронежского направления.
21.07.42.
Мы уже под Ростовым, в пяти-шести километрах от города. Ростов весь в дыму, видны многие разрушения. Мы стоим здесь часов шесть, и за это время было не меньше пяти авианалетов. Так продолжается с восьмого июля, когда началось наступление немцев на Ростов. Немецкие самолеты летают беспрерывно, а нашей авиации вообще не видно. Петровский ходил ночью в разведку, был в городе. Рассказывал, что там живет его любимая девушка.
Завтра драпаем за Дон.
22.07.42.
Сегодня и до нас дошла очередь. Фрицы бомбили наш лесок. Несколько человек убиты, есть раненые. Собак — истребителей танков — перебито без счета. Взрывы, свист падающих бомб, шум моторов, стоны, крики и выстрелы — все слилось в один чудовищный гул. А Ростову достается все больше и больше. Огромные пожары, разрушения. Дым застилает весь город, которого почти не видно.
Получили боевой приказ: проникнуть в Новочеркасск, который по непроверенным данным занят немцами, и узнать, действительно ли это так.
Сейчас возвратились. Пока жив. Что там было!!! Десятки самолетов летали над дорогой, кружили как пчелы и снова возвращались к себе. На меня пикировали три самолета метрах в десяти от земли. Я прижимался к траве и уже отсчитывал свои последние секунды, так как самолеты вели огонь из пулеметов. Пули свистели совсем близко. Как я остался цел, просто удивительно. А как нас бомбили! В ушах все еще стоит свист и грохот разрывов бомб. Сколько наших погибло, никто не знает. Петровский не вернулся, не дай Бог, убит или остался лежать раненый в какой-нибудь канаве…
Сейчас сижу на окраине Ростова в полуразрушенном доме. Ждем темноты, чтобы переправиться за Дон.
Черт возьми, где же наша авиация и есть ли она вообще у нас? Жалкое количество наших «ястребков», которые летают над Ростовым, тут же пускается в драп при появлении немецких бомбардировщиков. А на передовой наших самолетов совсем нет. А где наши танки? Вчера на Новочеркасск шло почти двести немецких танков, а у нас не было ни одного.
И сегодня туда прорывается до тридцати танков, может, уже прорвались. Сейчас неподалеку от нас упала бомба в жилой дом, все разворотила. Посреди улицы лежит женщина в белом платье вся в крови. Когда же настанет час расплаты?!
23.07.42.
Покидаем Ростов. Едем сквозь ад. Машины, подводы конные, пешие запрудили улицу. Крики, вопли, мат и залпы зениток. Все время напряженно прислушиваемся: не летит ли бомба. А у переправы через Дон — ад кромешный. Кругом разрушенные здания, дома горят, и ветер раздувает пламя. Там машины, подводы, люди — военные и гражданские, сбились в одну невероятную кучу. Мрак, грязь, свист и взрывы бомб. Если только судьба сохранит меня и я останусь жив, это будет самое кошмарное воспоминание в моей жизни.
Сейчас отъехали обратно в город. Стоим во дворе дома на площади Свободы. Каждую минуту ждем характерного гнусного воя и свиста бомб. Наши пошли на разведку к переправе. Я там уже вчера был. Всюду смрад от разлагающегося мяса: убитые люди, лошади валяются на дороге. Вот опять свистят бомбы.
Сейчас опять был на переправе, она разбита. Всюду трупы лошадей, людей, издающие невыносимое зловоние. Да к тому же множество пьяных. Оказывается, где-то рядом разграбили винный завод. К трупному запаху примешивается смрад винного перегара. Драка, крики:
— Сволочи! Продали Советский Союз!
— Расстреляйте меня, товарищ комиссар! Расстреляйте меня, подлеца и негодяя!
— Где наши самолеты? Где они!
Сегодня был в одной пьяной компании: Пошел, потому что уже вторые сутки почти ничего не ел. А там, на столе в большой железной миске, были макароны. Немного подкрепился, вина почти не пил, хотя сейчас было бы лучше напиться до бесчувствия, чтобы не видеть этого кошмара. Но это слабость, а у меня есть еще силы.
Здесь рядом с нами разгромили огромную библиотеку, книги кучами валяются на полу в коридоре. Художественную литературу почти всю растащили. Нашел книгу стихов Н. Тихонова. Есть много созвучных нашим дням стихотворений.
А нам, видно, придется взрывать нашу машину и драпать пешком. Переправиться через Дон — почти безнадежное дело. Здесь есть две переправы, которые поочередно разрушают немцы.
24.07.42.
Свершилось чудо — мы вырвались из этого ада! Переправились в Аксае. Совсем спокойно и неожиданно гладко. Набрали полную машину раненых и втиснулись на паром. На другой стороне машину у нас отобрали, а меня чуть не сделали командиром роты и хотели послать обратно на передовую. С трудом объяснили им, где я служу и кем.
Сейчас сижу в каком-то поселке по дороге в Батайск. Где-то там должен быть наш штаб. Мы отдохнули немного в конюшне и сейчас продолжим свой поход, может, к вечеру доберемся.
25.07.42.
Наконец после долгих скитаний нашли свой штаб. А сколько ходили, километров, наверное, пятьдесят прошли, все ноги поотбил. И за это время почти ничего не ели: завтрак — фрукты и овощи (зеленые яблоки и огурцы), обед, он же ужин, то же самое «меню». Хорошо, что у нас было совсем немножко сухарей и сахара. Ростов уже нами оставлен. Немцы вот-вот войдут в Батайск.
Пытался узнать что-нибудь о Петровском — никаких следов. Начальство недовольно моими расспросами и официально заявляет, что он перешел к немцам. И неудивительно, дескать, сын врага народа и т. д. и т. п.
Бомбежки продолжаются. И скрыться некуда. Боюсь, что драпать нам придется чуть не до самой Волги.
26.07.42.
Опять отходим. Ничего не поделаешь, здесь негде держать оборону. Да и нечем. Фрицевскую авиацию голыми руками не остановишь.
Сейчас замечательная ночь. Спокойно. Большая луна. Только вдруг где-то рядом застрочит автомат, и взовьется в небо ракета. Немец совсем близко, километрах в двух. Уже сегодня из нашего сарая его было хорошо видно невооруженным глазом. Настроение самое приниженное. Опять оставляем нашу родную землю. Доколе?
29.07.42.
Чудом остался жив. Вчера вечером ничтожная кучка немецких автоматчиков разгромила наш штаб. Какой-то взвод обратил в бегство целую дивизию! Вот к чему приводит наш бардак. Служебные документы все остались немцам. Моя шинель, плащ-палатка, белье — стали трофеем какого-нибудь фрица. Оставил свой портфель и в нем мою «Серую тетрадь» с моими любимыми стихами. Этого себе я никогда не прощу. Растерялся и не догадался сунуть ее в полевую сумку. Хотя это было трудно сообразить, когда над головой свистят пули, а рядом рвутся мины. Не знаю, кому из наших удалось спастись. Я выбрался вместе с начальником шифровального отдела, проделав за ночь блиц-драп километров в двадцать пять. А начальство наше при первых же выстрелах смылось на своих легковых автомашинах, бросив свой штаб на произвол судьбы. Охрана наша, наши автоматчики драпанули первыми. Мы вдвоем последними выбрались из села…
Сейчас находимся уже в Краснодарском крае. Казачьи станицы богаты и обильны. Большие фруктовые сады, усыпанные яблоками, сливами, абрикосами. Наелся я всего этого до того, что живот разболелся.
31.07.42.
Все мое имущество пропало: наша машина, на которой был мой чемодан, внезапно испортилась и осталась у немцев. Теперь у меня нет даже пары белья, чтобы переодеться. Ну, да леший с ним, с этим бельем. Вот только «Серую тетрадь» и фотокарточки я себе не могу простить.
2.08.42.
Опять попали в весьма серьезное положение. Немцы выбили нас из одного села. Драпали под пулями и минами. Вместе с нашими разведчиками держал оборону. Уже не думал, что останусь жив. Немцы обошли нас с тыла и могли всех перестрелять, как гусей. Забрался я в какую-то яму, напоминающую по своему аромату помойную, а недалеко разрывались снаряды. Били по нам прямой наводкой. Нервы до такой степени перенапряглись, что как только попал в нашу дивизионную машину, буквально потерял сознание. Какая-то сволочь воспользовалась этим и украла у меня пилотку. Так что теперь я остался совсем без всего.
Читали нам новый приказ Сталина: «Ни шагу назад!» Приказ хороший, только к нему надо добавить сотню самолетов и хотя бы одну сотню танков на каждую нашу дивизию. А без этого дополнения любой приказ останется на бумаге.
До чего я устал от войны! Хотя бы один день прожить мирной жизнью, сходить в баню, поспать в чистой мягкой постели с простынями, почитать вечером хорошую книгу или сходить в театр, на концерт.
Получил письма из дома от 3 июля. Видимо, многие письма, которые я должен был получить, пропали.
3.08.42.
Опять отходим. Когда же мы сможем смыть с себя этот позор! Скоро наша дивизия перестанет существовать, ведь у нас в полках осталось по 40–50 человек. А у немцев в ротах еще по 90–100 человек.
Сегодня опять драпали под огнем, теперь это уже кажется обычным. Сюда бы пару наших свежих дивизий при поддержке авиации и танков, и фрицев можно было бы гнать до самого Дона.
5 или 6.08.42.
Уже потерял счет дням. Каждые сутки отходим на 30–40 километров. Станицы, хутора, совхозы мелькают как в калейдоскопе. А какое кругом изобилие! Сколько абрикосов, яблок, вишни, молока, меда! Можно просто купаться во всем этом. И все оставляем немцу. Я каждый день поглощаю бесчисленное количество фруктов, даже желудок расстроился. Жаль, что он у меня имеет такие ограниченные возможности.
А душа вся просто извелась, как тяжело оставлять родную землю. Когда же придет этому конец, когда же наступит час расплаты!
Сейчас сижу, прислонясь к копне сена, в маленьком хуторе. Хуторок весь в зелени, чистенький, как игрушка. И люди такие приветливые. Вечереет. Скоро станет темно, и мы опять тронемся в путь. Боже мой, как надоели эти путешествия! Хоть бы пару дней побыть на одном месте, отдохнуть, помыться, постирать белье. Моя нижняя рубашка по чистоте своей не отличается от портянок, которые, пожалуй, даже почище.
Как я огрубел, душа постепенно превращается в какую-то дубовую деревяшку. Неужели я был когда-то способен на большую нежность, мог любить кого-то? Не верится. Но нельзя с этим смириться. Я должен иметь право в любую минуту сказать о себе:
Я много уже исходил дорог, Но чувства свои сберег, Ни грохот снарядов, ни близость огня — Ничто не изменит меня.7.08.42.
Переправились через Кубань. Здесь хоть порядок был на переправе, да и немецкой авиации не было. Жара стоит страшная. И пыль кругом густая-густая — в двух метрах ничего не видно, тем более если едешь за какой-нибудь машиной. Последние сутки с машины я не слезаю, все время едем. Вот и сейчас скоро опять тронемся. Нас переводят в резерв. Но что остается за нами? Неужели и Кубань отдадим немцам?
Сегодня хоть успел белье свое постирать, а то ходил грязнее сапожника. До чего все-таки население к нам хорошо относится, даже лучше, чем на Украине. И мы оставляем этих людей немцам. Позор!
8.08.42.
Находимся в станице Белореченской, в преддверье Кавказа. Есть приказ: умереть здесь, но ни на шаг не отходить. Да, собственно, и отходить-то дальше некуда.
Познакомился сегодня с одним очень интересным человеком. Он бывший соратник Кочубея, командир Лабинского полка, организатор восстания в Армавире, орденоносец. А теперь инвалид, еле передвигается по комнате. Долго говорили о том, что у нас происходит, во что превратилась наша армия, созданная его руками и руками его соратников. Он напомнил мне, что у нас полками и даже дивизиями командуют вчерашние командиры рот, а то и взводов, а боевые командармы, комкоры, комдивы погибли в предвоенные годы. Вот вырастут, созреют новые командиры и начальники, тогда и на фронте все изменится.
Местное начальство эвакуировать его и его семью не собирается, а мы, военные, не можем. Пешком он идти не сможет, а ехать не на чем. Наши санитарные машины давно уже далеко отсюда…
Да, чем искупить наш позор перед нашим народом, перед такими людьми, как этот бывший герой Гражданской войны?
9.08.42.
Сдан Майкоп, вслед за Армавиром. Вот-вот падет Белореченская…
Куда же дальше? Нет, не умеем мы воевать, не умеем и не можем… А давно ли мы не уставали твердить, что «наш народ не только умеет воевать, но и любит воевать». Вот она, трепачкова лавочка, к чему привела!
12.08.42.
Сегодня опять наш штаб чуть не накрылся. Драпали под проливным дождем пуль, поближе к горам. Потом выяснилось, как это получилось. К мосту подъехали три автомашины с военными в нашей форме с нашим оружием. Их беспрепятственно пропустили в наш поселок, они выскочили из машин и открыли ураганную стрельбу. Мы едва успели добраться до своей машины и драпануть. Сейчас находимся в поселке Котловина. Наши ребята ведут там бой. Нельзя было применить артиллерию, все в одинаковой военной форме, не разберешь, где наши, а где фрицы.
Сейчас здесь тихо. Давали еду сухим пайком: наша полевая кухня Бог весть где. Говорят, что раздадут по паре чистого белья, но я этому мало верю.
Писем нет, почта наша где-то потерялась. А у немцев письма из Германии идут всего десять дней. Да еще солдаты имеют право получать из дома посылки и домой посылать.
26.08.42.
Все еще сидим в этой Котловине. На нашем участке, как говорится, без изменений. Появилась наша авиация, которая бомбит преимущественно наши же войска. Просто диву даешься: наших самолетов или вообще нет, или они бомбят своих.
Писем нет и нет, ведь прямого сообщения с Москвой уже нет. Может, теперь через Турцию письма будут ходить.
Вчера была замечательная лунная ночь, теплая и тихая. Горы отчетливо выделялись на фоне светлого неба…
28.08.42.
Сегодня должно было состояться празднование годовщины со дня формирования нашей шахтерской дивизии, но что-то не состоялось. Не до праздников. У нас здесь дела совсем скверные: под Пятигорском наши отходят, а севернее бои идут под Сталинградом. Черт возьми, долго ли еще нам можно будет только бессильно сжимать кулаки?!
Последнее время что-то снятся странные сны, будто я куда-то еду, то на лошади, то на пароходе. Может, и мы куда-нибудь тронемся, слишком долго тут засиделись.
Настроение умеренно хорошее, хотя хорошего очень мало. Когда же я узнаю что-нибудь о доме, о Вовке, об Артуре…
30.08.42.
Чувствую какое-то отупение. Не знаю, что надо сделать, чтобы совсем не окретиниться. О, моя «серая тетрадь»! Как я мог ее оставить! В ней стихи Гейне, та самая маленькая книжечка, которая так меня спасала в госпиталях. «Я хочу одной отравы: пить и пить стихи». А стихов нет.
За неимением своих писем, читаю фрицевские, есть много интересного. Но без словаря мне часто приходится трудновато. Попадается много незнакомых слов и выражений, без которых нельзя понять значение всей фразы. Где теперь можно достать словарь? Единственная надежда на трофейный, но его можно ждать до скончания века.
Вчера опять все время в голове была Нинка. Как хотел бы я с ней сейчас встретиться, интересно, что бы из этого получилось?
4.09.42.
Время и события идут своим чередом. Под Сталинградом напряженные бои. А на западе наше наступление увяло, не успев расцвести. Да, дела печальные, а что еще будет… Все еще сидим в этой Котловине. На нашем участке немцев держат, да иногда крепко бьют. Если бы все наши дивизии дрались как мы, никогда не было бы такого позорного положения на фронтах.
Вчера вечером мы с помощником начальника разведки Толей Гречаным устроили грандиозное истребление наших вшей. Зашли в лес, разожгли костер и стали кипятить в котле все наше барахло. Было эффектное зрелище, когда мы в адамовых костюмах плясали в темноте, чтобы согреться. Но, боюсь, эта процедура нас не спасет, опять набегут, подлые. Ведь все наши штабные офицеры кишмя ими кишат. Стоит подойти к кому-нибудь, и тут же подцепишь вошь.
7.09.42.
Обстановка на нашем участке становится все напряженнее. Каждый день к немцам подтягиваются новые и новые войска, орудия и техника. Видимо, в ближайшее время они предпримут здесь наступление. Засылают к нам шпионов, наших же дезертиров, целыми пачками. На других фронтах уже начались сильные бои.
Неужели мы не выдержим? Страшно себе представить, что тогда будет. Вечная казарма под немецким сапогом. Нас пошлют воевать с Англией, с Америкой. Наша культура, музыка, искусство, литература все будет уничтожено, если победит Германия. Я вполне представляю себе немецкий «новый порядок». Достаточно почитать выступления их вождей, их газеты, письма и дневники, чтобы ясно увидеть, что нас ждет. В европейской части русских вообще не будет, всех сошлют за Урал. В Европу наших будут посылать только на черную работу, на борьбу со стихийными бедствиями. Нет, этого нельзя допустить, мы должны удержать свою землю! Мы должны победить, победить любой ценой, если вообще хотим жить. Наше поражение означает если не физическую, то уж поголовную духовную смерть.
12–14-16.09.42.
Сегодня получил письмо от Нинки. Да, теперь мне понятно, почему все так получилось. Если бы только ее увидеть! Еще и еще раз перечитал ее письмо. Если бы еще месяц мы могли быть вместе, никогда бы этого не случилось. Слишком молодо было ее чувство, слишком коротка и неуверенна была наша любовь.
Она пишет, что любит меня, любит, может быть, еще сильнее и горячей, чем прежде. Если бы это было так! Но то, что она сомневалась в моем чувстве, говорит о том, что она не была уверена и в своем.
Она ни словом не упомянула о том, что вышла замуж. Может, этого и не было, но она должна была написать мне о том, кто и как помог разрушить ее чувство ко мне. Половинчатая откровенность не бывает у человека, который действительно любит.
Черт знает, что будет дальше: Новороссийск сдан, под Сталинградом сильные бои. На второй фронт надеяться рано, хотя у немцев обстановка дома значительно осложнилась. В своих письмах на фронт немцы все чаще жалуются на беспрерывные, воздушные тревоги днем и ночью. Но ведь одними налетами дела большого не сделаешь.
Что будет с нами зимой? Теплой одежды нет, с продовольствием тоже туго. Ну, да как-нибудь перебьемся.
Получил письмо от своей школьной учительницы литературы, Евгении Николаевны. Пишет, что дела в Москве невеселые. Наш учитель географии Николай Иванович так истощал, что опух от голода.
17.09.42.
Получил еще несколько писем. Слава Богу, мой перевод дома получили. Теперь надо вырваться в мой полк, получить еще деньги и отослать домой.
Ночи стали такие холодные, что во сне можно запросто замерзнуть. Утром на траве лежит белый иней. А в моей меховой куртке, оставленной в Лисичанске, гуляет сейчас какой-нибудь фриц.
20.09.42.
Сегодня нас пытались разбомбить: две бомбы разорвались метрах в двухстах от нашего командного пункта. Правда, это были какие-то эрзац-бомбы, сделанные из бетона и начиненные разной металлической дрянью. Воронки от них глубокие, но взрывная волна слабая. Маленький сарайчик, который стоял метрах в двух-трех возле одной воронки, остался цел и невредим и не получил даже пробоин от осколков.
Хотел сегодня помыться, но так и не удалось: не было ведра. Когда же я попаду в свой полк, где так давно не был? Там теперь все новые люди, которых я не знаю. Теплинский убит, Долгий тяжело ранен. Жаль их, хорошие ребята, особенно Теплинский.
Получил сегодня письмо от своего двоюродного брата Сережи. Он работает в госпитале на северо-западном фронте. Где-то сейчас Вовка? Ведь мы с ним почти соседи.
А Артур так до сих пор молчит. И от Мэри ни слова. И мать Артура молчит, прямо удивительно и необъяснимо.
25–26-28.09.42.
Получил несколько писем, в том числе от матери Артура. Он в Уфе на стройке. Непонятно, на военной стройке в армии или где. Завтра я ему напишу, может, ответит.
Как соскучился я по книге! С каким бы удовольствием почитал бы я сейчас Хемингуэя. Из всех современных писателей я его, пожалуй, люблю больше всех. Вдумчивый, наблюдательный и глубоко человечный писатель.
Фрицы наступают. Круглые сутки их авиация не прекращает бомбежки. Наш КП перебрался на новое место. И вовремя: сегодня раздолбали старый КП. Что-то будет завтра? Выстоим ли или придется драпать?
Получил письмо от Тани. Наш ИФЛИ переехал из Ашхабада в Свердловск. Значит Нинка уже там. Успела ли она получить мое письмо…
Таня пишет, что погиб Шурка Мостовенко. Большая потеря. Из него получился бы неплохой поэт. Его стихи были в моей «Серой тетради».
29.09.42.
У нас война в полном разгаре. Фрицы уже совсем близко, километрах в двух-трех. Почти рядом рвутся мины и строчат автоматы. Боюсь, как бы дело не кончилось Красной слободкой.
Фрицы здесь сконцентрировали свыше двух дивизий. Это против одной нашей, порядком потрепанной.
Вчера поймали наконец пленного. Унтер-офицер, говорит, что война всем солдатам чертовски надоела, настроение у всех плохое.
Их успехи никого не радуют: слишком дорого они обходятся. Я спросил его, когда кончится война. Он ответил: «Когда русским и немцам будет нечего есть».
2.10.42.
Уже октябрь. Мы опять отходим. Наш участок, пожалуй, единственный, где Красная Армия отступает в западном направлении. Бывает же такое!
Дрались мы крепко, но против нас действует больше трех дивизий. Уложили фрицев бессчетно, но они, как говорится, не считаясь с потерями, лезут как ошалелые.
3.10.42.
Опять отходим… на запад. Я мог бы написать друзьям: «Мы двигаемся на запад, и довольно быстро». Горькая усмешка судьбы. Видно, придется нам встретиться с Черным морем.
А пока сижу в местечке Гойтх. Из-за бомбежек население ушло в горы, в домах никого нет. Наши доблестные воины хозяйничают там как в своих квартирах. Я тоже зашел в один покинутый дом. Несколько наших красноармейцев с жадностью черпали из бочки молодое вино. Я тоже выпил пару кружек, не понравилось. Дрянь порядочная. Зато захватил трофей — ложку. Простую деревянную ложку, без нее я не мог нормально поесть, ни похлебку, ни кашу.
Фрицы бомбят беспрестанно, сегодня сам чуть не угодил под бомбежку.
6.10.42.
Нахожусь недалеко от станции Пшиш по дороге на Туапсе. Когда-то проезжал мимо этой станции, но не думал, что придется побывать здесь, да еще в таких кошмарных условиях. Немцы все нажимают и нажимают. У них на этом узком участке более четырех дивизий, да еще всякие подсобные войска, вроде Туркестанского легиона и казачьего эскадрона. В их состав входят перебежчики и пленные из среднеазиатских и кавказских народностей, украинцы и казаки. Елдаши обучались военному делу в Польше, так что вполне боеспособны. Украинцы и казаки получают за свою «службу» у немцев 18 рублей, поменьше, чем Иуда.
Я бы эту сволочь безжалостно перестрелял всех до единого. Наше положение тяжелое, вероятность победы крайне мала. Но, что бы с нами не случилось, я никогда бы не стал служить немцам. Если случится самое печальное, перейду к англичанам и американцам и буду воевать на их стороне.
За это время я многое узнал о Германии из немецких газет и трофейных документов, от пленных и от наших разведчиков. Это огромная казарма, и все стороны ее жизни пропитаны солдатчиной. А я больше всего на свете ненавижу казарму и солдатчину. И нигде нет такого подавления человеческой личности, как в Германии…
(Продолжение этих записей было уничтожено в 1946 году, когда я перечитал их. Оказалось, что, сравнивая гитлеровскую систему с нашей сталинской, я обнаружил немало общего и даже родственного. Но тогда эта тема была совершенно запретной и грозила ГУЛАГом).
10.10.42.
Сегодня второй день беспрерывной бомбежки. Шум моторов и свист бомб не умолкают ни на минуту. Сколько жертв! На моих глазах убивало и ранило наших бойцов. А все потому, что в небе ни одного нашего самолета, где же все они?!
Сейчас сижу в лесу возле станции Гойтх. Штаб куда-то запропастился, и мы уже вторые сутки не получаем никакой еды. Сегодня утром нашел несколько каштанов да остаток старого початка кукурузы — этим моя дневная норма будет исчерпана.
Сегодня ночью на станцию везли раненых. Боже, сколько их! Валяются на земле как дрова!
13.10.42.
Не знаю, выдержат ли дальше мои нервы. Вчера опять был под бомбежкой, да еще под какой! Осколки беспрерывно свистели и шипели над моей головой.
Давно нет писем из дома. Как-то там у них дела. Хоть бы мой перевод получили, все какая-то была бы помощь.
Уже осень. Начались постоянные дожди, часто бывают заморозки. Год тому назад плыл я в это время на пароходе. Далеко-далеко от моей родной Москвы, от дома, от друзей, от любимой. Вода пенилась за кормой, убегая обратно, а внизу, в трюме кто-то пел песню про соловушку.
О, мое эго! Через N-времени, если придется, быть может, сидеть в уютном кресле за своим письменным столом в теплой и чистой комнате и читать эти записи, эту тетрадь, вспомни все, что пришлось тебе пережить.
Вспомни, как в чужом и далеком Ставрополе — на Волге в ноябре месяце ты валялся на сыром и грязном полу в конторе «Лесхоза», где сквозь дырявую крышу виднелись звезды на морозном небе; вспомни, как скитался ты по вокзалам и вагонам, как бродил от хаты к хате в поисках ночлега; вспомни, как лежал в сыпняке на краю от смерти и впервые услышал, как свистят пули и воют мины; вспомни страшные дни Ростова, пожары, взрывы, кровь; вспомни, как лежал ты в канаве в Красной Слободке, над головой свистели пули, а метрах в семидесяти шли немецкие автоматчики; вспомни, как рвались мины в станице Пшехской и как ты драпал оттуда на продырявленной в решето автомашине, держа на весу свою повязанную тряпкой окровавленную руку; вспомни, как рвались рядом бомбы, и ты, лежа в крохотной канавке возле станции Пшиш или у разъезда Гойтх мысленно отсчитывал свои последние секунды; вспомни, как лежал в дырявом шалаше, абсолютно мокрый и продрогший, лязгая от холода зубами; как сутками голодал, рылся в опавших листьях и ветках, ища упавшие груши, яблоки или каштаны… Вспомни, содрогнись и задумайся над тем, кто и что ты сейчас есть, так ли ты устроил свою жизнь, за которую сам столько перенес и за которую погибли твои друзья. Ты должен быть счастлив, черт, побери! Иначе не стоит сейчас и жить. Смерть ведь так близка, стоит только во время бомбежки вылезти из щели.
14.10.42.
Опять перебрались на новое место. Фрицы не раз пытались перерезать нам дорогу. Ехали ночью по шоссе, которое всюду простреливается. Одного снаряда для нашей машины было бы вполне достаточно. К счастью, немцы были заняты каким-то другим делом и по дороге не стреляли.
Не могу забыть Тамару, нашу машинистку, моего заместителя по комсомольской работе, которую убило бомбой. Последнюю ночь мы провели вместе в какой-то канаве, под моей плащ-палаткой. Очень милая была девушка. В тот же день ее убило и еще двух девушек из нашего штаба, но я их знал мало и поэтому не так переживал.
Сегодня я помылся в ручье и переодел белье. Вода чертовски холодная, но что поделаешь, иначе меня бы совсем заели вши. Интересно, долго ли мы здесь продержимся. До Туапсе остались считанные километры, чувствую, что придется увидеться с любимым Черным морем.
16.10.42.
Опять «новоселье», но его не празднуем. Осели вблизи станции Индюк. Место тут неплохое, но, вероятно, скоро и отсюда драпанем. Как же надоели эти почти ежедневные мытарства, но просвета не видно. Только бы не потерять по дороге свои тетрадки, справочники, письма, фотографии.
19.10.42.
Какой же у нас бардак! Одно безобразие за другим! В АХЧ (административно-хозяйственной части) не прекращается воровство, командирские пайки уходят неведомо куда, только не командирам. Процветает подхалимство и пятколизательство. В результате самые трусливые получают медали «За отвагу», а те, кто это заслужил, остаются забытыми. Помощника начальника нашего разведотдела три раза представляли к правительственной награде, но все представления потеряли и забыли. Сейчас он болен, лежит в госпитале, и о его заслугах никто и не вспомнит.
Во втором эшелоне живут как на курорте, пьют водку, имеют свою баню, а у нас многие командиры второй месяц белья не меняют, у них нет возможности помыться, переодеться. Начальство это не беспокоит. Поэтому нас и бьют кругом, бьют, бьют, а все никак не научат. Плохо мы воюем.
Вот недавно читал я последний разведбюллетень на тему «Мнение противника о нашем умении (вернее неумении) воевать». Вот некоторые прописные истины, которые почему-то до сих пор не усвоены некоторыми нашими военными начальниками: «У русских войска развертываются медленно, вводятся в бой по частям. Наступление начинается без тщательной разведки выявленных слабых участков. Не обеспечиваются фланги наступающих войск, что дает нам возможность быстро сорвать наступление…
Русские почти никогда не знают, куда наносить главный удар. Пренебрежение защитой флангов, которые находятся под угрозой, способствует успеху наших действий по окружению противника. Наступление русских почти всегда сопровождается артподготовкой в намеченном для наступления направлении. Артиллерийский огонь обычно выдает замыслы русских. Силы их вводятся в бой не одновременно. Взаимодействие с артиллерией и авиацией бывает, как правило, неудовлетворительно, а иногда и вообще отсутствует…
После удачного наступления у русских отсутствует планомерное использование успеха с помощью быстрого подтягивания резервов и преследования противника этими резервами. Как только наступление задерживается, русские немедленно окапываются. Неудачные наступления часто повторяются на одном и том же участке, невзирая на большие жертвы…
Русские три раза шли на высоту под губительным огнем наших пулеметов. Если бы вместо этого они бросили основную часть своих сил в лощину, я должен был бы отойти…
Отрицательной стороной подготовки русского наступления является также и то, что еще задолго до его начала слышатся крики, шум, ругань. Тем самым русские предупреждают о готовящейся атаке и дают нам возможность подготовиться к ее отражению».
Вот так нас учит противник. Прямо пальцем показывает на все наши несуразности. А мы все никак не научимся. Сколько примеров можно было бы привести, когда мы терпели неудачу только потому, что не соблюдали элементарные основы тактики. К этому можно еще добавить безобразную связь во время боя и, самое главное, — отсутствие маневренности войск за счет второстепенных участков фронта. Пока мы не усвоим всего этого, мы никогда не добьемся решающих успехов.
А погода стоит ужасающая: вторые сутки без перерыва идет дождь. Я прошедшей ночью не стерпел и ушел в село. Переспал хоть под крышей, а то нас в ущелье затопило.
Сейчас неожиданно для себя попал в рай: сижу в хате возле печки, в которой бодро потрескивают дрова. Тепло, а главное, сухо, — ибо над головой, как это ни странно, крыша и даже потолок есть. Если удастся здесь переночевать, то смогу считать себя счастливейшим человеком на свете. Хоть фрицы и бросают сюда время от времени по нескольку снарядов, но все же с этим легче примириться, чем с нашим ущельем. Я только сейчас ходил туда. По дну течет настоящая река, перейти ее можно лишь по колено в воде.
В нашем четвертом отделе обвалилась землянка и задавила машинистку. Боже мой, какая напасть на наших машинисток, сколько их погибло только за последние дни!
20.10.42.
Сегодня ночью совершил «приятное» путешествие — километров двенадцать, в дождь и грозу. Промок так, что ни одной сухой нитки не осталось. Дождь лил сплошным потоком, в двух шагах ничего не было видно. Только молния вспыхивала ежесекундно и слепила глаза. И шумела, бурлила вода.
А потом попал в теплую уютную хату, спал на настоящем деревянном полу под настоящим стеганым одеялом на мягких пуховых подушках. Прямо не верилось. А между тем в этой же комнате живут двое военных, которые спят на кроватях, едят оладьи и жареную картошку, черпают столовыми ложками сахар! Это работники какого-то Долговременного опорного пункта. Что это за пункт и кому он здесь нужен, неизвестно. Да, война не всем приносит лишения и невзгоды.
22.10.42.
Опять отходим. Только вчера еще жили в помещениях, где было тепло и сухо. А сейчас опять попали в лес. Хорошо хоть пока нет дождя. Впрочем, ночью он непременно будет, и снова придется испытать приятное «удовольствие» от ночевки под дождем.
А как сейчас страдает мирное население. Вчера мы остановились в бараке, где жили беженцы. В нашей комнате была женщина из Туапсе. Она бросила свою семью, детей и поехала одна в этот лесной дырявый барак без окон и с дырявой крышей. При звуке моторов самолетов, хотя бы и наших, она стремглав выбегает из комнаты в лес. Нервы не выдерживают. Ее дети остались в Туапсе у сестры. Вот уже два месяца она ничего не знает об их судьбе. Она тоскует по своей семье, плачет, но не имеет сил вернуться домой. Кто осудит ее?
А сколько матерей передвигаются сейчас по глухим лесным тропам ночью в грозу и дождь, ведя за собой голодных, измученных детей. За что страдают они? О, будь проклята наша позорная слабость! Наша ненависть и гнев пока бессильны. Мы можем только в газетах пугать Германию расплатой за жертвы и страдания нашего народа. Пугаем и отходим, отходим. На нашем участке немцы снова продвинулись и заняли два населенных пункта. Армянская дивизия позорно бежала, не приняв боя. Этих «сынов солнечного Кавказа», как их называют в наших газетах, надо бы всех подвергнуть публичной порке. Когда же придет возмездие за все то, что переживает наша страна, наш народ, наша армия?!
25.10.42.
Вчера получил наконец известие из дома от 10 октября. Пока все в порядке. Наша дальняя деревенская родственница Поля их немного подкармливает. Как я соскучился по дому! Хоть бы на один денек попасть туда.
Наши сегодня наступают. Что-то из этого получится.
26.10.42.
Наступление, вроде, захлебнулось. Опять не сумели развернуться, хотя силы у нас были. Больше 5000 автоматчиков. Как-то там Толя Гречаный, жив ли…
Сегодня в одной немецкой газете прочитал вот такое обращение, набранное крупным шрифтом: «НИКОГДА НЕ „ТОВАРИЩ“! НЕМЕЦ, БУДЬ ГОРД СОЗНАНИЕМ ТОГО, ЧТО ТЫ НЕМЕЦ. ПОЛЯК НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТВОИМ ТОВАРИЩЕМ. ПОЛЯК ОСТАЕТСЯ ПОЛЯКОМ».
Таких откровенных подтверждений их «расовой теории» я никогда раньше не встречал.
27.10.42.
Сегодня наконец попался фриц. Но опрос его превратился в гнусное издевательство. Пьяный начальник штаба избил его, и поэтому опросить его как надо бы, мне не удалось.
Читал я вчера один секретный приказ, в котором проводится разбор августовской операции под Ржевом. До чего ж большие мы собрали силы: около 15 дивизий, несколько бригад, бессчетное количество артиллерии, «катюш», до 300 самолетов, несколько танковых бригад и т. д. и т. п. И такие жалкие результаты. Даже Ржев не смогли взять. Да, не умеем мы еще воевать, не умеем и не можем. Даже технику свою не умеем использовать.
Сегодняшний фриц говорил, что будто бы вчера им сообщили, что Сталинград пал. Неужели это так? Тогда наше положение совершенно плачевное, если не безнадежное.
28.10.42.
Сегодня полгода как я в этой дивизии. Быстро летит время. Присвоили мне вчера очередное звание. Теперь я — старший лейтенант.
Прочитал сейчас свои последние записи и увидел, что в военных оценках я давно уже на уровне генерала, ну хотя бы полковника. Так что мое очередное звание явно занижено. Но шутки, как говорится, в сторону. Сейчас нахожусь в горах на высоте выше тысячи метров над уровнем моря. А если точнее, на наших картах она называется — высота 1000,1. Едва вполз сюда вместе с нашим КП. Боюсь, что через пару дней опять куда-нибудь скакнем.
А начальство наше лежит в лоск пьяное. Комиссар штаба на четвереньках из шалаша вылезал, вояка, ему бы только водку хлестать. Вот воюй с такими «полководцами».
2.11.42.
Все эти дни работы по горло. Наши наступали, взято много пленных и документов. Нынешние фрицы в основном восемнадцати-девятнадцатилетние ребята. Вид у них довольно жалкий, худые, с трясущимися от страха губами. Когда их крепко бьют, они кричат «мама!» и драпают со всех ног. А бить их нужно постоянно, а то они быстро наглеют.
Сегодня с грустью убедился в том, как много я успел забыть за этот год. Когда-то я хорошо знал историю нашей страны, в частности, историю партии. А теперь почти все забыл. Как я отстал! Боже мой, как бы концу войны не сделаться бы стопроцентным идиотом. Если останусь жив, надо будет наверстать то, что я потерял во время войны.
6.11.42.
Несколько дней провел в штабе армии. Опросил четырех фрицев, обработал кучу документов, но чувствовал себя весьма гнусно, не в своей тарелке. Кругом «большое начальство», народ все незнакомый. Своего блиндажа у тамошних разведчиков нет, кормят плохо. В общем так соскучился по своему штабдиву, что чуть с тоски не умер. Едва отпросился уехать от них на сутки.
7.11.42.
Нынешний праздник прошел уныло, почти так же, как и год назад. Вторые сутки идет дождь, шалаш наш весь размок, сверху льет, со стен капает, сами мы все совершенно мокрые и холодные. В общем, обстановка прегнусная.
По случаю праздника выдавали нам подарки: печенье, консервы, белые булочки, водку и др. Мы с Толей Гречаным немножко отпраздновали, вспоминая прошлые светлые для нас времена.
А печенье было очень вкусное, я уже больше года не ел такого.
13.11.42.
Получил сегодня три письма из дома. Наконец-то мои писульки стали доходить и до Москвы… Мы все еще на вершине горы. Когда нет дождя, здесь довольно сносно, но когда дождь… брр.
Наши наступают, но без больших успехов. А надо бы, надо бы погнать сейчас фрица с кавказских предгорий на равнину и там как следует исколошматить.
Здесь все течет без заметных изменений. Кормим, как говорится, вшей, которых в последнее время развелось столько, что, кажется, съедят нас живьем. Спать, во всяком случае, не дают. Все время отчаянно скребемся.
Будь прокляты эти сволочи немцы! Чем больше страданий испытываешь сам лично, тем сильнее кипит ненависть к этой банде. Жестока будет наша расплата с ними! А она будет, будет обязательно, рано или поздно!
Попал к нам на днях в плен один грузин, солдат немецкого «Грузинского легиона», созданного из наших военнопленных грузинской национальности. Так они теперь защищают свою «солнечную Грузию», эти сыны Кавказа! Вот этих предателей я бы уничтожил всех без всякого сожаления!
17.11.42.
Тускло горит в землянке коптилка, сделанная из консервной банки, трещат дрова в вырытой в земляной стене печке. А за дверьми сплошная завеса воды и ветра. Кажется, все, что есть на свете мокрого и холодного, обрушилось сюда, на эту тысячеметровую вершину. По стенам землянки стекают мелкие ручейки просочившейся воды, по натянутой сверху плащ-палатке уныло стучат дождевые капли. Мы натягиваем покруче палатку, потом завертываемся в шинели и поплотнее прижимаемся друг к другу, но это мало помогает. Все тело отчаянно зудит от нашествия вшей. Мы уже забыли, когда ходили в баню, когда меняли белье, поэтому наша борьба со вшами не достигает цели.
Дождь хлещет все сильнее и сильнее, холодный ветер врывается в дверь, в печную трубу. Едкий синий дым заволакивает землянку, глаза слезятся, трудно становится дышать.
Но вот закрываются усталые глаза. Все мои мысли и чувства устремляются далеко-далеко, в мою родную Москву. Вот он, мой город, где я родился, вырос, учился. Здесь впервые узнал я, что такое любовь, дружба, теплая нежность любимого человека.
Ради Москвы, ради моего родного города идут сейчас кровопролитные бои, и десятки тысяч людей переносят неимоверные страдания. Нет, никогда грязный сапог немецкого солдата не будет топтать твои гордые улицы. Никогда ни один вражеский солдат не пройдет мимо твоих кремлевских стен. Москва принадлежит только нам, и нашей она будет вечно.
Придет день, снова вернется в Москву светлая, веселая весна. Снова улицы Москвы озарятся тысячами электрических солнц. Навсегда затихнут орудийные залпы и рев вражеских самолетов над моим городом. Будет этот день!
Мы соберемся вместе. За стаканом хорошего вина вспомним былые бои и военные дороги. Вспомним и эту грязную и мокрую землянку. Но все это будет уже в прошлом. За окном будут ласково шелестеть зеленые ветви деревьев, и загорится радостными огнями наш Центральный парк культуры и отдыха. А майским вечером мы снова будем слушать концерт в зале имени Чайковского. Торжественно и величаво раздадутся первые звуки рапсодии Листа. Мы вспомним былые тревоги, гул и разрывы авиационных бомб, залпы артиллерийских орудий. «Да, все это было, было, — скажем мы. — И мы сумели пережить и победить это». И улыбнемся, гордые своей силой. А потом загремит музыка, начиная светлую увертюру жизни, и звуки ее потонут в радостном громе аплодисментов. Мы снова услышим любимые мелодии Чайковского. Будет этот день!
А пока мы стерпим все эти лишения и дожди, и холод, и грязь, и вшей. Будущее за нами. Москва встретит нас победой.
26.11.42.
Давно я не брал в руки свой дневник. Не было подходящих условий. В землянке царил собачий холод. На дворе уже зима со снегом и пронизывающим ветром. Чтобы спастись от холода, не раз напрашивался на дежурства по штабу. Ну а теперь у нас своя печурка, в землянке мы укоротили нары, и сразу стало удобнее и просторнее. Сделал я сам светильник, сколотил стол, и теперь сижу как бывало у себя дома.
Получил несколько писем от Любы и Вовки. Но самое главное, что произошло за это время — это наше наступление под Сталинградом. Вот уже несколько дней наши войска наступают, беря огромные трофеи и уничтожая живую силу фрицев. Мы уже взяли около сорока тысяч пленных. Сорок тысяч! Это небывалая цифра в истории немецкой армии, да еще среди них три генерала со всеми своими штабами. Немецкая Сталинградская группировка окружена с севера и с юга.
Если и дальше будут так успешно идти дела, а хочется верить, что так и будет, то в этом году могут произойти крупные события, на которые мы давно перестали и надеяться.
На днях наши разведчики привели мне пленного лейтенанта. Сказали, что захватили его в немецком тылу. После разговора с ним выяснилось, что он сам случайно к нам забрел, ведь тут в горном лесу нет четкой передовой линии ни у нас, ни у немцев. Мы долго говорили с ним о наших перспективах. О Сталинграде он еще не знал и был уверен, что война вот-вот кончится в пользу Германии. Перед тем как его увели в наш тыл, он дал мне фотографию молодой женщины и сказал: «Это моя жена, ваши комиссары отберут эту фотографию, я написал там мой телефон и адрес. Вы все равно попадете к нам в плен. Сообщите тогда, я постараюсь вам помочь». Фотографию я взял, но думаю, что теперь, когда он узнал о разгроме немцев под Сталинградом, он уже не так верит в победу Германии.
3.12.42.
Уже декабрь месяц. А дожди не перестают. Опять плаваем в грязи.
Вот уже несколько дней чувствую себя преотвратительно. К вечеру и ночью поднимается высокая температура, все тело ломит, как-будто медведь на мне катался. В землянке как всегда сыро. Земля, на которой мы спим, холодная как лед. Здесь можно схватить любые болезни, начиная от ревматизма и кончая воспалением легких (спаси, Бог, от тех и других!)
Получил несколько писем из дома и от Любы. Она жалуется на свое положение девушки-фронтовички среди всяких лоботрясов, которых полным-полно в штабных частях армии. Трудно ей, конечно, в этих условиях. Но все эти трудности преодолимы, нужна только готовность к твердому и решительному отпору.
У нас в штабе многие болеют от простуды. А водку до сих пор не выдают, хотя были сотни приказов на этот счет. Зато начальство постоянно ходит с покрасневшими носами.
6.12.42.
Сегодня выдался замечательный денек: с утра морозит, и вся наша непролазная грязь подмерзла. Но боюсь, что завтра опять дождь польется.
В нашей АХЧ (административно-хозяйственной части) полно яблок, груш, апельсинов, печенья и вина. Начальство поедает все это с потрясающим аппетитом. Черт возьми, будет ли когда-нибудь у нас порядок? В эту войну кому-то живется как и в мирное время, а кому-то… лучше и не говорить. Нет справедливости на свете.
Ну ничего, после войны мы подумаем и об этом. Мы знаем, что будет после, война не кончится, придется нам еще много работать и бороться. И когда-нибудь воцарится в мире справедливость.
Получил открытку из дома. Наконец-то мой перевод до них дошел. Сейчас у нас в землянке тепло и уютно. Трещат в печке дрова, мягко горит свеча. Буду ложиться спать.
14.12.42.
Опять что-то заболел. Вчера так лихорадило, что температура, вероятно, поднималась до 39 градусов. Утром чувствую себя ничего, а часам к четырем скручивает так, что сил нет голову поднять. Уж не малярия ли это.
Приехал Пирог, начальник нашей разведки. Он лежал в госпитале в Тбилиси. Рассказывал, что там за жизнь, не чувствуется, что идет война. Цены дешевые и все такое прочее.
У нас здесь вручали награды. Люди, которые ни разу не были на передовой и при появлении немецких самолетов на ходу выскакивали из автомашин, получили медали «За отвагу». А тех, кто действительно достоин награды, обходят стороной. Неужели никогда на свете не будет справедливости? За что же мы тогда воюем, за что льется кровь миллионов людей? Да, когда мы разгромим и уничтожим фрицев, надо будет приложить немало сил, чтобы с корнем уничтожить своих внутренних «фрицев», всех подхалимов, шкурников, трепачей и прочую дрянь. Это будет куда труднее, чем выиграть войну.
На днях приезжал к нам корреспондент нашей дивизионной газеты «Большевистский натиск» Леонид Лидес. Хорошо и много говорили с ним о настоящем и будущем. Он читал свои стихи, которые мне очень понравились. Обещал еще раз приехать к нам после Нового года.
17.12.42.
Воздушная тревога (в станице Алексеевской и не только там) Прожектора напряженно щупают небо, Залпы зениток тишину прорвали, И спешат, стоявшие в очереди за хлебом, Поскорее спрятаться где-нибудь в подвале. А потом грохочущий взрыв раздастся где-то, И топот шагов торопливых и четких. И отразится багровое зарево света В окнах домов холодных и черных. А в комнате с вырванным бомбой фасадом Шнурок от люстры долго качаться будет, Наклонятся стены, а где-то рядом Пройдут равнодушно усталые люди. И долго еще после отбоя Будет стлаться дым над разодранной кровлей, И ветер растреплет обрывки обоев, Обгоревших и забрызганных кровью.Как я устал от войны! Как хорошо было бы уехать на несколько недель в глубокий тыл, чтобы не слышать этих выстрелов, забыть землянки, грязь, вшей и прочие прелести военной жизни. Не везет нашей дивизии. Давно бы ее нужно было отвести куда-нибудь на отдых.
26.12.42.
Сегодня был в бане. Хорошо помылся и всех вшей поморил. Правда, пока добрался обратно, язык высунул. Ох уж эти горы, с каким бы удовольствием сравнял их с землей!
Наши войска успешно продвигаются в районе Миллерово, уже в сорока километрах от Ворошиловграда. Дают фрицу бобу. И под Нальчиком тоже продвинулись до сорока километров. Когда же и мы двинемся, черт побери! Сколько можно прокисать в этих проклятых горах.
Теперь, пожалуй, можно дописать конец моего летнего стихотворения:
Украина, Украина, Слышишь, над полями Пролетает гул сражений С зимними ветрами. Крепче стали наши силы, Громче наши залпы. Мы идем вперед с победой, Мы идем на запад! Высота 1103,129.12.42.
На днях уже Новый год. Как-то мне его удастся встретить. Нечетные годы всегда были для меня более счастливыми, чем четные. Как-то там моя фортуна, не забыла ли она меня. Сколько еще придется мне прокисать в этих горах. Когда же снова я навещу свою родную Москву?
Сейчас читаю один немецкий исторический журнал. Есть там любопытные заметки по истории России. Концепция вполне ясная и определенная: Москва — Азия, а Новгород — Европа. С одной стороны, героические походы норманнского государства времен Рюрика и его преемников, с другой стороны, пассивность Московии. В общем, довольно затхлые штучки.
Впрочем, при всей неразберихе и разноголосице, которые господствовали в течение долгого времени в нашей исторической науке, фашистским историческим писакам нетрудно сейчас состряпать свою «Историю России», ссылаясь на труды наших историков и издеваясь над откровениями, которые в последнее время столь популярны, вроде превращения Ивана Четвертого в народолюбивого демократа и гуманиста. А вполне объективная историческая концепция вряд ли когда-нибудь у нас утвердится. Хоть и издевались у нас над принципом Покровского, что «история есть политика, опрокинутая в прошлое», но этого принципа все-таки придерживаются. Менялась наша политика, менялись и исторические концепции.
1943 год
1 января 1943 года.
Новый год. Третий год, который мне приходится встречать в армейских условиях и второй — в условиях войны. Но тогда у меня все же было кое-что, чем можно было хоть как-то отметить встречу. На этот раз не было ровным счетом ничего, даже куска черного хлеба.
Зато наше начальство устроило грандиозную попойку с борделем. Напились все так, что бойцы комендантского взвода вытаскивали их всех из штабного убежища как покойников. Наш помощник начальника разведотдела Гусятков приплелся, вернее, был дотащен труп трупом. Несколько раз его рвало, так что нам с Толей Гречаным из чувства самосохранения пришлось ходить по чужим шалашам, чтобы как-нибудь пересидеть эту «приятную ночку».
А Новый год встретил я во сне (надеюсь, он простит меня за это невольное неуважение). Во сне и поднимал свои новогодние тосты.
Мой первый тост был за самого близкого и любимого человека, чье чувство ко мне никогда не сможет изменить ни расстояние, ни время, кто не досыпает ночей, думая обо мне, кто часто роняет из-за меня дорогие слезы, кто живет моими письмами, маленькими весточками из этих диких гор и лесов.
Мой первый тост был за мою мать. Что может сравниться по силе и глубине с материнской любовью? Какими жалкими и ничтожными кажутся по сравнению с этим чувством все клятвенные заверения и уверения в своей беспредельной и нераздельной любви этих… лучше не вспоминать о них в этот новогодний день.
Второй тост был за тот грядущий день, когда мы вернемся к себе домой в наши родные города, к нашим любимым и близким людям. Этот день должен прийти в наступившем сегодня году. Это будет день нашей полной победы.
6.01.43.
Был сегодня в своем полку, проводил занятия с разведчиками. Заходил к их начальнику Пирогу. Он меня очень хорошо принял, накормил, оставил переночевать. Возвращался в метель. Странные метели здесь на Кавказе: сверкает молния, гремит гром и густыми хлопьями сыплется снег. А гроза самая взаправдашняя: одного нашего бойца в саперном батальоне убило молнией.
На фронтах сейчас радостные события: наши освободили Моздок, Нальчик, Великие Луки, Прохладный и другие города. Если дальше так пойдут дела, то скоро фрицне будет капут.
10.01.43.
Нашу дивизию перебрасывают на Новороссийское направление. По дороге были в Туапсе. Пришлось-таки повидаться со своим старым другом — Черным морем. Скоро опять в путь. А сейчас сижу в маленькой деревне Небуз, на берегу моря. До Новороссийска около двухсот километров. Много нам еще предстоит пройти. Хорошо, что погода стоит замечательная: сухо, тепло, солнышко светит. После наших сугробов здесь просто курорт.
12–18.01.43.
Нахожусь в поселке Ново-Михайловка, где-то между Туапсе и Геленжиком. Все время идет дождь со снегом. Но мы в хатах, поэтому погода не пугает. Вот если придется ехать, да еще ночью, то сухой нитки на нас не останется. Что поделаешь, наступать, так наступать.
Вчера ездил в штаб Приморской группы войск. Сегодня опять вроде еду. В общем, заделался «чиновником по особо важным поручениям». В машине чертовски холодно, она без стекол. Промерз я крепко. Не успел оттаять и снова в путь.
Сейчас вернулся, принял дежурство. Сижу в теплой хате за столом, на котором стоит лампа. Наша дивизия будет теперь, как говорят, мотострелковой. Хорошо бы, если так, а то надоело пешком ходить. Как видно, мы готовимся к удару, Новороссийск давно уже пора брать.
20–22.01.43.
Сил уже нет от того бардака, который у нас творится. Как гнусно глядеть на кучку привилегированных паразитов, которые войны-то не нюхали, а пользуются прекрасными условиями проживания, питания, передвижения и т. п. И с почтой опять бардак, писем не присылают и не отправляют.
Был вчера в бане в Геленжике. Очень неплохо помылся, а главное, продезинфицировал свое барахло. В Геленжике много наших моряков. Так хотелось встретить Вовку! Ведь скоро три года, как мы не виделись. Эх, если бы встретились! Да, мечты, мечты, как хорошо иногда помечтать. С каким удовольствием я уехал бы отсюда куда-нибудь, хоть в командировку. Только бы не видеть этого бардака.
Прочел вчера новую пьесу Симонова «Русские люди». Очень понравилось, хорошо написано.
30.01.43.
Уже несколько дней на колесах. Живу в машине. Хорошо хоть она крытая и есть печка. Измучился я за эти дни страшно, за несколько суток спал всего 4–6 часов.
Здесь мы должны наступать, чтобы перерезать коммуникации с Краснодаром. Войск наших здесь немало, но толку пока от них нет. Нет взаимосвязи и взаимодействия. По приказу лично Сталина мы уже должны были перерезать пути отхода немцев на Таманский полуостров, куда они сейчас спешно драпают. Тогда вся кавказская группировка противника будет уничтожена. Но они солидно здесь укрепились — сплошной стеной огня и заграждений.
Получил несколько писем из дома, от Вовки и от Евгении Николаевны. И ответ на наше с Гречаным письмо от сестры Петровского. Очень хорошее письмо, жаль только, что нельзя сообщить ничего утешительного о судьбе ее брата.
Тяжело чувствовать, как все сильнее притупляются чувства сострадания к людям, как огрубела душа. А нужно уметь сохранять любовь, нельзя терять чувства нежности. А сейчас на девушек смотришь как на каких-то неодушевленных чурбашек. Но ничего, после войны все постепенно реставрируется. Скорей бы только конец этой войне.
31.01.43.
Опять сегодня наступаем при поддержке авиации и танков. Пока результаты не блестящи. Наши соседи уже Батайск взяли, а мы все чикаемся. Слабое взаимодействие — вот основная причина. Да еще дивизия наша получила пополнение из Азербайджана. Они называют друг друга «елдаш», товарищ по-ихнему. А вояки они только у себя в ауле на печке. И все газетные и прочие попытки разбудить в них дух «доблестных сынов Кавказа» мало к чему приводят. И гибнет их много, и зря гибнут. Сами, можно сказать, по собственному желанию.
Вот типичный случай: здоровенный елдаш лежит под деревом, замерзает. Метрах в двадцати от него теплая хата, в которой можно согреться. Подходишь к нему: «Эй, друг, чего лежишь?» Он в ответ: «Аржибержан». Ему кричишь: «Вставай, замерзнешь!» — «Аржибержан». Пробуешь его поднять и подтащить, не дается, цепляется за обледеневшую землю: «Аржибержан».
6.02.43.
Все еще стоим на месте. Здорово здесь фриц укрепился. Неужели так и не придется нам по-настоящему наступать? Наши армейские соседи двигаются вперед, а мы никак не можем вылезти из этих гор.
С почтой опять перебои, давно писем не получал.
10.02.43.
Получил письмо из дома и от своей тетки Коки. Кока больна. Я ей на днях выслал перевод, 800 рублей. Скорей бы она его получила.
Наши взяли Курск, Лисичанск, Краматорскую. Так что теперь моя меховая куртка освобождена, если только фрицы ее не загубили.
15.02.43.
Сегодня наши войска взяли Ростов и Ворошиловград. А мы уже больше двух недель топчемся на одном месте. Соседняя армия, которая взяла Краснодар, скоро окружит нас и «заберет в плен». Скорей бы!
Сегодня в газете нашел одно замечательное стихотворение. Называется «Возмездие». Сколько в нем силы, ненависти и гнева. Давно я не читал ничего подобного. Хотя это перевод. А подлинник еще лучше. Сила некоторых строф не уступает блоковскому «Возмездию».
16.02.43.
Уже веют весенние ветры. Небо голубое, тепло, солнце светит. И на душе стало как-то теплее и светлее. Хочется написать кому-нибудь хорошее теплое письмо. Но кому? Я уже забыл, когда я писал такие письма.
Интересно было бы встретиться сейчас с ней. О чем бы мы стали говорить. Изменилась ли она? Верно, совсем обо мне забыла. Но это, пожалуй, к лучшему. Если суждено нам встретиться где-нибудь, когда-нибудь, тогда, может быть, поймем, почему все так произошло. Хотя здесь нет ничего мудреного, в жизни бывает все проще, чем мы думаем.
Сегодня небо по-майскому голубое, и солнце светит так нежно и ярко. А я жду письма, Никогда не написанного тобою, Как ждет ребенок праздничного подарка. Я знаю, что ты не напишешь ни слова, что ты навсегда забыла наш последний октябрьский вечер, но упрямо всплывает прошедшее снова, не прогонишь, ни вытравишь — нечем. И я достаю твою карточку. Долго, долго я в раздумьи смотрю на родные до боли черты. Пристань, трюм пароходный, бурлящая Волга — далеко от меня, но как близко со мной была ты. А теперь в Свердловске зима, снег по улицам гонит седая февральская вьюга, одиноким прохожим сердито носы теребя… Разве можем понять мы сегодня с тобою друг друга, если солнце у нас… и холодная ночь у тебя… ………………………………………………… Никогда б я не вспомнил неверное имя. То, что надо забыть, Я сумел забыть уж давно. Это солнце меня разбудило лучами своими. Разве я виноват, Что с сердцем оно заодно. Шапарка, 20.2.4326.02.43.
Опять переехали на новое место, ближе к станице Абинской. По дороге нас сильно обстреливали из минометов. Видел двух красноармейцев, замученных фрицами. Жуткое зрелище! Головы у них пробиты, глаза выдавлены, уши отрезаны. О, сволочи фрицы, когда же придет день полной расплаты!
Сейчас сижу в бывшем румынском блиндаже. Наши наступают на Абинскую. Может быть, сегодня будет удачнее. Получил посылку. Как раз в день праздника 23 февраля.
28.02.43.
На Кубани весна. Снег сошел с полей, жарко греет солнце, заливаются в синем небе жаворонки. Мы вышли в кубанские степи. После полугодового скитания по лесам и горам снова увидели равнину. Странно с непривычки видеть бесконечные поля, далекий ровный горизонт.
Проходим по освобожденным селам. Вот поселок Эриванский. Что же от него осталось: груда обугленных развалин, прошлогодние воронки от бомб, вырванные с корнем фруктовые деревья.
Сейчас нахожусь в бывшем совхозе. Здесь война прошла стороной, и поэтому почти все хаты целы, за исключением тех, которые на топливо для своих печек разобрали находившиеся здесь румыны.
Вчера хорошо помылся, а потом, сидя за настоящим столом, покрытым настоящей скатертью, выпил пару кружек настоящего чая.
4.03.43.
Положение наше, как мы пишем в сводках, без существенных изменений. Противник не двигается, мы тоже. Фрицы угощают нас время от времени гостинцами. Сегодня второй раз нам достается. Убило адъютанта нашего начальника штаба. С продовольствием тоже скверно: третий день получаем только по 200 г. хлеба. В других частях еще хуже.
В соседней дивизии застрелили собаку, сварили ее и съели. Едят и дохлую конину, оставшуюся в наследство от румын. Связь с тылом ужасная, мы уже на равнине, а тыловые части, которые нас должны всем снабжать, все еще за горами у моря. Поэтому мы и не наступаем.
Все мысли постоянно о Москве, о доме, о родных. Сильно по всем соскучился. Каждую ночь снится что-то московское, родное. Когда-то посчастливится мне побывать дома… Эх, скорей бы пришел конец этой проклятой войне. Откуда они взялись на нашу голову, эти сволочи немцы.
10.03.43.
Сегодня радио принесло тяжелую весть: мы сдали шесть городов и отошли на левый берег Донца. Опять начинаются неудачи. Неужели так и не будет им конца. То мы их, то они нас…
Сегодня началось наше «решительное наступление» на станицу Абинскую. Но результаты пока жалкие. Была у нас и авиация, были и танки. Когда же мы научимся воевать? Тылы наши все еще далеко сзади, поэтому не хватает боеприпасов, продовольствия. Я сам вчера после недельной бесхлебной диеты получил 600 граммов хлеба и тут же весь его съел. Так соскучился по хлебу.
Прочел сегодня книжку стихов А. Суркова «Я пою ненависть». Замечательные есть стихи. Сурков, такой нежный и мягкий лирик, нашел здесь силу страстной ненависти, гнева и скорби. Многие стихи хочется заучить наизусть.
17.03.43.
Настроение ниже среднего. Наши оставили Харьков. Теперь, боюсь, начнется опять великий драп. На нашем участке тоже ни черта не получается. А ведь немцы могут подбросить сюда пару дивизий и гнать нас так, что только за Краснодаром опомнимся. Вот к чему может привести наша беспечность. А мы не строим ни оборонительной полосы, ни черта. В общем, дела наши печальные, даже очень и очень.
18.03.43.
Нахожусь в станице Ильской, куда нашу дивизию отвели на ремонт. Здесь все относительно сохранилось. Домов разрушенных почти нет, а возле некоторых даже коровы остались. Вот эти станицы и были тем омутом, из которого генерал Краснов черпал свое воинство. И много нашлось к нашему стыду предателей, из которых Краснов сформировал целую дивизию. Эту сволочь надо всю уничтожить, они хуже немцев.
20.03.43.
Ужасно тоскливо на душе. Надоело здесь, хоть бы уехать куда-нибудь подальше. Надеемся, что через пару дней опять будем наступать. А сегодня уезжает мой начальник, капитан Баев. Это, пожалуй, первый из многочисленных начальников, расставаться с которым действительно глубоко жаль. Хороший был мужик. Но съели его тут у нас. Те же самые людишки, которые, вероятно, всю свою жизнь занимались склоками, сплетнями, интригами. Не успели мы с ним толком поработать вместе.
Сегодня я собрался было поехать в Краснодар поискать стекла для очков. Да заодно сходить на ту улицу, где жила последнее время Татка, с которой я познакомился, учась в Военном институте (?), узнать о ее судьбе. Но, видно, придется в другой раз.
24.03.43.
Что-то заболел. Вероятно, малярия. Вчера была температура 39. Сегодня полегче. Завтра можно на работу. А работы сейчас уйма. Я остался один в отделе и за начальника, и за помощника, и за переводчика. Захлебываюсь от бумаг, сводок, донесений. Через пару деньков будем отсюда отчаливать. Наши уже заняли Абинскую и Мерчанскую, надо помочь.
25.03.43.
Как будто выздоровел, что-то дальше будет. Погода стоит скверная, ветер дует круглосуточно, да такой холодный, северный. Как хочется в Москву! Я сейчас постараюсь использовать все свои возможности, здоровье, знакомства, чтобы хоть на некоторое время попасть домой. Навестить всех родных и знакомых, узнать о судьбе тех друзей, с которыми давно не было связи. Если судьба мне улыбнется, может быть, получится. Да, хорошо бы сейчас побывать дома. Неужели моя фортуна окажется равнодушной и не поможет мне…
27.03.43.
Сегодня прекрасное весеннее утро. Прекратился дождь, слегка морозит, и небо ясное. Птицы кругом распевают во все горло. Еще больше хочется уехать куда-нибудь, но пока никаких реальных возможностей не предвидится.
Приехал мой новый начальник, некий майор. На своих лошадях, на линейке и с кучером. И барахла два огромных мешка. Мне он пока не понравился, вряд ли мы с ним сработаемся. Но это все временное. Он уже шестой по счету, и после него, вероятно, еще шесть будет.
30.03.43.
Нахожусь в станице Холмской. Отдых для нашей дивизии закончился. Теперь опять начнем наступать. Уж скорей бы разделаться со всей этой кавказской фрицней. Когда-то богатая, станица Холмская разорена и разрушена. Жители худые, постаревшие, прямо живые скелеты.
2.04.43.
Вот уже несколько дней сидим в маленькой балочке недалеко от станицы Крымской. Скоро будем наступать. Чувствую себя скверно, каждый день к вечеру поднимается температура. Сейчас лежу в шалаше, в обозе разведроты. Дождь идет такой мелкий, как в сентябре. Настроение паршивое. Теперь опять в армии вводятся спецкурсы. Хорошо бы на них поехать.
4.04.43.
Все эти дни писал одно стихотворение и думал при этом о Вовке. Вот что получилось.
Посвящаю моему любимому другу Володе Галюку «Там за горами горя солнечный край непочатый…» В. Маяковский Горы, упершись небу в бока, подняли высоко мохнатые шапки. Спокойно скользят в высоте облака, прозрачны и шатки. Застыли деревья в задумчивом сне, и луна золотит пожелтевшие листья, и таким неожиданным в тишине прозвучит одинокий выстрел. и опять тишина, не слышно орудий, после жаркого боя замолчал пулемет. У костров повалились усталые люди, разве кто-нибудь знает, что завтра их ждет. Когда же конец, когда же спокойно мы сможем жить, работать, любить? И кто их выдумал, эти войны, эти глаголы «стрелять», «убить»? Сейчас ведь весна, разве место в ней смерти, ведь сейчас соловьи, черемуха, май… Но и такие вещи бывают на свете, что их не уложишь в границы ума… Почему так тихо сейчас в станице, в небо ползет горьковатый дым. Почему у женщин такие лица, почему молодой этот стал седым? Почему вместо хлеба бурьян на поле, вырублен старый фруктовый сад? Почему это трупы в разрушенной школе, изуродованные висят? В глубоких колодцах, вырытых летом, цветью болотной покрылась вода… Разве это простим? Разве забудем мы это? Нет, никогда! За слезы детей, за сожженные хаты, грабежи и насилья немецких свор — грозной будет наша расплата, беспощаден наш приговор! Грязным убийцам не уйти от ответа, нашего им не избегнуть суда. Разве это простим? Разве забудем мы это? Нет, никогда! Так пускай льется кровь, пусть рвутся снаряды, пусть в клочья разносит немецких псов: горячие брызги свинцового града убедительней всяких слов! За нашу весну, за наше счастье, за дней грядущих свободный разгон, за жизнь, к солнцу стрелой мчащуюся, по немцам — огонь! Балка Гусева, 3–4 апреля 19439.04.43.
Сегодня посетили нас «гости». Свыше 25 юнкерсов бомбили район нашего КП. Одна бомба попала в соседний дом. Маленькая бомба, килограммов 25, а наделала ужасных дел: 6 убитых и 5 раненых. А какой же бардак, не было ни врача, ни сестры, чтобы оказать первую помощь.
Попался мне тут один любопытный документ, дневник одного фрица, матерого фашиста. Описывает свои «заслуги» в подготовке фашистского переворота и прихода Гитлера к власти в Германии. Через каждую страницу в дневнике стихи, посвященные фюреру. Прошел он всю войну, был в Бельгии, Голландии, Югославии, Сербии, Греции. Тогда записи его были восторженные: легкие победы, много вина, доступные женщины. У нас настроение его несколько изменилось. Страх перед партизанами, перед нашей артиллерией, особенно перед «сталинскими органами», как немцы называют наши «катюши». После известий о поражении под Сталинградом настроение этого бравого фрица совсем упало: «О, родина, родина, что с нами будет!» Потом опять были попойки в теплых и уютных блиндажах, реки «Советского шампанского», захваченного под Новороссийском, продажные женщины, но все равно настроение не смогло подняться. Наше наступление на Абинскую 10 марта доставило ему немало неприятных минут, а уже 4 апреля под Крымской в начале нашего наступления в 12.00 нашим снарядом этот фриц был отправлен к праотцам.
Раньше мне еще не приходилось сталкиваться с таким откровенным изложением идей фашизма, таких циничных взглядов и убеждений.
17.04.43.
Третий день идут напряженные бои за Крымскую. В первый день приехал Жуков. Мы думали, что теперь-то успех обеспечен, но не тут-то было. Немецкая авиация подавляет все наши попытки. Несем большие потери и никаких результатов. С нашей стороны летает жалкое количество «ишаков», от которых нет никакой пользы.
19.04.43.
Нас перебросили правее. Находимся вблизи хутора Ястребовский. Живем в замечательном лесу. Кругом поют птицы, зеленеет трава и кусты.
Проезжали несколько разоренных и сожженных станиц и сел. Жуткое зрелище. Огромное село буквально сравнялось с землей, все сожжено, торчат только трубы от печей. Боже мой, какие разорения несет война! Неужели сейчас есть где-то целые деревни, не разрушенные дома, окна с целыми стеклами… Даже не верится. Сколько же потребуется времени для восстановления! Когда опять жизнь возвратится в довоенные рамки!
21.04.43.
Получил сегодня письмо из дома от 13 апреля. Удивительно быстро дошло. Вероятно, уже работает железная дорога Москва — Ростов — Краснодар. Послали мне стекла для очков, но они мне уже слабы. Мои трофейные более подходящие.
Приехал мой друг, Анатолий Гречаный. Так что теперь есть с кем отвести душу. Получил он вчера орден. Он заслужил его, не то, что некоторые.
29.04.43.
Сегодня началось наше третье решительное наступление на Крымскую. Так много артиллерии, что и представить себе трудно. У фрицев все в дыму. Нам в поддержку придали солидное количество танков и самолетов. Если и на этот раз ничего не получится, то всем нашим дивизиям, принимавшим участие в наступлении, нужно сдать знамена в архив и заняться сельским хозяйством. Хотя Жуков тут осуществляет общее руководство, несколько раз проезжал мимо на открытой легковой машине, успехов у нас не видно. В полках большие потери, немцы непрерывно атакуют. Мы еще даже не перелезли через насыпь.
Вчера исполнился год, как я служу в этой дивизии. Хотелось бы обмыть эту дату, но нечем.
Неоконченный сон Все с тою же властною силой, Спокойны и глубоки, Мне снились глаза твои синие, Синие, как васильки. И будто опять мы вместе, И будто не вспышки ракет, Свет голубого месяца Тихо плыл по реке. С тобою сидели мы долго Над берегом сонным одни. Задернуты темным пологом Гасли в небе огни. Я говорил тебе много, Блестела речная гладь. В ответ ты, нахмурясь строго, Хотела что-то сказать. Но тут загудели снаряды, И я не слыхал твоих слов… Да, это был самый досадный Из всех неоконченных снов. Железнодорожный мост восточнее станицы Крымская30.04.43.
Второй день «наступаем». И авиация наша не устает бомбить, и артиллерия не умолкает, и Жуков с нами — и никаких результатов. Настроение совсем упало. Неужели так и не возьмем эту проклятую Крымскую?!
4.05.43.
Крымская наша! После месяца упорных боев противник вынужден был отойти. Но и у нас положение не очень.
Над нашим левым флангом нависает угроза удара. Тогда мы можем оказаться отрезанными. Нужно сильнее выжимать немцев из гор. Тогда Новороссийск будет под угрозой нашего удара с фланга.
Впервые мне пришлось побывать в населенном пункте непосредственно после его освобождения. Много увидел и услышал такого, от чего болью и ненавистью наполнилось сердце и крепче сжимались кулаки.
7.05.43.
Сегодня получил неожиданную открытку — от школьной подруги Сони. Из далеких Брянских лесов. Она в партизанском отряде, медсестрой. Открытка дошла быстро, но вообще-то, письма туда идут не так скоро. Ответил ей тотчас. Хотелось бы получить от нее большое и подробное письмо.
Из далеких Брянских лесов Мне сегодня пришло письмо. Пусть всего в нем несколько слов, Но как дорого мне оно! В нем смолистый запах сосны, Старой дружбы теплый привет, И как будто забытые сны, Не затронутые войной, После долгих тревожных лет Снова всплыли передо мной.Ужасно хочется домой, хоть бы проездом побывать в родной Москве. Неужели моя фортуна совсем про меня забыла. Доколе я буду торчать здесь, в краях кавказских…
10.05.43.
Фрицева авиация опять активничает. Вчера мы все чуть не накрылись. Бомба попала в соседний дом, в метрах трех от нашей хибары. А мы все сидели в комнате, даже выбежать не успели, впрочем, выбегать-то некуда. Никаких бомбоубежищ или просто щелей здесь нет.
Несколько дней не могу получить зарплату, чтобы послать домой. Теперь я вроде здесь уже числюсь по штату, а не в полку. Но пока все это очень туманно.
11.05.43.
Последние дни читал Достоевского, его публицистику. Много замечательных статей, особенно о народности в литературе. Да и вообще о многом хотелось бы с кем-нибудь поговорить. Верней, не с кем-нибудь, а с одним человеком — с Нинкой. Вспоминаются все наши споры, иногда настолько горячие и бурные, что дело доходило до ссор. С ней было интересно говорить, даже спорить. Глубокий и серьезный ум и, главное, твердые и непоколебимые убеждения, не всегда совпадавшие с моими. Но все плохое и несправедливое всегда волновало и мучило ее. Обмана, лжи она никому, даже самому любимому человеку, не могла простить.
Много причинила она мне горя и боли. Быть может, суровая действительность, с которой ей пришлось столкнуться: война и все те явления, которые порождены этой войной, смогли сломать ее душу, смогли испортить ее, подчинить своему влиянию, но я как-то не верю в это. У нее слишком сильная воля и чистые убеждения. Она могла разлюбить, забыть меня, изменить всему, что между нами было, — все это было бы понятно и даже, пожалуй, неизбежно. Но если она изменила самой себе, если утратила веру в добро, то тогда она умерла для меня. Если бы я получил от нее хотя бы пару строк, то мог бы понять, та ли это Нина, которую я любил и чей светлый облик до сих пор храню в своей душе как самую большую драгоценность, или… она превратилась в то, что может вызвать только презрение. Тогда мне было бы легче забыть ее…
12.05.43.
Сегодня я узнал одну страшную, тяжелую историю.
Семья известного врача — мать, отец и трое детей. Осенью прошлого года они не успели уехать из Крымской до прихода немцев. И вот стали жертвой трагедии. Всю зиму родители прятали своих детей от немцев, через знакомых врачей достали справки, что в доме больны туберкулезом. Немцы из комендатуры прикрепили к дверям табличку: «Посещение запрещено. Туберкулез». Несколько раз заявлялись пьяные казаки, представители местных властей, искали старшую двадцатилетнюю дочь. Их не пугал туберкулез. Девушку прятали под полом, в шкафу, под кроватью. Измученная преследователями, она хотела искалечить себя, чтобы избавиться от опасности быть угнанной в Германию. Она ошпарила кипятком себе руки, чтобы стать неработоспособной. Как ждала эта семья нашего прихода! Но за день до освобождения станицы девушка погибла при нашей бомбежке. Бомба, которая несла освобождение, принесла ей смерть. После освобождения станицы, уже во время немецкой бомбежки, был убит отец этой девушки, доктор. Сына мобилизуют сейчас в армию. А несчастная мать после таких невыносимых страданий потеряла рассудок. Что будет с оставшимся младшим сыном, никому неизвестно.
Получил письмо от Артура. Пишет так, будто ничего не произошло, будто молчал он не полтора года, а полтора дня. Полтора года моя судьба была ему абсолютно безразлична, а тут вдруг он решил, что это было просто-напросто «свинство», и надо это свинство прекратить. Вот тебе и тринадцать лет дружбы! Неужели он мог забыть все это…
16.05.43.
Сегодня мой день рождения: 22 года. Черт побери, уже 22. Так скоро и молодость пройдет, не заметишь.
Думал, что получу сегодня десяток писем, а пришло только одно. Вчера ездил в штаб армии, по дороге попал в паскудную бомбежку. Едва убежал.
Эх, как бы хотелось уехать куда-нибудь отсюда, хоть куда угодно. Надоело здесь до чертиков. Но, видно, на этом фронте мы будем копаться еще долго. Фриц засел здесь крепко и даже сумел кое-что вернуть себе обратно. Придется нам, по-видимому, переходить к обороне, если только не произойдет здесь каких-то событий.
22.05.43.
Сейчас нахожусь в Крымской. Со мной рация и трое ребят. Мы должны подслушивать радиопереговоры фрицев, узнать об их планах. Но пока что ни хрена не слышно.
Вчера был у наших разведчиков, справил свой день рождения. Ребята достали спирта, да и закуска была неплохая. В общем, хоть и с опозданием, но отметил.
В эфире тоже идет война. Все смешалось в один дикий визг. Вот работает английская радиостанция на немецком языке. Немцы старательно глушат ее бешеной игрой на скрипке. Скрипка играет всего несколько нот, бесконечно повторяющихся с нудным однообразием. Тявкает где-то рядом с Москвой украинская «независимая» станция. Для подчеркивания своей «независимости» передача ведется на двух языках — украинском и немецком. Работают наши радиостанции для Болгарии, Сербии, Польши. В какой-то стране круглосуточно играет джаз. На определенной волне в любое время суток можно слушать этот неутомимый джаз. Да, интересно сейчас путешествовать по эфиру.
23.05.43.
Сегодня нас опять «крестили». До чего же отвратительно визжат эти бомбы. К вечеру получил санкцию смотать свои провода и антенны и убраться к себе в отдел. По дороге зашел к разведчикам, хорошо пообедал, немного выпил, а главное, достал трофеев: толстую общую тетрадь, карандаш и географический атлас. Вечером, когда пришел в свой блиндаж, явился к нам один казак из Краснодара, привез водки, яиц. Водку я пить не мог, сильно воняла бураками, яйца — дело другое, яичница хороша в любое время года.
2.06.43.
Несколько дней идут ожесточенные бои. В воздухе полно самолетов. Фриц пускает сразу штук 80–100, наши столько же, только мелкими группами. Вчера вечером совсем было хорошо начали, да подвели наши танки. А то, пожалуй, взяли бы Молдаванское.
4.06.43.
Мой начальник, слава Богу, отчалил. Долго мы его помнить будем. Такая гнусная личность. Сейчас приехал новый. Вроде бы ничего мужик.
Ходят слухи, что нас должны отправить на переформировку. А это пахнет полутора-двумя месяцами в тылу. Как бы хорошо, если бы эти слухи подтвердились. Так хочется отдохнуть от всех этих «концертов». Тишина! Какое замечательное слово: ти-ши-на. А здесь круглые сутки взрывы, выстрелы, рев моторов. Вчера опять нас бомбили. Не исключено, что и сегодня это повторится.
Черт возьми, а мой бывший начальник уехал не куда-нибудь, а в Москву. Дал я ему свой адрес, он обещал зайти, рассказать о нашем житье-бытье. А когда я туда попаду? Не скоро, вероятно. Что-то моя фортуна меня совсем забыла.
Опять в мыслях Нинка. Как я ни стараюсь забыть ее, никак не удается. Все так свежо и ярко, будто было вчера. Все-все, до самых мелких подробностей. Я даже не знаю, где она сейчас, жива ли, здорова. Зачем мне знать судьбу человека, который давно уже для меня не существует, вернее, не должен существовать. А он существует, черт возьми! «Не прогонишь, не вытравишь — нечем». Да, нечем, вернее, некем. Ведь после Нины у меня ни разу не появлялось желания сблизиться с кем-нибудь. По сравнению с ней все кажутся такими мелкими и незначительными. А какая она сейчас? Может, гораздо хуже многих, а может, и нет. Получить бы от нее хотя бы пару слов, многое стало бы ясно. Тогда бы я смог все забыть…
7.06.43.
Все еще воюем. О том, что нас отведут на отдых, ни звука. А на переформировку я и не надеюсь.
Прочел тут книжечку стихов Симонова «С тобой и без тебя». Хорошие есть стихи. Вообще, пожалуй, Симонов сейчас первенствует в лирической поэзии. Во всяком случае, он мне теперь больше нравится, чем Долматовский. Интересно будет после войны посмотреть на нашу советскую поэзию за эти годы. Как выросли многие наши поэты! Взять хотя бы Сельвинского. Насколько раньше он был поэтом узкого круга людей, настолько теперь его творчество стало шире, четче и лучше, и его песни поются теперь в красноармейской массе. То же можно сказать и о Суркове. А вот всякие там Лебедевы-Кумачи бесславно молчат…
10.06.43.
Сегодня чуть было не уехал. В Москву. Да, да в Москву на 9 месяцев. На какие-то спецкурсы. Но так как моя фортуна давно уже повернулась ко мне местом, далеким от лица, то «поездка» моя быстро сорвалась. Ну да черт с ней, может это и к лучшему. Будем воевать дальше…
15.06.43.
Наконец-то отвели на отдых. Расположились в лесу. Вместо выстрелов и разрывов слушаем пение соловьев и других приятных птиц. Черт возьми, ничего не выходит с этой поездкой. А ведь был здесь один начальник из армейского разведотдела, наобещал мне всего-всего. И документы мои уже отправили вверх. Ну и что? А ничего.
Все эти дни писал стихи. Вот они:
1 Много писем приходит к нам издалека. В них говорят о любви, горячей и страстной. И кто-то читает нежные строки, и кто-то мечтает. Напрасно. Мне тоже писали, и я тоже верил, что забыть невозможно поцелуй расставания, что любовь на недели нельзя измерить, что она не слабеет от расстояния. Но все оказалось сложнее и проще, ушли безвозвратно мирные сны. Наш путь не широкая ровная площадь, Трудны и суровы дороги войны. 2 Я пронес твое имя по этим дорогам, сквозь кубанских степей бескрайний простор. Я пронес твое имя по хмурым отрогам самых высоких Кавказских гор. Мы хоронили друзей погибших, над городами сожженными стлался дым, но чувство мое оставалось таким же, нерастраченным и молодым. И чем я сильнее врага ненавидел, чем жестче душа становилась моя, чем больше крови и горя я видел — тем нежней и сильнее любил тебя я. 3 В пьяном угаре двоятся лица. «Годы проходят, торопитесь жить!» От голоса сердца нетрудно укрыться за густым и мутным туманом лжи. За шумным столом в дыму табачном стаканы к губам поднялись опять. И кто-то услужливый роняет мрачно: «Он не вернется глупо ждать». И ты поверила… Станица Крымская 10–14.06.4320.06.43.
Переехали в другое место, наш отдых пока продолжается. Живем на берегу реки, купаемся весь день.
Пополнения нам не дают, так что у меня есть шанс уехать отсюда куда-нибудь. Хорошо бы на Западный фронт. Надоела уже эта Кубань до чертиков.
Прочел тут уже который раз «Мертвые души». Какая изумительная по глубине мыслей вещь! Как много этой самой мертвечины живет и по сей день. У меня у самого маниловщины порой бывает хоть отбавляй, мысли уносятся куда-то в радужные безбрежья, мечтаю о чем-то прекрасном, но несбыточном. А потом посмотришь вокруг, оглянешься, и так тоскливо и пусто становится на душе.
21.06.43.
Ездил в штаб армии. На лошади верхом. Измучился ужасно, отбил себе все то место, на котором сидят. Хорошо хоть лошадь попалась послушная, а то бы она меня окончательно угробила. Навестил там своих старых знакомых из разведотдела. Что-то они, сукины дети, совсем меня забыли. До сих пор не могут послать на какие-нибудь курсы. Ну ничего, буду надоедать им до тех пор, пока не отправят.
Фрицы на нашем участке вроде бы думают наступать. Как бы не получилось прошлогодней истории.
22.06.43.
Сегодня вторая годовщина войны. В газетах большущее сообщение Совинформбюро. Но из всего обилия красивых слов запомнилась только цифра наших потерь: 4 200 000. И неожиданное заявление о том, что без открытия второго фронта невозможна победа над Германией. Невозможна победа, если наши союзники, черт бы их побрал, не соберутся с духом открыть второй фронт. А если не соберутся? Тогда и воевать нам нечего? Или нечем? Вот на какие печальные мысли наводят эти слова.
Вопрос более чем серьезный. Сможем ли мы своими силами одержать победу или все это зависит от союзников? Напоминает то, как ставился другой вопрос: сможем ли мы сами построить социализм в одной своей отдельной стране или это невозможно без революции в других странах. Сейчас, значит, наша судьба зависит от союзников: откроют они или не откроют второй фронт. Да, ничего себе положеньице…
23.06.43.
Получил кипу писем из дома. Когда же я попаду в Москву! Теперь буду стучать во все двери, чтобы меня отправили на курсы. Из армии меня все равно не отпустят. Так, чем вечно оставаться старшим лейтенантом, лучше стать подполковником. Кирилл в Москве, учится на каких-то курсах. Это уже второй раз. Надо будет опять съездить в штаб армии, напомнить о себе.
Вечером был у нас концерт. Выступал наш ансамбль, есть отличные номера и хорошенькие исполнительницы. А после я пошел к радистам, хотели послушать Москву, но питание в приемнике было слабое, и слышимости почти никакой не было.
28.06.43.
У нас ряд важных событий. Уезжает наш генерал Провалов. Вчера мы его провожали. Был большой концерт, наш ансамбль блеснул как никогда. Крепко оторвали ребята.
Все разговоры и ожидания, что мы тоже куда-нибудь уедем, так и остались ожиданиями. Могут, правда, перебросить весь корпус, в который мы теперь входим, но едва ли. Был опять в штабе армии, опять напоминал о себе. Но мой старый знакомый, полковник Червинский, всячески отговаривает меня от курсов. Конечно, я понимаю, что работать в области филологии лучше, чем в разведке, но смогу ли я вернуться в мою филологию, кто знает. Положусь на судьбу, будем считать, что ни делается, все к лучшему.
Получил пару писем из дома. Мэри приехала в Москву. Совсем вернулась или нет, непонятно. Анатолий от нас уезжает, будет начальником разведки в какой-нибудь дивизии. А мы пока отдыхаем, даже скучно стало. Не люблю долго стоять на одном месте.
2.07.43.
Новостей особых нет, все еще отдыхаем. Вышли из подчинения армии. Так что мои друзья теперь уже ничем мне не помогут. Но я думаю, что это явление временное. Здесь опять готовится наступление. Тогда мы опять войдем в состав армии.
Подавали тут на меня документы для награждения орденом «Красной звезды», но дали медаль «За боевые заслуги». Ну да ничего, лишь бы голова была целая. Получил письмо от Артура.
5.07.43.
Вчера фриц начал наступление на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. За два дня тяжелых боев нами уничтожено свыше 800 танков, 200 самолетов и до 8 тысяч фрицев. Якобы им нигде не удалось продвинуться, но меня смущает выражение «тяжелые оборонительные бои». Обычно «тяжелые оборонительные» пишут, когда мы драпаем. Теперь главная задача выдержать этот натиск фрицев, измотать их хорошенько, а потом стукнуть так, чтобы бежали, не останавливаясь.
7.07.43.
На Орловско-Курском фронте фриц все еще нажимает. Мы уничтожили уже свыше 1500 танков, 600 самолетов, но он, как говорится, не считаясь с потерями, все лезет и лезет. Боюсь, как бы через пару дней не сообщили, что наши доблестные войска оставили город такой-то…
14.07.43.
Союзники наши высадились в Сицилии и успешно продвигаются. Заняли уже свыше 15 городов. Молодцы, ребята! Скорей бы только еще где-нибудь высаживались. На наших фронтах бои утихают. Видно, сумели остановить этих фрицев.
Теперь и у нас здесь готовится наступление. Техники сосредоточили ужас сколько. Солдат только маловато, да и елдашни среди них много. Но, если нам повезет, большой успех у нас будет. Фрицам придется здесь много чего оставить. Да и наших сил сколько освободится. Ведь у нас здесь четыре армии.
Задумчиво кубанское небо. Ярко светит луна, озаряя неподвижную листву деревьев, отражается золотыми пятнами в реке, на дорожках густых фруктовых садов, на черепичных крышах деревенских домов. Играет музыка, на площадке танцуют. Усыпанные вишнями и сливами ветки касаются голов танцующих пар…
Почему я не могу принять участие в общем веселье, не могу закружиться с какой-нибудь милой девушкой в быстром вальсе, забыть все, все? Но нет, не могу. Я слишком хорошо помню твои глаза, твой смех, радостный и серебристый, твой голос, глубоко проникающий в душу. Зачем у меня такая память? Зачем у меня такое глупое сердце?
25.07.43.
Три дня назад началось здесь наше наступление. Техники было у нас до чертовой матери. Достаточно сказать, что лишь одну нашу дивизию поддерживали 10 артиллерийских полков, 2 танковых полка, из них полк танков «КВ»; полк самоходных орудий 155 мм, бессчетное количество «Катюш», 3 батальона саперов и т. д. Артподготовка была такая, что небу было жарко. Казалось, что сама земля выплескивала залпы. У фрицев все было в черном дыму. Только кое-где темноту прорезали огненные брызги реактивных снарядов. И вот результат: колоссальные потери и ни шагу вперед. Причина — бардак в организации наступления и отсутствие взаимодействия. Танки почему-то не двинулись, а без них пехота не могла прорвать оборону. И авиации было мало, и действовала она лишь в первые часы боя.
Приходится уже в который раз удивляться, почему мы до сих пор не научились воевать. Ведь на других фронтах научились и бьют фрица в хвост и гриву. Мне думается, что неуспехи нашего фронта не случайны, и это, пожалуй, так.
31.07.43.
Все еще на прежнем месте, не продвинулись ни на шаг. Писем последние дни ни от кого нет.
Как-то тут познакомился с одним милым молодым человеком. Пишет стихи, очень много и очень слабо. Но талант чувствуется, надо только ему не разбрасываться, а сосредоточиться. Меньше, да лучше. Помог ему устроиться в полковую разведку переводчиком, а то хотели послать командиром взвода. А это значит, если не на тот свет, то в госпиталь.
Настроение паршивое. Сегодня целый день пью водку. В голове все время шумит, но зато ни о чем не думаешь.
6.08.43.
Опять на отдыхе. Отвоевались. Потеряли почти всех людей и без толку. Наши взяли Орел, Белгород. А мы… За что нам такие неудачи, ужас как досадно.
Был в штабе армии, новостей особых у них нет. Предлагают мне пойти в корпусный разведотдел, помощником начальника по информации. Не знаю, что из этого получится. Надо бы с Анатолием посоветоваться, узнать, что это за работенка.
Черные низкие тучи Густо покрыли небо. Долго ли будет мучить Сердце глупая небыль? Он предо мною снова Взгляд, что так чист и светел. Чист ли? В саду сурово Треплет деревья ветер. Падают с веток вишни, Май на земле не вечен, Кто-то сегодня лишний В этот ненастный вечер… Пусть на душе тяжелее, Видно, нельзя иначе. Я ни о чем не жалею, Я ни о чем не плачу. Черные низкие тучи Густо покрыли небо. Долго ли будет мучить Сердце глупая небыль?13.08.43.
Отдых наш кончился. Опять отправляемся на войну. На наше старое место. Новостей особых нет. Хотел сегодня съездить в армию, уточнить, как мои дела, но машины не было, а пешком слишком далеко.
17.08.43.
Расположились недалеко от того места, где был когда-то Дом отдыха. Фриц иногда постреливает. Сегодня один снаряд разорвался совсем близко, так вся наша землянка наполнилась дымом. Никак не удается съездить в армию, а надо было бы. Мишутка, помощник нашего начальника, от нас уходит. Еще одним моим другом стало меньше. Надо и мне отчаливать, сколько можно сидеть на одном месте.
18.08.43.
Сегодня пришла весть из Свердловска. Нина попала в места, как говорится, не столь отдаленные. Да, такие вот печальные дела. Подробности мне не сообщили. Это непринято, а то письмо вообще не дошло бы.
Приехал Пирог с курсов. Очень был рад его видеть. Поговорили обо всем по душам, о жизни и блядстве, которое творится в тылу. Хороший он парень. Жаль, если уйдет в другую дивизию.
Вероятно, скоро у нас опять будет наступление. Напрасно, вряд ли что получится, а людей потеряем без счета. Я бы плюнул на наш участок фронта, перешел к жесткой обороне, а освободившиеся войска отправил на другой, более важный фронт.
23.08.43.
Был вчера в армии, на занятиях. Ничего для себя полезного не узнал. Повидал только своих старых знакомых, но коллег никого не встретил. В дивизиях сейчас переводчики все новые, многие еще и фрицев в глаза не видели.
Анатолий несколько дней гостил у нас, он ведь теперь в штабе корпуса. Поговорили по душам.
Да, самое главное: сегодня наши взяли Харьков. Будем надеяться, что на сей раз уже окончательно.
26.08.43.
Вчера у нас было торжественное празднование второй годовщины нашей шахтерской дивизии. Вечер прошел довольно неплохо.
Анатолий вместе со своим корпусом уехал в Донбасс. И еще один корпус отбыл туда же. Значит, моя «стратегия» была правильной: нечего здесь держать войска. Фриц и сам отсюда уйдет, если в Донбассе на него, как следует, нажмут.
28.08.43.
Время идет своим чередом. Вчера праздновала свой юбилей наша разведрота. А мне там побыть не удалось, дежурю в нашем отделе.
Вечером был у нас парнишка из нашего ансамбля. Он неплохой баянист, сам пишет музыку, и надо сказать, хорошо. Многие его песенки стали любимыми у нас в дивизии. Чувствуется большой талант. Он еще очень молод, не имеет еще достаточного музыкального образования, но удивительно упорный, жизнерадостный, подвижный как вихрь.
Очень он мне понравился. Жаль, что раньше не имел возможности с ним поближе познакомиться.
6.09.43.
Опять стоим в Крымской. На том самом месте, где ночевали первый раз, когда взяли эту станицу. Уже четыре месяца топчемся на одном месте. А на других фронтах фрица бьют. В Донбассе крупное наступление. Наши взяли Красный Луч, Красный Кут и все старые знакомые мне места.
Несколько дней был болен. Опять эта проклятая малярия, привязалась ко мне, подлая.
Получил несколько писем от Артура и от Мэри. Она что-то слишком увлеклась психоанализом. Как мог пытался ей доказать вред этого занятия. Война срывает все покровы. Все это так, конечно, но некоторые слишком радостно ухватились за это и самообнажаются. Ну да черт с ним, если они так хотят. Лишь бы мы остались здоровы.
Тебе последнее Письма кому-то шлют издалека, привычную ложь торопливо набрасывая. И кто-то, читая знакомые строки, о чем-то мечтает. Напрасно. Мне тоже писали, и я тоже верил, что забыть невозможно поцелуй расставания, что любовь на недели нельзя измерить, что она не слабеет от расстояния. Но все оказалось значительно проще. Бесследно исчезли былые сны. Наш путь не широкая ровная площадь, Трудны и суровы дороги войны. Я пронес твое имя о этим дорогам, сквозь кубанских степей бескрайний простор, я пронес твое имя по хмурым отрогам самых высоких кавказских гор. Мы хоронили друзей погибших, над городами сожженными стлался дым, но чувство мое оставалось таким же нерастраченным и молодым. Смерть проходила со мною рядом, горячим свинцом грозя, но я сквозь разрывы снарядов видел твои глаза. И за черным, дымящимся валом шагающей грозно войны я видел: солнце вставало, воскрешая иные дни. В пьяном угаре двоятся лица: «Годы проходят, торопитесь жить!» От голоса сердца нетрудно укрыться за густым и мутным туманом лжи. Забыто все. Жизнь — минута. В чужих объятьях животная дрожь Не все ли равно, что где-то кому-то идти под свинцовый дождь. Теперь совсем с головою в омут. И вот уже легче лгать. Не все ли равно тому иль другому тело свое отдавать. Не все ли равно, на каких дорогах, во сне ли иль наяву ты губ потеряла прежнюю строгость и глаз своих синеву. Не стану рядиться в судейскую мантию, кричать, грозить Немезидой, я просто хочу оставить в памяти то, что по жизни прошло транзитом. И когда повстречаюсь с другою в летний вечер, прозрачный и лунный, я вспомню, махну рукою и уйду, отвернувшись и сплюнув. Крымская, авг. — сент. 19439.09.43.
Ну, теперь события будут развиваться быстро. Италия полностью капитулировала. В Донбассе наши успешно продвигаются. Взят город Сталино. Теперь и здесь фриц скоро начнет драпать, а мы будем наступать ему на хвост. Надеюсь, что успех будет.
11.09.43.
Сейчас пришел из кино, смотрел «Актрису». Замечательный фильм, получил огромное удовольствие. Вспомнились былые времена, хождения в театры, музеи. Эх, черт возьми, когда же придет такое время, когда я снова смогу пойти в МХАТ, Третьяковку, в Консерваторию. Как я по всему этому соскучился. Ну ничего, лишь бы пережить нынешнее время.
14.09.43.
Сегодня началось наше третье «решающее наступление». И опять ничего не получилось. Танки не пошли. Я слушал по радио их переговоры с командующим. Дается приказ и начинается торговля. Танкам приказывают идти вперед, а они топчутся на месте. Да, удивительные у нас порядки.
Мой начальник уходит на днях в другую дивизию. Постараюсь перейти к нему. Надо бы съездить в штаб армии, переговорить, но нет транспорта, а пешком очень далеко и займет много времени. А мне надо быть у себя в отделе.
17.09.43.
Фриц отходит не под нашим давлением, а сам. Продвинулись мы километров на 20. Соседи взяли Новороссийск, а мы поселок Молдаванское, которое я четыре месяца рисовал на наших разведсхемах.
По дороге к фронту — следы недавней оккупации. Плакат: «За появление гражданских лиц без сопровождения немецкого солдата — расстрел». А дальше сплошная «зона пустыни». Сейчас нахожусь в хуторе Основном. Ни одного целого дома, ни одного жителя. Обугленные развалины, обнесенные несколькими рядами колючей проволоки. Кругом все заминировано. Однако виноград настолько привлекателен, что все наши, забыв об опасности, мирно пасутся на виноградном поле. Винограда я съел неимоверное количество. А сколько яблок, орехов и других фруктов! Говорят, скоро выйдем к морю.
19.09.43.
Мы продолжаем двигаться вперед. Сейчас нахожусь в хуторе Красная Заря. Невдалеке идет бой. Фриц упирается, второй день не можем его толкануть.
Был сегодня у меня необычный пленный, первый за мою службу здесь офицер. Сам добровольно перешел на нашу сторону. Человек очень образованный, знает английский, французский и итальянский языки, даже русский немного знает. А вообще пленных у меня было человек двадцать. Много русских. Это все сволочи. Но не мое дело докапываться, как и что. Пусть особисты ими занимаются.
Попалось мне несколько интересных писем. Одно из Германии, от какой-то Нюры. Пишет, что одна немка купила ее за 35 марок. Вот работорговцы проклятые!
Что-то из дома давно нет вестей. Сегодня встретил своего старого знакомого, Диму Холендро, с которым я поступал в ИФЛИ и с которым вместе ехал по призыву в армию в 1939 году. Он теперь здесь, корреспондент фронтовой газеты.
26.09.43.
Вчера случилось большое несчастье, большая беда: убило нашего начальника разведки, майора Чумадурова. Редко можно было встретить такого жизнерадостного, веселого и такого отзывчивого человека. И такая нелепая смерть. Пройти войну, быть несколько раз на волоске от смерти и погибнуть сейчас, когда уже открываются такие светлые перспективы. Один бердичевский выкормыш, наш начальник штаба, добился его гибели. Теперь я буду чесать отсюда, из этой дивизии. Я только из-за него здесь и оставался, а то бы давно навострил лыжи. Да, таких начальников уже не найдешь.
Сейчас сидим в хуторе Джигинском на берегу старой Кубани. Скоро здесь с фрицами будет покончено.
28.09.43.
Фриц не уходит, сидит на месте. Как говорил наш покойный майор, нет настроения уходить. Да еще и стреляет, прямо покоя не дает. Скорей бы кончались все эти операции. А вдруг придется идти в Крым? Не очень приятная перспектива. Я уж разучился плавать, а как туда иначе попасть?
В углу свеча мерцает тускло. На потемневший холст картины Спустился сверху тонкий узкий Клочок давнишней паутины. За картами под образами Склонилась старая гадалка. Чуть смотрит сонными глазами, Чужого счастья ей не жалко. Пусть ждут меня судьбы невзгоды, Но я, не знающий удачи, Перед грозой и непогодой Не отступлю и не заплачу. Лети вперед, моя дорожка. Широкий путь — удел недужных. А если и взгрустну немножко, То значит это так и нужно. Осенний вечер за стеною, И дождь стекает с крыш покатых, Гадалка дряхлою рукою Перебирает молча карты. Хутор Уташ1.10.43.
Все еще сидим в этом самом Уташе. Привел себя немного в порядок, помылся, переоделся и т. п. В квартире у нас хорошие хозяева, и вообще, народ приветливый. У наших хозяев полно детей, девочек. Отвык я от этого, забыл уже, когда видел маленьких ребят. Приезжал к нам сюда мой старый знакомый, Лёня Лидес, только теперь он не Лидес, а Лиходеев. Поговорили с ним о том, о сем. Читал мне свои новые стихи. Одно мне так понравилось, что я переписал его себе. Очень хорошее сильное стихотворение.
Теперь нам ввели погоны. Всем, кроме железнодорожников, работников юстиции и прокуратуры. А после войны? Буду я каким-нибудь коллежским регистратором и тоже в погонах.
4.10.43.
Здесь наши наступают, уже взяли Тамань. А мы позади плетемся по кукурузным полям. И присвоят нам имя — «383 кукурузная дивизия». Сейчас сидим в поле, недалеко от станицы Вышестеблиевской. Там немцы наводили порядок: дома все покрашены, солома аккуратно подрезана. Ну а внутри — лучше не говорить. Слишком много про это говорилось и говорится.
9.10.43.
Операции на Таманском полуострове окончены. Фрицы уже в Крыму. Надо сказать, что ушли они отсюда исключительно организованно и планомерно, даже пустые гильзы от снарядов увезли с собой. Пленных были единицы.
Сейчас стоим на берегу Таманского залива. Вчера я уже искупался. Сегодня переезжаем в тыл, но куда и насколько, неизвестно.
12.10.43.
Все еще двигаемся в тыл. Где-то пройдет переформировка, а потом, видимо, придется освобождать Крым. Нашу дивизию наградили Орденом Красного Знамени. Так что особо выделили. Сейчас нахожусь в небольшом хуторке Трактовом, недалеко от Таманского залива. За неимением дома оборудовали себе конюшню. На дворе холодно, дует сильный норд-ост, а в конюшне более-менее тепло. А сегодня пришла ночевать одна наша радистка, так что совсем жарко было.
13.10.43.
Переехали в Темрюк. Красивый город, похож на Туапсе, но почти весь разрушен. Такие же кипарисы во дворах, у крыльца домов широкие белые ступени. И кругом развалины, воронки, пепел, угли. Нашли себе замечательную квартиру. В таких я не жил уже больше года. Может быть, поживем тут недельку-другую.
16.10.43.
Пока еще в Темрюке. Дальнейшая судьба уже известна: Крым. Не сегодня завтра отправимся туда ловить «языков». Не хотелось бы там воевать, да ничего не поделаешь. Ну а пока живем как у Христа за пазухой. На днях были у Чеботарева, погуляли, выпили, как полагается. Хороший он мужик. Это нас начальником обидели, прислали какого-то «сына божьего».
21.10.43.
Пока отдыхаем. Почти каждый вечер концерт или кино. Так что жить можно. Но в воздухе уже пахнет порохом и Керченским проливом. Видимо, наш курортный сезон скоро закончится.
У нас опять новый начальник. Я уж и счет им потерял. «Божьего сына» отправляют в Москву учиться. Новый как будто хороший парень.
Никаких особых событий не произошло. Получил несколько писем из дома, от Вовки, от Любы Щечковой, моей однокашницы по курсам военных переводчиков в Ставрополе. А впереди — Крым. А там много всякой татарско-кавказской сволочи, так называемых «добровольцев». Ну да мы дадим им духу, только бы высадиться благополучно.
25.10.43.
Сегодня целый день был в полку, проводил занятия. Устал как десять чертей. Да еще сегодня почти не спал.
Произошло тут со мной одно событие. Появился человек, который занял немалое место в моем сердце. Что будет дальше, не знаю. Пока все идет неплохо. А в далекое будущее заглядывать неохота.
Зине Ты помнишь осенний вечер, Хутор, затерянный в поле, И нашу странную встречу, Странную поневоле. Метался в бешенстве ветер, Тучи спускались ниже, А ты мне тогда всех на свете Вдруг стала роднее и ближе. Сомнений исчезли тени, Все было по-детски просто. И только стонали стены В холодных объятьях норд-оста. И только шуршали мыши, Да ветер стучался грубо. А я ничего не слышал, Лишь чувствовал твои губы.Был вчера на вечере, посвященном 26-ой годовщине комсомола. Видел замечательный фильм «Во имя Родины». Удивительно сильно сделана картина.
1.11.43.
Уже ноябрь месяц, скоро зима. А мы со дня на день должны двинуться. Дожди, холод, ветер, бр-р! И голая степь, ни деревца, ни кустика, не говоря уже о населенных пунктах, от которых еще с прошлого года остались только названия. В общем, перспектива еще та, а может быть, и хуже. Как в известном анекдоте, у нас два выхода: или мы будем есть керченские селедки, или они нас. Тогда у нас останется лишь один выход.
4.11.43.
Сегодня ночью покинули Темрюк. Как раз тогда, когда я опять заболел, лег в постель и мечтал поспать до утра в нормальных условиях. Но не тут-то было. Ночная поездка, ветер, сырость, туман. Сейчас сидим в небольшом хуторе Пересыпь. Как стемнеет, двинемся дальше. Вероятно, на Чушку, а там по проторенной дорожке 11-го гвардейского стрелкового полка.
5.11.43.
Перебрались в Кучугуры. Погода переменилась, на море шторм. Пока, пожалуй, плыть нельзя. В Крыму наши действуют успешно. И под Киевом начали продвигаться. Скорей бы к концу!
Между прочим, получил вторую медаль. На сей раз «За отвагу». Так что теперь могу менять две медали на один орден.
8.11.43.
Вот и праздники прошли. Встретили их не так, как в прошлом году, а в теплом сухом помещении, немного выпили. Но все могло бы быть и лучше.
С Зиной встречи не получилось. Она меня теперь считает каким-то аморальным субъектом. Отчасти я это заслужил. Оказывается, война сильнее повлияла на меня, чем я думал. Но этого больше никогда не повторится. Я люблю ее. Значит, надо быть достойным этого чувства, никаких скидок на «объективные обстоятельства» не может больше быть. Я не виделся с ней два дня, этого оказалось достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. А что будет дальше? Стоит ли сейчас задумываться над этим. Еще дожить надо. Знаю только, что чем больше я с ней бываю, тем больше хочу ее видеть. Но в наших условиях не все можно сделать, что хочешь, ничего не поделаешь, война.
Ездили сегодня с Чеботаревым в Темрюк за водкой, но ничего не достали. Привезли, правда, несколько флаконов одеколона и несколько кусков мыла.
9.11.43.
Сижу на берегу Керченского пролива. Впереди отчетливо виден Крым. Время от времени оттуда летит очередной «гостинец». Слышна отдаленная канонада. Сегодня ночью и мы начнем переправляться. Море спокойное, как озеро. Тепло, только иногда моросит дождь. С хатами уже распростились. Сегодня полночи провел под открытым небом, полночи в какой-то щели. А наши уже взяли Киев, Фастов.
Война приближается к своему завершению. Теперь бы хороший удар с Запада, и тогда развязка может наступить очень быстро.
Вот мы уже в Крыму. Доплыли благополучно, хотя некоторые катера подорвались на минах. Море было тихое, луна светила, словом плыл как по Москве-реке на речном трамвае. А фриц уже подготовил нам встречу: едва мы ушли из приморского поселка, как налетело полтора десятка самолетов и разбомбили его. Опять досталось нашему 4-му отделению, четырех человек убило.
Погода стоит более-менее теплая, время от времени идет дождь. А в поселках жить и ночевать опасно. В воздухе немцы пока господствуют.
14.11.43.
Повоевали несколько дней и вышли во второй эшелон. Фрицев тут набили порядочно, но и наших полегло немало. Пока дело идет медленно. Ничего, мы их тут перемелем, на Украине уже Житомир взяли.
Попались мне тут в руки интересные документы, материалы отдела пропаганды немецкой армии. Острые вопросы разбирают. Сила их пропаганды в том, что смело разбирают вопросы, которые волнуют каждого немца, на душе у него наболели. Другое дело, как они их объясняют. У нас эти вопросы предпочитают замалчивать. Они же говорят обо всем, вступают в спор с нашей пропагандой и с помощью всяких ловких трюков убеждают немцев в ее несостоятельности и неубедительности. В общем, Геббельс не зря свой хлеб ест.
15.11.43.
Все еще стоим в Баксах. Наше наступление что-то увяло. У фрицев нет здесь ни проволочных заграждений, ни противотанковых рвов, ни минных полей, а наши танкисты трусят и не могут даже близко подойти к их переднему краю. Фриц сейчас здесь оборону держит, а где-то в тылу готовит себе новые рубежи, как и полагается. И получится опять как на Таманском полуострове: сам уйдет и вывезет все, даже гильзы.
Был сегодня в бане. В наших условиях это выдающееся событие, даже весьма. А настроение какое-то паршивое. Еще всякие неполадки сердечного характера.
18.11.43.
Жарко горит печка. Трещат дрова, охваченные яркими языками пламени. А в окно бьет холодный ветер, сырой и промозглый. Играет радио: этюд Шопена. Люблю я смотреть на огонь. Внизу угли, раскаленные докрасна. Потом они рыхлеют, рассыпаются, превращаясь в серый пепел. Сейчас угли жаркие, но горят спокойно, а пепел уже серый и холодный. Вот так и у людей бывает. Но не буду философствовать.
Недалеко отсюда есть каменоломня. Там еще в 1941 году скрывалась большая группа наших окруженных войск, среди них было даже несколько генералов. Семь месяцев они просидели под землей, без света, без всякой связи с внешним миром. Последние три месяца питались только сахаром. Много раз пытались немцы их уничтожить, травили газом, устраивали взрывы, а они не сдавались. Штыками выкопали себе колодец глубиной 7–8 метров. Немцы его взорвали. Осажденные выкопали новый. В конце концов все они погибли, но никто не сдался в плен, тем более не перешел на сторону гитлеровцев. Сейчас в этих катакомбах на земляном полу, на лежанках сотни трупов и высохших скелетов в самых ужасных позах.
19.11.43.
Завтра должно быть наше наступление. И немецкое. Кто раньше начнет неизвестно. Пленных давно уже не было. Фрицы подтянули танки, бронемашины, пехоту. У нас тоже хватает кое-чего, но не так уж много.
У фрицев, я думаю, ничего не выйдет, а у нас, кто его знает, посмотрим. Погода стоит ужасная, шторм, норд-ост. Ветер с ног сбивает. А на море вообще невообразимое творится. Поэтому и почты давно не было. Как-то там все…
21.11.43.
Вчера весь день был на НП. Воевали мы позорно. Не только не продвинулись ни на шаг, но к вечеру даже отошли, не выдержав немецкой контратаки. На НП подняли тревогу, всех «В ружье!» уже кто-то кричал, что видит идущие на нас немецкие танки и тому подобную чушь. А кругом действительно стреляли, бомбили, все было в дыму, кричали раненые. В общем, картина та еще. Но НП наш был в камнях катакомб, совсем безопасно. И стреляли в нас и бомбили, но каменоломня слишком глубока, только пыль на нас сыпалась.
25.11.43.
Все еще стоим в Баксах. Что-то туго у нас идет дело. Достали себе трофейную рацию, слушаем музыку и не только. Сейчас интересно путешествовать по эфиру. Где-то безостановочно играет джаз, где-то плачет скрипка, где-то говорят, говорят. На разных языках передают обзоры с фронтов войны, агитируют, уговаривают, грозят. Война идет и в эфире.
На дворе потеплело, но часто идет дождь. Ужасно скучаю по Москве, прямо тянет туда со страшной силой.
28.11.43.
Уже конец ноября — когда-то был наш с Вовкой традиционный день. В этот день мы гуляли по Кремлевской набережной, потом с Красной площади шли по улице к метро «Дзержинская», на углу заходили в кафе «Автомат» и съедали по пирожному «наполеон». А теперь сижу в какой-то дыре на Керченском полуострове — и ничего, пока доволен своей судьбой. Человек привыкает довольствоваться самым малым, но стоит дать ему побольше, и тогда его желаниям не будет границ. Но это и хорошо. Чем больше имеешь, тем сильнее потребность иметь еще больше. Такая вот закономерность, хотя некоторые и успокаиваются на достигнутом.
Получил очередное письмо от Мэри, очень хорошее, теплое такое. Она все еще в Уфе, интересно было бы сейчас с ней встретиться, поговорить о том, о сем, чего бумага, вопреки пословице, не всегда терпит.
Теперь я должен подвести итог некоторым своим чувствам. Прошло уже более месяца, можно сделать кое-какие выводы. Первый и безусловный: я ее люблю. Конечно, даже после той ночи в холодном сарае с мышами, виноградом и т. д. я не мог себе представить, что же будет дальше. В будущее, даже совсем недалекое, не заглядывал ни на секунду. Пусть будет то, чему суждено быть. Мы как-то говорили с ней о наших отношениях очень прямо и откровенно. Я понимаю ее, она хочет чего-то более определенного, но какую определенность я могу ей дать? Обещать и говорить красивые слова не в моей натуре, я предпочитаю в таких случаях быть обманутым (что не раз уже случалось), чем обманывать дорогого мне человека. Я знаю, что с каждым днем мое чувство к ней только усиливается. Именно чувство, а не привычка, я хочу быть с ней 48 часов в сутки. Не потому, что это стало привычной необходимостью, просто я повторно влюбляюсь в нее всякий раз, когда вновь вижу. Теперь я более уверен в своем чувстве, чем в ее. Теперь я могу требовать от нее «определенности», но что это такое — «определенность»? Гарантии на будущее? А кто их может дать? Сейчас я знаю, что люблю ее, но кто знает, что будет через год, два, а может, и через месяц. Если мы вообще останемся живы.
Уверять в незыблемости и вечности своего чувства значит, обманывать ее и себя. То, что сегодня истина, завтра может оказаться ложью. Я верю ей, но не уверен в ней. Это, как говорится, две большие разницы. Если бы мы попали в нормальные мирные условия, подобных вопросов не возникало бы.
Сегодня она рассказала мне, что вчера во время ее ночного дежурства у нее был один откровенный разговор, после чего ее поцеловали. Если бы я это увидел, никогда бы не простил. Она могла бы и умолчать про это событие, но у нее слишком прямая натура. Откровенность ее не доставила мне радости, но я не сержусь, тем более не ревную. Считаю ли я это нормальным? Нет, конечно, поэтому-то я в ней не уверен. Ну да ладно, поживем — увидим.
1.12.43.
Вот и все. Оказывается, мое отношение к ней унижало ее «прежнюю гордость» и вообще доставляло ей только неприятные минуты. Ни одному слову моему она не верила и вообще видела во мне какого-то подозрительного субъекта. Оказывается, я ее не люблю, а так, играю в минутное увлечение. Но хватит. Зачем все это, если мне даже не хотят верить. Пусть мне будет очень тяжело без нее, но гораздо тяжелее сознавать нынешнее ненормальное положение, при котором я должен играть такую глупую и гнусную роль. Никогда и никому не позволю играть своим чувством.
3.12.43.
Два дня мы вели ожесточенные бои. И ноль успеха. Пехота действовала плохо, нерешительно. Момент, благоприятный для нас, был потерян. Танкисты на этот раз действовали замечательно. Десант автоматчиков на танках прорвался далеко в тыл немцев. Но десантников было мало, а остальные их не поддержали. Многие так и остались там, во вражеском тылу. В общем, воевали хреново.
Живем мы сейчас в катакомбах. Здесь темно, беспрерывно дует ветер, но зато вполне безопасно: над головой каменная гряда толщиною в несколько метров. Так что можно поплевывать на бомбежку и обстрелы.
6.12.43.
Вот как у нас бывает. Здесь адский холод, я лежу в теплой постели на охраняемом участке. Сюда не проникнешь. А Зина вынуждена бродить по этой проклятой катакомбе в поисках теплого уголка. Найти его можно, это нетрудно, некоторые наши вояки охотно уступят ей половину своей кровати. А наутро она опять придет ко мне, такая до странного чужая, и я не смогу даже обнять ее, так как чувствую еще не остывшее тепло чужих рук. Чувствую какое-то непреодолимое отвращение. Но легче ли будет для меня, если она всю ночь пролязгает зубами от холода, сидя на каком-то камне? Отбросим эту интеллигентскую туманную неопределенность, которая стремится сгладить острые углы и затушевать всякие противоречия. Да, легче. По крайней мере, этого гнусного чувства недавнего своего, ставшего чужим. Да, черт возьми, в этих проклятых условиях войны трудно быть одному, но еще труднее и сложнее — вдвоем.
8.12.43.
Вчера опять бродил по катакомбам. Был там, где жили партизаны и где погибли тысячи наших бойцов и командиров, прикрывавших наш отход из Крыма в 1942 году. Страшное зрелище! Братская могила. Глубокая квадратная яма, доверху наполненная останками, которые когда-то были людьми. Сверху, слегка присыпанные землей, виднеются черепа, кости, обрывки шинелей и гимнастерок. Темные глухие коридоры, идти приходится, низко пригибая голову. Десятки ответвлений, проходов, тупиков. Здесь можно бродить неделями, не находя выхода. Колодец. Заглядываю в него: где-то глубоко внизу блестит вода. Он выдолблен в камне, этот колодец. Штыками. Рядом несколько обвальных глыб. Это взрывали немцы, пытаясь завалить колодец. Идем дальше: узкое черное отверстие в стене — там был госпиталь. Множество коек, скелеты, черепа, кости. Кто-то из них умер последним, рядом на койках уже умерли соседи, а он еще жил, еще дышал, дышал тяжело, с хрипом. Еще в голове у него теплилась какая-то мысль, еще оставалась какая-то надежда. До последней секунды человек надеется на что-то. А вот теперь остались только кости, обрывки одежды, не отправленные письма…
13.12.43.
На днях окончил читать, вернее, перечитывать последнюю книгу «Очарованной души». Какая замечательная вещь! С удовольствием перечитал бы все книги этого романа, ведь Аннета — мой любимый женский образ. Недавно в газете я читал статью о судьбе Р. Роллана. Этого величайшего мыслителя нашей эпохи, замечательного писателя немцы бросили в концлагерь, и даже неизвестно, жив ли он. Эти кровожадные пигмеи издевались над великим учителем жизни. Какая расплата будет достаточной за эту беспримерную гнусность и подлость. Боясь убить его, они заставили замолчать его свободный голос. Ему не разрешали писать, но даже самое имя гения, как дамоклов меч, нависло над их растленными душами. И они упрятали его в самый дальний концлагерь, вычеркнув его из списка живущих. Всей своей подлой кровью не расплатятся они за праведную кровь Роллана.
Лучший и величайший представитель старого поколения интеллигенции — Роллан, всей страстной своей душой ненавидел гнетущее насилие фашизма, убивающего и калечащего всякое проявление живой мысли, всякий проблеск свободного разума. Он не мирился с безвольной мягкотелостью демократии на своей родине. Жить — это действовать и бороться, вот что было его девизом. Но действие и сила не ради действия и силы, а ради достижения лучезарной цели — счастья для человечества. Он видел стремление к этому в нашей стране. Но за последние предвоенные годы он изменил свое отношение к нам. Его идеальный космополитизм не мог понять нашей войны с Финляндией, присоединения стран Балтики, части Польши и т. д.
Но он не пристал и к другому берегу. Человеконенавистнические идеи фашизма были органически чужды его свободной и великой душе. Я не знаю его взглядов во время этой войны, но думаю, что его отношение к нам изменилось в лучшую сторону. Когда-нибудь мы узнаем об этом правду.
Ромен Роллан писал о некоторых людях, которые лижут руку своего господина, который бьет их палкой. Таков, как выяснилось, Кнут Гамсун. Как будто они с Ролланом люди одного поколения, одних взглядов, но какое коренное различие в их современной жизни! Холопское угодничество одного и страстная непримиримость другого. Слава последней, она никогда не умрет в нашей памяти.
18.12.43.
Наконец-то выбрались из этих пещер. Живем в Джанкое, маленьком хуторишке недалеко от моря. У нас хорошая хата с печкой, кроватями и прочим комфортом. Настроение последние дни удручающе скверное. Устал уже от всего этого. Единственный человек, с которым все время хочется все время быть вместе — это Зина. Но в таких гнусных условиях наши встречи не могут дать того, что должны бы дать. И поэтому иногда даже не хочется видеть ее в этой обстановке. А быть совсем одному невыносимо тяжело.
На дворе свирепствует норд-ост, метет и швыряет в лицо снег, завывает в развалинах домов. А что сейчас в море делается!
Сегодня я ответственный дежурный. Уже около трех часов ночи, спать не хочется. Последние дни привык поздно ложиться.
21.12.43.
Сидим в том же Джанкое. На дворе грязь, снег, дождь, ветер. Вторая такая гнилая зима выпала на мою долю. Все никак не соберусь пойти с Михаилом в баню. Начальство требует «языка». Сегодня намечена экстренная операция, но обреченная заранее на неудачу. С кондачка фрицев не ловят.
Начальство мое все разбежалось. Сижу один. Хочется, чтобы пришла Зина, но что это даст? Я не смогу даже поговорить с ней так, как мне этого хочется, потому что вокруг будут кучи посторонних физиономий. Дурацкое положение. Сколько еще неполадок на земле творится: нельзя быть вдвоем с любимым человеком. Почему сейчас декабрь, а не июнь. Было бы наоборот…
Написал несколько поздравительных писем, может, успеют дойти. А ведь когда-то я надеялся, что 44-й год буду встречать в Москве.
Правда, я тоже надеялся, что 43-й год буду встречать дома. Но все же у меня какое-то предчувствие, что ко дню моего рождения остановится эта военная карусель.
25.12.43.
Опять свирепствует норд-ост, прямо обжигает. Приезжал сюда Ворошилов. Вероятно, скоро начнется «концерт». Давно пора. Только не отсюда надо бы начинать. Сейчас бы хороший удар с севера.
28.12.43.
Получил кипу поздравительных писем. Даже от таких, давно забывших меня корреспондентов, как Нина Шевцова и Таня Лейбензон. Маргит прислала большое и теплое письмо, все собирается в Москву, даже обратный адрес написала московский, но пока еще сидит в Уфе. И Артур наконец подал голос. После полуторамесячного молчания.
Обилие сегодняшней корреспонденции привело Зину в уныние. Но это все пройденный этап, а история никогда не повторяется. Во всяком случае ни с кем из моих корреспонденток.
31.12.43.
З. На прибрежный песок волны падают глухо, над дорогою пляшет холодный мохнатый туман, и вокруг только ветер свистит над ухом, словно сойдя с ума. И вокруг только поле, да гул разрывов, да далеких пожаров чадящий дым, да испуганный заяц пробежит торопливо, петляя по снегу следы. Двенадцать. В метельной вьюге, в вихре бушующих непогод, где-то здесь, под Керчью, на юге родился сорок четвертый год. Белые хлопья на поле ложатся устало, и глубоких землянок огни не видны. Я сегодня с тобою, и как будто не стало ни пожаров, ни выстрелов, ни войны. И как будто нас только двое на свете, нам березы отдали светлую нежность, и как будто над нами зеленые ветви и июльского неба голубая безбрежность. Еще, может быть, много испытать нам придется, и не всякое горе проходит бесследно мимо, но все это легче, если рядом бьется горячее сердце моей любимой. И если войны поток несдержимый нас разбросает по разным дорогам, я знаю: чувством одним движимы мы вместе придем к одному порогу. И этих развалин серые груды, клочья тумана над черными кручами, и эти дни, и скупые, и трудные, может быть, вспомнятся самыми лучшими. Джанкой, 30–31.12.431944 год
1 января 1944.
Первый день нового, сорок четвертого, года. Что-то принесет он мне… Я встретил его более радушно, чем сорок третий. Неужели и в этом году я не буду дома. Сколько же можно воевать, черт возьми! Я поднял свой первый тост за то, чтобы сорок пятый год встретить в Москве, в кругу родных и друзей. Правда, когда-то я надеялся уже сорок третий встретить в Москве, но на этот раз, я думаю, надежды оправдаются. Сейчас почти на всех фронтах наши наступают. Вновь взят Житомир, в Белоруссии успешное продвижение на Запад. Теперь очередь за нашими союзниками. Но как бы то ни было, а война в этом году должна окончиться. Должен же быть конец страданиям, которые переносит наш народ.
Недавно сюда приезжала группа офицеров из нашего глубокого тыла. Плохи там дела. Все дорого, работают люди по 14–16 часов, а зарплата довоенная. Словом, испытывают такие трудности и лишения, которых даже здесь, на фронте, нет. Здесь тоже бывает туго, но периодами, там постоянно. И кто знает, как все будет после войны. Многое нужно будет Изменить. Сможем ли?
4.01.44.
Вчера я снова услышал то, что впервые услышал лет пять-шесть тому назад. Меня сравнили с Карениным, человеком замкнутым, бездушным, холодным и бесстрастным. Это все мне известно. Во мне с незапамятных пор словно бы живут два человека: один горячий, быстро возбуждающийся и тут же реагирующий на происходящее. Другой — спокойный, невозмутимый, глубоко безразличный, созерцательный, педантичный и благопристойный. Между ними всегда происходит борьба. Иногда побеждает первый, чаще берет верх второй. Со вторым жить трудно, вернее сказать, душно. В то время когда побеждает второй, все становится мне безразличным и ненужным. Я никогда не забуду, как в период такой депрессии у меня чуть не произошло разрыва с Ниной. Я сидел вечером один на лесной опушке и любовался раскинувшимся вокруг полем в лучах заходящего солнца. И в эту минуту все происходящее на этом свете было мне абсолютно безразлично, даже мое собственное существование. Нина незаметно подошла ко мне, горячо обняла меня и стала целовать. Я едва смог ответить ей тем же. Она разрыдалась, стала упрекать меня, что я ее разлюбил, что вообще никогда не любил, что вообще никогда не смогу ее любить и т. д. и т. п. Все это было небезосновательным, но несправедливым. Я любил ее так же сильно и глубоко, как и раньше, как и позже. Просто в этот момент это было мне не нужно. Такой уж у меня дурацкий характер.
Сейчас все чаще на меня нападает такая депрессия и безразличие: пусть все горит огнем и проваливается в тартарары, все равно. Конечно, трудно вывести меня в такие минуты из состояния неподвижного безразличия. В результате справедливые (и не справедливые в то же время) обиды Зины, желание причинить мне какую-нибудь неприятность, чтобы как-то сдвинуть меня с мертвой точки. Незавидное положение, но неизлечимое.
Конечно, легче всего мне сказать: «Слушай, дорогой. Тебя лучше любить издали, ибо вблизи ты способен задушить всякое проявление живого чувства. Поэтому давай лучше разойдемся. Наши дороги могут идти параллельно, но никогда не сойдутся». «Неужели у меня судьба Агасфена?»
9.01.44.
Опять перебрались в катакомбы. Должна была бы начаться война, но в ночь перед нашим наступлением фрицы взяли у нашего соседа четырех пленных. Так что спектакль был сорван. В катакомбах зверский холод, особенно в нашем загоне, который весь в дырах, как решето. На улице то дождь, то снег, а сегодня даже мороз.
Получил долгожданное письмо от Сони. Несколько месяцев я ничего не мог узнать о ее судьбе. И в довершение всего забыл ее московский адрес. Когда-то я думал, что скорее забуду свое имя, чем этот адрес. Но слава Аллаху и всем прочим богам, что она живой и невредимой вернулась из своих дремучих лесов. Очень бы хотелось увидеть ее, поговорить, рассказать о своем житье-бытье. Ведь в письме всего не напишешь.
12.01.44.
Воевали тут, воевали, и все без толку. Наши артиллеристы постарались и авиация. Словом, кого немцы не убили, так свои добили. Готовили, готовили эту операцию, а получился обычный бардак, отсутствие взаимодействия и тому подобное. На других фронтах, посмотришь, умеют люди воевать, гонят фрица, аж пятки у него сверкают. А здесь не война, а крысиная возня. Прямо обидно и досадно.
17.01.44.
Несколько дней пролежал в медсанбате. Опять малярия. Схватила было крепко, но отпустила скоро. Полежал на настоящей постели с простыней, подушкой и прочими, давно уже забытыми принадлежностями человеческого спанья. Встретил там свою землячку. Приятно было услышать родную московскую речь, типично московские обороты и выражения.
Сегодня пришел в Джанкой. Думаю пару деньков пожить здесь, а потом снова в катакомбы. Соскучился только по Зине, а то еще дольше бы тут пробыл.
21.01.44.
Опять готовимся к очередной операции. Нашу дивизию, как шальную, бросают с одного направления на другое. Но сейчас уже заранее можно сказать, что ничего хорошего у нас не получится. Людей мало, да и устали все очень, а фриц, ободренный нашими неудачами, будет огрызаться как никогда.
Ужасно надоело в этих пещерах, хоть бы вынесла нелегкая нас отсюда.
26.01.44.
Настроение потрясающе скверное. Полная депрессия. Ничего не хочется делать, никого не хочется видеть. Заснуть бы и не просыпаться до конца войны. Или уехать куда-нибудь в глубокий тыл.
Что у меня вообще за характер такой. Мне бы жить где-нибудь на необитаемом острове, а не с людьми, тем более с теми, кого я люблю.
А у нас есть некоторые успехи: мы и соседи ворвались в Керчь. Уже заняли треть города.
Клим Ворошилов наводит тут порядки. Наш командир корпуса Провалов отстранен, командир 32-ой гвардейской снят, командующий артиллерией тоже снят. Ну а когда лес рубят, щепки летят. Нашего Михаила тоже куда-то откомандировывают. Прислали уже на его место какого-то капитана. Жаль будет очень. Привык я к нашему Мишутке, почти год вместе воевали.
31.01.44.
Михаил уехал. Оказывается, из-за нашего начальника. Интересно, за что он на него взъелся? Вообще, здесь обстановка паршивая. Если бы не Зина, уехал бы отсюда в другую часть. Вообще, на одном месте долго засиживаться вредно.
Что-то последние дни опять плохо себя чувствую. Простудился в этих проклятых пещерах. Ну да сегодня нас как будто сменяют. Имеем шанс оказаться в Джанкое. Неплохо было бы.
2.02.44.
Сейчас только пришел от Зины. Вокруг нее тоже разворачивается хоровод. С каким удовольствием я разбил бы эти поганые рожи! Если ее действительно переведут отсюда, я ни дня тут не останусь. В любое место, только бы убежать из этой клоаки. Хуже еще то, что она больна. И хочет пойти ночью в наряд. Взрослый человек, а делает такие глупости!
Неужели я останусь совсем один? Нет, не может так быть, мы должны быть вместе.
7.02.44.
Мы в Джанкое. Здесь уже весна, солнце светит как в апреле. Днем так совсем тепло. Даже голова немного кружится. Но это пройдет. А вообще, настроение какое-то тоскливое. Хочется уйти куда-нибудь, но от самого себя не уйдешь. Эх, если бы попасть в Москву!
13.02.44.
Наши отношения с Зиной вступили в стадию загнивания. Мы видимся только урывками и так нескладно, что после остается только досада и чувство пустоты и ненужности всего этого. Для нее это еще тяжелее, так как прибавляется давление «администрации» в лице множества настырных поклонников. Прислала она мне вчера письмо, где пишет, что все это происходит потому, что она не уверена в своем будущем. Черт возьми, а кто из нас может быть в нем уверен! На одном чувстве будущее не построишь. Как говорят мудрые люди, бытие определяет сознание. А какое оно завтра будет, это бытие, знает только один Господь Бог.
14.02.44.
Когда мы полностью вместе, то забываем, что идет война, не слышишь бомбежек, обстрелов, как будто мы не можем расстаться, и так будет продолжаться бесконечно.
15.02.44.
Колосов, наш начальник, уехал. Слава Богу. Одним барахольщиком меньше. У нас пока главным Ваня Крючков. А в воздухе уже запахло порохом. Видимо, скоро будем воевать. На этот раз, похоже, на левом фланге.
Прочел сегодня в «Красной звезде» «Два стихотворения» Б. Пастернака. Чуть не стошнило. Просто отвратительно. Видно, что написано по приказу свыше.
21.02.44.
Сегодня удалось наконец сходить за посылкой. Ходил в поселок Осовины, на берегу Азовского моря. В общем, прошел от моря до моря. Хорошо хоть на обратном пути подвезли добрые люди. Посылку получил, очень все пригодится. Да и вообще, из дома всегда приятно что-нибудь получать.
Мы все еще сидим в Джанкое, но вот-вот должны выехать «на войну».
24.02.44.
Вот и праздник наш прошел. 23-го я был ответственным дежурным и всю ночь работал над схемой для нашего генерала. Правда, 22-го вечером погулял немного у Ильина.
Приехал тут из Москвы один майор, который, по-видимому, останется у нас. Рассказывал какая там жизнь, в тылу. Для офицеров разработан специальный кодекс поведения вне строя. Утверждены правила, как сидеть за столом, как и что есть и пить, как приглашать даму к танцу и т. д. и т. п. Говорят, что теперь офицер может жениться только на девушке с образованием не ниже среднего.
В церквах произносятся теперь прямо-таки политдоклады. Совершают молитвы за здоровье Сталина, за Красную Армию и др. Да, интересно. После войны многое покажется нам удивительным.
Погода изменилась. Зима, снег, вьюга. Вчера утром из блиндажа просто нельзя было вылезти, совсем замело.
28.02.44.
Перебрались на новое место, в Колонку. Пока шли, проходили по заводу имени Войкова, мрачное зрелище. Такой гигант и весь разрушенный.
Живем сейчас в маленьком блиндажишке, теснота страшенная. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Почему-то кажется, что на этот раз наступление наше будет более удачным. Сколько же можно сидеть у этой Керчи, тем более что больше половины города в наших руках.
На дворе опять потеплело. Сегодня вечер совсем апрельский. Как хочется попасть в Москву хоть на несколько дней! Вовке вот улыбнулась фортуна, побывал дома. А моя фортуна что-то совсем про меня забыла.
На душе какая-то неустроенность. А какая и самому непонятно. Словно оторвали у меня что-то и теперь только ветер дует в эту черную дыру. Неужели так никогда не придется дожить до мая, а только подсчитывать прожитые апрели. Но ведь что прожито, к тому нет возврата. Ненавижу гробокопательство. Но слишком цепко держится за мою душу это прошлое. Не выбросишь ведь, как выбрасывают из кармана старый носовой платок.
6.03.44.
Читаю Маяковского, вернее, упиваюсь. Это после почти трехлетнего перерыва. Еще и еще раз перечитал «Про это». Вспомнил осенний вечер на балконе тарасковского особняка. Много воды и всего прочего утекло с тех пор. Я недавно переработал и отредактировал свое «Последнее тебе», получилось лучше и сильнее. Жаль, что нет возможности переслать адресату. Впрочем, это и не нужно.
А так жизнь идет. Ругают нас кому не лень за то, что не ловим фрицев. Но разве это так просто, как выдернуть из огородной грядки редиску. Сегодня потеряли нашего командира роты Ильина. Как жаль парня! Почти год работали с ним вместе и дружили.
10.03.44.
Только что пришел из клуба. Смотрел фильм «Возвращение Максима». Старинная уже вещь. Помню, как первый раз смотрел этот фильм в день празднования нашего окончания восьмого класса. С тех пор прошло уже семь лет. Семь лет, черт побери! Уже многих из тех, с кем мы отмечали этот праздник, нет сегодня в живых…
22.03.44.
Несколько дней был болен, даже лежал в медсанбате. Опять малярия, и опять началась как в прошлом году в конце марта. Паскудная штука. Неужели и дальше будет повторяться.
У нас все еще тихо. Но поскольку все было организовано как всегда у нас, то и траншеи сдали, и людей без толку потеряли, и даже пленных фрицам преподнесли.
28.03.44.
Что-то неспокойно на душе. Сам хорошенько не понимаю, что со мной происходит. Опять хочется уехать куда-нибудь. Скорей бы началось наше наступление, сил нет сидеть на одном месте. Так все здесь надоело. Хочется чего-нибудь новенького. Да еще Зина заболела. Лежит в медсанбате. Она единственный человек, с кем мне всегда хотелось бы быть. Но не так, как здесь, в других бы условиях. Ведь мы уже почти пять месяцев близки, и с каждым днем я все сильнее и сильнее чувствую необходимость того, чтобы она была рядом со мной. Но иногда бывает почему-то так досадно и на себя, и на нее, и на все. Ну да это просто глупости. Побольше надо иметь точек соприкосновения.
31.03.44.
Погода вроде начинает налаживаться. Хочется настоящей весны. И движения, ведь весной неудержимо куда-то тянет.
Читаю сейчас Мопассана. Давно я хотел достать его книги и вот случайно нашел. Все бы хорошо, но только после его рассказов на душе остается какой-то тяжелый осадок. Но ничего не поделаешь, такова жизнь.
Получил недавно очень хорошее письмо от Сони. После ее предыдущего письма мне показалось, что она за последнее время превратилась в тот мужеподобный тип женщин, который возбуждает во мне лишь чувство досады и отвращения. Но, слава Богу, ничего подобного не произошло. Между прочим, она прислала мне одно стихотворение. Очень неплохое, такое простое и душевное. И вместе с тем умело облеченное в хорошую форму. Редко приходится читать хорошие стихи, а это из таких.
Последние дни чувствую какую-то слабость, недомогание какое-то. С чего такая напасть, неужели последствия малярии?
Зина все еще больна. Завтра постараюсь ее навестить, а то уже здорово соскучился.
4.04.44.
Сегодня интересный день, вернее дата. Из одинаковых цифр. Такой день будет еще только через одиннадцать лет.
За это время на фронтах произошли величайшие события: наши войска вышли на государственную границу. А теперь, перейдя реку Прут, продвигаются в глубь Румынии. Подумать только, уже в Румынии! А давно ли было то тяжелое и тревожное время, когда мы, прослушав по радио очередное сообщение Совинформбюро, с грустью, злобой и досадой отходили от репродуктора. Давно ли было время, когда фриц загнал нас за Кавказские горы, за Волгу. И вот теперь настает расплата, это еще только начало. Пока только мамалыжники почувствовали войну у себя дома. Скоро это почувствуют и фрицы.
А у нас опять зима, холод, снег идет. Не погода, а недоразумение. Как говорится, весна в Крыму, ни хрена не пойму.
13.04.44.
Наступаем. С 11-го апреля. Фриц, не дождавшись нашего генерального наступления, сам драпанул, да так, что мы едва успеваем его догонять. По дороге разбитые машины, брошенные пушки, повозки, ящики. На станциях оставлено много разных складов. Наш сосед справа уже на подступах к Симферополю. А наша дивизия овладела Феодосией и Коктебелем. А на юге замечательная победа: Одесса снова наша! Здесь фрицу устроили тоже грандиозное побоище, второй Сталинград.
Нахожусь в Феодосии. Почти совсем не разрушен, много гражданского населения. Деревья здесь уже зеленеют, тепло. Правда, ветер еще никак не успокоится.
Сейчас будем двигаться дальше через Коктебель на Судак. Так что, может, увижу те места, где жил когда-то в далекие дошкольные годы.
Нахожусь в Отузах. Население встречает нас замечательно. Выходят на дорогу, угощают вином, приглашают к себе покушать, отдохнуть и т. д. И это крымские татары. Те, которые провожали наши отступавшие войска камнями и улюлюканьем. Немцы научили их любить русских, любить нашу советскую власть.
Сейчас сижу в одной татарской хате. Пришла какая-то старушка. Со слезами на глазах рассказывает как они здесь жили под немецко-румынским гнетом. «За каждого убитого или пропавшего немца, — рассказывает она, — они расстреливали 50 мирных жителей без разбору — и женщин, и детей, и стариков». Потом она куда-то уходит и возвращается с бутылкой вина — хорошего домашнего рислинга. Предлагает выпить пару стаканов. Пью, иначе кровная обида. Хозяйка тем временем суетится у печки, что-то жарит.
Рядом с хозяйкой ее дочь, молодая стройная красивая татарка. Вспоминается лермонтовская Бэла. По-русски ни слова, только глаза горят, да на губах улыбка.
Но на меня сейчас никакая экзотика не производит впечатления. Чувствую себя прегнусно, уже третий день трясет малярия. К вечеру делаешься буквально как пласт.
Слабость, голова кружится, не хватает только кровавых мальчиков в глазах. Когда же я избавлюсь от этой напасти.
Зину эти дни вижу только мельком. Ей, бедной, крепко достается сейчас, все время приходится дежурить. Хочется побыть с ней вдвоем, поговорить, но никак не получается.
14.04.44.
Находимся в Судаке. У нас большое горе: наш начальник майор Кобыжаков умирает от полученных ран. Подорвался на мине. Не везет же нам. Второй замечательный человек погибает. Недавно погиб Чемадуров, теперь Кобыжаков.
На войне очерствляется сердце, ведь смерть постоянно перед глазами. Но становится страшно, когда представишь себе, что вот был человек, необыкновенно добрый, культурный, жизнерадостный, и вот его нет. Полчаса назад еще разговаривал, а теперь без сознания.
15.04.44.
Еду в Алушту. На всех видах транспорта. По дороге виднеются татарские села, они лепятся к скалам своими плоскими двухэтажными коробками домов. Наверху над морем — кипарисы и еще какие-то вечнозеленые. А по берегу колючая проволока и мины. Румыны здесь жили в постоянном страхе перед партизанами и всячески отгораживались. Но это не помогало. Партизаны давали им прикурить.
Нахожусь в Алуште. Сегодня был вечер встречи двух фронтов: нашего и 4-го Украинского. Компания была дружная и теплая, а вина — бочка. Хозяева были греки и угощали щедро. Когда я им сказал, что я на 45 % грек, они готовы были из кожи вон вылезти, чтобы доставить мне удовольствие. Очень гостеприимный народ. Потом они ушли и оставили нам свою квартиру, а утром мне пришлось бегать по соседям, разыскивая хозяев. Нельзя же бросить гостеприимную квартиру на произвол судьбы.
Майор наш умер сегодня утром. Недавно радовался рождению дочери, строил планы и вот… Что теперь поделаешь, надо будет написать его жене хорошее письмо. Но разве словом поможешь…
16.04.44.
Эти строки я пишу в Ялте, в доме Чехова. Я первым тут появился. Ведь сегодня исполнилась моя давняя мечта побывать здесь, в доме, где жил мой любимый писатель, где каждая вещь, каждый уголок комнат дышит той неотразимой чеховской прелестью, которую я так люблю.
Меня встретила сестра Чехова, Мария Павловна, худенькая хрупкая старушка. В дни немецкой оккупации она сумела сберечь ценнейшие документы и реликвии, связанные с именами Чехова, Горького, Толстого, Левитана и других. Мария Павловна рассказывала, что немцы, особенно немецкий комендант дома, очень почтительно относились к музею и оказывали ей всяческое содействие. Правда, она почти всегда была голодной. Немцы слишком высокие ценители культуры, чтобы опуститься до такой низкой прозы, как обеспечить питанием сестру великого писателя.
Чеховский домик почти цел. «Почти» случилось несколько дней назад, когда чьи-то самолеты, скорее всего наши, сбросили около дома несколько бомб. Были выбиты стекла в нескольких комнатах, попорчены витрины, но все экспонаты, к счастью, остались целы. На стенах висят картины Левитана, о которых у нас писали, что их вывезли в Германию. Сохранились многочисленные автографы выдающихся людей того времени. А в служебной библиотеке лежали подшивки «Правды», «Известий» и других наших газет и даже несколько томов сочинений Ленина.
В комнате Марии Павловны я заметил фотографию молодой красивой женщины. Оказалось, что это бывшая жена брата Чехова, известная артистка Ольга Чехова. Она навещала этот дом во время оккупации.
Жаль, что так мало было у меня времени. Сейчас надо бежать к машине. Должны ехать в Алупку. Я оставил Марии Павловне благодарственное письмо от имени бойцов нашей дивизии, освобождавшей Ялту.
А какая здесь красота! Не хочется уезжать отсюда, но война еще не кончена…
17.04.44.
Вчера вернулся «от Чехова» и сразу получил срочное задание. Оказывается, на набережной Ялты все большие дома — санатории, гостиницы и другие — заминированы. Среди взятых здесь пленных нашли двух, которые имели с этим дело. Поговорил я с ними о том, о сем, и один выразил готовность мне помочь: он любит Чехова и не хочет, чтобы пострадал его город. В общем, возились до ночи. Но очистили все здания.
Сейчас нахожусь где-то за Алупкой. В голове все еще впечатления от пережитого в Ялте, особенно от чеховского дома, Марии Павловны и богатства ялтинской природы. Когда-нибудь после войны, если останусь жив, обязательно приеду в этот райский уголок, в домик Чехова. И если Мария Павловна будет еще жива, вспомним с ней тот день, когда в саду еще чернели свежие воронки, когда стекла в домике были выбиты осколками от бомб, а мы сидели в подвале и угощались пасхальным борщом, приготовленным Марией Павловной.
18.04.44.
Вот и на фронт приехал. Фриц совсем близко и стреляет, гад, беспрерывно. Он сейчас на «Малой земле», там, где мы когда-то обороняли Севастополь. Пока еще нашего решительного штурма не было, но рассчитывать на легкую победу, безусловно, не приходится. Мы ведь держались тогда восемь месяцев. Ну а теперь пахнет в лучшем случае неделей. Наша авиация все время висит в воздухе. Изредка прилетают и немецкие самолеты из Румынии. Далековато.
Сейчас я нахожусь в одном прифронтовом хуторке. Живу в замечательной комнате, спал сегодня на кровати с простынями, подушками и другими давно забытыми принадлежностями, например, одеялом. Наши штабные уехали куда-то на высотку. Там наш НП. Но, как водится в нашем бардаке, все потянулись туда, хотя всем там делать нечего. Меня оставили тут, но, думаю, сегодня надо тоже отправляться, а то наш Крючков один там не справится.
21.04.44.
Живу в лесу недалеко от Балаклавы. Фриц все стреляет как очумелый. Приходится торчать в траншее, почти не вылезая из нее. Должен был быть сегодня штурм, но почему-то его отложили. А фриц тем временем раздолбал артиллерией наши ракетные установки, да и танкам досталось. Черт возьми, ведь известно, когда операция откладывается, успеха не будет.
30.04.44.
Завтра уже Первое мая. Как быстро летит время. Но наши попытки прорвать фрицевскую оборону имели весьма плачевные результаты: большие потери с нашей стороны, особенно в танках. За два дня боев потеряли свыше 46 штук. Последнее время, действуя небольшими отрадами, мы имели некоторый успех: захватили несколько высоток, взяли пленных, трофеи, но праздничный подарок Родине сделать нам, к сожалению, не удалось.
Стоим все еще под Балаклавой, над берегом моря. Красивый уголок. Откуда-то сверху сбежали, толпясь, скалы и внезапно остановились: дальше нельзя, дальше море. И стоят так, застывшие и неподвижные, и море плещется у их ног. Скалы красивые — розовые, серые, всегда подернутые голубой дымкой. Внизу зеленая гуща, из которой то тут, то там выползают огромные камни, упавшие когда-то с гор. Уже по ночам и ранним утром поют соловьи, но еще прохладно. Даже днем. А ночью совсем холодно. Словом, погода далеко не крымская.
Вчера хотел дойти до моря, но не дошел. Потом пошли вместе с Зиной. У нее произошел внезапный прилив нежности, ласковости ко мне. Но мне почему-то кажется это неестественным. Напоминает кота, который съел хозяйскую сметану, а потом ласково мурлычет у него на коленях. Впрочем, все это вздор. Когда я с ней, то мне больше ничего и никого не надо. Так и были бы мы всегда вместе, но ничего не поделаешь, такова жизнь…
2.05.44.
Вот и праздник прошел. Быстро и незаметно. Можно было встретить его как полагается, но живем мы в таких условиях, что здесь не развернешься. И погода еще, как назло, холодная, сырая, прямо не май, а ноябрь. В ноябре даже теплее было.
Получил письмо от Сони. Да, нам не придется снова знакомиться, слишком хорошо мы понимаем друг друга.
6.05.44.
Что-то грустно на душе. Как будто и причин особых нет, погода улучшилась, опять ярко светит солнце, тепло, все кругом зеленое, листья еще совсем нежные и влажные, как после дождя. Единственно, что хочется — быть все время с Зиной. В эти теплые дни я как будто заново влюбился, только еще с большей силой, чем раньше. Но только все равно очень тоскливо.
Вспоминается Москва, мирная жизнь, институт, МХАТ… Уже третья моя военная весна. Три года я не получаю никаких новых знаний и даже постепенно забываю то, что знал раньше. Как же я отстал от всего, от своих друзей, которые все эти годы могли учиться, могли пополнять свои знания.
Сейчас сижу в палатке один. Крючков на НП. Вечереет. Рядом играет военный оркестр по случаю приезда нашего большого генерала. Попурри из «Сильвы» — «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье…» Да, я помню. Помню нашу Москву в весенние майские вечера, наш Парк культуры, Ландышевую аллею, кусты роз в цветниках, музыку на концертных эстрадах, запах Москвы-реки у набережной, прогулки на речном трамвае мимо Воробьевых гор, раскидистые кроны деревьев, склонившихся над рекой. И свою комнату, раскрытое окно, в которое врывается шум вечерней Москвы, и запахи весны, свежих молодых листьев, пьянящий аромат цветущей черемухи. И наши прогулки по Садовому кольцу, по тихим лабиринтам арбатских переулков, Гагаринскому, Староконюшенному… Да, но всего этого могло бы больше не быть, если бы я и миллионы других не были бы сейчас там, где мы находимся. Мы здесь для того, чтобы снова вернулась в Москву прежняя мирная весна, чтобы мы снова могли гулять по нашему парку, по набережной, могли снова заниматься в Ленинской библиотеке, могли снова посмотреть «Вишневый сад» во МХАТе.
Во всяком случае, совесть моя чиста: в эти тяжелые годы для всех нас я выполнил свой долг.
10.05.44.
Севастополь взят. Но фрицы, уцепившись за маленький клочок земли, прикрывающий последние оставшиеся у них бухты, еще отчаянно сопротивляются. Все наши попытки прорвать сегодня их оборону успеха не имели. А в приказе Верховного уже объявлено, что Крым очищен полностью и ни одного фрица здесь уже нет. Так что множество снарядов и мин, которые он сейчас посылает нам на голову, нужно считать условными. Ведь война здесь уже закончена. Боюсь только, как бы сегодня ночью не навернуло нас каким-нибудь «условным» снарядом или бомбой.
12.05.44.
Сегодня война здесь и в самом деле закончена. Те фрицы, которые не читали наших газет и не слушали наше радио, или перебиты, или взяты в плен. Сколько пленных! Я за всю свою фронтовую жизнь не видел столько пленных немцев. Бесконечные колонны. И полно трофеев. Весь день питался всякими трофейными сладостями, шоколадом, конфетами, печеньем. К вечеру даже смотреть ни на что не хотелось.
Что-то дальше с нами будет. Держать здесь оборону мы бы не возражали, мало ли кто захочет сюда полезть.
16.05.44.
Третий раз праздную мой день рождения в фронтовых условиях. Но сегодня, пожалуй, отметил его не хуже, чем в мирное время. Сегодня он совпал с днем торжества по случаю наших побед в Крыму. Был военный парад, фейерверк и т. п. Так что все это можно было принять и на счет моего дня рождения. Был, конечно, и вечер. Для начальства. А мы устроили свой, не такой пышный, зато более дружеский и приятный. Мне уже 23 года. Каждый год я с ужасом пишу эти все увеличивающиеся числа. Так бесполезно проходит время. Уже три года можно зачеркнуть. Черт возьми, когда же конец этой войне! Неужели она еще продлится год, другой. Хватит! Домой хочется. Правда, сейчас здесь неплохо, но дома все-таки лучше. Скоро нас куда-то перебросят. Куда?
24.05.44.
Сегодня утром уехали из Балаклавы. Миновали Бахчисарай, Симферополь. Сейчас стоим в Карасу-Базаре. По дороге проезжали красивейшие места, сады, сады и сады. И беленькие чистенькие хуторки, утопающие в зелени. На днях всех татар из Крыма выселили. За одну ночь. Говорят, что во время оккупации они ревностно служили немцам с оружием в руках: Если так, то решение правильное. И сейчас здесь в лесах (это уже по нашим разведданным) бродят вооруженные татарские банды. А как они восторженно встречали наши войска!? Многое тут непонятно.
Завтра мы должны быть в Феодосии и там бросим якорь. Не очень-то яркое место. Вот, если бы в Ялту… Ну да все равно лучше, чем Балаклава.
26.05.44.
Идет дождь. Холодный, косой дождь, как в ноябре. И пронизывающий ветер. И на душе тоже холодно и сыро, как в старом заброшенном погребе. Особенно вчера. Вот как оно бывает. Я почему-то всегда не доверяю своим предчувствиям, а они еще никогда меня не обманывали. Тем более что в жизни я не раз испытал подобное. Один раз был даже действующим лицом. Теперь тоже. Только с другой стороны. И все же не верится. Неужели она может быть еще с кем-то. Там между нами было расстояние, здесь его нет. И все же это так. От этой мысли хочется убежать куда-то далеко-далеко, в мрачное и глубокое ущелье и забыть все-все. Но от себя не убежишь. Каждый камень, каждая ветка будут напоминать мне о ней. Какое-то сумасшедшее состояние. Как будто я в тяжелом бреду. Да, черт возьми, хотел бы я, чтобы все это было только бредом.
А дождь все сильнее и сильнее. Злобно бьет в окна, стучит по карнизу, по камням. И бегут отовсюду мутные, грязные ручьи. Плывут в них ржавые консервные банки, щепки, лохмотья и другие отбросы. Все течет в море. Оно большое, все примет, но вряд ли чище станет от этого на земле.
Так можно совсем с ума сойти. Я не могу найти себе места, не могу ни о чем думать. Я думаю только о ней. Хочу ее видеть и в то же время не хочу до отвращения. Хочу говорить с ней и в то же время чувствую, что не смог бы сказать ей ни слова. И нет сейчас никого, ни одной живой души, с кем бы я мог сейчас поговорить. Впрочем, чего тут говорить, разве словами что-нибудь переменишь.
30.05.44.
Все оказалось диким бредом. Я только понял, что если бы она была другой, то у меня давно пропало бы к ней всякое чувство. Ведь однообразие надоедает.
Живем в казарме. Загнали всех в одно стойло. Но устроились более или менее изолированно. Для меня самое ужасное, когда все время толчешься в одной общей куче.
Как баран. А я люблю иногда быть наедине с самим собою. Пока, слава Богу, это еще возможно.
Получил письмо от Артура. Он ранен, лежит в госпитале. Это уже второй раз. Когда же мы соберемся все вместе! Он пишет, что нашел замечательную девушку. Помогай им Бог, если это действительно так. А как же Мэри? Впрочем, вероятно, в последнее время произошли у них какие-то перемены.
Читаю сейчас хорошую книгу, рассказы Пантелеймона Романова. Очень умный и талантливый писатель. Хотя рассказы старые, периода НЭПа, но и сейчас о многом заставляют задуматься.
Погода, слава Богу, наладилась. Скоро уже можно будет купаться в море.
6.06.44.
Сегодня наконец свершилось то, чего мы ждали три года: войска союзников высадились в Европе. Свыше 11 тысяч самолетов поддерживали высадку десанта. Открылся второй фронт. Даже как-то не верится. Ну теперь конец уже виден. Скоро, скоро война подойдет к своему эпилогу.
14.06.44.
Все эти дни болел, температурил. Направили меня в Симферополь, в госпиталь для прохождения всяких анализов и исследований. Как будто все обошлось благополучно. Ничего серьезного и очень опасного не нашли. Собираюсь «домой» в Феодосию.
16.06.44.
Вчера вернулся к себе. Здесь все так же, как было. Только людей в штабе меньше: почти все уехали на какие-то сборы, курсы и т. п. Думаю тоже куда-нибудь уехать, чтобы не вертеться тут на глазах у начальства и не дежурить. Мое непосредственное начальство — в комендатуре офицерского лагеря немецких военнопленных.
Ездил в этот лагерь. Насмотрелся всего. Особенно поразило и возмутило меня то, как живут у нас пленные немецкие офицеры. Ни черта не делают, сидят на скамейках и бьют своих вшей. И получают прекрасный паек: 40 г. масла, 40 г. сахара в день, больше, чем мы получаем! Консервы, фрукты и т. п. И еще имеют наглость предъявлять претензии, требуют себе кровати, постельные принадлежности и др.!
19.06.44.
Живу в нашем дивизионном лагере. Решил вести самую мирную жизнь на лоне природы, спать по 12 часов в сутки, пить молоко, купаться и т. п. Иначе от меня вообще останется пшик, ибо похудел уже так, что дальше худеть некуда.
Сегодня получил письмо от Зины, которую уже перевели в армию. Письмо совершенно чужого и далекого мне человека. Да, быстро все из нее выветрилось. Не много понадобилось для этого времени.
22.06.44.
Опять военная судьба забросила меня в Симферополь. Когда же я смогу спокойно отдохнуть. Заказал себе новые очки. Так что теперь будет у меня вид как у профессора.
В городе душная и давящая жара, дышать трудно. Скорей бы обратно в наш лагерь, на берег моря, на зеленую лужайку.
Стою здесь в квартире эвакуированных из Крыма хозяев. Сейчас здесь живут две женщины, 27 и 29 лет. Но на вид им больше сорока. У каждой куча детей, мужья на фронте. Кормиться нечем, одна кукуруза во всех видах, преимущественно толченая. Буквально пухнут от голода. И ниоткуда никакой помощи. Вот так у нас относятся к семьям фронтовиков.
25.06.44.
Вот и опять я дома. Теперь моя дивизия ощущается как родной дом. А то скитаюсь, как цыган, и только жду, когда сюда приеду.
Вчера сижу в лагере, тишина, все ушли на занятия, а я освобожден «по состоянию здоровья». Один в палатке. И не выдержал, убежал в город, там все-таки чувствуется хоть какая-то жизнь. Настроение похоронное. Да, самое ужасное чувство — это чувство одиночества. Вокруг веселящийся народ, счастливые парочки, нежно воркующие в саду, музыка. А я, черт побери, словно вычеркнут из жизни. Но и иметь какой-то эрзац я тоже не хочу. В нашей квартире тоже никого не застал. Все ушли, кто гулять, кто в кино. К моему начальнику, капитану Юдакову, приехала жена, и он все свободное время проводит с ней.
Нашел на столе письмо от Маргит. Сразу как-то легче стало. Жаль, что слишком она далеко отсюда. Вот и приходится бродить «неприкаянным Агасфером». Сколько это будет продолжаться?
27.06.44.
Получил два письма от Зины. До какой степени можно лицемерить. Мало того, что она, едва только я уехал из Феодосии, поселила у себя своего поклонника, который и теперь ездит к ней в Симферополь, пишет мне такие письма, будто ничего не произошло, как будто она по-прежнему любит меня и тому подобное…
3.07.44.
Был опять в Симферополе в госпитале. Мне в вежливой форме сказали, чтобы я не морочил им больше голову и спокойно ехал в свою дивизию. С каждым разом мне все больше нравится этот город. Там есть такие улицы, обсаженные с двух сторон густыми липами и каштанами, что если идти по середине, то неба не видно: все закрыто густой зеленой листвой. И кругом цветы. Прямо настоящий город-сад. Зашел на свою старую квартиру, но неудачно, там было полно народу.
А обидно все-таки, что все так получилось. Дешевая игра, дешевая ложь. А я, как слепой ишак, всему абсолютно верил.
Несколько раз был там, где сейчас находится она. Ее не видел, нам больше не о чем говорить. Все можно простить, кроме предательства.
У меня сейчас огромное желание, будь я писателем, написать книгу о нашей женщине. Создать образ такой же яркости и силы, как Анета из «Очарованной души». Чтобы была обыкновенная советская женщина. Не партизанка, не прославленный снайпер, чтобы не работала на оборонном заводе, не вносила по 100 тысяч на покупку самолетов. В трудных условиях войны она хранит и воспитывает детей. Она проделала весь тяжкий путь нашего отступления. Сколько их, наших жен и матерей, шагали по пыльным и грязным дорогам в сорок первом — сорок втором годах, под грохот и свист бомб в зареве горящих городов и деревень, в дождь, метель и грозу. И они выдержали это страшное испытание, сохранили для Родины будущих строителей и защитников.
17.07.44.
Сегодня в газетах опубликован замечательный указ: о материнстве, семье, браке. Давно пора было его принять. Ввели награждение медалями отличившихся матерей. Правда, все это заимствовано у немцев, у которых такие ордена и медали давно учреждены, но все равно, правильно. Я на днях только думал о таких наших матерях, которые не воруют, не покупают самолеты, а просто воспитывают своих детей. И это героини. Значит, я был прав, что они заслуживают орденов и пера самого лучшего писателя.
24.07.44.
Дни бегут незаметно, быстро и однообразно. Надоела такая тягомотина до чертиков. На западных фронтах наши войска уже подходят к границам Германии. Скоро, скоро конец этой войне. Фрицы при последнем издыхании. Уже было покушение на Гитлера, но неудачное. Действительно, права пословица: кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
29.07.44.
Давно не брал я в руки дневник. И давно у меня не было такого гнусного настроения, как сегодня. Приехала Зина. Я ее вижу почти каждый день. Но как! Как будто мы совершенно чужие люди. Да, мы давно уже чужие друг другу после всего, что было. Противно. Завтра я уеду на сборы на пять дней, сменю обстановку. Я бы хотел уехать куда-нибудь подальше и на более долгий срок.
3.08.44.
Пока еще на сборах. Набираюсь ума-разума. Правда, ничего нового я тут ни от кого не слышал. Но зато здесь хорошо в отношении фруктов и прочих благ. Все в садах, все в зелени, красота! А ночью так совсем замечательно, особенно когда луна. Но на душе тоскливо и пусто. Тяжело быть одному. Пожалуй, с одним человеком я мог бы хорошо себя чувствовать, это с Соней. Но она далеко. Если бы сидела она сейчас рядом со мной, разговаривала, пусть даже молчала, только бы была здесь, со мной. Хочется написать ей какое-нибудь стихотворение. Но чтобы оно было лучше всего, написанного мною ранее. Но пока не получается. Не вызрело.
9.08.44.
Сегодня замечательное море, бурное-бурное. Волны выше меня. Хорошо купаться в волнах. То подхватит куда-то высоко-высоко, а потом вдруг сбросит с размаха в белую мягкую пену. А потом этот воздух, свежий, пропитанный запахом моря.
Видел эти дни Зину. Когда я ее вижу, все равно чувствую, что это не чужой, а все еще близкий мне человек. Но когда мы расстаемся, то все, всякая мелочь, даже какой-то паршивый фонарь, под которым мы стояли, все говорит о том, как низко и гнусно она поступила. Осталась привычка. Нужно, чтобы ее больше не было.
16.08.44.
Все еще в Феодосии. Но ходят упорные слухи, что на днях мы должны уехать отсюда куда-то на Запад. Думаю, что наш трехгодичный юбилей еще успеем отпраздновать здесь. Вчера мы тоже немножко отпраздновали, так что мы с Ваней Крючковым едва доползли до дому.
Погода стоит жаркая, единственное спасение — море. Получил несколько писем из дома. Мама пишет, что недавно по радио передавали письмо Марии Павловны Чеховой, адресованное мне. Интересно. Может пришлют мне копию.
Настроение у меня поднялось. Не знаю отчего, но чувствую себя как говорили у нас в классе «бодро и весело». На всю эту земную муть надо смотреть легче. «Счастье — в себе», как говорил Гораций.
17.08.44.
Нехорошее чувство — зависть. А сейчас я часто его ощущаю.
Вечер. Ласково бормочем море, низко нависло густое звездное небо. И где-то рядом слышится веселый женский смех, тихий шепот нежных взволнованных слов, звук поцелуев. А я сижу на берегу, смотрю, как катятся волны, как моргает вдали желтый глаз маяка, как срываются с неба звезды и, падая далеко в море, бесшумно гаснут. Сижу один, все время один. Неужели я хуже всех? Почему я не могу полюбить кого-то? Только зачем? Все равно опять придет одиночество и пустота.
24.08.44.
Сегодня был на юбилейном вечере. Праздновали в нашей роте. Прошло все очень хорошо, и все были довольны. А после я пошел на танцплощадку. Не знаю, почему у меня появилось такое желание, но хотелось пойти куда-то, хотелось встретить милую девушку, хотя бы немного снова почувствовать нежную женскую ласку, посмотреть в чьи-то глубокие глаза, почувствовать, что ты не один, что рядом есть какое-то существо, которому ты близок и дорог. Но ничего не встретилось. Одни эрзацы. Или насквозь прожженные, фальшивые, готовые отдаться уже через час после знакомства, или скучные, вялые, а главное, глупые. А глупость уже невыносима.
Да, скорее бы уехать отсюда, тогда вся эта блажь вылетит из головы.
28.08.44.
Опять проводим учения, надоело уже. Да и погода испортилась, холодно, дожди. Неужели уже осень? Неприятно сейчас мокнуть где-нибудь под кустом во время этих учений.
На днях встретили здесь целую компанию московских девушек-студенток, приехавших сюда на работу. Многое рассказывали о московской жизни. Девчата все молодые, веселые, так что даже наш Крючков не выдержал и каждый вечер составляет мне компанию.
Получил я несколько писем из дома и копию письма Марии Павловны Чеховой. Очень хорошее, теплое письмо. Соня уже в Пятигорске на практике.
Учения наши внезапно прервались. На днях должны выехать на фронт. Кончилась наша курортная жизнь. Так что скоро запоем «Прощай, любимый город…»
31.08.44.
Готовимся к отъезду. Все суетятся, мельтешат, делают вид, что работы по горло. Но все без толку.
Вчера простился с одной своей землячкой, хорошая девушка. Жаль Только, что из семейства травоядных. Может, и к лучшему, так что скоро расстаемся. Оно пошло бы и дальше, но тогда нужно было бы обманывать себя и ее. Пусть уж воспоминания останутся приятными.
За это время я со многими тут познакомился, хотел найти что-то настоящее, но не так это легко и просто. Видно, надо много перерыть навоза, чтобы найти жемчужину. И надо еще добавить, что даже лучшее из всего этого неизмеримо, как бы так выразиться, малоценнее, что ли, чем Зина. Хотя она и обманывала меня, но когда мы были вдвоем, она принадлежала только мне, и я чувствовал себя счастливым. Мне всегда хотелось быть с ней не только потому, что я ее любил, мне было интересно с ней, интересно ее слушать, говорить с ней, делиться своими мыслями. Не часто такое бывает. В моей жизни был пока еще один человек, с которым я был полностью счастлив. Только не понимал тогда этого и не смог взять свое счастье. Но это уже археология.
3.09.44.
Сегодня выехали из Феодосии. Последний раз искупался в море. Когда-то снова с ним встречусь. Куда мы едем, никто из наших не знает. Может, в Прибалтику, а может, еще куда.
5.09.44.
Проезжаем замечательно красивые места: Мерефа, Люботин. Разве можно сравнить с ними всякие Крымы и Кавказы. Говорят, что едем на 2-й Прибалтийский. Могли бы проехать через Москву, но почему-то свернули на Полтаву. После трехлетнего перерыва снова вижу свои любимые леса, перелески, чистые прозрачные реки. Вновь увидел березовые рощи. Какая замечательная здесь природа!
14.09.44.
Вот уже несколько дней нахожусь в Польше, недалеко от Бреста. Живем в густом лесу, в землянке. Пока не воюем, находимся в резерве Ставки Верховного командования. Так что еще с полмесяца будем приводить себя в боевую готовность.
Здесь все для нас внове: частные хозяева-паны, частные земельные владения и т. д. Надо сказать, что население здесь вообще живет очень неплохо. У среднего крестьянина 2–3 коровы, лошадь, несколько свиней, коз и множество разных гусей и уток. Ни в какие сношения с населением нам входить не разрешают. Никакой агитации и пропаганды не ведется. Поляки живут очень обособленно и дальше своего носа ничего видеть не хотят. Интересно, как дальше все пойдет. Я думаю, что вся эта политика невмешательства в их внутренние дела приведет в конце концов Польшу в семью советских республик. И не зря же в Польском государственном комитете сидят такие люди, как Ванда Василевская, Берлинг и другие.
23.09.44.
Был несколько дней в штабе армии на учебных сборах. По сравнению со сборами, которые проходили в нашей Приморской армии, очень слабо. Так что ничего полезного и поучительного для себя не получил. Когда вернулся, услышал, что Зину откомандировали куда-то в тыл. Стало очень тоскливо и пусто. Но, как будто это не подтвердилось. А писем все нет и нет ни от кого.
Пытался тут как-то поговорить с «местным населением», но кроме как «пше едны, пан, пше едны», ничего не услышал. А интересно было бы знать, что здесь происходит. Как им жилось при немцах, при наших. Видят ли они разницу и какую. Ну, я думаю, потом они к нам привыкнут и станут откровеннее.
Если бы так было Луна задумчиво смотрит на горы, свет холодный вокруг разлив, и яростно бьется о стены города Феодосийский залив. И где-то вдали на берегу щурит маяк свой глаз, а дальше лишь моря тревожный гул и беспросветная мгла. Вздымались волны над головой, дробили глыбы камней, и бури, и штормы под свист и вой навстречу ринулись мне. Молнии рвали черный мрак, теперь назад не свернуть, но видел я: впереди маяк мне прочертил путь. И выплыл. Светло, как днем, сверкают громады льдин. Остров какой-то, и на нем я — один. Музыка где-то. Город встает, весельем разбужен, улицы флагами разодеты. — Меня возьмите! — — Не нужен. И мимо проходят, спешат на праздник. Некому больше верить. Напрасно просить и стучать напрасно в глухие закрытые двери. Холод бросил мертвый провал, даже мысли застыли. И словно во сне чьи-то слова, ласковые и простые: «Выкинь из сердца глупый бред, чувств пережитых шлак. Мы будем весну встречать в декабре, видишь, я пришла. Мы снова будем с тобой вдвоем, пусть пройдено много дорог, у жизни-старухи еще возьмем тысячи ярких строк. Сотрет на пути своем дней разгон горечь былых обид — ведь наша любовь прошла сквозь огонь, сквозь скрежет жестоких битв». Крылья бесшумно над лесом простер вечер хмурый и низкий. Дождь моросит, и трещит костер, и гаснут в тумане искры. Торопится ночь. А утром рано вздрогнет земля, вздымаясь дыбом. Осеннее небо в клочьях рваных черным застелит дымом. Пусть снова брошен я войною в огнем охваченные края. Бессильна смерть: я знаю, ты со мною, моя любовь и молодость моя. Феодосия-Брест-Нурец, сент. — окт. 19446.10.44.
Опять несколько дней был на учениях. Донимают нас, черт возьми, всякой муштрой. Приехал и получил сразу 17 писем! Видимо, долго где-то путешествовали. Погода стоит осенняя, но когда светит солнце, в лесу необыкновенная красота. Деревья украшены яркими и пестрыми мазками осени, бледно-голубое небо и обволакивающая тишина, как в церкви. Только изредка набегающий ветер потряхивает листья деревьев.
Как хочется домой! Тут как-то приснился мне сон, будто я снова в Москве, в своем институте, в первый день занятий. Да, черт побери, придется ли мне снова быть в институте? Вообще сейчас свое будущее трудно себе представить. И не только мне.
Получил несколько писем от Сони. Она все еще в Пятигорске. Иногда хочется написать ей какое-то необыкновенное нежное и ласковое письмо. Но не получается. Пять лет разлуки не проходят бесследно. Хотя с каждым ее письмом я все лучше понимаю и чувствую ее, часто кажется, что мы и не расставались никогда друг с другом. Но этого все же недостаточно. Вот даже и стихотворение, посвященное ей, я не мог написать так, как бы мне хотелось.
7.10.44.
Должна была прийти сегодня Зина, мы были бы вдвоем. Но ее начальство не отпустило. Я уже крепко привык к ней, если несколько дней не видимся, мне словно не хватает чего-то. Вообще, с ней интересно не только как с женщиной. Это единственный человек, с которым я могу быть откровенным и который понимает меня иногда лучше, чем я сам.
12.10.44.
Вчера я проводил ее. Это был последний вечер, проведенный нами вместе. Шел тоскливый осенний дождь, ветер срывал с деревьев желтые листья и сердито швырял их на сырую грязную землю. А ровно год тому назад в такой же ненастный осенний день мы впервые встретились с ней в маленьком таманском хуторке и впервые она стала моею. Прошел год. Тяжелый запутанный год. Редко светило нам солнце. А могло бы оно светить каждый день и каждую ночь. И некого всем винить и незачем бросать свои обиды на чаши весов: чья перевесит. Уже слишком поздно. Больше нам уже нельзя быть вместе.
А на душе у меня так же пусто и тоскливо, как в тот день, когда я уезжал из Москвы в Ставрополь. И опять встал в горле комок «невыплаканных слез». «И только набив оскомину на поприще слов и чувств, я вздрогну, очнусь и вспомню — расплачусь и расплачусь».
Действительно, все это так.
14.10.44.
Сегодня прошел слух, что на днях должны уехать. Куда закинет нас судьба? Хорошо бы туда, где мы успешно наступаем. Самое паршивое — это сидеть в обороне. Зимой наступать хоть и не очень приятно, но все равно наступление — великая вещь. Если бы здесь наступали так, как в Крыму, лучшего и желать нечего.
Вот уже пара дней, как я тут один. Все уехали, в землянке никого нет, а на улице такой замечательный день, солнце светит, тепло. А на душе неспокойно и пусто…
18.10.44.
Вчера и сегодня ходил гулять в лес. Думал поохотиться на зайцев. Но ни одного не видел. Хорошо сейчас в лесу, погода стоит ясная, теплая. Золотая осень! Сегодня набрал много грибов, а вечером устроили замечательный ужин. Ваня Крючков получил медаль, и мы ее обмывали. Был у нас в гостях писатель Марк Колосов из политотдела армии. Очень весело и тепло прошел вечер.
Недавно захотелось мне написать один рассказ. Я и раньше пытался писать, но дальше трех-пяти строчек не шло. А теперь прямо запой нашел. Рассказ должен быть такой.
В один весенний день из Москвы в Балаклаву приезжает на работу инженер-электрик, который шесть лет тому назад (действие рассказа происходит в 1950 году) воевал в этих местах, был ранен и лежал в Балаклаве в госпитале. В городе он познакомился с одной девушкой, дочерью местного рыбака, которую он горячо полюбил. Месяц, проведенный ими вместе, был самым ярким и счастливым месяцем в жизни этого инженера. Потом война их разлучила, след девушки потерялся. Теперь инженер надеется встретить ее здесь. Каждый дом в Балаклаве, каждое дерево, каждый камень у моря напоминают ему о прошлых счастливых днях. Работа по строительству электростанции подходит к концу, но инженер решает остаться здесь еще на некоторое время. Как-то, вернувшись после работы на свою балаклавскую квартиру, он узнает от соседки, что сегодня в город приехала та самая девушка. Он готов сейчас же идти к ней. Но по дороге в нем происходит борьба двух противоположных желаний: он хочет встретиться с этой девушкой и одновременно боится, что идеал, который создал в своих мечтах, давно уже не соответствует действительности и принесет ему только тяжелое и горькое разочарование. К тому же он не забыл, что давно женат, хотя и не питает особенной любви к своей жене. Боязнь разочарования берет верх. Инженер в тот же вечер уезжает домой в Москву, так и не повидавшись с любимой.
19.10.44.
Едем на фронт. Прощай уютная теплая землянка с печкой и электрическим освещением. Опять начинается скитальческая жизнь, походы, переходы, ночевки под дождем и тому подобные удовольствия. Сегодня побывал в первом настоящем польском городке Бяла Подляска, через который мы проезжали. Городишко маленький, грязноватый. Зато много магазинов, в которых продается молоко, масло, мясо, яблоки и прочие товары, вплоть до папирос и красок для материи. Цены неимоверно высокие: кило яблок - 70 злотых, бутылка водки — 500 злотых, пряники — по 5 злотых штука. Чуть было не арестовали меня за то, что интереса ради я купил и того, и другого, и третьего. Ведь нам строго запрещено вступать в какие бы то ни было отношения с местным населением.
В деревнях тут живут крайне бедно и ужасающе грязно. Интересно было бы побывать в каком-нибудь большом городе, вроде Люблина. Как там жизнь?
24.10.44.
После многодневных скитаний остановились в одной деревушке недалеко от Люблина. До фронта опять не доехали. Живем в хорошем доме, в чистой светлой комнате. Тепло, уютно. Вымылся, переоделся, побрился и приобрел опять человеческий вид. Интересно, долго ли мы тут простоим. Надо бы съездить в Люблин.
26.10.44.
Вчера был в нынешней польской столице — Люблине. Город довольно большой, но дома в основном двух-, реже трехэтажные. Поражает огромное количество народа. Такое можно увидеть в Москве только в воскресенье, где-нибудь на Кузнецком или на улице Горького. Все снуют туда-сюда, шумят; ревут и гудят автомашины самых различных марок, кричат газетчики, играет радио. Много военных, наших, но еще больше польских. У меня даже рука устала всех приветствовать или отвечать на приветствия. Множество магазинов, очень мелких, но с крикливыми яркими витринами. Можно купить все, что хочешь. Только нужно иметь мешок злотых. Пил там пиво, 45 злотых литр. Есть там и базар, где творится что-то несусветное. Похоже на развороченный муравейник. Жители одеты по-европейски, особенно женщины.
Да, в таком городе можно было бы пожить с месячишко. Имея, конечно, достаточное количество злотых. Но наша экскурсия была слишком кратковременной, и я не мог посмотреть все, что мне бы хотелось. Неплохо было бы побывать в театре, в музеях, если они еще остались. Если постоим тут еще немного, обязательно туда еще раз съезжу.
Получил несколько писем от Зины, но толком так и не понял, где она и какие у нее дальнейшие перспективы.
Мы пока стоим на прежнем месте. Специально для мер оборонительных. Дело в том, что в Люблине части 2-й Польской армии готовятся начать восстание против существующего правительства Польши. Мы в таком случае готовы будем принять соответствующие меры. А вообще мы уже вошли в 1-й Белорусский фронт. Дальнейшие перспективы наши вырисовываются довольно ясно. Но октябрьский праздник, пожалуй, встретим еще здесь.
1.11.44.
Уже ноябрь месяц. Скоро зима, четвертая военная зима. Может, последняя. Дай-то Бог! Как надоела эта скитальческая жизнь. Но, главное, то, что я знал когда-то, весь мой, так сказать, теоретический багаж постепенно выветривается из головы. Как я ругаю себя за то, что мало уделял до войны внимания своему научному росту. Я мог бы узнать много-много больше, чем знаю сейчас. Правда, прошедшие годы дали мне то, что я никогда бы не нашел ни в одной книге. Не помню, кто говорил, кажется, Горький: «общение с людьми заменяет мне книги». Да, общение — это очень много значит. Но все же к практике лучше приходить, уже обладая теорией, чем наоборот. А как хочется пожить нормальной оседлой жизнью, в своей квартире, за своим письменным столом, своими книгами, работать над тем, что тебя интересует.
Иногда даже приходят в голову такие мысли: почему я не женился до войны? Был бы у меня сейчас уже сын, четвертый год мог бы ему уже идти. И, может быть, было бы у меня сейчас все по-другому и не пришлось бы мне писать свое «Тебе последнее». И был бы у меня сейчас самый близкий и верный друг, самый родной и любимый человек: моя жена. А то погибну где-нибудь, и воспоминаний ни у кого никаких не останется.
Пока мы находимся «все в той же позиции». Опять начались всякие учения, сборы и т. п. Пытаюсь учить польский язык. Даже «профессора» себе нашел. Познакомился здесь по соседству с одной милой девушкой. Она хорошо поет, и мне доставляет большое удовольствие слушать ее песни. Между прочим, польская фонетика чертовски трудная, всякие там «дже» и «пше», в одной фразе десяток раз. Кстати, у поляков есть песня на мотив нашей «Из-за острова на стрежень» только о реке Висле. И еще ряд песен на русские мелодии. Польская молодежь поет наши фронтовые — «Огонек», «Ничего, что ты пришел усталый», «Темная ночь» и другие. Одна польская песня мне очень понравилась, называется «Польская партизанская». Хотелось бы перевести ее на русский язык, но, боюсь, трудно будет.
Родственные языки труднее поддаются взаимному переводу, чем языки разных групп.
6.11.44.
Сейчас только пришел из клуба, слушал трансляцию доклада Сталина. Наша Родина полностью очищена. Заря победы горит теперь ярче, чем когда бы то ни было. Скорей бы уж разгромили всю эту фрицню и возвращались домой. Пора уже менять винтовку на книгу.
Завтра праздник, надо отметить его лучше, чем в прошлые годы. Тогда он был у меня «сухим».
9.11.44.
В этом году праздник прошел шире и веселее, чем прежде. Два дня подряд — море разливанное. Некоторые наши герои даже в шкаф залезали. Я был в норме, только голова немножко шумела. Завтра опять праздник — день рождения нашего начальника разведки, капитана Юдакова. А там, глядишь, и День артиллерии. Неизвестно только, долго ли мы здесь пробудем, ведь уже полгода не воюем, заделались совершеннейшими тыловыми крысами. Но война продолжается, и мы ее неминуемо догоним.
Читаю сейчас «Дон Кихота». Какая изумительная книга! Многое сейчас воспринимается иначе, чем раньше. А недавно прочел новую книжечку стихов А. Суркова. Очень понравилась. Сурков, несомненно, лучший из современных наших поэтов. Мне нравится его манера писать, не стесняя себя шаблонными размерами. Стихи его по складу близки к народным сказам и песням.
11.11.44.
Прочел сегодня повесть Достоевского «Село Степанчиково». До чего же могут быть жалкими и забитыми люди! Всем там попало от автора. А Фому так просто ненавидишь и презираешь. Такое ничтожество, а пользовался безмерной властью. Любит Достоевский копаться в душах таких людишек. Среди героев нет такого, который вызывал бы желание следовать его примеру. И вряд ли сам автор считает Настеньку и Соню Мармеладову идеалом души человеческой, хотя их он особенно тепло изображает. Когда я читаю Достоевского, то кроме нравственных мучений за действия, мысли и чувства его героев испытываешь еще что-то вроде радости, что сам ты живешь в совсем иной обстановке, с другими людьми.
16.11.44.
Неужели Зина не получила ни одного моего письма? Просто невероятно. Последнее я послал заказным. Что же у них за полевая почта, которая допускает пропажу писем? Хотелось бы ее сейчас видеть. Ведь прошло больше месяца, как мы расстались.
У нас все по-прежнему. Сегодня решил устроить себе сладкую жизнь. Купил на 100 злотых 4 пирожных (размером в 1/4 нашего довоенного), 4 вафли, 4 печенья, а вечером мы с капитаном пили чай как в мирное время. Ваня Крючков уехал в штаб армии на сборы, так что мы остались тут вдвоем. Была у нас по-соседству милая компания местных девушек, с которыми мы вечерами играли в карты, в домино или занимались флиртом, но потом они все уехали в Люблин, и теперь стало совсем тихо и скучно.
Ты осенней звездой падучей В эти дни войны и тревог Самой ласковой, самой лучшей Промелькнула во мгле дорог. У скрипучих ступеней лестницы Ночь стояла у нас на часах, Серебристые брызги месяца Утонули в твоих глазах. Пусть когда-нибудь мне приснится, Как пылали огнем слова, Как твои целовал ресницы, Нежность губ твоих целовал. Солнце хмурое встало утром, Тонкий пар поднимался с полей. Мы простились с тобой за хутором У желтеющих тополей. Все осталось за лентой дыма, Черный шелк разметавшихся кос, Взгляд задумчивый глаз любимых — Только песню с собой унес… Свидник Дуже, 10–19.11.4422.11.44.
Что-то последнее время особенно чувствую постепенное самоотупение. Совсем отвык думать. Все кажется само собой разумеющимся и не требующим никаких размышлений. Нужно что-то свежее, новое и сильное, что смогло бы очистить всю эту накипь. Скорей бы начали воевать, двигаться вперед, получать новые впечатления, переживания и т. д. Но тут же подкрадывается Обломов и шепчет: «Не дай, Бог, каких-либо перемен, зачем куда-то двигаться, когда и здесь тепло, уютно и спокойно». И Обломов побеждает, а душа все гуще и гуще обрастает мхом. А потом все время один. Когда была Зина, я хотя бы мог поделиться с ней всем, что было на душе. Знал, что она меня поймет, и если даже не поймет, то все равно становилось легче. А теперь и поговорить по душам не с кем. Ужасное состояние…
25.11.44.
В воздухе как будто начинает пахнуть порохом. Видимо, скоро тронемся. А на дворе идут беспросветные дожди. Когда же, черт побери, здесь зима наступит. И настроение опять какое-то гнусное. И отвлечься нечем и некем. Все мои попытки в этом направлении потерпели крах. Материально-экономические факторы доминируют над всеми чувствами человеческими. Куда же мне соваться со своими «идеальными представлениями»? Жалкий я щенок, которому прищемили хвост. Никак не могу себя переделать. Видно, до смерти придется носить розовые очки. Как бы их разбить раз и навсегда.
Очень хочется домой. Когда же наконец можно будет заняться созидательным трудом.
8.12.44.
За «поражение» свое я отомщен. Значит материально-экономические факторы не всегда могут доминировать. Впрочем, рано мне еще торжествовать.
Получил сейчас письмо от Зины. Как будто она не так уж далеко отсюда, но письма идут чертовски медленно. А то и вовсе не доходят. Как хотелось бы сейчас ее видеть, вся бы эта муть из меня быстро выветрилась.
12.12.44.
«Отмщение» мое что-то далеко заходит. Когда же я приучу к дисциплине свое сердце. Быстро оно выходит из повиновения. Но, черт побери, я все-таки человек, а не утюг. Все что происходит — к лучшему. Старое еврейское утешение.
Пока у нас без изменений, все в той же позиции. Может, удастся и Рождество здесь встретить. Мы уже тут приобщились к польскому календарю и почитаем всех святых. А Рождество, должно быть, здесь празднуют весьма торжественно. Паны кругом гонят самогон, готовят всякие копчености и прочие вкусности.
Был сегодня в кино. Смотрел «Северную звезду», американскую картину о России. Очень любопытно. Но общее впечатление какое-то трудно передаваемое. Очень часто кажется, что снимали какую-то театральную постановку. Нет той естественности, которой обычно отличаются кинофильмы. Конечно, нельзя и сравнивать эту картину с нашей, хотя бы с «Секретарем райкома».
У меня сейчас проходят сборы полковых переводчиков, а ведь совсем недавно на всю дивизию был один я. Кручусь на этих сборах целыми днями, как белка в колесе. В свободное время читаю военно-исторические статьи Франца Меринга и изучаю польский язык. Теперь даже могу писать по-польски письма, что я не безуспешно и делаю.
14.12.44.
Опять пошли дожди, опять грязь непролазная. Ну и погода тут, прямо как в Керчи.
Хочется очутиться сейчас в светлой уютной комнате, где-нибудь в городе. Чтобы была мягкая мебель, ковры, электрическое освещение, радио. Сидеть на диване и слушать музыку. И чтобы рядом был кто-то, с кем я хотел быть. Но не с кем, нет такого человека. Хотел бы быть со многими. А ведь было время, когда стремился только к одной, единственной. Да, какое счастье любить, и как редко оно ко мне приходит. Может, я и сам виноват в этом.
16.12.44.
Был вчера в Люблине. У них уже зима, все подмерзло, грязи на дорогах нет. В городе такая же сутолока, полно людей, автомашин, все куда-то торопятся, кричат, шумят. У меня с непривычки даже голова закружилась. Отвык уже от городской суеты. Походил по магазинам, по базару. Всего полно, но цены запредельные. Не удержался и купил пару пирожных. Как говорится, война все спишет.
Заходил к Тосе. Хорошая комната на третьем этаже, подобная той, о которой я мечтал недавно. Только слишком прохладно. Впрочем, если бы всех живущих там эвакуировать и оставить нас вдвоем, то, пожалуй, холода бы мы не почувствовали. А так, конечно, можно замерзнуть, когда на тебя смотрят четыре пары лишних глаз. Ничего не поделаешь, студенческое общежитие.
Обратно ехал на телеге. Поднялся сильный ветер, так что пришлось пощелкать зубами.
Получил несколько писем. Маргит почему-то никак не получает моих писулек. Я уже не знаю, по какому адресу ей писать. Соня письмо прислала. Не пишет она только никогда самого главного: что за люди ее окружают, с кем она дружит и как вообще относится к окружающим, что для нее является привлекательным и что наоборот. Мне хочется все время чувствовать ее душу, но если писать сугубо отвлеченные письма, можно скоро вообще потерять общий язык. А это было бы совсем недопустимым. Что бы со мной ни произошло, что еще ни произойдет, она всегда была, есть и будет моим самым близким и любимым другом. Пожалуй, только лишь ей одной я мог бы полностью раскрыть свою душу. Конечно, не в письмах, в письмах всего не напишешь.
22.12.44.
Вчера вечером сидел у Тоси, которая приехала к родителям на рождественские каникулы. Читал ее тетрадку со стихами, вроде моей безвременно погибшей «Серой тетради». Нашел очень много хороших стихов. Особенно понравилось одно стихотворение А. Мицкевича «Прочь с глаз моих…». Жаль, что не умею переводить стихи. Я и немецкие никогда не переводил.
26.12.44.
Вот и праздники прошли. Долго к ним готовились, а прошли они очень быстро. И все быстрее и быстрее приближается день нашего отъезда.
Хорошо бы удалось встретить здесь Новый год. А потом опять начнутся скитания по лесам и полям, ночевки под открытым небом, бомбежки, обстрелы и тому подобные удовольствия.
Уж скорее бы все это начиналось, ведь ждать иногда тяжелее, чем на себе испытывать. Настроение какое-то смутное, тяжелое, словно что-то плохое меня ожидает. Но я верю в свою судьбу. Все должно окончиться благополучно.
Все эти дни был с Тосей. Но у нее в комнате всегда полно всяких родственников, которые глядят на меня страшными глазами и, видимо, в душе посылают мне не менее страшные проклятья. Так что у меня было примерно такое состояние, как у Тантала, когда он умирал от жажды, а вода, казавшаяся такой близкой, была ему недоступна. Те немногие минуты, когда мы оставались одни, были слишком кратки, чтобы вознаградить их ожидание. Хорошая она девушка. Но дороги наши вряд ли могут сойтись, даже если бы мы хотели этого. Границу легко переходить только в кинофильмах.
1945 год
31.12.44–1.01.45.
Вот и Новый год. Что-то принесет он мне, нам. Я встретил его с сухим бокалом, но я все же совершенно пьян. Пьян от поцелуя, горячих объятий, от любви. Я никогда не забуду эту новогоднюю ночь. Только слишком быстро пролетели минуты счастья. Ведь светлое и хорошее всегда быстро проходит. Сейчас я один. Все наши где-то празднуют и гуляют. Капитан Юдаков уже несколько дней на передовой. Тихо. У меня еще кружится голова, хотя сегодня я не выпил ни капли вина. Да, если суждено быть пьяным, то лучше от любви, чем от водки.
Друзья, да здравствует счастье, Пусть жизнь его только лишь миг, Но мудрости в счастье больше, Чем в тысячах толстых книг!А теперь бы мне хотелось побывать дома, в Москве. Представляю себя сидящим в своей комнате за письменным столом. Если бы это случилось! На днях мы уезжаем на фронт. Скорей бы уж кончилась эта война! Неужели и сорок пятый год не принесет нам окончательной победы? Даже страшно подумать. Но победа должна прийти, слишком долго мы ее ждали, слишком дорогой ценой обошлась она нам.
Сейчас я поднимаю свой первый налитый вином бокал и произношу свой первый тост: «За скорейшее возвращение домой, за дружбу, любовь и счастье! За то, чтобы наступивший год был для меня счастливым! За мою судьбу!». И наш традиционный школьный тост «За прогресс!».
Моей любимой Новогоднее Подплывает к порогу снежный разлив, За калиткой сугробы метет норд-ост… Неужели сегодня за наш разрыв Мы поднимем свой новогодний тост? Неужели наша любовь, как сон, Промелькнет бесследно в потоке дней, Проскользнет по жизни, как луч косой, Затерявшись где-то на самом дне? В стылой мгле горнист проиграл «отбой!» Бросил снегом в окно налетевший вихрь. Как хотелось бы мне быть сегодня с тобой, Утонуть, забыться в объятьях твоих. Я хочу, чтоб, шагая в грядущую даль, Наше счастье у жизни взяв, Мы любовь свою пронесли сквозь года, Не растратив, не потеряв. Я хочу, чтобы счастье бурной рекой Затопило над нами небесный шелк, Чтобы только я и никто другой Вместе с тобою по жизни шел. За окном встает рассвет голубой, Пусть отныне наш путь будет ясен и прост Так за наше счастье, за нашу любовь Мы поднимем свой новогодний тост.3.01.45.
Прощай, Свидник! Сейчас уезжаю на фронт. Ведь мы пока еще солдаты, наш долг еще не выполнен.
Трудно, трудно расставаться с Тосей. Привык я к ней, словно очень, очень давно мы вместе. На прощание написала она мне одно стихотворение, искреннее и грустное. А все же я был бы счастлив, если бы моя жена была бы на нее похожа. Когда-нибудь, может, настанет такое время, когда люди смогут любить друг друга, несмотря на государственные границы, различия в обычаях и политических убеждениях.
4.01.45.
Вчера выехали. По всей деревне лились ручьи самогона и слез. Провожали очень трогательно. Последние минуты я был с Тосей. Может быть, нам суждено никогда больше не встретиться. На память она подарила мне свою фотографию и даже какую-то чудодейственную иконку, взяв с меня слово, что я никогда ее не выброшу и буду всегда носить при себе. Так что теперь и польские святые будут обо мне заботиться. Да, чудесная она девушка. Жаль, что нам пришлось так скоро расстаться.
5.01.45.
Сегодня пришлось немножко померзнуть: спал под кустом на соломе, а мороз к утру рассердился не на шутку. Скорей бы уж приехать.
Сейчас сижу в одном хуторке, греюсь. Первый раз за два дня умылся, отогрелся, отдохнул. Несмотря на строгий запрет появляться в населенных пунктах, я все же всегда нахожусь в них. Смотрю, как живут люди, чем дышат, что думают. Мне всегда интересно поговорить с незнакомыми людьми.
9.01.45.
Достали себе с боем землянку, а я проявил находчивость в отношении печки, проще говоря, украл ее, и теперь опять чувствую себя как дома.
10.01.45.
Умер Ромэн Роллан. Несколько скупых строк на последней странице газеты. Умер величайший писатель, мыслитель, человек, а сообщают об этом так же, как о выступлении какого-нибудь бразильского министра. И о самом главном вообще ни слова: как и что он делал и говорил при немцах. Неужели и он был причастен к этой подлейшей политике «сотрудничества»? Нет, не может такого быть. Слишком честный и замечательный человек он был. Сейчас в огне великих битв и сражений не многих может потрясти его смерть. Но потеря эта огромна и не возместима. Для меня лично это — потеря любимого писателя и учителя. Сейчас я тоже не в состоянии почувствовать всю тяжесть утраты. Как хотелось бы узнать правду о его последних годах. Остался ли он верен самому себе?
13.01.45.
Завтра должно начаться наше наступление. Все готово. Ждем только сигнала. Успех должен быть. Не зря же нашим фронтом командует Жуков. Снова начнется боевая походная жизнь. Плохо лишь, что сейчас зима, трудно найти себе пристанище. А вообще наступление — вещь великая. Новые впечатления, новые испытания. Постараемся встретить их с честью.
15.01.45.
Второй день наступаем. Продвинулись километров на 25–30. Успех очевиден. Пока фрицы особенно не сопротивляются, еще основных резервов в бой не вводили. Проходим горящие села, разоренные и разграбленные. Как у нас на Кубани. И у поляков такое же горе, и такие же проклятья посылают они самому проклятому врагу: немцам. Война — везде война.
19.01.45.
Сегодня чуть было не отдал Богу душу. И не раз. Шофер наш напился и перевернул машину в кювет, а в другой раз чуть было не сбросил машину с моста, уже передние колеса висели в воздухе. Как мы не грохнулись в тартарары, прямо удивительно. Не успели мы после всего этого очухаться, как началась отчаянная стрельба. Оказалось, что к нашей колонне пристроились четыре машины с немцами и пытались таким образом проехать через переправу. Конечно, почти всех мы перебили, но неразбериха была изрядная. Наши Иваны будто воспользовались случаем избавиться от патронов и палили вовсю.
Мы уже продвинулись далеко в глубь Польши, находимся недалеко от Лодзи. По дороге — калейдоскоп лиц и впечатлений. Чтобы обо всем написать, не хватит и тетради. Но все остается в памяти, когда-нибудь вспомнится и напишется.
21.01.45.
Сегодня почти первыми заехали в один городишко. Трофеев — кучи. Склады с бумагой, мануфактурой, одеждой и прочим. Глаза прямо разбегаются. Но ведь всего не возьмешь. Машину нашу сегодня разбили, как мы будем теперь передвигаться, не знаю.
А вечером зашли в один дом, где жил когда-то богатый фриц. Все в доме осталось как было, ничего не успели вывезти. Набрали там кучу всяких трофеев, а потом устроили себе торжественный ужин с шампанским и прочими деликатесами. Словом, жизнь теперь началась, как у фрицев в сорок первом — сорок втором годах, когда они были у нас.
Спать только совсем разучился. Если в сутки удается поспать 2–3 часа, это очень хорошо.
22.01.45.
Сегодня проезжали через один маленький польский городок Варта. Еще не успели отгреметь вокруг бои, еще дымятся сожженные и разбитые дома, а улицы уже полны народа, почти каждый дом украшен польским национальным флагом.
Ночью мы опять мучились с нашей машиной. Вчера я отстал от нашего генерала и вынужден был двигаться вместе со штабом. А там, как всегда, ужасный бардак. Опять всю ночь почти не сомкнул глаз.
Почты почти не получаем, наши письма лежат не отправленными. Часто думаю о Тосе. Как хотелось бы ее увидеть! Интересно, получила ли она мои письма. Я послал ей пять штук.
23.01.45.
Война приобретает все более и более заманчивый характер. Количество трофеев растет с каждым днем. Боюсь, как бы совсем не обарахолиться. Когда в сорок втором я имел только пару белья, полотенце и кусок мыла, я чувствовал себя спокойнее, чем сейчас. Барахло засасывает, хуже трясины. Я, правда, ничего такого не беру, только всякую канцелярщину, нужную мне для работы, но у некоторых на машинах уже скаты не выдерживают такого груза трофейных вещей. Теперь нам разрешили посылать домой посылки, но воспользоваться этим фактически нельзя, так как почта отстает от нас на несколько переходов.
Питаемся мы теперь гусями, свининой, медом и прочими деликатесами. Спирт не переводится. Но как бы я хотел отдать все это за пару спокойных дней и ночей где-нибудь в Свиднике с моей Тосей!
26.01.45.
Остановились в одном немецком городке. Здесь словно и войны не было и нет. Тихо, магазины торгуют всякой всячиной. Сейчас сижу в хорошей комнате, электрический свет, радиоприемник. Слушаю музыку из Москвы. Да, необычная стала война, черт бы ее побрал!
31.01.45.
Уже в Германии. Первые немецкие города, первые впечатления. Чистые ухоженные дома с электричеством, водопроводом, уборными. Уборные стоят даже на поле, чтобы ни один грамм дерьма не пропал зря. Осталась часть населения, которая еще не успела удрать. Конечно, все утверждают, что они антифашисты и с нетерпением ждали прихода Красной Армии. Наши Иваны иногда слишком великодушны. За все горе и муки, которые немцы причинили нам, все они без исключения заслуживают самого сурового обращения, но когда видишь женщин, стариков, детей, плачущих и от страха и от лицемерия, то испытываешь только чувство величайшей брезгливости, но не ненависти.
Вчера ворвались в один город. Первые, вместе с танками. Ехали с оглушительной стрельбой. Наши Иваны, не жалея патронов, палили в белый свет как в копеечку: «Держись, немец, Русь идет!» Трофеев хоть пруд пруди.
Уже больше класть некуда. Скоро придется бросать машину и идти пешком, так как уже нет места, чтобы сесть самому.
1.02.45.
Уже начался привычный бардачок: наши дивизии все перемешались, колонны фрицев безнаказанно орудуют у нас в тылу, уводят свои войска и технику за Одер. Обстановка настолько запутана, что с трудом можно что-нибудь понять. Впереди противника нет, сзади и с флангов движутся остатки разбитых немецких дивизий с артиллерией, минометами и т. п. Общая численность ближайшего противника по нашим данным свыше 3 тысяч человек. Так что не поймешь, где фронт, а где тыл. Некоторые наши «ответственные товарищи» порядком перепугались и чувствуют себя весьма неловко в такой необычной обстановке. Ну а мы как всегда спокойны и уверены: пьем трофейное вино, курим трофейные сигары и готовы ко всяким неожиданностям.
Горько смотреть, как безалаберно и бесхозяйственно уничтожаются сейчас большие ценности, которые так необходимы у нас на Родине. То, в чем нуждаются у нас дома, здесь самым варварским способом уничтожается и портится. Никак не приучишь Ивана к хозяйскому отношению к захваченному добру. Ведь все это должно быть вывезено на Родину. Плохо это у нас организовано, из рук вон плохо.
А богато жили здесь крестьяне. Средняя деревня: каменные просторные дома, электричество, водопровод, радио, шикарная обстановка, на семью 10–15 коров, лошади, свиньи, куры. И так всюду. Теперь мне понятно то упорство, с которым они до сего времени дерутся с нами. Немцам есть, что терять. У них не столько любовь к фюреру, о которой взахлеб пишут все газеты, сколько любовь к своему добру, к своей собственности.
2.02.45.
Ночевали сегодня в замке одного немецкого барона. Роскошный дом, 44 комнаты. Сказочное богатство, о котором раньше я читал только в книгах. И все сохранилось, даже ужин на столе остался: французский коньяк, польская водка. Бери все, что душе угодно. Утром наши ребята через балкон третьего этажа сбросили во двор рояль. Отомстили. Словом, знай наших.
Вечером остановились в одной заштатной деревушке. Все дома каменные, много двухэтажных. Все квартиры прекрасно меблированы, везде электричество, радиоприемники, фотоаппараты. Черт побери, вот жили фрицы! Да, в этом отношении нам еще далеко до них. Удивительно аккуратный и бережливый народ. Сейчас сижу в хорошей комнате. Рядом радиоприемник. Хотелось бы мне иметь такой после войны. Ну ничего, лишь бы голова цела осталась, а приемник я себе достану.
3.02.45.
Остановились в трех километрах от Одера. Дальше пока фриц не пускает. Сейчас нужно не упустить момент, а то фриц может быстро опомниться, и тогда нам трудно будет продвинуться, нужно будет опять прорыв готовить. Интересно, окажет ли он где-нибудь серьезное сопротивление с попыткой контрудара.
Сейчас тут у немцев воюет всякий сброд: различные учебные, запасные, охранные батальоны, военные школы, отпускники, полицейские, ополченцы и прочие. Но не может быть, чтобы у них не осталось где-то более солидных стратегических резервов. Так что, думаю, нам еще предстоят тяжелые бои.
Сейчас я дежурю. Наши все уже спят. Тихо. Положил перед собой Тоськину фотокарточку. Как бы хотелось быть сейчас с ней! Неужели она до сих пор не получила моих писем? Безобразно работает наша почта. Вечно отстает где-то, ни письма получить, ни газеты.
7.02.45.
Уже за Одером. Небольшой плацдармишко с пару квадратных километров. С трех сторон немцы, сзади Одер. Переправы уже нет, растаяла. Немцы жмут как осатанелые. Подбросили сюда свежую дивизию СС и беспрерывно атакуют. Положение — хуже не придумаешь. Снарядов у нас уже нет, подбросить нам подкрепление нельзя, так как нет переправы. Если сегодня до вечера не выстоим, тогда нам всем «буль-буль». Да, черт побери, купаться в феврале в Одере малоприятное занятие.
8.02.45.
Сегодня был тяжелый день: 18 контратак, общей силой до дивизии. Переправы у нас все еще нет. Не знаю, удастся ли завтра продержаться. Положение более чем серьезное.
13.02.45.
Фрицы все еще не оставляют своего желания сбросить нас в реку. Каждый день атакуют. Но теперь положение наше немного лучше: переправили нам несколько пушек, так что их танки нам не страшны.
15.02.45.
Переплыл на лодке на восточный берег, на Большую землю. Надеюсь послать домой какую-нибудь посылку.
Жаль только, что уже нет ничего подходящего. Все, что было, успели растащить, осталось всякое барахло.
Разбирал книги, которые взял в библиотеке барона. Два тома В. Маяковского из собрания сочинений, которое начало у нас выходить незадолго до войны. Барон их у нас украл. Почему? Неужели он знает русский? И два томика стихов Гейне, изданных до прихода гитлеровцев к власти. Сейчас в Германии это запрещенная литература. Маяковского и Гейне возьму с собой, остальные придется оставить.
23.02.45.
Сегодня наш праздник. Но настроение самое будничное. Правда, устроили мы замечательный обед, выпили изрядно, пошутили, посмеялись. Только бы поскорее вылезти из этого подвала!
Как хочется получить письмо от Тоси. Никак не могу понять, почему до сих пор нет от нее ни слова. Если бы сейчас быть с ней!
25.02.45.
Перебрался опять на Большую Землю. Помылся, переоделся и помолодел на несколько лет. Завтра опять «домой», в свой подвал.
Здесь некоторые наши уже получают письма из Свидника. Только мне ничего нет. И будет ли когда-нибудь?
3.03.45.
Мы расширили свой плацдармишко немножко, соединились с нашим соседом слева, так что наше положение стало теперь еще более солидным. Но все это еще не то, что надо.
Вчера был убит наш начальник административно-хозяйственного отдела. Не угодил он чем-то начальству, и послали его в ударный батальон командиром взвода. А он вообще никогда не был на передовой и в боях не участвовал. Получилось вроде убийства по желанию начальства. Да, жизнь человеческая дешевле пареной репы.
5.03.45.
Нашу дивизию отвели во второй эшелон. Мы переехали на Большую землю. Правда, тут тоже не медом мазано. Народу множество, тесно, не протолкнешься. Я сбежал отсюда в штаб корпуса в разведотдел, где и буду сегодня ночевать. Как я не люблю жить в такой огромной куче людей. Нет возможности побыть одному, подумать о своем. Все о чем-то спрашивают, прямо в рот смотрят.
7.03.45.
С «квартирным вопросом» все еще не улажено. Отвели нам какой-то кусок подвала хуже того, который был у нас на плацдарме.
Вчера я был в кино, смотрел очень хорошую картину «Сердца четырех». Прямо душой отдохнул. Исключительно симпатичная вещь. Жаль, что подобные удовольствия слишком редко выпадают на нашу долю. А вечером слушал патефон, как раз те же пластинки, которые мы слушали в Свиднике перед нашим отъездом. И грустно как-то стало и сладко. И вспомнилось опять многое, многое. Впрочем, как вчера пелось в фильме, если бы не было в жизни разлук, то и не было б встреч. А сколько еще у меня впереди этих самых встреч? Когда только будет та, которая останется потом на всю жизнь. Может быть, она уже была, эта встреча, и лишь повторится только? Но все это излишнее мудромыслие, чему суждено случиться и когда суждено — случится и без моих предположений.
13.03.45.
Третий день работаю в тылу по спецзаданию. Ловили «вервольфов», оборотней, жертвами которых стало несколько наших военных. Искали их в разных поселках среди местного населения: женщин и стариков. Устал чертовски. Немцев прошло через наши руки несколько сот человек, со многими пришлось беседовать. Чем ближе с ними сталкиваешься, тем сильнее испытываешь чувство ненависти и презрения. Замкнутый эгоистичный народ. Среди них есть больные, раненые, но никто им не помогает. Если помогают, то наши санитары. Живя среди них, можно умереть с голода, и никто не поделится куском хлеба. Только наши иногда дают из своих пайков. Все местные девушки, даже самые молодые, 15–16-ти лет, какие-то одутловатые, обрюзгшие. Ни одного мало-мальски симпатичного лица. Правда, все они пострадали от наших Иванов. Некоторые девушки вынуждены были пропускать за ночь по 6–8 человек. Конечно, этим можно возмущаться, но предпринять против этого ничего нельзя. Война есть война, а Иван есть Иван, и в рамки его никогда не введешь. Фрицы поступали у нас еще хуже. Соскучился уже по своим ребятам. Здесь, правда, народ подобрался неплохой. Нас тут четверо, у каждого своя комната, где мы живем и работаем. Я работаю с одним замечательным парнем из соседней дивизии. Жаль, что мы не из одной. Уже успели крепко подружиться, выявилось у нас много общего.
16.03.45.
Сегодня вернулся домой. Устал жутко, особенно в последние дни. Свыше тысячи человек прошли через наши «собеседования». Калейдоскоп лиц! Была среди них одна девушка, которая внешностью своей напомнила мне счастливые дни в Тараскове. Но только внешностью, внутренне они все исключительно убогие и скудоумные. Да, вырастил себе Гитлер поколение.
Наши разведчики переехали на другое место. Теперь наконец будем жить вместе. Получил несколько писем, но из Свидника — гробовое молчание. Вот так-то бывает в жизни, все течет, все изменяется.
17.03.45.
Сегодня у меня счастливый день. Сижу спокойно, читаю стихи Гейне из конфискованной в баронской библиотеке книги. Когда-то была у меня такая «Книга песен», но в июле сорок второго она безвременно погибла с моей «Серой тетрадью». Сколько я искал эту книгу, придя в Германию! Но ни в одной библиотеке книг Гейне не было. Только у барона, в грудах сваленных книг, я нашел «Путевые картины», а потом и «Книгу песен». Сейчас читаю и упиваюсь. Какие прекрасные стихи! Многое, что когда-то я знал наизусть, пытаюсь снова восстановить в своей памяти. Нашел я там и книжечку стихов Горация. Так что поэзией я теперь вполне обеспечен.
24.03.45.
Вчера и позавчера был в театре. Смотрел спектакли Московского фронтового театра «Так и будет» и «Свадьба Фигаро». О симоновской пьесе даже вспоминать не хочется, состряпана по принципу: за вкус не ручаюсь, но горячо будет. Словом, дешевая, слащавая дрянь. Вторая пьеса мне понравилась. Хотя многие актеры играют весьма слабо, все же качество пьесы искупает все слабые стороны спектакля.
У нас уже весна, тепло, все начинает зеленеть. Боже мой, когда уже мы встретим весну в мирных условиях. Ведь это четвертая военная весна. Многовато.
26.03.45.
Что-то давно нет ни от кого писем. Все меня забыли. А как хочется сейчас получить хорошее ласковое письмо. Только не получу ни от кого. И приходят на память стихи Гейне:
Я любил очень молодых и красивых, Любил и женщин постарше. Где они все? Свистит ветер, Пенятся и бегут волны…А какая чудесная сейчас ночь! Огромная луна, тихо и тепло. Хочется мчаться куда-нибудь на открытой машине, чтобы бил в лицо ветер.
30.03.45.
Союзники перешли наконец в решительное наступление, форсировали Рейн, продвинулись дальше ста километров. Так что скоро, может, и конец. Ну, на сей раз мы отучим немцев с нами воевать. Если не навсегда, то хотя бы правнукам своим закажут не соваться в Россию.
Послал сегодня домой посылку. На этот раз продовольственную. Пусть хоть немного поддержит моих стариков.
2.04.45.
Переехали на новое место. Теперь живем в лесу недалеко от Франкфурта. Видимо, скоро тут начнутся горячие денечки. А пока отделали свою землянку довольно культурно. Есть электрический свет, отопление и т. п. Правда, с одним труднопроизносимым местом плохо. Кругом понапихано столько народа, что приходится брать велосипед и ехать в лес километра на полтора. Но все это не суть важно. Союзники нажимают вовсю. Расстояние, разделяющее нас, меньше 400 километров. Скоро разрежем фрицев на две части.
4.04.45.
Сегодня на бюро меня принимали в кандидаты партии. Уже год длится мое оформление. Но это, может, и к лучшему. Во всяком случае, я не один раз обдумал и продумал этот шаг. Я ясно представляю себе, зачем, для чего и почему я вступаю в партию. И совершенно согласен с теми, кто говорит, что нам нужна другая партия, не «чего изволите?», а самостоятельно думающая и решающая. Но, как говорится, поживем — увидим.
8.04.45.
Что-то долго продолжается наше затишье. Союзники уже в 200 километрах от Берлина. Боюсь, придут туда раньше нас. На днях наше правительство денонсировало наш договор с Японией. Видно, придется-таки и с ними повоевать. Боже мой, конца нет этим войнам!
16.04.45.
Сегодня началось последнее, решительное наступление. На Берлин! Но успехи пока неважные: за день продвинулись всего на четыре километра. В три раза меньше, чем 14 января на Висле. Авиации нашей почти не видно, танков тоже. Правда, мы наносим лишь вспомогательный удар. Главный удар на севере. Переправы через Одер нет. Переплывают на лодках. Много раненых и мало оперативности в работе мед службы.
18.04.45.
Что-то плохо дело с нашим наступлением. Несем большие потери, а вперед почти не двигаемся. Интересно, как наш сосед справа.
Многих, кого я хорошо знал, уже нет в живых. А сегодня вообще судьба чудом уберегла меня от гибели. Машина, на которой я должен был ехать, залетела прямо к немцам и получила два прямых попадания. Наш Юдаков тяжело ранен. Это самое скверное во всей истории. Ординарец Юдакова погиб, разорвало на куски. Подробности пока никто не знает, ибо уцелевшие до сих пор не могут в себя прийти.
Как выяснилось, виноват во всем наш генерал. Сидел рядом с шофером, держал в руках карту и завел машину прямо на передовую к немцам. Но сам, благодаря счастливой случайности, остался цел и невредим. Да, черт возьми, это не война, а сплошное смертоубийство.
21.04.45.
Наступление продолжается. Артиллерийская канонада не смолкает весь день. Но успехов почти нет. Правда, «сверху» передают, что наши танки уже достигли предместий Берлина, и Фюрстенвальде уже якобы взято. Но я что-то этому не верю, хотя информацию передавал сам командующий армией. Как бы все это не было лишь средством поднятия нашего не совсем высокого духа. На нашем же участке продолжается топтание на месте, вчера наступали весь день, а вечером фриц обстреливал из пулемета наш НП так же, как и утром. Есть много наших раненых и убитых этими шальными пулями. Теперь по НП ходить спокойно нельзя, передвигаемся «короткими перебежками».
22.04.45.
Медленно, но двигаемся вперед. А сегодня было официальное сообщение, что наши войска завязали бои в пригородах Берлина. Сообщение очень скромное, без кричащих заголовков, без приказов о благодарностях и т. п. Удивительно скромными стали мы к концу войны!
Ну а нам «повезло»: наши соседи воюют, двигаются стремительно вперед, а мы топчемся около Франкфурта. Неужели нам суждено только доколачивать франкфуртский гарнизон?
А сколько наших убито! Лежат на поле, по обочинам дороги. Немного не дожили до нашей победы. Да, умирать сейчас особенно обидно. И нашлись еще сволочи, которые с наших же убитых снимают сапоги, обмундирование. Ничем не проймешь нашего Ивана.
Вчера пришла директива Сталина о более гуманном обращении с немцами. Давно надо было принять такую директиву, а то они, боясь нашей расплаты, дерутся с отчаяньем обреченных.
24.04.45.
Сегодня форсировали Шпрее. Довольно узкая паскудненькая речонка. Я трижды сплюнул в эту проклятую воду. Фрицы отрезаны, теперь нам остается с ними покончить. Сопротивляются они отчаянно.
Вчера неожиданно встретил Зину в одном населенном пункте. Встреча была очень краткой: мы уезжали, они только что приехали. Поговорить нам так и не удалось. Выглядит она очень хорошо, поправилась и вообще. Жаль, что так мало было времени.
27.04.45.
Все дальше и дальше продвигаемся на запад. Наши окружили Берлин и ведут уличные бои.
Сейчас я дежурный. Сижу и ем американский чернослив и изюм — подарок освобожденных нами американских военнопленных. У них, как говорится, с питанием было хорошо. Получали отовсюду хорошие посылки.
У меня «клиентов» — хоть отбавляй, спрашивают, куда и когда можно уехать и переехать, где достать какое-нибудь питание и т. п. Это все штатские. Военных тут же грузят в машины и отправляют в пересыльный пункт. Сегодня была у меня одна девушка из Берлина исключительно красивого телосложения, прямо хоть статую лепи. А вообще, жизнь настала неплохая. Кругом трофеи, хождение куда хочешь. Только я, как обычно, не умею находить трофеи. Все находят, а я нет. Ну да черт с ними, не в этом суть жизни.
30.04.45.
Вчера у нас окончилась война. Если бы везде так! Мы разгромили окруженную группировку гитлеровцев и сейчас отдыхаем в ожидании новых приказов. Но торжество нашей победы очень омрачено: в госпитале умер наш майор Юдаков. Просто никак не могу сейчас осознать, что его уже нет в живых. Такой был веселый жизнерадостный человек, скромный и внимательный, замечательный офицер. И погиб, не дожив нескольких дней до нашей победы. Как нелепо и обидно! Это уже третий мой начальник, погибший на моих глазах. И тоже недавно родилась у него дочка. И не придется ей увидеть своего отца.
1.05.45.
Не дали нам встретить праздник в спокойной обстановке. Вчера уже начали двигаться. И сегодня с утра не вылезал из машины, а сейчас уже три часа ночи. Но мы все же, хоть и на ходу, встретили праздник как полагается. Обмывали два дня и, видимо, завтра продолжим. Мы двигаемся самостоятельно, ведем разведку правого фланга. Это лучше, чем ехать со всей шарашкиной конторой.
Проезжаем замечательные места, берлинские дачи. Множество озер, рек, холмов, сосновые леса, березовые рощи. Исключительно богатая природа. Жаль только, что все это здесь, а не где-нибудь под Москвой.
А Иваны наши продолжают свирепствовать, несмотря на самые грозные приказы и предупреждения. Сейчас во всех районах, занятых нами, не найти ни одного не разграбленного дома и ни одной женщины в возрасте от 15 до 60 лет, не изведавших русского. И не единожды.
2.05.45.
Сегодня наши войска взяли Берлин. Историческое событие, которого мы ждали около четырех лет. Недолго удалось фрицам удерживать свою столицу. Взято свыше ста тысяч пленных, много генералов и близких сподвижников фюрера. Говорят, что Гитлер, Геббельс и их главные подручные покончили самоубийством, но вряд ли это так. Вероятно, они ушли в подполье или убежали куда-нибудь. Теперь будем их ловить. Надеюсь не мы.
Война быстро приближается к своему концу. Фактически она уже закончилась, так как организованное сопротивление немцев почти повсеместно прекратилось. Так что осталось буквально несколько дней.
Вчера организовали мы «экспедицию особого назначения» для знакомства с местным населением, вернее, с женской его частью. Знакомство было всесторонним, и мы здорово повеселились. У меня, правда, знакомство было не совсем удачное, но ничего, в следующий раз будет лучше.
9 мая 1945
Сегодня окончилась война. Пришел день нашей окончательной победы, которого мы ждали почти четыре года.
Солнечный весенний день. В садах пышно цветут яблони, благоухает сирень, поют соловьи. Кончилась война! Исполнились надежды и чаяния миллионов людей. И теперь миллионы матерей, отцов, жен, детей будут там, далеко от нас, с замиранием сердца ожидать вести от родных и любимых, отправленной 9 мая. И тогда камень многолетней тревоги и волнений навсегда свалится с их души. И огромное счастье наполнит их сердца…
Мой первый тост сегодня — за наших родных и близких, за наших матерей, жен и невест, за тех, кто верно и терпеливо ждал нас эти долгие сумрачные годы, чья любовь согревала нас в окопах, в холодных и сырых землянках, оберегала в дни горячих боев от пуль и снарядов. Мой первый тост за тех, кто верил, что мы вернемся.
Многим не довелось дожить до этого светлого дня. В подмосковных лесах, на заснеженных полях в осенние дни сорок первого года отдавали они свою жизнь и здоровье, защищая нашу родную столицу. На берегах Волги, в горах седого Кавказа, на Кубани и Украине, на подступах к Севастополю прокладывали они ценою своей жизни путь к нашей Победе. И на чужой немецкой земле еще совсем недавно гибли молодые жизнерадостные люди, наши боевые друзья и товарищи, чтобы приблизить этот светлый день, день окончания войны.
И второй мой тост — за несгораемую память о наших боевых друзьях, которых сегодня уже нет с нами, но без которых мы никогда бы не смогли торжествовать сегодня.
И третий мой тост — за тех, кто с первых дней войны в серой солдатской шинели изведал горечь отступлений и наших временных неудач, тех, кто прошел по суровым дорогам войны многие тысячи километров и пронес знамя Победы от стен Москвы в центр столицы Германии и от берегов Волги до берегов древней немецкой реки Эльбы.
Ну а потом десятки других замечательных тостов. Всю ночь продолжалось наше торжество. Вина хватило.
Я вспомнил, что три года назад именно в этот день, 9 мая сорок второго года, я написал стихи о войне и о том, как она окончится. Не думал я тогда, что этот день настанет ровно через три года. Многое изменилось с тех пор, многое бесследно исчезло и давно забыто, но самое дорогое и прекрасное осталось. Все так же, как и три года тому назад, цветут яблони, так же заливаются соловьи над рекою, так же радостно заливает своими золотыми лучами солнце поля, сады и леса. Было бы всегда это, а все остальное приложится и во многом самим мною. А сейчас я счастлив, что в этот день могу видеть и чувствовать всю эту красоту и наслаждаться ею.
Приложение
Весна сорок пятого[1]
Она началась для меня в морозные январские дни, когда войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление на гитлеровскую Германию, границы которой проходили по нынешним польским территориям.
Мы продвигались стремительно. Никогда прежде мне не доводилось хотя бы просто видеть такое количество наших танков, артиллерии и самолетов. И столько трофейных команд.
Наши дивизионные разведчики, в их числе и я, ехали на танках, примостившись сверху. Стояли сильные морозы, но настроение было бодрое. Еще бы, ведь близка победа! Так что холода мы не замечали. Правда, потом приходилось с трудом отдирать шинели от брони.
Через несколько дней наша дивизия завязала бои в Силезии.
После окончания курсов в январе сорок второго я был направлен в штаб Южного фронта, а оттуда в штаб армии, в которую входила моя будущая дивизия. Но туда я добрался только в начале апреля: по дороге заболел сыпным тифом, попал во фронтовой госпиталь, потом в «батальон здоровья».
И вот в начале 1945-го я в Германии… на небольшом плацдарме, который удалось нашим ребятам захватить на западном берегу Одера. В подвале полуразрушенной электростанции разместили командно-наблюдательный пункт — КНП. Штабных офицеров среди нас было немного. Зато с нами был наш генерал, командир дивизии. Удерживали мы плацдарм почти символическими силами: переправы через Одер уже не было, она растаяла, а танки и артиллерию, как часто у нас бывало, переправить не успели.
Немцы атаковали беспрерывно. Иногда их боевые группы прорывались сквозь заслоны и подходили к самому КНП. Тогда все мы во главе с нашим генералом отчаянно отстреливались. Помню, как в первый и, слава Богу, последний раз в моей военной жизни мне пришлой стрелять из пулемета.
Когда-то наш командир дивизии В. Я. Горбачев был самым молодым генералом Красной Армии. Получил это звание в двадцать семь лет — за освобождение Крыма. Но так до конца войны и остался генерал-майором, хотя имел немалые заслуги за бои в Польше и Германии и заработал немало наград, в том числе Золотую Звезду Героя. Причина, конечно же, была. Он был храбр не только в бою… После освобождения Феодосии он познакомился с проживавшей там молодой певицей. И влюбился. Как и следовало ожидать, местные органы госбезопасности доложили куда надо о том, что певица в годы оккупации выступала в городском театре. Тогда это считалось «сотрудничеством с фашистскими оккупантами». Надо полагать, что «сотрудничество» ограничивалось пением, иначе эту женщину не спасли бы и генеральские погоны поклонника.
Несмотря на все попытки военного и прочего начальства отлучить нашего комдива от феодосийской певицы, он с ней не расстался. Сумел перевезти ее из Крыма в польский Люблин, а затем и в Германию. После войны официально зарегистрировал свой брак с ней, переехал в Киев, но военная его карьера закончилась. Зато он сохранил верность любимой женщине, не посрамив чести русского офицера…
Положение на одерском плацдарме упрочилось; удалось его расширить. Более того, бывало, мы ухитрялись переправиться на лодке на восточный берег Одера, на «Большую землю». Ведь там была баня, иной раз и кинопередвижка. Да и просто можно было отоспаться пару часов…
Хотя в те дни никаких серьезных боевых действий на нашем участке фронта не велось, начальство требовало ежедневных разведсводок, которые составлял я и которые потом за подписями нашего начальника штаба и начальника разведотдела шли в штаб корпуса. В сводках требовалось сообщать о потерях противника за истекшие сутки, о числе уничтоженных нами дотов и дзотов, танков и артиллерийских установок. Почти все эти цифры, конечно же, брались с потолка нашей (и не только нашей) землянки.
Когда я приносил рабочий экземпляр разведсводки своему начальнику, майору Юдакову, человеку образованному и обладавшему чувством юмора, он нередко округлял мои цифры, напоминая при этом: «Не забывай, как Суворов во время войны с Турцией приписывал нули к цифрам о вражеских потерях, приговаривая: „Чего их, басурманов, жалеть!“».
Ведь, как известно, Совинформбюро «уничтожило» за время войны четыре состава немецкой армии.
Ожидание окончательной победы было тогда господствовавшим чувством. Только бы поскорее! От войны устали все, и немцы тоже.
В немецких газетах, достававшихся мне от перебежчиков (их числе заметно увеличилось), все чаще сообщалось о «суровом возмездии» за «предательство фюрера». Мы видели немецкие деревни, сожженные не нами, а эсэсовцами; видели повешенных на фонарях жителей этих деревень за белые флаги на их домах.
Из армейского разведотдела пришла тревожная информация: у нас в тылу появились террористические отряды «вервольфов» (оборотней). Было убито несколько наших офицеров.
В ответ нашим командованием была создана специальная Группа особого назначения, в нее вошли офицеры разведотделов и военные переводчики, в их числе и я. А руководили нами сотрудники Особых отделов «Смерш».
В поисках загадочных «вервольфов» мы стали объезжать деревни и поселки. Местные жители охотно делились своими подозрениями. Было задержано с десяток молодых немцев, которых тут же отправили во фронтовой «Смерш».
Готовность многих немцев к сотрудничеству с «советскими оккупантами», готовность «настучать» на соседа вызывали противоречивые чувства: и одобрение и презрение. Много позже мы стали понимать, что немцы были воспитаны системой, весьма сходной с нашей, сталинской.
Германские впечатления наводили и на рассуждения психологического порядка. «Странный народ, — писал я тогда в дневнике, — замкнутый и эгоистичный. Среди местных немцев есть больные, раненые, но никто им не помогает. Живя среди них, можно умереть с голода, но никто не поделится куском хлеба». Хлебом делились тогда с ними мы, русские.
По данным нашей фронтовой разведки, за один только март на оставшуюся неоккупированной часть рейха было эвакуировано около 17 миллионов мирных жителей. А 20 марта от пленных и перебежчиков мы узнали, что Гитлер приказал уничтожить продовольственные склады, которые могут быть захвачены нашими или союзными войсками. Что это означало для населения — понятно.
В те же дни готовилось еще одно преступление гитлеровцев. В Берлине и окрестностях находилось около ста тысяч угнанных из Советского Союза и других стран молодых мужчин и женщин — в основном подростков, которые работали на заводах, фабриках и в крестьянских хозяйствах. И Гитлер распорядился: «как можно скорее отправить всех в безопасное место». Иными словами — уничтожить. К счастью, наступление наших войск сорвало этот ужасный план.
16 апреля началось наше последнее наступление — на Берлин. Предрассветную тишину взорвала мощная артподготовка. Вспыхнули лучи множества прожекторов, заранее установленных на восточном берегу Одера и направленных на оборонительные позиции гитлеровцев. Ослепленные прожекторами, оглушенные взрывами немцы какое-то время не открывали ответного огня.
На нашем участке фронта были сосредоточены разношерстные подразделения, наспех сформированные гитлеровцами. В те дни впервые против нас были брошены и части РОА, власовской армии, которая раньше участвовала лишь в карательных операциях в немецком тылу или в боях на Западном фронте.
На второй день наступления несколько власовцев были взяты в плен. Военный трибунал приговорил их к расстрелу. Изменников поставили к стенке полуразрушенного сарая. И вдруг один из них вышел вперед и громко крикнул: «Да здравствует великий Сталин!». Но никого из власовцев это не спасло.
Кстати сказать, мне не раз доводилось находиться на передовой в начале боевых атак, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то из командиров поминал имя «великого вождя». Жизнь не сходилась с легендами нашей пропаганды.
Утром 18 апреля наш комдив приказал перенести КНП на несколько километров западнее. Уже отправили туда саперов для оборудования дзота и нескольких связистов. В «виллис» уже сели генерал, начальник разведки, офицер оперативного отдела. Не хватало только переводчика. Со мной такое бывало: я замешкался, ведь надо было собрать сумку с документами, словарями, запасными очками и прочим, по словам моего начальства, «барахлом». «Не будем тебя больше ждать! — крикнул генерал. — Пойдешь пешком!»
«Виллис» умчался, а я двинулся на своих двоих, ориентируясь по карте. На месте нового КНП никого, кроме связистов, не оказалось. Лишь поздно вечером мы узнали, что комдив не разобрался с картой и направил машину прямо на немецкие окопы. Был убит ординарец, тяжело ранен начальник разведки, ранен водитель. Генерал по счастливой случайности остался невредим. Я — тоже…
Наконец наши войска завязали бои в пригородах Берлина. Было опубликовано официальное сообщение об этом. «Сообщение очень скромное, без громких приказов и крикливых заголовков, — писал я в дневнике. — Удивительно сдержанными стали мы под конец войны…»
Проблема отношений победителей к побежденным становилась все более острой. «Вчера пришла директива Сталина о более гуманном обращении с немцами, — записал я в дневнике. — Давно пора было это сделать. Ведь, боясь нашего возмездия, фрицы дерутся с отчаяньем обреченных».
На другой день в армейских и фронтовых газетах мы прочли обращение Военного совета фронта с призывом не допускать насильственных действий по отношению к мирному населению, оказывать необходимую помощь раненым немецким солдатам и офицерам.
Надо сказать, что и до указаний свыше наша военно-медицинская служба приходила на помощь раненым и больным немцам. Многие из них до сих пор с благодарностью вспоминают об этом.
17 апреля был опубликован полученный нами от кого-то из перебежчиков приказ Гитлера командованию Восточного фронта. В приказе говорилось: «Еврейско-большевистский враг перешел в массированное наступление, пытается разбить Германию и истребить наш народ». Но «на сей раз большевики разделят судьбу участников азиатских нашествий, они истекут кровью у стен столицы германского рейха». Этим же документом предписывалось немедленно расстреливать каждого, независимо от его чина и должности, кто прикажет отступать. Смертная казнь грозила и за слушание «вражеских радиопередач», хотя официальное немецкое радио уже неделю как не работало.
В эти дни в фашистских тюрьмах поспешно «ликвидировали» участников Сопротивления, «подозрительных» солдат и офицеров вермахта, чиновников и деятелей культуры. Был расстрелян и последний комендант Берлина полковник Штиле «за недостаточную организацию обороны столицы рейха».
Рискуя жизнью, пробирались к нам из Берлина угнанные в Германию русские, украинцы, белорусы, поляки. Тысячи голодных, изможденных, одетых в какое-то рванье. Кто-то из них передал мне фашистскую инструкцию о правилах обращения с насильственно вывезенными сюда «фремдарбайтерами». «Русский неприхотлив, — говорилось в ней, — поэтому его легче прокормить без заметного нарушения нашего продовольственного баланса. Его не следует баловать или приучать к немецкой пище… Посещение ими ресторанов, кинотеатров, театров и других общественных заведений запрещается. Не разрешается также посещение церквей… Права на свободное время восточные работники не имеют…»
А какая была трагическая судьба у наших военнопленных, которых гитлеровские власти бросили под Берлин для устройства дорожных заграждений, противотанковых надолб и траншей! Обессиленные, измученные, похожие на живых мертвецов, многие тысячи их были освобождены нашими войсками. Общение с ними не разрешалось. Их тут же погружали в специальные автофургоны и в сопровождении охранников из «Смерша» отправляли в армейские тылы. Мы не знали тогда, что им предстояло…
В конце апреля наша дивизия освободила небольшой лагерь американских военнопленных. Поразили нас тогда их вполне пристойный вид и обилие продовольственных запасов, которыми они щедро делились с нами. Мы не знали тогда, что Америка и Германия были членами Женевской конвенции 1929 года о гуманном отношении к военнопленным. В нашей открытой печати об этой конвенции вообще не упоминалось. Понятие «военнопленный» у нас подменялось термином «пропавший без вести». Помнится, весной сорок второго года в итоге неудачного нашего наступления под Харьковом мы потеряли более ста тысяч пленными, официально «пропавших без вести».
А Берлин полнился слухами. Немецкие перебежчики рассказывали, что англичане разорвали военный союз с русскими и будут защищать столицу рейха вместе с вермахтом, что Гитлер уже встретился с Черчиллем и тому подобное.
В эти же дни нам стали известны и подлинные факты, как правило, трагические. На подземной станции городской электрички «Анхальтер банхоф» тысячи мирных жителей, спасаясь от бомбежек, втискивались вниз, давя и уродуя друг друга. А команда эсэсовцев взорвала большой универмаг «Карштадт», где погибло несколько сотен немецких женщин и детей. Был взорван туннель под Ландверским каналом, где прятались от обстрелов берлинцы. Более тысячи их погибло, утонув в хлынувшем водном потоке.
Но даже в эти страшные дни берлинцы не теряли присущего им чувства юмора. Вот несколько ходивших тогда по городу анекдотов:
«Когда же кончится эта проклятая война? — Тогда, когда с Восточного фронта до Западного можно будет проехать на метро».
«Если Америка начнет войну с Россией, я буду воевать на стороне русских. — Почему? — Чтобы попасть в плен к американцам».
«Когда кончится война, я сяду утром на велосипед и поеду вокруг Германии. — А что ты будешь делать после обеда?»
И вот наступил самый великий день — Девятое мая.
До поздней ночи в кругу наших разведчиков мы праздновали Победу. Мы пили за тех, кто ждал нас все эти годы и верностью своей помогал нам уцелеть, пили в память наших фронтовых друзей, которые отдали свою жизнь до великого дня Победы, как и наш начальник разведки майор Юдаков. Но, между прочим, никто из нас не поднял стакана в честь «отца всех народов», Верховного главнокомандующего. Никто.
А дня через два я и еще два переводчика из соседних дивизий получили приказ прибыть в Берлин, в распоряжение главного военного коменданта города. В штабе корпуса мы узнали, что комендантом еще до взятия Берлина был назначен генерал-полковник Н. Э. Берзарин, бывший командующий 5-й ударной армией.
Наша троица шла большей частью пешком: мосты почти все были взорваны, автострады разбиты, а местами заминированы. За день с трудом добрались до юго-западной окраины Берлина. Здесь разрушений почти не было. В цветущих садиках стояли светленькие коттеджи в два-три этажа, казавшиеся безлюдными. Переночевав в каком-то бесхозном домике, двинулись дальше.
Картина города становилась все страшнее. «Центра Берлина не существует, — записал я в тот день свои впечатления. — Более жуткие разрушения трудно себе представить…» На уцелевших стенах выведено белой краской: «Убей девять русских!», «Берлин останется немецким!» И множество плакатов — силуэт крадущегося человечка, палец приложен ко рту, надпись «Молчи! Враг подслушивает!» А рядом на только что поставленных щитах — другие плакаты: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается. И. Сталин».
Но уже тогда среди развалин были видны группы немок с метлами, лопатами, носилками, расчищавших тротуары и улицы. Сохранившиеся кирпичи они аккуратно складывали у стен домов, а битый камень, черепицу и стекло сваливали в кучи, которые потом вывозили на грузовиках на одну из восточных окраин Берлина, где выросла огромная гора мусора, названная местными жителями Монт Кламотт (Хлам-гора).
К вечеру мы убедились, что идти дальше по незнакомым темным улицам не стоит. В уцелевшем доме вдруг увидели свет на первом этаже, постучались. Нас пригласили: то были французы, бывшие военнопленные, и симпатичная молоденькая немка, которую один из французов представил как свою жену. В комнате ярко горели свечи. На столе множество бутылок и тарелок с едой. Довольно хорошо говоривший по-русски француз рассказал: они работали на военном заводе неподалеку от Берлина. Вместе с нашими военнопленными и угнанными из России молодыми ребятами. Жили дружно, но размещались в разных лагерных бараках. Француз под аккордеон спел по-русски две песни: «Тачанку» и «Три танкиста». Остальные подпевали, тоже по-русски.
Когда мы немножко выпили, я спросил: «А вас не накажут за то, что были в плену да еще работали на военном заводе, помогая тем самым немцам?» Говоривший по-русски не сразу понял суть моего вопроса. Потом сказал: «Разве ж мы виноваты? Мы не перебегали к немцам, нас взяли в плен, как и тысячи других. Виноваты в этом наши генералы, наши министры. Пусть с них и спрашивают».
Главная военная комендатура размещалась тогда в старом пятиэтажном доме, рядом с кинотеатром на улице Альтфридрихсфельде. Нас поселили в соседнем доме, где каждому предоставили отдельную комнату. На следующий день меня вызвал к себе генерал Берзарин. После довольно длительной беседы он предложил мне поработать у него в качестве личного переводчика. Я сразу же согласился, хотя в глубине души надеялся на скорую демобилизацию и возвращение домой.
У Берзарина были уже два переводчика, примерно моего возраста. Работали мы посменно, но дневные смены нередко затягивались до полуночи, а иногда продолжались и всю ночь.
Ежедневно генерал проводил совещания с работниками районных военных комендатур. Главная тема — приведение в порядок условий жизни берлинцев. Иногда приглашались и представители немецких антифашистских организаций, а мы обеспечивали синхронный перевод.
Запомнилось одно из таких совещаний, на котором обсуждался вопрос о создании первого демократического городского магистрата. Самым сложным оказался подбор кандидатуры на пост обербургомистра Берлина. Называлось несколько фамилий, в том числе видных немецких антифашистов, но все они, по мнению генерала, были слишком известны как жившие в СССР политэмигранты. После долгих обсуждений и споров (а нельзя забывать, что некоторые руководители германской компартии по политическому влиянию и связям с высшими советскими властями превосходили главного военного коменданта) остановились на кандидатуре беспартийного инженера, доктора Артура Вернера. Генерал Берзарин тут же послал к нему своего помощника и меня как переводчика.
Визит наш оказался напрасным. Услышав, какой пост ему предлагают, доктор Вернер замахал руками: «Нет, нет! Никакой политики! Я слишком стар для такой должности. Поблагодарите от меня генерала Берзарина, но такого назначения я принять не могу».
Смущенно попрощавшись, мы уехали обратно.
Когда помощник Берзарина доложил ему о неудачной миссии, генерал не на шутку рассердился:
— Не так надо было говорить с доктором Вернером! Вы должны были сказать, что от него теперь зависят покой и благополучие берлинцев, что взоры тысяч матерей и детей устремлены на него как на спасителя немецкого народа… И дальше в том же духе. Поняли? А теперь отправляйтесь!
Мы вернулись к доктору Вернеру. Помощник коменданта произнес длинную речь, которую я переводил с предельной торжественностью. На глазах Артура Вернера выступили слезы.
— Ну, если уж нет другого подходящего для этого человека, то я согласен. Так и передайте вашему генералу.
17 мая доктор Вернер официально вступил в должность обербургомистра Большого Берлина.
В дневное время в городе, особенно в восточной его части, становилось все многолюднее. После капитуляции Германии через Берлин прошло с востока около полумиллиона беженцев, значительная часть которых временно или постоянно обосновалась в бывшей имперской столице.
«По улицам разгуливают горожане, — писал я тогда в дневнике. — Уже освоились с обстановкой и чувствуют себя непринужденно. Женщины подходят к нашим солдатам и офицерам и просят дать закурить. Большинство берлинских женщин курящие. А когда приходят наши грузовики с продовольствием, то им перепадает иногда и сало и другие продукты. Мужчины стоят с пустыми трубками и умоляюще смотрят на наших военных: „Камрад, табак, битте, битте!“. Наши угощают… Моды здесь удивительные: девушки и женщины в платьях намного выше колен, а молодые мужчины в коротких, будто детских штанишках. Наши шутят: это они нарочно в таких ходят, чтобы не подумали, что они служили в гитлеровской армии и не отправили их в лагерь военнопленных…»
Надо сказать, что генерал Берзарин всячески поощрял тогда наши связи с местным населением. Многие работники комендатуры, в том числе и я, жили на частных квартирах, в немецких семьях. Некоторые отказывались от услуг офицерской столовой, получали продукты «сухим пайком» и отдавали квартирной хозяйке: хватало и жильцу и ее семье.
Моя хозяйка — мать трех девочек от пяти до двенадцати лет; муж погиб под Сталинградом. Она не раз рассказывала мне о первой встрече с русскими:
— В конце апреля вошли в квартиру двое русских солдат, лет по двадцати. В городе еще стреляли, но бомбежек уже не было. По-немецки солдаты не говорили. Посмотрели на меня. Я испугалась, боясь пасть жертвой их мужского «внимания». Но этого не случилось. Они сразу достали по ломтю хлеба, по куску колбасы, какие-то сладости и дали моим дочкам. А когда уходили, оставили мне банку свиной тушенки…
Предметом особой заботы Берзарина было возрождение культурной жизни города. Часто проходили наши дружеские встречи с немецкими артистами, музыкантами, художниками. Запомнились его беседы с известными театральными деятелями Эрнестом Легалем, Виктором де Ковой, Густавом Грюдгенсом, Паулем Вегенером, которые мне доводилось переводить.
Надо сказать, что никаких «руководящих указаний» от главной военной комендатуры тогда не поступало (это началось позже). А пока генерал Берзарин не уставал повторять, что помощь — да, но ответственность за развитие немецкой культуры должны нести сами немцы и что военные власти не намерены в это вмешиваться.
В западно-берлинском районе Нейкельн открылось тогда так называемое «Революционное кабаре». На эстраде читали стихи известного антифашистского поэта Курта Тухольского на фоне отплясывавших канкан полуголых девиц. И чуть ли не на следующий день, как раз в мое дежурство, к Берзарину явилась делегация возмущенных таким неприличием зрителей во главе с руководителем районного магистрата. Генерал, не вдаваясь в подробности, коротко сказал:
— У вас, у немцев, говорят: каждому свое. Кому-то это нравится, кому-то нет. Кому не нравится, тот пусть и не смотрит.
Встречи Берзарина с деятелями культуры часто заканчивались концертами. Потом гостей приглашали в офицерскую столовую на ужин, отличавшийся забытым в военные годы русским хлебосольством. А потом — наступал уже комендантский час — офицерам, знавшим немецкий, поручалось развозить немецких гостей на служебных машинах по домам. Прелестных, как нам тогда казалось, артисток кино, эстрады и оперетты мы провожали до дверей их квартир. И нередко получали приглашение на чашку кофе или бокал вина. Знакомства часто становились постоянными, завершаясь дружескими, а то и любовными отношениями.
В городе постепенно налаживалась нормальная жизнь. Возобновилось движение автобусов, поездов метро, а несколько позже и трамваев.
Как писала тогда первая городская газета «Берлинер цайтунг», «автобус для берлинцев своего рода голубь мира… Радостный блеск в глазах пассажиров, взмахи рук и вздохи облегчения: наконец он опять появился, наш бравый старик, пятый автобус! Значит, появятся и другие».
В те же дни на площади возле рейхстага возник быстро ставший знаменитым берлинский «черный рынок». Когда автобус подходил к рейхстагу, кондуктор громко объявлял: «Черный рынок! Пассажиры с сумками, чемоданами и мешками — на выход!»
Но вот пришла беда: вспыхнули эпидемии. Сыпной тиф. Дизентерия. Каждый день по улицам в простынях, мешках, на одеялах несли на кладбище умерших. Специального санитарного транспорта не было, крематорий едва справлялся.
По распоряжению Советской Военной Администрации, которую возглавлял тогда маршал Г. К. Жуков, из ближайших лагерей военнопленных были отправлены в берлинские больницы немецкие врачи и медработники. В военных госпиталях открылись специальные отделения для берлинских жителей. Начала работать одна из самых больших больниц Берлина «Шарите». Помню, как наш генерал старался отыскать жившего где-то в городе выдающегося немецкого врача Фердинанда Зауэрбруха. В этих поисках принимал участие и я. Мы обнаружили профессора на квартире его родственника.
Надо сказать, что оба, и генерал и врач, прониклись взаимной симпатией. Профессор Зауэрбрух согласился возглавить «Шарите», а позже наш генерал иногда приезжал к нему с банкой икры и бутылкой московской водки, и они вели, с моей помощью, долгие дружеские беседы.
С эпидемиями довольно быстро было покончено. Теперь самой острой проблемой стала продовольственная. Как писала тогда жившая в Берлине писательница Ингеборг Древитц, «голод, голод и голод. В провинции забивают скот, и тысячи берлинцев устремляются туда, втискиваясь в пригородные поезда, влезая на крыши вагонов, но другие тысячи горожан так и не могут уехать».
И тогда на улицах и площадях города появились наши военно-полевые кухни, возле которых тут же выстраивались длинные очереди немцев. За бесплатным густым солдатским супом с ломтем хлеба в придачу. А маленьким детям нередко перепадали от наших солдат конфеты и печенье.
Только в мае из продовольственных запасов Красной Армии были выделены берлинцам многие тысячи тонн зерна, мяса, колбас, масла, жиров, сахара, картофеля и других продуктов. Для берлинских детей на специальные фермы было передано 5 тысяч молочных коров. И это было в то время, когда у нас, особенно на территориях, разоренных фашистской оккупацией, люди жестоко голодали. Старшее поколение берлинцев с благодарностью помнит об этом и по сей день.
А в Главной военной комендатуре шла обычная повседневная работа. К нам приводили задержанных военными патрулями немцев, с которыми надо было «выяснять отношения», приводили и наших военнослужащих, старавшихся обеспечить себя «трофеями» перед отъездом на Родину.
В те дни в Берлине были введены продовольственные карточки для разных групп населения. Участники антифашистского сопротивления, политзаключенные, политэмигранты и некоторые другие группы берлинцев получали дополнительные продовольственные талоны.
Процедура их оформления была довольно сложной. Не обходилось и без курьезов.
Как-то днем в мое дежурство в приемную генерала Берзарина пришел пожилой немец с маленькой собачкой.
— Я антифашист, — заявил он. — И хотел бы получить дополнительные продовольственные талоны.
— А какие у вас есть документы о вашей антифашистской деятельности, какие свидетели? — спросил я.
— Сейчас вы их увидите. Есть ли у кого кусочек сахара?
Одна из наших машинисток достала из ящика стола коробочку с рафинадом. Немец взял один кусочек и положил его на пол перед носом собаки. Та обнюхала сахар и взяла его в рот.
— От Гитлера! От Гитлера! — закричал немец. Собака тут же выплюнула сахар.
— Вот, видите, — торжествующе заявил немец. — Так я ее воспитал. А теперь смотрите. От Сталина! От Сталина!
Собака тут же проглотила сахар и довольно облизнулась.
— Вот, видите! — повторил немец. — Надеюсь, все понятно?
Случались визиты и совсем необычные.
В один из майских дней в приемную явилась очень красивая женщина, которую мы, повидавшие уже немало трофейных фильмов, сразу узнали: это была известная киноартистка Ольга Чехова.
Встреча с ней была для меня особенно интересна. В апреле сорок четвертого, в день освобождения Ялты, я был первым посетителем Дома-музея А. П. Чехова, где меня встретила сестра великого писателя Мария Павловна. У нее в комнате я увидел фотографию молодой красивой женщины с дарственной надписью. Полюбопытствовал, кто она такая. Мария Павловна объяснила, что это знаменитая немецкая артистка и ее дальняя родственница Ольга Чехова, которая навещала ее во время оккупации.
Тогда это имя мало что нам говорило. Фильмов с ее участием у нас не показывали, в печати не упоминали. И вот я вижу ее в Берлине. Ей лет под пятьдесят, но выглядит она не старше чем на тридцать.
Пока я докладывал генералу Берзарину о знаменитой посетительнице, наши машинистки и секретарши старались выведать у нее «секрет вечной молодости».
— Ешьте чеснок, девочки, — сказала Ольга Чехова, — ешьте чеснок и всегда будете молодыми и красивыми.
Генерал вышел навстречу, пригласил Ольгу Чехову в свой кабинет, но меня, к моему огорчению, тут же попросил выйти: переводчик не нужен.
Беседа их продолжалась часа два. Генерал проводил Чехову до дверей на лестницу и дал указание своему помощнику обеспечить ей продовольственный паек, горючее для автомашины, охрану ее дома в Западном Берлине и многое другое.
А вскоре Ольга Чехова на несколько дней вылетела в Москву специальным рейсом. В западной печати появились сенсационные сообщения: знаменитая артистка, которая часто встречалась с «самим фюрером», была советской разведчицей, за что получила в Москве орден Красного Знамени. В нашей прессе — никаких подтверждений или опровержений. И вообще многие годы имя Ольги Чеховой у нас не упоминалось. Генерал Берзарин в ответ на мои расспросы только усмехнулся и молча приложил палец к губам. Теперь мы знаем: да, действительно, Ольга Чехова была нашей разведчицей, оказавшей России в годы войны немалые услуги.
В конце мая обстановка в Берлине заметно обострилась. Стало известно, что в ближайшие дни в город войдут военные части западных держав и что Берлин будет поделен на четыре сектора. Среди немецкого населения из-за отсутствия точной информации, которой, кстати сказать, не располагали и мы, рядовые сотрудники Главной военной комендатуры, активизировались гитлеровские группировки. Немногочисленные, но отчаянные «вервольфы». Появились листовки, призывающие к «беспощадной борьбе с большевистскими оккупантами». По ночам стали постреливать.
31 мая в городской печати и на уличных плакатах было опубликовано обращение обербургомистра «К населению Берлина!» Доктор Вернер предупреждал, что им будут приняты «суровые, но справедливые меры против всех тех, кто нарушает мир и порядок в нашем городе, кто хочет преградить нам путь к возрождению». Обербургомистр объявил, что «каждого, совершившего вооруженное нападение на военнослужащего Красной Армии или поджог в городе, ждет заслуженная кара. Он будет лишен жизни… И отправит за собой в могилу 50 бывших членов нацистской партии». (Надо сказать, что столь жестокие меры возымели должное действие.)
В тот же день по Берлину был расклеен приказ генерала Берзарина: ко второму июня на всех квартирных балконах, в окнах предприятий и общественных зданий вывесить определенных размеров государственные флаги СССР, США, Великобритании и Франции — в комплекте по четыре флага.
Самым простым для берлинцев было изготовление советских флагов. Спарывали с нацистских красных полотнищ белый круг с черной свастикой, и получалось то, что надо. Много сложнее было с американскими и английскими флагами. Количество белых звездочек на флагах США колебалось от десяти до ста. На английских флагах был разнобой в расположении и числе красных и синих полос, на французских — в чередовании и ширине триколора. Но так или иначе весь город в назначенный день пестрел яркими флагами и флажками.
Еще в начале мая генерал Берзарин получил указание из Москвы о всемерной помощи городским религиозным общинам, особенно тем, которые подвергались преследованиям в годы нацизма. Не знаю почему, но генерал в качестве своего уполномоченного по церковным делам назначил меня.
Поскольку я был, хотя и не воинствующим, но все-таки многолетним атеистом, мне пришлось срочно знакомиться с историко-религиозной литературой, в первую очередь касающейся различных периодов развития и положения церкви в Германии.
Еще до моего приезда в Берлин 11 мая с помощью нашей комендатуры прошла первая служба в еврейской синагоге, которая нашла временный приют в еврейской городской больнице. Начали действовать евангелическая, католическая и православная церкви, разместившиеся на первых порах в полуразрушенных зданиях.
В середине мая генерал Берзарин послал меня к главе берлинской евангелической церкви Отто Дибелиусу, который был только что удостоен сана епископа. До этого он именовался «генерал-суперинтендантом», что могло у многих из нас вызвать подозрение, будто он служил в гитлеровской армии.
После довольно продолжительной и вполне дружелюбной беседы, во время которой Дибелиус, в частности, живо интересовался положением русской Православной Церкви в Советском Союзе, я вернулся в комендатуру и доложил генералу Берзарину о просьбах и пожеланиях епископа.
Через несколько дней Дибелиусу были отправлены рулоны черной и белой материи, красное вино для причастий, свечи и сотни экземпляров Евангелия на немецком языке, привезенных откуда-то из провинции.
Сложнее было тогда наше отношение к немецкой католической церкви. Мы знали, что в середине 1933-го года был опубликован в Германии так называемый «Имперский конкордат», которым немецкая католическая церковь поддержала гитлеровский режим. Известно было, что 26 июня сорок первого года католические епископы опубликовали Пасторское послание, в котором говорилось: «При исполнении трудного долга нашего времени, при суровых испытаниях, которые выпадут на вашу долю как следствие этой войны, пусть даст вам силы и утешение то, что вы служите не только Отечеству, но и исполняете святую волю Божию». Было опубликовано и еще немало пасторских посланий, выдержанных в том же духе всемерной поддержки гитлеровских захватчиков.
Но мы знали и о том, что некоторые видные представители католического духовенства, как, например, мюнхенский кардинал Михаэль фон Фаульхабер, оказывали сопротивление гитлеровскому режиму и подвергались суровым преследованиям.
Существовавшая в Берлине русская православная Церковь имела уже прямые связи с Москвой и все свои проблемы решала без помощи нашей комендатуры.
5 июня Берлин был разделен на четыре сектора, главная военная комендатура прекратила свою деятельность. Теперь стало четыре комендатуры, объединялись они штабом Межсоюзной комендатуры, который расположился в Западном Берлине. Штаб этот возглавляли поочередно военные коменданты секторов. Границ между секторами тогда не было. Берлинские жители и мы, военнослужащие, могли свободно передвигаться по всему городу, так что в любом секторе можно было встретить и наших земляков и наших западных союзников. Но так продолжалось не очень долго.
Комендатуру нашу перевели в центр города, а нас из частных немецких квартир переселили в пансионат; хотя у каждого была отдельная комната, но умывальники и туалеты находились где-то в конце коридоров. По ночам в нашем пансионате часто можно было встретить полуголых или совсем голых молодых немок, которые никак не могли найти комнату, из которой они только что вышли.
Мне же удалось найти частную квартиру вблизи от нового здания комендатуры. Один мой фронтовой друг установил там спецтелефон, так что я мог звонить даже в Москву.
Но 16 июня случилось трагическое событие. Во время служебной поездки по Берлину погиб генерал Берзарин. Ехал он на мотоцикле, и его сшиб наш военный грузовик.
Генерал-полковник Николай Эрастович Берзарин навсегда остался в памяти тех, кто знал его лично. Это был порядочный, умный, бесстрашный и решительный человек, всегда готовый прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. А тогда таких было немало.
Немцы до сих пор с огромным уважением и симпатией вспоминают того, кто сделал возможной встречу победителей и побежденных ТАКОЙ, какой она была весной сорок пятого в поверженном Берлине.
А потом пришли строгие приказы: нас переводили чуть ли не на казарменное положение и запрещали несанкционированное начальством общение с немцами и нашими западными союзниками. Нарушение этих приказов каралось как попытка измены Родине.
Весна 45-го для меня закончилась…
Владимир СтеженскийТри встречи[2]
Шел октябрь сорок второго года. Наша 383-я стрелковая дивизия, где я был тогда помощником начальника разведотдела и одновременно военным переводчиком, вела бои в предгорьях Кавказа, северо-восточнее Туапсе. Бомбили и обстреливали нас со страшной силой. А наши самолеты здесь не появлялись. Бомбежки начинались с самого рассвета, потом педантичные немцы устраивали себе, а заодно и нам «обеденный перерыв» с той лишь разницей, что они получали вполне приличный паек, а мы, поскольку наши тыловые части, как это слишком часто бывало, где-то застряли, занимались самопропитанием.
А после «обеда», когда опять начались бомбежки и артиллерийские обстрелы, ко мне в блиндаж привели немецкого офицера. Редкому в то время немецкому пленному, да еще в чине лейтенанта, было двадцать восемь лет. Беседа наша, которая называлась тогда «опросом пленных» — допросы были введены в нашей армии позже, — поначалу никак не клеилась. На все мои попытки получить от него информацию, касающуюся нашего непосредственного военного противостояния, Франц Леман (так звали этого офицера) отвечать отказывался, ссылаясь на воинскую присягу и офицерскую честь.
Более содержательным оказался наш разговор на литературные темы. Выяснилось, что Франц Леман довольно неплохо был знаком с русской классической литературой, а в числе своих любимых немецких писателей назвал не упоминаемых в гитлеровской Германии Генриха Гейне и Томаса Манна. К большому удивлению Лемана, я достал из своей полевой сумки маленький сборник стихов Гейне на немецком языке.
Перед тем как отправиться в тыл под охраной двух наших разведчиков, Леман достал из кармана фотографию молодой женщины, что-то написал на обратной стороне и передал мне: «Ее все равно отберут и уничтожат ваши комиссары. Там мой берлинский адрес. В этой войне Германия победит, а вы, если останетесь живы, попадете к нам в плен. Тогда дадите о себе знать, я вам помогу».
Я посмеялся, сказав, что в Берлин первым из нас приду все-таки я. И постараюсь найти его жену и передать ей привет от Франца.
Прошло почти два года. Войска наши освободили Крым, а моя дивизия получила почетное наименование Феодосийская. В начале июня сорок четвертого года меня временно откомандировали к начальнику офицерского лагеря немецких военнопленных под Симферополем.
Когда я туда приехал, был жаркий солнечный день. Немецкие военнопленные сидели на скамьях возле бараков и занимались знакомым нам тогда всем делом: уничтожали вшей.
Проходя мимо барака, я вдруг услышал: «Господин старший лейтенант, не узнаете меня?» Боже мой, это был Франц Леман, загорелый, упитанный, вовсе не похожий на наших истощенных военнопленных, которым удавалось иногда вырваться из немецких лагерей.
«Какими судьбами вы здесь? Ведь еще два года назад вы были у нас в плену». Леман рассказал, что когда его вели в наш тыл, началась очередная бомбежка и ему удалось бежать. Он вернулся в свою часть, продолжал воевать, дошел до Севастополя, но там опять был взят в плен. «Да, — сказал он, — теперь я думаю, что я был не прав. Вы первым придете в Берлин».
Прошел еще один год. В мае сорок пятого я оказался в Берлине в качестве переводчика первого советского коменданта города генерала Берзарина. В первый же свободный от дежурства день я отправился в город по адресу, данному мне Леманом. Я нашел эту улицу в одном из центральных районов Берлина, пытался найти дом, но почти все дома на этой улице были превращены в развалины. И среди них дом, где когда-то жил Франц Леман.
На сохранившихся остатках стен белели бумажные листки, на которых бывшие жильцы этих домов сообщали свои новые адреса. Я внимательно просмотрел объявления и обнаружил новый адрес жены Франца Лемана. В тот день я уже не успевал туда добраться: в Берлине общественный транспорт тогда не работал. Через неделю, достав трофейный велосипед, я отправился в Западный Берлин, где нашла пристанище жена Лемана. Когда я передал ей фотографию от мужа и рассказал о наших с ним встречах, радости ее не было предела. «Будем надеяться, что ваш муж жив и скоро вернется домой». Я оставил ей свой берлинский адрес, попросив написать мне о каких-нибудь вестях от Франца.
Прошло еще два года. В Берлине уже давно работали почта, телефон, городской транспорт. И вдруг я получаю письмо от Франца Лемана из Западного Берлина. Он и его жена приглашают меня в следующее воскресенье на обед или на ужин, как мне удобнее. И сообщают свой номер телефона.
Я им звоню, договариваемся о встрече. Поскольку год был тогда трудный — карточная система, скудный паек, я с помощью нашего военторга набрал с собой солидный пакет. Но то, что я увидел там на их столе, меня просто сразило, таких деликатесов даже на приемах у советского коменданта я не видывал. Уже тогда разница между Западным и Восточным Берлином была видна, как говорится, невооруженным глазом.
Но не в этом дело. Мы встретились как друзья, хотя и воевали столько лет друг против друга. Франц рассказал, как в русском плену наши «бабушки», как он называл русских женщин старше тридцати лет, делились с немецкими пленными последним куском хлеба и вареной картошкой.
«Я надеюсь и верю, что эта война была последней между нашими народами, — сказал Франц, поднимая свой бокал с моей московской водкой, — мы должны быть вместе и вместе расчищать оставленные войной завалы и у вас, и здесь, в Германии». Мы обнялись и пожали друг другу руки.
…А через несколько дней я был уже демобилизован и вернулся домой, в свою родную Москву.
Владимир СтеженскийИллюстрации
Слева направо: Лёша Постников, Жора Хольный, Володя Стеженский, Володя Галюк.
Мэри на даче в Загорянке.
Друг Артур Мишке.
В. Стеженский и В. Галюк перед призывом в армию, 1939.
На фото надпись автора: «Вовку уже „забрили“».
На побывке в Москве. В. Стеженский и В. Галюк, лето 1940.
В. Стеженский, 1944.
На берегу моря с Петром Жагелем.
Керчь, март 1944.
В. Стеженский и П. Жагель.
Феодосия, лето 1944.
С фронтовыми друзьями.
Слева направо: В. Стеженский, И. Юдаков, И. Крючков, 1945.
На сборах военных переводчиков. Польша, март 1944.
В. Стеженский шестой слева в верхнем ряду.
Фронтовые подруги (слева Зина), 1943.
Маргит, 1944.
Соня Семенова, март 1945.
В. Стеженский с Ниной, 1948.
На фронте в лесу за Одером с И. Крючковым.
Германия, апрель 1945.
В, Стеженский перед наступлением на Берлин, апрель 1945.
Генерал К. Провалов, командир 383-й шахтерской дивизии.
Начальник разведки И. Юдаков.
Германия, Франкфурт-на-Одере, апрель 1945 г.
И. Крючков, В. Стеженский, И. Юдаков (погиб при взятии Берлина).
Германия, Франкфурт-на-Одере, апрель 1945.
Берлин, станция подземки «Ноллендорф-платц».
Серия открыток 1945 года: «И новая жизнь возрождается из руин».
Берлин, Потцдамер Платц.
Серия открыток 1945 года: «И новая жизнь возрождается из руин».
Берлин, Вильгельмсхалле возле ZOO.
Серия открыток 1945 года: «И новая жизнь возрождается из руин».
Берлин, Курфюрстендамм.
Серия открыток 1945 года: «И новая жизнь возрождается из руин».
Берлин, 1945.
Фото из журнала «Воскресенье. Новая Россия», № 2, 1995.
Берлин, 1945.
Слева — генерал Берзарин.
Фото из журнала «Воскресенье. Новая Россия», № 2, 1995.
Старший лейтенант В. Стеженский после войны, Берлин.
Берлин, Карл-Платц, 1945.
На фото надпись автора: «Дом, в котором я жил».
Берлинская военная комендатура, 1945.
На фото надпись: «Отдел народного образования, где я работал».
На союзной конференции (в центре — В. Стеженский).
Берлин, октябрь 1946.
Тося, январь 1945.
В гостях у И. И. Захарова.
Потсдам, октябрь 1946.
Берлин, Унтер-ден-Линден.
Надпись автора на открытке: «Недалеко от этой улицы находится место моей работы. Так это выглядело до войны. Теперь все эти рестораны и кафе превращены в почерневшие развалины, но движение такое же оживленное».
Владимир Стеженекий.
Берлин, ноябрь 1946.
Встреча одноклассников.
Москва, 1949.
Встреча одноклассников.
Москва, 1949.
Примечания
1
Впервые напечатано в журнале «Воскресенье. Новая Россия», № 2, 1995.
(обратно)2
Впервые напечатано в газете «Вечерняя Москва», 08.06.93.
(обратно)

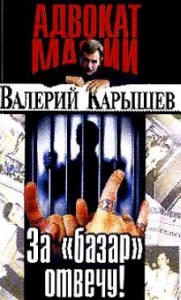


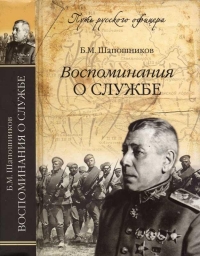

Комментарии к книге «Солдатский дневник», Владимир Иванович Стеженский
Всего 0 комментариев