Петров И. И.
Четверть века в Большом. Жизнь. Творчество. Размышления.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Я долго колебался, писать ли мне эту книгу - книгу воспоминаний о работе в Большом театре, о гастролях в Советском Союзе и за рубежом, о многочисленных интересных встречах. Мне хотелось поделиться мыслями о творчестве, стать полезным молодому поколению исполнителей. В конце концов я решил, что должен это сделать. Выступая на сцене более тридцати лет, из них свыше двадцати семи - в Большом театре, посетив множество российских и зарубежных театральных и концертных залов, я, по-моему, заслужил право на встречу с вами, дорогие читатели. Кроме того, ко мне часто обращаются с просьбами рассказать о своей жизни, впечатлениях. Впечатлениях не только певца, но и своего рода путешественника, исколесившего весь мир.
В 1990 году я написал эту книгу. Но в последующие годы российской, во многом драматической, жизни, когда зачастую меркантилизм преобладал над духовными человеческими ценностями, мне порой казалось, что надежды на издание напрасны.
Но все же в 1997 году книга вышла очень малым тиражом благодаря людям, любящим искусство, в том числе благодаря усилиям поэта и физика В. В. Канера,- за что я всем был весьма признателен. Естественно, после выхода первого издания книги в нашей жизни произошли изменения, в связи с чем в это издание внесен ряд дополнений и уточнений.
Я начну с воспоминаний о своем детстве. Ведь формирование каждого человека, в том числе артиста, начинается с самых ранних дней его жизни и оказывает влияние на всю последующую деятельность и характер творчества. Поэтому сейчас мы перенесемся в Иркутск - город, где я родился и где жили мои родители.
Иркутск. Двадцатые годы
Период моего детства совпал с тяжелым временем в жизни нашей страны и родного города. Только что были изгнаны последние части армии Колчака, американские и японские войска. Однако сам Иркутск и вся область оставались прифронтовым районом Забайкалья и Дальнего Востока, где шла гражданская война. Город был разрушен, и жизнь была чрезвычайно тяжела.
Однако я тогда был слишком мал, и все те трудности, которые, видимо, выпали на долю моих родителей, никак на мне не отразились. Мои детские годы окрашены для меня только в самые светлые и радостные тона.
Мы снимали домик у немца Отто Карловича Юнга. Этот домик был хоть и небольшой, но достаточно вместительный. В нем находилась маленькая мастерская, которую сделал отец и где он с братьями работал, гостиная, спальня родителей и детские. Моя мать, Прасковья Федоровна, и отец, Иван Иванович Краузе, были замечательными родителями и создали хорошую, дружную семью. В ней росли три мальчика, Владимир, Евгений и я, и две девочки, Анастасия и Галина. Я был младшим в семье (я родился 23 февраля 1920 года). Не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь у нас ссорился или выяснял отношения.
Кроме своих родителей, которых, конечно, я очень любил, я в то же время был привязан к своей тетке, родной сестре моей мамы, Анастасии Федоровне Балахниной. Она тоже любила меня, и я с удовольствием проводил у нее по нескольку дней, а случалось, и недель. У Анастасии Федоровны не было детей, она относилась ко мне как к сыну и выполняла все мои желания.
Первые мои детские впечатления связаны с Ангарой, ведь мы жили на самом ее берегу. Стоило лишь перейти через дорогу, спуститься вниз, и ты оказывался у воды. Ангара поражала меня своей шириной (от одного берега до другого - целый километр) и хрустально чистой водой. Когда мы, мальчишки, заходили на понтонный мост (тогда еще не было железобетонного моста через реку) и смотрели в воду, то видели ясно дно, камни на нем, проплывающих рыб. Иркутяне прямо из реки брали воду для питья, и вкус у нее был потрясающий. Славилась Ангара и своим быстрым течением: редкий пароход мог подняться вверх к Байкалу. Ангара несла свои воды так стремительно, что даже в жаркие летние дни не прогревалась выше восьми-девяти градусов. Все же мы, мальчишки и девчонки, целый день проводили в реке, и как мы не простужались - просто удивительно. Одним из любимых наших занятий было бегать по мелководью с палками, на конце которых прикреплялась вилка, и вот такой самодельной острогой мы ловили бычков-широколобок к обеду нашей кошке.
Иногда мы по понтонному мосту переходили через Ангару, спускались по течению немного вниз и оказывались там, где впадает в Ангару Иркут, от которого пошло название нашего города Иркутска. Вода в Иркуте теплая, как парное молоко, и было видно, что течения двух рек - светлое, прозрачное Ангары и темное, как кофе или какао, Иркута - не сразу смешивались. И хотя в Иркуте купаться было очень приятно, эта река слыла опасной. Ее сплошь песчаное дно все время менялось: там, где вчера было мелко, сегодня могло быть глубоко, вода закручивалась, образуя воронки, и случалось, что люди тонули. Но мы об этом знали и вели себя осторожно.
В Иркут впадала речка Кайя, маленькая, типа Клязьмы или Истры, только еще мельче, с теплой-теплой водой. Купаться в Кайе было одно блаженство.
В сторону Байкала по Ангаре встречались острова, и мы плавали туда на лодках. Я вспоминаю, какие там были поля цветов ирисов, лилий, которые назывались "царскими серьгами". Это очень красивые, довольно высокие цветы с пучком сережек - ярко-оранжевые, ярко-красные с темными крапинками, но, к сожалению, ни те, ни другие не имели запаха. Почти на каждом острове, посередине его, лежало озерцо, в котором бил теплый ключик, поэтому и вода в нем была очень теплая; назывались эти озерца "курья". Мы сначала купались в Ангаре, а потом прыгали в курью, где нежились в теплой воде.
Как-то после одной из поездок на острова в компании девочек, когда мы уже поплыли на лодке домой, одна из моих сестер взяла меня на руки, опустила в воду и оттолкнула. Я хотел схватиться за лодку, а она уже отошла. Пришлось мне плыть, а лодка все отплывала. И так я доплыл до берега. Конечно, я очень разозлился, но девочки утешили меня: "Ты раньше все около берега плавал, все за дно держался, а теперь научился плавать по-настоящему. Смотри, чуть не километр проплыл".
Все эти воспоминания так живо встают в моей памяти! Вообще те двадцатые годы, кажется, были совсем недавно.
Еще раз вернусь к красавице Ангаре. Река ведь не только украшала город, мы не только пили ее замечательную вкусную воду, но она и кормила нас. Мой отец и старшие братья были настоящими профессионалами-рыболовами. Они ловили исполинских тайменей - речных лососей.
Однажды отец привез тайменя, который весил тридцать два килограмма! Старший брат привозил иногда по три, по четыре такие рыбины. А Евгений больше специализировался на ловле ленка, тоже из породы лососевых, рыбы очень вкусной, достигавшей порой килограммов восьми - десяти. И, кроме того, он ловил знаменитого хариуса, который водился в изобилии. Это рыба типа форели. Она и похожа на форель - вся в черных пятнах, очень красивая.
Я помню, что каждый раз, когда должны были прийти гости, отец говорил: "Ну-ка, Женька, бери удочки, беги, поймай харюсков".
И вскоре Женя приносил десятка полтора этих рыб, граммов по четыреста-шестьсот.
Самый лучший клев рыбы начинался с наступлением холодов, зимой, а так как замерзала Ангара поздно, в середине января, то последние месяцы года использовали все рыбаки. Они выезжали на реку, вставали на якоря, и у каждого в лодке находился таганок с углями, чтобы погреть руки. Тогда не существовало лески для спиннингов, поэтому ее заменяли металлической, спаивая стальные балалаечные струны. Такая леска была очень крепкая, но могла лопнуть, если "захлестывалась". Нужно было за этим очень внимательно следить.
Каждую свежепойманную рыбу обваливали в снегу, и она замерзала. Ее ставили потом в холодный чулан мордой вниз к стенке, и этот рыбий провиант мы могли на базаре поменять на молоко и другие продукты. А когда нужно было приготовить обед, брат или отец шли в чулан, брали пилу и кусок отпиливали. Варили уху, жарили рыбу, мама пекла чудесные пироги с тайменем. Ведь в нем, кроме хребта, нет никаких костей. Огромные пироги во весь противень с рисом и яйцами пекли в печке и почему-то ели с квасом, что считалось очень вкусным - и правда было вкусно.
Маленького меня не брали на рыбалку. Но если рыболовные принадлежности оставались во дворе без присмотра, то я хватал их, бежал к реке, и через несколько минут все эти снасти распутать уже было невозможно. Мне за это, конечно, попадало, но со временем я тоже стал страстным рыболовом. И до сих пор очень люблю ловить рыбу. Три последних года, которые я отдыхал в санатории около Тольятти, я завоевывал первое место по рыбной ловле и даже получил за это приз.
К самому городу Иркутску подходила тайга, поэтому нередко на окраинах города появлялись косолапые пришельцы.
Я помню время, когда наша семья ездила на заготовку грибов, ягод или кедровых орехов. Одну или две лодки прицепляли на канате к моторной, и все семейство размещалось в них. Здесь же находились три-четыре кадушки для засолки грибов, соль, пряности, листья разных "вкусных" растений.
В основном мы брали белый груздь. Выбирали грузди среднего размера, не перезревшие, тут же на реке их чистили и разделывали, промывали, складывали в кадушки с солью и специями, кадушки закрывали сверху деревянными кругами и везли домой. Когда подъезжали к дому, нужно было подняться от речки вверх по крутому берегу. Тогда подкладывали доски и волоком тащили бочки наверх, а потом опускали их в погреб со льдом.
Ездили мы и за ягодами. Самые ягодные места находились на побережье Байкала. Там было много черники, смородины, но вручную собирать их было трудно, и папа сделал ковшики из толстой проволоки наподобие гребня, его заводили в кустик, приподнимали, и в нем оставались одни ягоды. Помню, однажды мы собирали ягоды и вдруг услышали какое-то кряхтение и чавканье. Оказалось, что рядом промышлял мишка. Мы закричали от страха, но он испугался не меньше нас и убежал.
Собирали мы и кедровые орехи, отправляясь за ними в одни и те же знакомые места. Подниматься за шишками по голому стволу кедра трудно и небезопасно. Поэтому сооружали специальные колотушки с длинными ручками, которыми били по дереву, и с него сыпался град шишек. Нужно было только беречь голову. Кедровых шишек собирали по нескольку мешков, потом привозили их домой, высыпали и шелушили. Кедровые орехи опять собирали в мешки и складывали в сухой чулан. Когда кому-нибудь из нас хотелось орехов, мы поджаривали их на сковородке, и они становились очень вкусными. И еще у нас в Сибири распространена была жвачка из кедровой серы. Смолу, стекавшую с дерева, собирали: она очень полезна для зубов - не дает образоваться камню, и мы всегда с удовольствием ее жевали (не очень думая о камне).
Запомнились мне и разные бытовые сценки тех лет. Например, как у нас на рынке крестьяне торговали молоком, которое привозили в мешках замороженным, насаженным на лучины, как эскимо. Молоко наливали в эмалированную кастрюлю с лучиной, выставляли на мороз, а потом вынимали, складывали в мешок и везли на базар.
Недалеко от нашего дома, на берегу, находились рыбные ряды, специально выстроенные бурятами. Здесь раскладывали привезенную рыбу под навесом от дождя. Буряты прибывали на своих парусных баркасах издалека, с реки Селенги. Они плыли через Байкал по Ангаре и привозили в Иркутск знаменитый байкальский омуль и селенгу - более крупную разновидность омуля. Эта рыба водилась в Селенге, куда шла на нерест, и от этой же речки получила свое название. Мы, вездесущие мальчишки, которым нужно было все знать, знакомились с бурятами, и те относились к нам очень дружелюбно. Мы поднимались на их шхуны, все в них рассматривали, и однажды я увидел на одной из шхун на большом кукане несколько живых осетров килограммов по двадцать пять, по тридцать. Их тоже привезли на продажу.
Одно из ярких впечатлений детства - ледостав Ангары. Это происходило, как я уже говорил, в середине января. Помню - ночью начинался шум оттого, что торосы нагромождались друг на друга. И когда мы утром подходили к реке, нашему взору открывались фантастические ледяные замки, которые возвышались на ней.
Когда Ангара замерзала настолько, что по ней можно было ездить на лошадях, на реке устраивались ледяные горы. Они были не только изо льда. Во льду делали проруби, вставляли в них четыре бревна и, когда они вмерзали в лед, обшивали тесом и делали на них площадку из досок, к которой вела лесенка. А с другой стороны шел пологий спуск, политый водой. На этих горах мы проводили очень много времени.
Отец работал инженером на железной дороге. Но он был еще и замечательным мастером на все руки: занимался слесарным и токарным делом, работал как столяр и плотник. По договоренности с местным спортивным обществом "Динамо" он изготовлял норвежские коньки. Мастерил отец и всевозможные рыболовные снасти: блесны, крючки, из эбонита и бакхета вытачивал катушки для спиннингов. Все это он делал так тщательно, что трудно было отличить самоделки от заводского производства. Это тоже был приработок, который в семейном бюджете составлял немаловажную статью дохода.
Навыки различных ремесел передались и мне. Правда, когда я был еще мальчишкой, я не очень интересовался занятиями отца. Я любил играть в футбол или в бабки. Еще была интересная игра, которая называлась "жестка". Из шкуры оленя или какой-нибудь другой вырезался кружочек, к нему прикреплялся кусочек свинца, и эту жестку нужно было подбрасывать ногой как можно больше раз. Но когда в Москве, уже будучи артистом Большого театра, я стал строить дачу, вот тут и проявилось умение, переданное мне отцом.
Мои братья помогали отцу в его токарных и слесарных делах, работали по переезде в Москву по этим специальностям на заводах, но потом тоже стали певцами.
А сестры, воспитанные, хорошие девочки, помогали матери по хозяйству. Наша дружная семья притягивала многих людей, и дом всегда был полон друзей и родственников. Среди подруг моих сестер оказалась будущая блестящая певица, которая много лет пропела в Радиокомитете, Надежда Апполинариевна Казанцева, народная артистка РСФСР. Мы с ней были членами художественного совета Всесоюзного радио и, встречаясь, часто вспоминали наш Иркутск.
Не могу не заметить, что в Иркутске выросла и другая замечательная певица - Варвара Дмитриевна Гагарина, также народная артистка РСФСР, с которой я подружился, когда поступил в Большой театр. А в организации в Иркутске "Молодого театра" в 1920 году принимал активное участие будущий известный актер и режиссер Николай Павлович Охлопков. Когда он ставил у нас в Большом театре "Декабристов", я напомнил ему, что мы земляки. Он так обрадовался, что бросился ко мне с объятиями.
...Не забуду праздники, которые проводились у нас в доме. Например, веселый радостный праздник Пасхи или Рождество. Мы, ребята, ждали елку, и ее, огромную, пушистую, привозили из леса. Она возвышалась до потолка, восхищая игрушками и канителью, лентами и грецкими орехами, которые мы красили в золотой и серебряный цвет. Висели конфеты, на ветках горели свечки, а внизу стояли Дед Мороз со Снегурочкой и лежало много всяких подарков.
Сибиряки, крепкие, трудолюбивые, мужественные люди, любили и отдыхать. Праздничное застолье длилось обычно по три, четыре дня. Время проходило в шутках и разговорах, в пении песен: "Славное море", "Глухой неведомой тайгою", про Ермака, которыми я заслушивался и думал: "Какая же красота, когда поет целый хор!"
В нашей семье вообще очень любили пение и театр. Ни до революции, ни в первое десятилетие после нее в Иркутске не было постоянной артистической труппы. Но в помещении городского театра, внешне и внутренне красиво отделанного, с хорошей акустикой, часто выступали приезжие драматические и оперные коллективы.
Мать и отец не пропускали эти гастроли. Они старались не только выразить внимание и благодарность особенно понравившимся им артистам, но и подружиться с ними, поэтому многие певцы бывали у нас дома. Прошло уже более шестидесяти лет, а я так живо помню, как к нам приходил замечательный тенор Лабинский. В те годы он пел в Мариинском театре в Ленинграде, в Большом - в Москве и, наряду с Собиновым, исполнял ведущие роли. Огромного роста, красивый, всегда веселый и улыбающийся, он, когда входил, произносил одну и ту же фразу: "К вам пожаловал тенор исполинский, Андрей Маркович Лабинский".
Когда спустя много лет мы переехали в Москву, дружба с ним не прервалась. Андрей Маркович бывал у нас в гостях, а родители бывали у него. Приходили к нему и мои братья и сестры. У братьев были хорошие голоса баритоны, у Анастасии - высокое меццо-сопрано, у Галины - сопрано. Они занимались у Андрея Марковича, брали у него дома частные уроки. И иногда меня, подростка (мне только исполнилось двенадцать лет), брали с собой. Я сидел в уголке и слушал. Андрей Маркович был доброжелателен, с удовлетворением занимался, уроки его проходили очень интересно, и когда он провожал к двери очередную группу учащихся, то говорил: "Вы меня не забывайте. Адрес мой известен. Моховая восемь, милости просим".
У Лабинского было много хороших учеников, которые потом стали известными певцами. Например, Владимир Николаевич Прокошев, о котором я буду рассказывать позже. Он пел сначала в провинциальных театрах, потом в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского, а затем и в Большом театре. Он часто и систематически занимался с Андреем Марковичем. И какая роковая судьба! Во время войны гитлеровцы бомбили Москву, совершали налеты на город, и в один из таких дней Прокошев занимался с Лабинским у него на квартире. Когда объявили воздушную тревогу, Прокошев спустился в бомбоубежище. А Андрей Маркович не захотел этого сделать. "Я здесь останусь,- сказал он.- Не пойду, ничего не случится".
Но случилось. Бомба попала в дом, и он вместе с женой был погребен под грудой камней.
Вспоминаю, как восхищались мои родители и другим певцом, которого они слышали в спектаклях "Фауст" и "Русалка",- замечательным басом Василием Михайловичем Луканиным. В ту пору это был очень известный артист. Правда, он пел не в Москве, а в Киеве, Харькове, Ленинграде. Он тоже приходил к нам в гости. Когда певец закончил свою карьеру в Кировском театре, то стал профессором Ленинградской консерватории. Один из его учеников - Евгений Евгеньевич Нестеренко.
Много позже судьба дала мне возможность вернуться к воспоминаниям детства, которые оказали, быть может, подспудное влияние на весь мой творческий путь.
Однажды я, уже овладев значительным репертуаром в Большом театре, поехал на гастроли из Москвы в Ленинград. Там я пел Кочубея в "Мазепе", Мефистофеля в "Фаусте", Руслана в "Руслане и Людмиле". Во время антракта в "Руслане" ко мне в артистическую вдруг входит высокий стройный человек, уже пожилой, почти седой, и вдруг говорит:
- Иван Иванович, вы меня, наверное, не помните, это естественно, вы были тогда очень маленьким, а я вас хорошо помню. Я бывал у вас в Иркутске дома, меня зовут Василий Михайлович Луканин.
- Мне, конечно, трудно вспомнить, как вы выглядели тогда,- отвечаю я,- но помню, как мои родители восхищались вашим пением.
Эта встреча доставила мне много радости.
В шестидесятые годы я приехал на свою родину с концертами. Иркутск, который я не видел тридцать лет, очень похорошел. Вместо понтонного деревянного моста построен красивый железобетонный мост, соединяющий две части города. Улицы асфальтированы, набережная покрыта бетонными плитами и парадно оформлена.
И все же, гуляя по городу и его окрестностям, я испытывал чувство огромной горечи! К сожалению, Ангарская плотина сделала свое двоякое дело. Конечно, хорошо, что она стала давать большую энергию, но вода в реке теперь почти стоячая и теплая. Поэтому чуть ли не вся высокосортная рыба исчезла, появились лещ, окунь, плотва и много другой сорной рыбешки. Любимая моя Ангара сегодня неузнаваема: менее полноводная и не такая чистая, как раньше.
Я привез с собой спиннинги и удочки и мечтал половить рыбу, но решил сначала сходить на разведку. Вышел к реке, посмотрел - вдоль берега стояло человек двадцать рыбаков. Я их всех обошел, но ни у одного ничего не увидел. Мне рассказали, что один рыболов несколько дней назад поймал килограмма на два ленка. Таков был улов на всех. Вот как человек преобразовывает природу.
Больно мне было видеть и окрестности города. Большая часть леса пришла в негодность, много стоит сушняка и сгоревших деревьев, кедр исчез.
Руководители культуры Иркутска решили устроить для меня небольшую экскурсию на Байкал и сначала по дороге показали новый очень красивый город Ангарск, а от него катер на подводных крыльях помчал нас к озеру. Оказалось, что вода в нем такая же прозрачная, как и раньше, но когда мы вышли на берег, я ужаснулся. Весь он был забросан консервными банками, целыми и разбитыми бутылками, всюду зияли черные дыры - раны от бывших костров. Сердце у меня сжималось.
Москва. Тридцатые годы. Спортивные дела
В 1930 году наша семья переехала в Москву. Здесь я стал учиться в пятьдесят седьмой школе Сокольнического района. Потом в школе поменялся номер, и она стала семьдесят шестой, но уже Ростокинского района.
Когда я приехал в Москву и увидел, что ребята-москвичи в девять-десять градусов мороза надевают валенки и меховые шапки, кутаются в теплые пальто, я над ними смеялся. Я ходил в школу в ботиночках, в вельветовой курточке, без всякой шапки, рукавиц, без пальто, и все говорили: "Приехал сумасшедший, посмотрите, как он ходит". Так я ходил всю зиму. Но потом, видимо, акклиматизировался, стал болеть, как все эти ребята, и тоже стал тепло одеваться. Я понял, что зря к ним так относился и смеялся над ними.
В тридцатые годы огромное место в нашей стране занял спорт. Мало еще было стадионов, спортплощадок, даже маленьких площадок для волейбола не хватало, тем не менее мы, мальчишки, старались приобщиться к спорту. Я был высокого роста - метр девяносто сантиметров, а весил очень мало - семьдесят три килограмма - худой, как тростинка. Но отличался подвижностью и хорошей реакцией.
На уроках физкультуры мы делали всевозможные гимнастические упражнения, бегали, прыгали, лазили по шведской стенке. Но больше всего нас привлекал футбол. Футбол тогда набирал силу и популярность. Когда мы приходили после уроков домой, то, забросив школьные учебники, собирались во дворе и гоняли мяч. Это доставляло нам огромное удовольствие, чего не могу сказать о жителях дома, так как мы, носясь по двору, поднимали пыль, и очень часто наш футбольный мяч влетал в чье-нибудь окно.
Но в конце концов в нашей школе организовали футбольную команду Мы часто устраивали соревнования с другими школами и даже выезжали за город. Помню, как ездили в Вешняки, которые были тогда пригородом Москвы, играть с местной командой. Там было футбольное поле с воротами по обеим сторонам, а что еще нужно! Ни о раздевалках, ни о душе мы тогда не помышляли. После игры потные, грязные, разгоряченные, но довольные, мы ехали к себе в Москву.
Как-то меня заметил тренер детской команды "Динамо" и пригласил к ним на тренировки: "Может быть, из тебя что-нибудь выйдет". Я пришел. И когда я немножко там поиграл, он мне сказал: "Ты знаешь, у тебя есть хорошие задатки. Но из-за того, что ты все-таки большой, ты должен играть в защите".
И я стал выступать в серьезных играх.
Однако некоторое время спустя случилась беда: я растянул коленный сустав, у меня заболел мениск, и пришлось оставить футбол. Нога болела, наверное, с год, а в это время в школе начали играть в волейбол. Хотя у нас был зал с довольно низким потолком, но мы проводили соревнования на первенство школы среди всех классов. Я попробовал себя в этой игре, и у меня получилось.
У нас в школе сформировалась сильная команда, с которой мы сначала выиграли первенство нашего района, а потом и первенство Москвы. В нем участвовали очень сильные коллективы, но мы победили даже команду Бауманского района, куда входили игроки, потом ставшие очень известными, например Дмитрий Скворцов, Михаил Амалин, Владимир Савин, в честь которого сейчас проводят соревнования. Он был одним из лучших игроков в сборной Союза.
После успехов в школьных соревнованиях я попробовал свои силы в юношеской команде московского добровольного общества "Динамо", тем более что я там уже многих знал, и меня приняли. Мы играли в зале около цирка, на Цветном бульваре. Однако через год Михаил Амалин и Саша Пронин, молодой артист Малого театра, игравшие за юношескую команду "Локомотив", упросили меня перейти к ним.
Коллектив "Локомотива" состоял из четырех мужских, двух женских и двух юношеских команд. Команда мастеров-женщин была изумительная. И когда в Москве организовывали так называемые микстовые игры - в команде участвовали трое мужчин и три женщины,- то тут "Локомотиву" не было равных. Потому что мужчины наши сильно играли в нападении, а женщины показывали чудеса в защите. Они брали неимоверные по трудности мячи, которые наши соперники старались "погасить".
Юношеская команда, куда я вошел, была одной из лучших в Москве, на первенстве общества "Локомотив" мы даже отказались от принятого тогда правила, при котором более сильные команды общества давали фору в несколько очков более слабым, и решили играть только на равных. После того как мы победили во встрече с одной из команд мастеров, за которую играли такие замечательные спортсмены, как Александр Аникин, Вячеслав Фролов и Дмитрий Федоров, меня перевели в эту команду, и я, после Аникина и Федорова, стал третьим нападающим.
Мне исполнилось тогда семнадцать лет. Мы ликовали, выигрывая, огорчались ужасно при неудачах - в общем, жили волейболом. А помогали нам сокрушать грозных соперников огромная дружба, которая связывала всех нас, взаимопонимание. В течение нескольких лет в Москве мы проводили соревнования, в которых не могли победить только команду "Спартак": в ней выступали такие яркие игроки, как Анатолий Чинилин (на мой взгляд, самый лучший волейболист) и сильный, мужественный, прекрасный игрок Владимир Щагин.
Я дружил с Анатолием Чинилиным, и мы назвали его Шаляпиным волейбола. Ведь Шаляпин был необыкновенно разносторонним артистом и певцом, и Чинилин тоже играл и в нападении, и на блоке, и в защите, и в распасовке. Можно было часами следить за его игрой и восхищаться.
Когда я начал учиться пению в Глазуновском училище, о чем я расскажу в следующей главе, то стал петь после игры в душе и в раздевалке. Мои товарищи с удовольствием слушали меня, а потом шутили: "Брось ты волейбол, иди лучше в Большой театр". Они смеялись, конечно, но так потом и вышло.
Со временем передо мной действительно встала дилемма: спорт или пение? И спорт пришлось оставить. Ведь игра в профессиональной команде связана с большими мышечными усилиями, затратами энергии. После игры, когда выходишь с поля мокрый с головы до ног и идешь в душ, можно простудиться от быстрой смены температуры. Для певца это вредно, поэтому серьезный спорт и пение несовместимы. И все же спорт дал мне очень много. Прежде всего незабываемые, волнующие, счастливые минуты. И большущее ему за это спасибо. И еще одно важно. "Волейбол,- сказал как-то Аникин,- немыслим без добрых товарищеских отношений, без взаимной выручки". Спорт формирует характер, и я думаю, что именно те черты характера, которые выработались у меня во время занятий спортом, сказались в моей дальнейшей жизни, при работе в Большом театре. Кроме того, я закалился, всегда был в бодром состоянии, собран, обладал верной быстрой реакцией.
...Конечно, я не мог кому-либо признаться, однако на самом деле мечтал о карьере артиста Большого театра. "Я знаю,- думал я,- это очень трудно и нужен большой труд, но я должен попасть туда". Мечты мои сбылись. И на сцене спорт мне часто помогал. Например, в роли Дона Базилио в "Севильском цирюльнике". Когда в третьей картине второго действия Дон Базилио получает от графа кошелек и приказ тотчас же удалиться, Базилио уходит. Но ему интересно, что сейчас произойдет, поэтому он все время возвращается и снова уходит, напутствуемый пожеланием "Доброй ночи, доброй ночи, уходите поскорее". Но снова возвращается, его опять выгоняют. В последний раз я входил потихонечку, большими шагами и "запнувшись" за что-то, плашмя летел на пол. Это всегда вызывало очень бурную реакцию публики: хохот и гром аплодисментов. За кулисами все подбегали ко мне и спрашивали: "Вы не ушиблись? Как у вас колени? Как у вас локти?" Но ведь я делал это технически правильно, привыкнув падать за мячом в волейболе, и никогда не ушибался.
Или, например, две сцены в "Борисе Годунове". Во втором действии, после разговора с Шуйским, Борис остается один, и ему чудится появление убиенного младенца. "Чур, чур, не я твой лиходей!" - кричит он и грузно падает. Этот эпизод тоже вызывает ответную реакцию публики. Производила впечатление и сцена смерти Бориса. Собравшись с силами, он произносит последние слова: "Я царь еще. Вот царь ваш..." - и, задыхаясь, падает на спину. Потом ко мне тоже всегда подбегали с вопросом, не ушибся ли я. Ведь иногда приходилось падать даже на лестнице: в зависимости от фантазии режиссера эта сцена строилась по-разному. Но везде ее нужно было провести четко и красиво.
Ну а куплеты Мефистофеля "На земле весь род людской"? Заканчивая их, многие певцы выходили на авансцену, другие даже вставали ногой на суфлерскую будку, но мне такой прием казался вычурным. Я подумал: "А что, если на словах "Сатана там правит бал", которые подхватываются хором, я разбегусь, вскочу на высокую бочку, и последнее слово "бал" спою на этом возвышении?" И я именно так проводил всю эту мизансцену и еще взмахивал плащом, который извивался вокруг меня. Это тоже нравилось публике.
Когда я поступил в Большой театр, мне было двадцать три года, и я мог участвовать в любительских спортивных состязаниях. Летом мы обычно выезжали в Дом отдыха Большого театра "Поленово", расположенный на берегу Оки, близ Тарусы, и там я, еще будучи в форме, играл по-старинке очень сильно. Мы даже создали свою волейбольную команду, в которую я вошел как главный нападающий. Вместе со мной играли артисты балета - народные артисты РСФСР Владимир Левашов, Георгий Фарманянц, Вячеслав Голубин и Владимир Преображенский. Пожалуй, нашей команде не было равных.
...Я и сегодня часто вспоминаю своих друзей по спорту. Спорт не помешал, а скорее помог им развить и другие способности и стать полезными людьми для общества. Аникин был послом в Чили и Камбодже, работал начальником отдела в МИДе. Однако уже и перейдя на дипломатическую работу, он продолжал участвовать во всесоюзных турнирах, был занят подготовкой сборной женской команды СССР. Мастер спорта Дмитрий Федоров стал профессором и изобретателем, посвятил себя науке и кандидат технических наук Евгений Егнус.
Как-то состоялась интересная встреча в Доме ученых, где я руковожу вокальным коллективом. На концерте этого коллектива присутствовал один из самых выдающихся волейболистов нашего времени Константин Рева. Это был высокий, подвижный игрок, который прыгал очень высоко и в нападении играл просто здорово. Мы с ним вспомнили нашу юность, что, конечно, всегда доставляет удовольствие.
Теперь я немножко играю в шахматы, но особенно меня увлек бильярд. Я часто ходил в "Метрополь", в "Националь" или в гостиницу "Москва", где с большим удовольствием наблюдал, как играли Н. И. Березин, В. Е. Кочетков, А. П. Миляев. С ними играть я, конечно, не мог, но все-таки постепенно тоже совершенствовался. Долгие годы я играл в Центральном Доме работников искусств, где был председателем бильярдной секции. У нас получилась очень сильная команда, и мы ежегодно выступали на соревнованиях с Домами творческой интеллигенции Москвы. Наши соревнования привлекали всегда много публики. И за все эти годы мы только один раз заняли второе место, а все остальное время были исключительно первыми.
Я увлекался и автомобильной ездой. Ведь это тоже в какой-то степени спорт. За рулем часто совершал дальние путешествия. Например, через Сурамский перевал - в Тбилиси и таким же путем обратно в Москву. Несколько раз ездил в Крым, в Ленинград, в Минск, Киев, Горький.
Как уже говорилось, я всю жизнь был заядлым рыбаком. Люблю ловить рыбу "в проводку" с поплавочной удочкой, с лодки, на которой зачастую приходилось проплыть несколько километров, чтобы найти хорошее место. Кроме того, мне очень нравится и спиннинговая ловля, когда проходишь вдоль берега иногда по шесть, по восемь километров. Бросать блесну, управляться со спиннингом, вытаскивать рыбу - азартное занятие.
Прошло много лет. Мне уже за восемьдесят, но, как о спортсмене, обо мне вспоминали. И когда справлялось 50-летие спортивного общества "Локомотив", меня пригласили на этот вечер. Когда же вспоминали всех спортсменов, то упомянули и меня, сказав, что сегодня здесь присутствует народный артист Советского Союза, лауреат Государственных премий, артист Большого театра Иван Иванович Петров, который в прошлом играл в команде мастеров общества "Локомотив".
По окончании торжественной части ко мне подошел министр путей сообщений Н. С. Конорев и председатель ВЦСПС С. А. Шалаев. Они поздравили меня и сказали, что для них сообщение о том, что я был спортсменом и играл за "Локомотив" - неожиданность. Мне было приятно такое внимание, ведь эти воспоминания юности для меня - одни из самых светлых. Хорошие, счастливые были дни!
Федерация волейбола СССР тоже меня не забывает. Относительно недавно она пригласила меня на свое заседание и вручила памятную медаль. На ней изображен в прыжке атакующий волейболист, который замахнулся, чтобы ударить по мячу, а справа надпись: "Пятьдесят лет волейбола СССР".
Театрально-музыкальное училище
имени А. К. Глазунова
До некоторых пор я не думал, что стану профессиональным актером и буду петь на сцене. До семнадцати лет по-настоящему меня волновал только спорт. Физических данных хватало, увлечен был страстно. И вдруг... Как часто это "вдруг" меняет судьбу человека!
"Виновата" во всем оказалась привычка напевать на ходу. Так как мои братья и сестры занимались пением, а я присутствовал на их занятиях, то, хотя и не знал хорошо нотной грамоты, помнил много арий и романсов. Большое впечатление произвело на меня и посещение Большого театра. Мой отец был, как тогда говорили, ударником, за свой ударный труд каждый месяц получал билеты в Большой театр. И лет с тринадцати-четырнадцати я приобщился к оперному искусству: отец часто брал меня на утренники. Тогда же я впервые услышал "Гугенотов" Мейербера - очень красивое по музыке, но и довольно сложное для меня произведение. Это была блестящая постановка, воскрешающая стиль французской большой оперы: много массовых сцен, яркие эффекты. Помню даже исполнителей: Барсову, Степанову, Норцова, баса Бугайского, тенора из Грузии Ангуладзе - замечательных певцов. Я прослушал также оперу итальянского композитора Э. Вольфа-Феррари "Четыре деспота", которая тоже мне понравилась. Побывал на "Псковитянке" Римского-Корсакова с участием Александра Степановича Пирогова. И так увлекся оперой, что только и мечтал, как бы поскорее пойти в Большой театр.
...И вот бегу однажды по коридору (я тогда учился в восьмом классе) и "разливаюсь" в арии Гремина. Неожиданно кто-то поймал меня за рукав.
- Стой, что поешь? - спросил с интересом мой учитель пения Дмитриев.
- Да вроде арию Гремина,- ответил я.
- Какой у тебя слух хороший. Давай попробуем под рояль?
- Давайте,- без всякого энтузиазма согласился я.
Мы тут же пошли в класс, где стоял инструмент, и я под его аккомпанемент исполнил арию Гремина из оперы "Евгений Онегин". Видимо, Дмитриеву мое пение понравилось, потому что он предложил:
- Давай что-нибудь еще.
Под рукой оказались ноты арии Руслана "О поле, поле". Исполнили и это. Впервые в жизни я спел эти арии под рояль, не отдавая себе отчета в их трудности.
- Знаешь что? А давай попробуем спеть эти арии на школьном вечере?
- Давайте,- опять ответил я неуверенно.
Мы несколько раз порепетировали, и я выступил на концерте. После этого я стал неизменным участником всех школьных концертов. Появился свой "школьный Шаляпин". Аккомпанировал на этих концертах мой товарищ по классу Михаил Либов, который стал потом военным врачом, полковником.
В те годы в школе существовало много самодеятельных кружков. Никто не привлекал нас туда силой, всё решали мы сами и были полны энтузиазма. В кружке любителей пения исполняли классическую музыку, романсы, русские песни, арии. В другом кружке читали стихотворения, играли сцены из спектаклей и даже целиком поставили пьесу "Платон Кречет", причем сами делали костюмы и декорации. Платона играл наш старший пионервожатый. Помню, он не хотел надевать парик, а только сильно напудрил волосы. И когда вдруг сделал резкое движение и схватился за голову, с волос посыпалась пудра, что, конечно, вызвало дружный смех в зале.
Наши увлечения не проходили мимо внимания учителей, особенно учителя математики. Он был очень строгий, хотел привить нам любовь к своему предмету, и, если мы что-то не доучивали или не понимали, это причиняло ему настоящую боль. Его звали Георгий Ефремович Мухин. Из первых букв его имени и фамилии мы сразу сочинили прозвище Гем и даже придумали такую шутку: "Лемма - родственница Гема". Мне математика никак не давалась. И когда Георгий Ефремович вызывал меня к доске, а я начинал путаться, то он с укоризной на меня смотрел и говорил: "Знаешь, тебе лучше идти в Большой театр". Прошло время, закончилась война, я уже пел в Большом театре, и меня пригласили на вечер-встречу в нашу школу. Я пришел, собрались бывшие ученики, меня попросили спеть, а после этого Георгий Ефремович подошел ко мне и говорит: "А ты помнишь, как тогда у доски, если ты ничего не знал, я тебе говорил: "Иди в Большой театр, там твое место, а не здесь". Так что это я тебе все напророчил!"
...Однажды в школе состоялся концерт, в котором выступали артисты московских театров. Исполнители, в основном, были не очень известные, только одного Сергея Петровича Юдина, солиста Большого театра, популярного в те годы тенора, певшего в конце концерта, приняли очень тепло и долго не отпускали со сцены.
В перерыве, когда Сергей Петрович отдыхал, вокруг него столпились учителя и некоторые ученики, и я тут же вертелся - мне было интересно посмотреть на знаменитого певца. Директор школы рассказал ему обо мне и попросил послушать, как я пою. Юдин согласился.
Я сбегал за нотами домой, и после того, как Сергей Петрович выслушал меня, он сказал: "Ну, молодой человек, вам нужно серьезно заняться музыкой и пением. У вас такой голос, что вы обязаны заниматься".
Ребята стали советовать, в какое училище мне пойти, и кто-то предложил: "Иди в Театрально-музыкальное училище имени А. К. Глазунова в Теплом переулке, около Крымского моста".
Я только что окончил девятый класс, мне было восемнадцать лет, стояла весна, и в училище как раз объявили конкурс. Из двухсот претендентов должны были принять двадцать человек. На всякий случай и я записался. Пришел на экзамен, стою около дверей в зал, стараюсь понять, что там происходит, и вдруг кто-то из экзаменующихся вышел и сказал: "Члены жюри, словно тигры, так и пожирают глазами".
Через некоторое время другой экзаменующийся повторил то же самое и посоветовал: "Ты на них не смотри, когда будешь петь".
На сцене я появился в майке общества "Локомотив" красного цвета с белой полосой, и комиссия оживилась. Все заулыбались. Когда же я сказал, что исполню арию Руслана, веселье сменилось настороженностью.
Я пропел арию, глядя в окно, которое находилось сбоку от сцены, чтобы не видеть страшного жюри, и снова насмешил комиссию. В перерыве заведующий учебной частью Наум Ефимович Гладштейн подошел ко мне и спросил: "Почему вы пели все время в кулисы?"
Когда же я ему откровенно все объяснил, он опять весело рассмеялся и сказал, что я принят и что второго тура петь мне не надо. Это известие облетело всех экзаменующихся, и все стали смотреть на меня то ли с чувством зависти, то ли восхищения. Я был счастлив. И лишь много позже узнал, что мое поступление в училище чуть не сорвалось. Дело в том, что в 1935 году мои отец и мать были сосланы, о чем я расскажу несколько позже. И вот однажды я встретил Наума Ефимовича, и он мне признался: "Знаешь, Ваня, какой я за тебя выдержал бой после того, как ты спел на экзамене? Ведь тебя не хотели принимать к нам в училище, так как у тебя родители арестованы. Но я настоял на своем. "Да вы что! У него такой голос! - кричал я.- Он будет большим артистом!.." И видишь - всех убедил".
К своим занятиям в училище, в отличие от математики в школе, я относился очень серьезно, с чувством ответственности. По музыкально-теоретическим дисциплинам у нас был прекрасный педагог - Петр Алексеевич Котов, очень строгий и вместе с тем доброжелательный человек. Он старался привить нам любовь к музыке, к музыкальным знаниям, и я быстро постигал премудрости гармонии и сольфеджио. Многие студенты не обращали должного внимания на уроки Петра Алексеевича и были не правы, считая, что нужно заниматься только вокалом. Именно благодаря знанию этих предметов я мог в дальнейшем за семь-десять дней выучить большую трудную партию.
В классе танца нас учили плавно двигаться, стройно держаться. Класс актерского мастерства вел замечательный режиссер Владимир Николаевич Татаринов. Он увлеченно ставил с нами различные сцены из опер и всегда умел зажечь, показывая, как нужно сыграть ту или иную роль. Его вкус, профессионализм поражали. Внешне это был человек немного сумрачный, с шевелюрой седеющих волос, орлиным носом и серыми проницательными глазами, над которыми нависали густые брови. И говорил он сумрачным басовитым голосом.
Первые мои встречи с Татариновым, видимо, его не удовлетворили, и, назначая участников для различных сцен, он предпочитал других студентов. Но после того как я сыграл какой-то этюд с воображаемым партнером, он громко воскликнул: "Браво!" - и все пошло как по маслу. Когда я был на втором курсе, выпускники пятого ставили различные оперные сцены, и среди них - два отрывка из "Фауста". Татаринов объявил: "Мефистофель у нас лишь один". И назвал меня. Правда, в этих отрывках не было больших вокальных трудностей, но сценически мы должны были с ним поработать, и я получил от Владимира Николаевича много полезных советов, за которые ему очень благодарен. Ведь он учил нас находить реалистические краски для воплощения музыкального образа.
По специальности меня назначили к педагогу-вокалисту Анатолию Константиновичу Минееву, артисту Большого театра. Красивый, высокого роста, он был в то время уже немолод, пел небольшие партии, а когда-то, обладая прекрасным баритоном, считался ведущим певцом. Он исполнял партии Онегина, Мазепы, Фигаро, Роберта и выступал с такими выдающимися артистами, как Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. Нежданова, Г. С. Пирогов, В. Р. Петров. Теперь, несмотря на годы, он оставался импозантным и обаятельным. На занятиях по вокалу Минеев мне повторял: "Только не спешите. Вам всего девятнадцать лет, и неизвестно, как будет развиваться голос - вверх или вниз".
На первом курсе Минеев заставлял нас петь вокализы Конконе, Зейдлера и легкие романсы. Мне же хотелось петь арии. "Подождите, не испортите голоса",- говорил Минеев. Но я не унимался. Я очень расстраивался от того, что выше ми-бемоль первой октавы - начала верхнего регистра у баса - голос у меня не шел. А ведь в лучших оперных басовых партиях встречаются и фа, и соль!
Как-то мы поехали в подмосковный лес за грибами. Я был со своим товарищем, тоже басом, по фамилии Пластун. Мы начали с ним распеваться, и вдруг я стал брать один за другим какие-то высоченные звуки. Видимо, я нашел принцип постановки голоса на верхних нотах. Пластун восхищался, требовал повторить, и я повторил эти звуки раз сто.
На следующий день, придя на урок к Анатолию Константиновичу, я сразу же доложил, что сейчас возьму верхнее фа. Он улыбнулся и говорит:
- Ну, давайте свое фа.
Начали заниматься, он повел меня все выше и выше, и, когда я взял какую-то очень высокую ноту, лукаво меня спросил:
- Какая это нота? Фа?
- Нет, соль.
Это был уже предельный регистр не только для басового голоса, но и для баритона.
- Как же это у вас получилось? - Анатолий Константинович вопросительно посмотрел на меня.
Я поведал ему про свои занятия в лесу. Тогда он сказал:
- Ваня, мы, педагоги, должны вам показывать различные приемы, но в основном вы должны сами заниматься, искать. Педагог способен дать пятнадцать-двадцать процентов того, что может вам пригодиться, но искать вы должны сами, и вы выбрали правильный путь. Только не перекричите.
С тех пор у меня голос пошел и вверх, и вниз, и уже на втором курсе вместо легких романсов Анатолий Константинович дал мне арию Филиппа из оперы Верди "Дон Карлос", арию трудную не только в вокальном отношении, но сложную и по внутреннему содержанию. Я пел ее на концерте нашего училища в Колонном зале Дома союзов, и публика устроила мне овацию.
Несколько позже выпускники нашего училища начали готовить оперу Римского-Корсакова "Царская невеста", которую ставил в клубе "Каучук" артист Большого театра Сергей Михайлович Остроумов. В Большом театре он пел партии Трике в "Евгении Онегине", Дефоржа в "Дубровском", лекаря Бомелия в "Царской невесте". Это был яркий актер и очень хороший режиссер - он учился у К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Готовя сцену из "Царской невесты", Остроумов никак не мог найти артиста на роль Ивана Грозного, который во втором действии проходит по улице слободы мимо дома Собакина и, увидев Марфу, пораженный ее красотой, решает взять ее в жены. Эта роль мимическая, но ее нужно было сыграть очень выразительно. Сергею Михайловичу посоветовали меня. Я прошел по сцене, взглянул на Марфу, сделал головой жест опричникам и, согбенный, направился дальше.
Сергей Михайлович, который смотрел из партера, подозвал меня к себе, похвалил и спросил, что я пою. Я ответил, что мой педагог Анатолий Константинович Минеев мне еще не разрешает петь трудные арии и романсы, но все же некоторые, довольно трудные, я уже учу. Сергей Михайлович попросил меня спеть что-нибудь. Я спел "Сомнение" Глинки и арию Филиппа из оперы "Дон Карлос" Верди. После арии Филиппа он заговорщицки произнес: "Через пару дней я вам что-то скажу и, наверное, очень приятное, а пока до свидания".
Заинтриговал меня ужасно. А через два дня, когда Сергей Михайлович опять пришел на репетицию, он действительно преподнес мне радостную весть: "Я договорился с Иваном Семеновичем Козловским, чтобы вас послушали, и если вы так же споете, как пели мне, то вас наверняка возьмут в оперный ансамбль".
Через несколько дней меня, по рекомендации С. М. Остроумова, пригласили на пробу в оперный ансамбль при Московской государственной филармонии, которым руководил И. С. Козловский.
- Что вы нам споете? - спросил Иван Семенович. Остроумов за меня отвечает: "Арию Филиппа". Козловский поверил в меня. Я был принят в ансамбль и, кроме того, зачислен в качестве солиста в Московскую филармонию. Я с головой окунулся в очень интересную и желанную для меня работу. В утренние часы я продолжал учебу в училище, а вечером летел стрелой в Дом ученых, где оперный ансамбль проводил репетиционную работу.
На протяжении всего своего творческого пути Козловский всегда искал новые формы выразительности, новые сценические решения. Именно этот поиск привел его в конце тридцатых годов к созданию Государственного ансамбля оперы при Московской филармонии.
Репертуар оперного ансамбля был небольшой. Ставились оперы камерного плана с малым составом хора или без него. В основном спектакли шли на сцене Большого зала консерватории, а иногда на сцене зала Дома ученых. Задача постановщиков спектакля заключалась не только в поиске интересного сценического решения спектакля, но и в правильном размещении на сцене оркестра и хора, чтобы дать возможность солистам выполнить все режиссерские задания.
В репертуаре ансамбля были оперы "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова, "Орфей" Глюка, "Паяцы" Леонкавалло, "Вертер" Массне, "Джанни Скикки" Пуччини, сцены из опер русских, советских и западноевропейских композиторов.
Наша труппа состояла почти целиком из молодежи. Это были талантливые певцы и певицы, многие из которых только что окончили консерваторию или какое-либо другое музыкальное заведение. Назову наиболее ярких исполнительниц женской части коллектива.
Лирико-драматическим сопрано, полетным и красивым по окраске звука, обладала Надежда Суховицина. Мне она запомнилась в исполнении труднейшей сопрановой партии в Реквиеме Верди. Две другие певицы, лирическое сопрано, Клавдия Шаповалова и Антонина Выспрева также производили очень приятное впечатление, когда выступали в ролях Недды в "Паяцах" и Лауретты в "Джанни Скикки". С большим успехом пела свои партии - Орфея в одноименной опере Глюка и Шарлотты в "Вертере" - Лариса Ельчанинова, наделенная мягким, красивого тембра меццо-сопрано. Замечу, что в это время она нередко выступала и в спектаклях Большого театра.
В мужской группе своим крепким лирико-драматическим голосом привлекал Никита Пушкарь. Большой удачей певца явилась партия Канио в "Паяцах".
В нашем ансамбле начинал свою сценическую карьеру Владимир Нечаев. Он, так же как и я, пел небольшие партии и мечтал о карьере оперного певца, но после расформирования ансамбля резко изменил свое амплуа и стал петь популярные советские песни. Объединившись с Владимиром Бунчиковым, они составили прекрасный ансамбль.
Симпатичный лирический баритон был у Сергея Ильинского. К сожалению, узость репертуара ансамбля не давала ему возможность проявить себя более широко, но все же выступление певца в "Паяцах" в партии Сильвио произвело на всех большое впечатление. После окончания Великой Отечественной войны Сергей Ильинский стал ведущим солистом Музыкального театра имени К.С.Станиславсого и Вл. И. Немировича-Данченко. Радовал слушателей и еще один лирический баритон - Александр Покровский.
Работали в ансамбле и певцы - драматические баритоны. Один из них Иван Александрович Вартанов - принадлежал старшему поколению исполнителей и пропел в разных театрах не один десяток лет. Вартанов был очень артистичен и владел большим репертуаром. Он очень эффектно исполнял роли Тонио в "Паяцах" и Джанни Скикки в одноименной опере Пуччини. Успешно справлялся с этими ролями и другой баритон - Борис Любимов. Интересно отметить, что до поступления в ансамбль он пел в Большом театре басовые партии, даже такую, как Мельник в "Русалке" Даргомыжского.
И, наконец, бас Владимир Андриевский исполнял небольшие эпизодические партии и так же, как Ильинский, вскоре после войны стал солистом Театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко.
В этом ансамбле Козловский был не только руководителем, но также и режиссером, и исполнителем. Мне приятно вспомнить, что, работая с молодежью, он всегда проявлял доброжелательность.
Иван Семенович показывал, как нужно спеть ту или иную фразу, как она должна быть окрашена, как правильно, сфокусированно взять верхнюю ноту, как решать ту или иную мизансцену, а подчас целый акт или всю оперу. Он учил нас высокой выразительности жеста, мимики, дикции, учил понимать весь образный строй спектакля,
Конечно, советы такого огромного мастера для нас, молодых, были бесценными.
Никогда не забуду постановки опер, в которых выступал Иван Семенович. В "Вертере" Ж. Массне он так легко и свободно пел заглавную роль, что, казалось, голос его не имеет предела. В "Паяцах" Р. Леонкавалло он исполнял небольшую партию Арлекина, придавая этой роли значительность и яркость. Еще хочется сказать о его Орфее. Партия в одноименной опере Глюка написана для меццо-сопрано, и в некоторых спектаклях у нас ее исполняла М.П. Максакова. Но так как образ легендарного певца мечтал создать еще Л. В. Собинов, то была сделана новая редакция партии - для тенора. Козловский воспользовался ею и неизменно поражал и восхищал слушателей в этой роли.
В наших спектаклях часто пели и другие выдающиеся оперные певцы. Кроме Козловского и Максаковой, у нас выступали Александр Иосифович Батурин и Леонид Филиппович Савранский - они исполняли партию Сальери в опере Римского-Корсакова. Батурин выступал также в Прологе "Паяцев". Эта ария обращение к зрителю - написана для баритона, причем мощного, свободно владеющего предельным высоким регистром. А у Батурина был хоть и высокий, но все же бас. Однако он легко справлялся со всеми трудностями, его голос звучал мягко и свободно, а заключение Пролога, изобилующее предельными для баритона нотами, приводило весь зал в восторг.
Мне запомнился еще один исполнитель партии Канио в "Паяцах" знаменитый украинский певец Ю. С. Кипоренко-Даманский. Ему в то время было уже за шестьдесят, однако с самых первых фраз певец поразил нас своим голосом. Мне даже сначала показалось, что у него не тенор, а драматический баритон, настолько был мощным, звучным, объемистым да и красивым по тембру его голос. Когда закончился первый акт оперы и певец в финале спел свое знаменитое ариозо "Смейся, паяц", в зале разразилась невероятная овация. Артисту пришлось повторить ариозо. Но, видимо, Кипоренко-Даманский, по своей природе очень эмоциональный и темпераментный артист, первый раз исполняя ариозо, отдал очень много сил, и во второй раз, подойдя к кульминации на верхних нотах, просто проговорил: "Смейся, паяц, над разбитой любовью! Смейся и плачь над горем своим". Но публика все равно бурно приветствовала артиста, а все мы, участники спектакля, очень заволновались - хватит ли у певца сил спеть второй, более трудный акт? И, когда Кипоренко-Даманский вновь вышел на сцену, голос его снова звучал с необыкновенным блеском и силой, а свою арию "Нет, я больше не паяц" он спел с такой страстью, что зал опять обрушил на него бурю аплодисментов.
Я исполнял в этих спектаклях маленькие роли, что было естественно. В "Вертере" я пел партию Иоганна - одного из друзей отца Шарлотты, главной героини оперы, в опере Д. Пуччини "Джанни Скикки" - комическую партию Симона, одного из старейших членов семьи, ожидающей богатого наследства. Здесь мне приходилось гримироваться. Я клеил парик с большой лысиной. В опере советского композитора В. Трамбицкого "Гроза", написанной по одноименной пьесе А. Н. Островского, я играл роль богатого купца-самодура Дикого. Это трудная в вокальном отношении партия, и овладение ею стало трамплином к моему дальнейшему профессиональному росту.
Неожиданно спел я и басовую партию в "Реквиеме" Верди. Артист, который должен был петь басовую партию, заболел. Осталось всего три дня до концерта, и партию эту предложили исполнить мне. Она состоит из шести больших номеров, которые идут на латыни, и очень сложна вокально - эпизоды в высоком регистре чередуются с предельно низкими басовыми фразами. Нужно суметь голосом сделать эти переходы! Кроме того, все четыре солиста сопрано, меццо-сопрано, тенор и бас часто поют без сопровождения оркестра, и, если ты чуть-чуть сфальшивишь,- весь ансамбль рухнет. Нужно было петь предельно чисто! Все же я в трехдневный срок все это выучил и спел. Так что не только других поразил, но и сам себя. До сих пор не могу понять, как это у меня получилось. Ведь такую труднющую огромную партию я пел наизусть! Дирижировал замечательный музыкант Л. П. Штейнберг, много лет работавший в Большом театре.
В опере Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери" Моцарта пел Козловский, а Сальери - Батурин или Савранский. Мне тоже предложили выучить эту партию. Очень трудная и высокая по тесситуре, она требовала большой и кропотливой работы, но я не успел доучить ее - началась война...
Теперь, оценивая этот период своего становления, я прихожу к выводу, что работа в ансамбле была замечательной школой, так как мы, молодежь, исполняя свои маленькие партии, могли учиться у больших мастеров.
...Еще будучи студентом, я понял, что все приемы артистического мастерства, которые я открывал в музыкальных или драматических спектаклях, могли мне помочь в моем становлении как артиста, в моей дальнейшей творческой жизни. Поэтому всеми правдами и неправдами я старался попасть не только в Большой театр, но и в Оперный театр имени К. С. Станиславского, Музыкальный театр имени Вл. И. Немировича-Данченко, во МХАТ, в Театр Вахтангова. И в Малом театре я не пропускал ни одного нового спектакля.
Самое сильное впечатление на меня произвели две оперы, поставленные перед самой войной. Первая - "Фауст" Гуно. Она запомнилась прежде всего замечательным составом исполнителей. Фауста пел Сергей Яковлевич Лемешев молодой, красивый, стройный. Он был в самом расцвете таланта, пел блестяще и успех имел колоссальный. Партию Маргариты исполняла Глафира Вячеславовна Жуковская. Она обладала прелестным голосом и была настолько яркой певицей и актрисой, что производила неизгладимое впечатление. Иван Павлович Бурлак пел Валентина, и ему особенно удавалась каватина Валентина и сцена поединка, партию Мефистофеля с блеском исполнял Александр Степанович Пирогов, который тоже был в полном расцвете сил. Его колоссальный голос поражал красотой и блеском.
Второй спектакль, который меня особенно захватил,- "Севильский цирюльник". В нем тоже был редкостный состав исполнителей. Розину пела Валерия Владимировна Барсова, обладательница такого мощного лирико-колоратурного сопрано, которое заполняло весь театр. А ее фантастическая техника просто потрясала. Графа Альмавиву пел С. Я. Лемешев, А. С. Пирогов - Дона Базилио, а Фигаро - Дмитрий Данилович Головин, обладавший удивительно красивым голосом. А пел он с таким темпераментом, и в зал неслась такая лавина упоительных звуков, что в те моменты, когда он появлялся на сцене, остальные великолепные исполнители отходили на второй план.
И еще живо в моей памяти и будет живо до конца дней моих - посещение концерта в Доме ученых. Однажды я увидел афишу, в которой объявлялось о выступлении трех артистов с изумительными по тембру голосами. Это были Надежда Андреевна Обухова, Павел Герасимович Лисициан и Василий Иванович Качалов.
Начал первое отделение Лисициан, только что поступивший тогда в Большой театр. Молодой, стройный, с черной копной волос, красивый, с великолепным голосом бархатного тембра, которым он владел совершенно свободно, Лисициан производил огромное впечатление. Он пел романсы Чайковского, Римского-Корсакова, Спендиарова, армянские народные песни, арии из опер и знаменитую Эпиталаму. Зал безумствовал.
Во втором отделении выступал Качалов. Он был высок, строен и красив, а его одухотворенное лицо - прекрасно. Держался он строго и вместе с тем раскованно и просто. Когда же Качалов начал читать стихи и фрагменты из спектаклей, я слушал его, затаив дыхание. Какое это было мастерство и вдохновение, как поражал и притягивал необыкновенно красивый по тембру, льющийся голос артиста!
В третьем отделении выступала Обухова. Нужно ли говорить о красоте ее голоса, особенно в низком регистре, пленяющего грудными нотами! Она спела две классические арии - Далилы и Любаши, но, так как в театре Надежда Андреевна уже выступала мало, в ее интересной программе превалировали песни Булахова, Гурилева, Варламова.
Я ушел с концерта совершенно опьяненным. Полученные впечатления были для меня огромным стимулом к занятиям, подталкивали к новым поискам.
...В начале моей работы в Большом театре у меня произошла встреча с Качаловым. Я хочу рассказать о ней сейчас, так как уже заговорил о Василии Ивановиче.
После двух-трех лет работы в Большом театре меня стали приглашать на концерты, я выступал в Колонном зале, в Зале Чайковского и в Доме ученых, короче говоря, у меня появилось какое-то имя. Тогда во все предпраздничные дни - Ноябрьские праздники, Первомай, Новый год, Восьмое марта устраивались концерты. Через филармонию или какую-нибудь другую организацию нас приглашали принять участие в концерте, и мы, люди грешные, выступали иногда в пяти-шести местах в один вечер.
Однажды, когда я выступил уже три раза, четвертый концерт в этот вечер должен был состояться в клубе МВД на улице Дзержинского. Я примчался в этот клуб, поднимаюсь по лестнице на второй этаж, вхожу в актерскую комнату перед сценой, и меня встречает администратор. Я ему говорю:
- Вот отпел три концерта и к вам прибежал.
Вдруг вижу, как какой-то человек высокого роста встает с кресла, подходит ко мне и протягивает руку:
- Здравствуйте, молодой человек. Очень рад вас видеть. Как вы поживаете? Я очень рад вашим успехам, слышал о вас много хорошего...
И вдруг я понял, кто со мной говорит, и обомлел. Это был Василий Иванович Качалов. Такой великий артист встал с кресла и подошел ко мне! Первый со мной поздоровался и заговорил!
Я, конечно, рассказал, как у меня дела в театре, он поинтересовался, что я готовлю, о каких новых ролях думаю, пожелал мне всяческих успехов и потом снова сел в кресло. Я опять поймал администратора:
- Если вы меня сейчас не выпустите, я не успею на следующий концерт и у меня будут неприятности.
Администратор искоса посмотрел на Качалова и отвечает:
- Иван Иванович, неудобно, Василий Иванович здесь сидит уже около часа. Сейчас он выступит, а потом вы, иначе я не могу.
Вероятно, Качалов услышал наш разговор.
- Нет-нет! - восклицает.- Я не спешу, я посижу, подожду, отпустите молодого человека, пускай он выступает и едет дальше. А я успею, мне спешить некуда.
Это великодушие и доброта Качалова окончательно меня сразили. В них не было ничего нарочитого. Он действительно обладал замечательными редкостными человеческими качествами. И когда я затем видел его в спектаклях, например в "Воскресении" Толстого, где он читал текст от автора, как всегда изумительно мастерски, я всегда с гордостью думал: "Ведь я недавно с ним разговаривал!"
А как он играл Барона в пьесе Горького "На дне"! Какие правдивые интонации, какая интересная трактовка образа! Это был, конечно, один из величайших наших русских актеров.
Часто я посещал Художественный театр, которым руководили тогда такие выдающиеся режиссеры, как К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко. Мне запомнились прекрасно выполненные декорации, световые эффекты, но больше всего поразила игра актеров. Какое созвездие блистало тогда в "Трех сестрах" Чехова! Ольгу играла К. Еланская, Машу - А. Тарасова, Ирину - А. Степанова, Соленого - Б. Ливанов, Вершинина - В. Ершов, Чебутыкина - А. Грибов или М. Яншин, Тузенбаха - П. Массальский. Это был незабываемый спектакль! Незабываемый! Прелестно поставленный! Особенно впечатляла последняя сцена, проходившая под мелодию военного марша, который исполнял оркестр.
В пьесе А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович" в заглавной роли выступали два величайших актера - И. Москвин и Б. Добронравов. Какие разные они создавали образы! Потрясающие! Они отличались друг от друга и внешне, и внутренне. Москвин - среднего роста, плотный, с простоватым лицом и вздернутым носом. А Добронравов очень красивый, высокий, стройный. Москвин играл более сдержанно. Царь Федор Иоаннович Москвина был мудр, в каждую его фразу артист старался вложить значительную мысль. А Добронравов отличался порывистостью и темпераментом. Пламенность чувств окрашивала многие его образы. Не могу не вспомнить, каким он был Платоном в пьесе "Платон Кречет" А. Корнейчука. Даже и сейчас при воспоминании о его игре охватывает радостное чувство.
В "Мертвых душах" Гоголя тоже представали две разные интерпретации одного образа: Чичикова играли В. Топорков и В. Белокуров. Оба были блестящими актерами, но Топорков казался более убедительным. Помню его выразительные глаза, хитрую речь со скрытым подтекстом в каждой фразе. Необычайно хорош был Топорков и в роли Аргона в "Тартюфе" Мольера. Там он почти затмевал главного героя.
Совершенно разные образы создавали А.Тарасова и К. Еланская в "Анне Карениной". Это были такие убедительные и обаятельные образы русских женщин! Однако на меня Тарасова производила большее впечатление. Хотя ее упрекали в излишней взвинченности, даже истеричности, но как может вести себя женщина, доведенная до отчаяния и бросившаяся на рельсы?! И потом Тарасова была такая красивая, стройная, статная, на нее смотреть только - и то уже было наслаждением. Она приковывала внимание и вызывала сострадание. Очень сильный образ Вронского создавал П. Массальский. А как играл Каренина Н. Хмелев! Скупой на жесты, на движения, необычайно собранный, Хмелев производил такое впечатление, что мурашки бегали по коже. Он не демонстрировал своего страдания, и в то же время захватывал им зрителя. Это умение прятать чувства в глубине души и вместе с тем держать зал в напряжении - особенность таланта настоящего большого актера. Глядя на Хмелева в роли Каренина, все обычно недоумевали: "Как же это у него получается? Ничего, как будто, не играет, а впечатление ошеломляющее".
Невозможно забыть и такие спектакли Художественного театра, как "Дни Турбиных" Булгакова с Н. Хмелевым и М. Яншиным, чудесный "Пиквикский клуб" Диккенса, "Идеальный муж" Уайльда и "Школу злословия" Шеридана.
Вспоминаю МХАТ моей юности и думаю: "А возродится ли он, станет ли вновь таким, каким был в те годы?"
Другое творческое направление было представлено в Малом театре.
Никто лучше Малого театра не ставил пьесы Островского. Помню "Волки и овцы" с А. Яблочкиной, В. Пашенной, Е. Турчаниновой, И. Ильинским и Н. Светловидовым. Очень мне запомнился И. Ильинский и в пьесе "Лес". Классическими спектаклями были "Ревизор" Гоголя, "Варвары" Горького и "Горе от ума" Грибоедова. Чацкого играл М. Царев, а Лизу - совсем молодая И. Ликсо.
Я посещал и другие театры, в которых шли многие волнующие спектакли.
Так, в Театре имени Вахтангова на меня огромное впечатление произвела пьеса Горького "Егор Булычев и другие". Незабываемый образ главного героя создал в этом спектакле С. Лукьянов. Очень ярко была поставлена драма Гауптмана "Перед заходом солнца", в которой особенно хорош был М. Астангов; Ц. Мансурова и Н. Симонов создавали прелестный дуэт в "Филумене Мортурано" Э. де Филиппе.
Большим успехом пользовались в Камерном театре "Египетские ночи" Пушкина с Алисой Коонен. В Театре революции (ныне Театр имени В. В. Маяковского) в ролях Ромео и Джульетты всех покоряли М. Бабанова и М. Астангов, который позже перешел в Театр Вахтангова.
В Театре Ленинского комсомола И. Берсенев блистал в роли Сирано де Бержерака в одноименной драме Ростана.
Все эти спектакли не только западали в мою память, но и заставляли задуматься об актерском мастерстве: о правилах поведения на сцене, фразировке. Они будили во мне много мыслей, обогащали разнообразными впечатлениями. Я рос как человек, художник и актер.
Война народная...
Когда началась война, Ансамбль оперы расформировали, а меня в качестве солиста филармонии отправили на обслуживание воинских частей. Грустные это воспоминания! Ведь многие молодые люди понимали, что они никогда уже не вернутся домой, и мы старались поднять их боевой дух. Мы выступали на призывных пунктах, в госпиталях.
В октябре 1941 года я получил повестку от директора филармонии. Нужно было срочно явиться с вещами на Казанский вокзал для эвакуации в Алма-Ату.
Ехали мы в Среднюю Азию долго. Помню, что вначале над нами пролетали немецкие самолеты: немцы уже бомбили все поезда. По пути мы получили уведомление, что Алма-Ата не может нас принять, нужно ехать во Фрунзе. Столица Киргизии встретила нас гостеприимно. Сколько нужно было помещений, чтобы разместить наш огромный коллектив! Сто человек певцов хора, сто человек оркестр, бухгалтерия, администрация! И хотя мы свалились, можно сказать, как снег на голову, нас как-то устроили. Конечно, условия были тяжелыми, но мы сразу же приступили к работе.
Я начал петь в концертах в сопровождении Государственного симфонического оркестра СССР. Пел арии, патриотические песни, участвовал в исполнении ораторий. Руководили этим оркестром замечательные дирижеры Н. Г. Рахлин и В. Г. Дегтяренко.
Музыканты оркестра относились ко мне дружелюбно и с симпатией, все их замечания я ловил на лету, поэтому работа с этим коллективом помогла моему артистическому становлению, появился профессионализм. Я уже знал, как нужно петь с хором, оркестром.
Иногда я выступал с ансамблем, человек в двадцать, который организовал замечательный трубач оркестра Леонид Юрьев. Мы ездили с концертами в колхозы и совхозы, обслуживали рабочий люд.
Запомнилась одна их таких поездок в находящийся недалеко от Фрунзе украинский колхоз. Как-то вечером мы погрузили на три подводы, которые прислали нам колхозники, инструменты и костюмы, а сами сначала пошли по городу пешком. К тому времени, когда миновали город, стало темно, и мы сели на подводы. Лошади медленно продвигались вперед. Так как недавно прошел дождь, их подковы "квакали" в грязи, а колеса телег "шлюпали". Вдруг колесо той подводы, на которой я сидел, застряло в какой-то яме и после этого лошадь встала. Я, как самый инициативный, объявил: "Ребята, сидите, сейчас помогу". Спрыгнул и вдруг почувствовал, что оказался в каком-то месиве и не могу вытащить ноги. Когда же я выбрался из ямы и меня осветили фонарем, то раздался веселый дружный смех. Вместо лаковых туфель и модных брюк от смокинга у меня на ногах были светло-коричневые сапоги из глины. Все смеялись, но мне было не до смеха. "Как я появлюсь завтра на концерте? Как отмою все это?" - с грустью думал я.
Когда мы приехали, нас гостеприимно встретили колхозницы. Женщины засуетились, вымыли мои туфли, постирали брюки, и на следующий день я был в уже в полной парадной форме.
Концерт состоялся в поле, где работали колхозники. Я пел русские и украинские песни: "Взял бы я бандуру", "Вдоль по Питерской", "Эй, ухнем!". Наши слушательницы горячо аплодировали каждому номеру, а по окончании концерта решили угостить нас обедом. "Вы уж нас извините,- сказали они,- у нас нет никаких разносолов, только борщ. Но борщ настоящий, со свининой, вам должен понравиться". Мы сели за столы, и нам дали по огромной тарелке борща и по большому, в мой кулак, куску свиного мяса. Мы набросились на этот шикарный борщ и съели несколько тарелок, ведь все кое-как питались по карточкам в столовой. Потом нас угостили чаем, благодарили за концерт, и мы возвращались во Фрунзе сытыми и с чувством исполненного долга. Ведь наша музыка принесла людям столько радости, так подняла настроение!
Некоторое время спустя меня неожиданно вызвал директор филармонии Преображенский и сказал, что самых молодых актеров и певцов призывают в армию. Я отправился на призывной пункт. В военкомате изучили мои документы и попросили пройти к военкому - генералу, который только что вернулся из госпиталя после ранения. Он был очень недружелюбно настроен и сразу спросил:
- Почему у вас такая фамилия, вы что, немец?
- Нет, я русский.
- А что же это за немецкая фамилия такая - Краузе?
- Ну, может быть, кто-нибудь из моих далеких родственников был немцем, потом обрусел.
- Да, рассказывайте сказки!
Он что-то написал на моей справке, которую я получил вместо паспорта и военного билета, и через пару дней мне сообщили, что я зачислен в стройбатальон. Мы могли жить у себя на квартирах, но к определенному часу должны были приходить на работу и участвовать в строительстве военного объекта, рыли траншеи для огромного фундамента. Они были очень глубокими, и снизу стала проступать холодная вода. Вскоре мы рыли уже по колено, а потом по пояс в воде. Я сильно простудился. У меня свернуло набок голову и шею, я ходил скрюченный, не мог разогнуться.
Однажды я получил приглашение выступить на концерте в честь открытия Дома работников искусств Киргизии и по окончании его, по-прежнему скрюченный, поплелся к себе домой. Вдруг вижу - в двухэтажном домике открыта настежь дверь, за столом сидит военный и что-то пишет. Оказалось, что это приемная военкомата Киргизской ССР. Я решил попытаться записаться на следующий день на прием. Поздоровался с секретарем и сказал, что хотел бы поговорить с военкомом. "Подождите, я сейчас доложу". И через минуту услышал: "Начальник вас ждет". Увидев меня, военком улыбнулся, встал из-за стола, поздоровался со мной и спросил:
- Что это с вами такое?
Я все ему рассказал.
- Я слышал вас на концерте,- сказал он,- и уверен, что вас нужно беречь. Ведь война не будет длиться вечно! Год-два, и она закончится, а вы будете петь в Большом театре! Попомните мое слово!
Он вселил в меня такую радость, как будто у меня выросли крылья. Я воскрес.
- Чем же я могу вам помочь? Может быть, вас отправить в Алма-Ату? Там ведь ансамбль Среднеазиатского военного округа, и вы можете работать в ансамбле. Я позвоню, и все будет в порядке.
- Конечно, это было бы хорошо, большое вам спасибо,- говорю.- Но лучше бы мне поехать в Ташкент, где сейчас находится Ленинградская консерватория. Тогда я мог бы продолжить свое музыкальное образование.
- Давайте ваши документы.
Я ему дал справку, и он на ней написал: "Снять с учета, выдать документы, отправить на учебу в Ташкент".
На следующий день я опять пришел к военкому города Фрунзе, так как он тоже должен был поставить свою подпись, и он сначала открыл было рот, чтобы меня выгнать, но, когда прочитал резолюцию вышестоящего начальника, только сжал губы. Я уехал в Ташкент.
Очень сожалею о том, что не помню имени, отчества и фамилии военкома Киргизии, который так ко мне сердечно отнесся и оказался прорицателем моей судьбы: действительно, уже через год я был солистом Большого театра.
Я приехал в Ташкент, спел в консерватории перед педагогами, очень всем понравился, мне назначили преподавателя, но случилось опять непредвиденное. Я заболел малярией. Приступы повторялись через день, и температура поднималась выше сорока. Я терял сознание. Когда я чувствовал приближение приступа, то садился где-нибудь около дерева и час или полтора приходил в себя. Кроме того, я получал очень маленькую стипендию, денег не хватало, положение вскоре стало бедственным.
Как-то, когда я во время приступа сидел у себя в комнате, пришел Павел Серебряков, который был директором консерватории.
- Здравствуйте,- говорит.
- Здравствуйте,- отвечаю я еле-еле.
- А почему,- он спрашивает,- вы не встаете, когда входит директор?
- Да я бы рад встать, но у меня нет сил.
- А что такое?
Я ему все рассказал. Он предложил:
- Поезжайте сейчас на лесозаготовки, мы организовали группу заготовителей дров для филармонии. Там хорошие бесплатные пайки. Правда, мяса нет, но есть картошка, крупы, сахар, овощи. Я вам советую поехать. Это в сторону Чирчика.
Я отправился на лесозаготовки, но малярия продолжала меня бить через день. Я уже стал худой, как палка. И мой товарищ, тоже бас, Виктор Морозов, однажды сказал: "Брось ты свою малярию. Я достал бредень, чтобы наловить рыбы. Полезем, заведем его, поймаем рыбы, вся твоя малярия пройдет".
И я полез в ледяную реку. Она была довольно глубокая - по пояс, а то и по грудь. Поймать мы ничего не поймали, но я так замерз, что у меня зуб на зуб не попадал. Меня положили на матрац и накрыли чем попало. После этого малярия у меня действительно прошла. Когда я рассказал об этом врачу, тот покачал головой: "Хорошо, что так кончилось, а мог бы и умереть".
Однажды на заготовки леса приехал посыльный из консерватории. Он привез нам продукты и распоряжение, чтобы я срочно явился к директору. Пошел я один в Ташкент, это километров пятнадцать. Прихожу к Серебрякову, он говорит: "Сейчас организуется бригада артистов от нашей консерватории, нужно поехать обслужить фронт. Вы пели здесь и всем понравилось. Мы хотим, чтобы вы поехали. Что вы нам можете спеть?"
Я спел две или три арии, и комиссия и директор были удовлетворены.
Нам дали обмундирование, кирзовые сапоги, брюки-галифе, гимнастерки, пайки, и наша бригада, шестнадцать человек, поехала на фронт. Сначала мы заехали в Москву, чтобы узнать более точно, куда мы командируемся. Я зашел к себе домой, а потом забежал к своему педагогу А. К. Минееву. Он очень обрадовался, увидев меня, расспросил, откуда я, поинтересовался, как звучит голос, и я тут же ему спел. Минеев удивился:
- Вы так выросли, голос окреп! Откуда это у вас?
- Я много выступал с оркестром, с хором,- отвечаю.
- Завтра же переговорю с Самосудом, чтобы вас прослушали в Большом театре.
Основная группа Большого театра находилась тогда в эвакуации в Куйбышеве, а в Москве оставалась небольшая ее часть, которая выступала в филиале. Минеев сдержал свое слово, и на следующий день я, как был, в старенькой потертой гимнастерке и в сапогах, предстал перед Самосудом. Я понимал, какой передо мной замечательный музыкант и строгий судья, и, конечно, очень волновался. Но делать нечего, назвался груздем - полезай в кузов. Самуил Абрамович был очень доброжелательным, милым и обаятельным человеком. Он пригласил меня пройти на сцену и спросил, что я буду петь. Я назвал несколько арий. Он предложил: "Давайте Гремина". Я спел Гремина. "Давайте Сусанина". Я спел Сусанина. "Давайте Дона Базилио". Я спел Дона Базилио. "Ну, хватит, теперь идите сюда".
Я смотрю, в зале сидит много народу - репетиция какая-то была, и происходило это в антракте между репетициями.
- Вот, познакомьтесь,- говорит Самуил Абрамович.- Вы узнаете? Валерия Владимировна Барсова, Никандр Сергеевич Ханаев. А это Владимир Михайлович Политковский и Леонид Филиппович Савранский. Видите, какие артисты вас слушали! И вы им понравились. Как, берем его?
Они все засмеялись и говорят: "Ну разумеется, берем, берем!" И тут Самуил Абрамович, как всегда в нос и картавя, произнес:
- У вас европейский голос, но вы еще очень молодой, поэтому сразу на большие партии не рассчитывайте, будете петь маленькие.
- Ну конечно, Самуил Абрамович! - восклицаю.- Такое счастье - попасть в театр! А уж там что дадите, то и буду петь. Но ведь мне нужно ехать на фронт. Я еду с бригадой и не могу подвести товарищей.
- А... это правильно. Подводить товарищей не нужно. Поезжайте на фронт, а потом приедете, тогда будете работать.
И я уехал с бригадой. Сначала мы поехали на Брянский фронт, на котором пробыли три месяца - ноябрь, декабрь и январь. Зима стояла страшно холодная. А какие у нас концертные залы были? В лучшем случае изба. Или же просто выступали на опушке леса под елками. Или в разбитой церкви, где ни окон, ни дверей и такие сквозняки, что хуже, чем на открытом воздухе. А чаще всего выступали в землянках. Из части в часть мы шли пешком, а в саночки складывали свой скарб. Порой же нас перевозили на лошадях, запряженных в сани.
За шесть месяцев на двух фронтах мы дали около трехсот концертов.
Начинали ансамблем: "Идет война народная, священная война". Дальше я пел два дуэта с тенором Альпертом, певцом Одесской оперы. Один дуэт белорусский - "Веселуха моя", комический, а второй в том же плане Даргомыжского "В селе малом Ванька жил, Ванька Таньку полюбил". С заслуженной артисткой Людмилой Грудиной, работавшей потом в Кировском театре, мы исполняли дуэт Карася и Одарки из оперы Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем". Затем я пел сольные две-три вещи и заканчивали опять бравурной песней. Когда мы пели на открытом воздухе, то к концу концерта челюсти сводило и губы уже не могли артикулировать. Я еле-еле выговаривал слова. И каждый раз думал: "Ну, простудился!" Но ни разу никто не заболел, хотя пели много. Мобилизовывало ощущение, что наше дело нужно для фронта, для победы.
Много было забавных случаев. Руководил нашей бригадой профессор А. Б. Меерович, человек бесстрашный. Он не скрывал, что хочет заработать орден, и говорил: "Мы будем обслуживать самые передовые части". И мы действительно выступали в таких подразделениях, что немцы тоже слушали и "аплодировали": обстреливали нас из минометов. Вот мы в землянке поем, закончился номер бух! - на нас сыплется земля. Это немецкие "аплодисменты".
Ходы сообщений на передовой были не очень глубокими, поэтому приходилось идти все время сильно согнувшись, особенно мне с моим ростом. Чуть выпрямлюсь - сразу свистят пули. А немецкие снайперы попадали здорово. Иногда передвигались просто ползком.
Как-то раз шел концерт в землянке. Солдаты расположились на нарах кто где, а мы в уголочке. Так как я во весь рост не мог стоять в землянке, я садился или на табуретку, или на ящик из-под патронов. Сидя в обнимочку со столбиком, который подпирал потолок землянки, я и пел. Во время одного из номеров старшина вдруг встает и, называя несколько фамилий, командует: "За мной!" Ну, военное дело. Ушли. Мы продолжаем концерт. Через полчаса открываются двери, и по крутой лестнице солдаты скатываются вниз. С ними пленный немец с круглыми от испуга глазами. А сержант говорит:
- Разрешите обратиться!
Ему отвечают:
- Пожалуйста.
- Товарищи артисты, вы нам дали такой концерт! Мы должны же были вас чем-то отблагодарить. Цветов нет, конфет тоже, для подарка ничего нет. Поэтому мы решили пойти во вражеское расположение завязали там бой, двух часовых уложили, а одного взяли в плен. И вот этот "язык" - наш подарок за ваш концерт.
А еще помню, как однажды мы пели на опушке леса дуэт Карася и Одарки из "Запорожца". Когда Одарка начала нападать на Карася: "Аж две ночи не ночевал, где ты пропадал..." - и бросилась на него с кулаками, над нашими головами вдруг просвистел снаряд. Тут я в паузе говорю: "Бачишь?" И как только я это сказал, такой смех раздался!
Февраль, март, апрель мы провели на Волховском фронте. Началась оттепель, и все поплыло. Валенки мои стали каких-то неимоверных размеров. Пришлось долго ждать, пока нам привезли новую обувь, но мы продолжали выступать.
Однажды после концерта мы разместились в двух землянках. Вдруг вбегает постовой и взволнованно командует: "Чтобы в течение трех минут духу вашего здесь не было! Машина ждет!"
Мы быстро собрались, влезли в грузовик, однако Павлик Воловов (позднее солист Большого театра, с которым мы долгие годы пели вместе в различных спектаклях) замешкался. Мы стали его звать. Наконец он появился, мы помогли ему взобраться в кузов, и в эту минуту раздался страшный взрыв. Снаряд угодил прямо в землянку, из которой вышел Воловов, и на этом месте образовалась огромная яма. Ударная волна была такой силы, что некоторые из нас чуть не вылетели из машины. Этот случай потряс нас и на всю жизнь остался в памяти.
В конце апреля я возвратился в Москву, где нас наградили грамотами. Через полгода после фронтовых концертов я снова отправился в Большой театр к Самосуду. Тот говорит:
- Нужно спеть еще раз.
Я удивился:
- Зачем?
- А вдруг вы потеряли голос!
Я чуть не впал в амбицию, но тут же услышал взволнованный шепот моего педагога:
- Да ты что, с ума сошел?
Я вышел, спел какую-то арию, и Самуил Абрамович был удовлетворен:
- Ну, теперь все в порядке, идите и оформляйтесь.
Так 30 апреля 1943 года я стал солистом Большого театра. Но и после этого считал своим долгом держать связь с армией. Мы продолжали обслуживать фронты, выезжали в действующую армию в район Ефремова. И все последующие годы я всегда с удовольствием выступал перед солдатами и офицерами, за что получил немало почетных грамот и благодарностей.
Солисты Большого театра старшего поколения
М
ое поступление в Большой театр совпало со временем его необычайного расцвета. Труппа театра того периода состояла из великолепных певцов, которыми руководили первоклассные дирижеры, режиссеры. Здесь работали и прекрасные художники.
Сначала хочу отметить выдающихся басов, у которых я все время учился, и первым назову Александра Степановича Пирогова.
Я подражал Пирогову, еще выступая на школьных вечерах, и мне было приятно слышать от товарищей, что у меня есть какие-то нотки, похожие на пироговские. Он оставался моим кумиром и в пору обучения в Театрально-музыкальном училище имени А. К. Глазунова. Спектакли с его участием я старался не пропускать, но вскоре понял, что у меня другая индивидуальность: другой голос, темперамент и, к счастью, стал искать свой путь в вокале и в актерском мастерстве.
Александр Степанович Пирогов обладал атлетической фигурой. Высокий, стройный, широкоплечий, он был наделен огромным артистизмом и темпераментом, которые помогли ему стать блестящим оперным певцом-актером. Его мощный голос широкого диапазона был собран, звучен, особенно в верхнем регистре, и это давало возможность Пирогову "лепить" яркие, сильные, незабываемые образы.
Наиболее близки творчеству Александра Степановича были роли трагического плана. Огромное впечатление производили в его исполнении сцена Бориса с Шуйским, эпизод, в котором ему является видение убиенного царевича, и заключительная сцена смерти Бориса.
Одна из лучших его ролей - князь Галицкий в "Князе Игоре" Бородина. Сколько ярких красок использовал здесь артист! Угодливость по отношению к Игорю, панибратство с челядью, дерзость и наглость обращения к Ярославне все это выражалось голосом, мимикой, жестом.
Большое впечатление у меня осталось от исполнения Пироговым роли Ивана Грозного в "Псковитянке" Римского-Корсакова. Здесь его герой был властным, порою деспотичным и вместе с тем очень нежно любящим отцом. Сцену около погибшей дочери он проводил необычайно сильно.
Когда же я впервые увидел Пирогова в роли короля Рене в "Иоланте", то был восхищен и приятно удивлен. С первого появления и на протяжении всего спектакля певец поражал своими мягкими интонациями, певучестью голоса, а его фигура, движения были полны благородства, достоинства и изящества.
В "Русалке" Александр Степанович создавал удивительно правдивый, живой образ крестьянина-мельника с его заботами, мечтами, радостями и горестями. Особенно хорош был Пирогов в сцене сумасшествия. А нота фа первой октавы - кульминация во фразе "Заманишь, а там, пожалуй, удавишь ожерельем",- вызывала взрыв аплодисментов в зале.
В дальнейшем я многие годы наблюдал, как работает Александр Степанович, и скажу, что ни разу не видел его несобранным, поющим вполнакала. У артиста будто была внутренняя пружина, которая заставляла его двигаться по сцене, петь, фразировать с какой-то долей экзальтации в лучшем смысле этого слова. И, когда он появлялся на сцене, все внимание публики было приковано к нему.
Александр Степанович был не только выдающимся артистом, но и обаятельным человеком, прекрасным, всегда дружески настроенным собеседником. Прелестная улыбка и открытая душа освещали его лицо. И если он делал нам, младшим товарищам по искусству, критические замечания и давал советы, то лишь в очень мягкой форме, никогда не обижая. Он умел вдохновить нас на работу, вызывал желание совершенствоваться.
Другой выдающийся артист и певец - Марк Осипович Рейзен - также был наделен всеми необходимыми вокальными и сценическими данными: гренадерской фигурой, красивой внешностью и могучим, бархатистого тембра басом, которым он мастерски владел. И хотя Пирогов и Рейзен обладали одним и тем же голосом - басом кантанте,- они были совершенно разными певцами. У Александра Степановича Пирогова звучание голоса носило более сильно выраженную русскую окраску. Его голос был очень сочным, плотным, ярким наверху. А у Марка Осиповича Рейзена голос мягкий, певучий, более подходящий для партий Мефистофеля, Дона Базилио, хотя он также прекрасно пел Руслана и Досифея.
Роль Досифея в "Хованщине" Мусоргского была одним из лучших достижений артиста. Огромная мощь голоса, статная фигура, облаченная в черную рясу, медленная, уверенная поступь, властный жест - все это производило огромное впечатление. Вспомнить хотя бы его первое появление, когда Досифей, в разгаре спора Хованского с сыном и стрельцами, останавливает их: "Стой, бесноватые! Пошто беснуетесь?" Эта первая фраза звучала у певца словно могучий поток - властно, гневно.
Роль князя Гремина, которую исполнял Марк Осипович, требует не только красивого, проникновенного пения, но и благородства, достоинства, и, как мы часто говорим, у исполнителя такой роли должна быть порода. Все это в полной мере было в созданном им образе. Удивительно, что в свои девяносто лет артист в спектакле Большого театра снова блестяще спел Гремина. На мой взгляд - это подвиг.
Даже в маленькой роли Варяжского гостя Рейзен был незабываем. Облаченный в меховой костюм Варяжский гость под раскаты оркестра спускался с корабля на площадь и величаво пел-рассказывал о своем мрачном грозном крае.
Дона Базилио Рейзен исполнял в гротесковом плане, как и многие другие артисты, но делал это своеобразно, интересно. Запоминались его высоченная, кажущаяся беспредельной фигура, вкрадчивые плавные движения, хитрый плутоватый взгляд.
Особенно мне хочется сказать о его роли Фарлафа в "Руслане и Людмиле". Премьера этой оперы состоялась в Большом театре в 1948 году, и замечательный певец вновь поразил нас своим вокальным и актерским мастерством.
С веселым блеском сыграл он роль трусливого горе-рыцаря и самоуверенного хвастуна, с покоряющим комизмом спев его труднейшее рондо.
Верхние ноты на пиано Марк Осипович брал завораживающе мягко, они звучали как на большом смычке виолончели. У меня дух захватывало. Как-то я спросил у него:
- Марк Осипович, как же это у вас получается?
А он, лукаво улыбнувшись, ответил:
- Работайте! Это достигается каждодневной упорной работой.
Пирогов и Рейзен - басы, ведущие весь репертуар Большого театра,были самыми яркими представителями оперного искусства в нашей стране. В начале 30-х годов со сцены Большого театра зазвучал еще один бас. Это был Максим Дормидонтович Михайлов, обладатель уникального голоса - центрального баса, очень мощного, объемистого. Благодаря замечательным данным, упорной повседневной работе Михайлов вскоре встал в один ряд с Пироговым и Рейзеном. И хотя он выступал в несколько ином репертуаре, чем эти певцы, успех его был огромным. Стоит вспомнить хотя бы его Сусанина, Кончака, Пимена, Чуба, Варяжского гостя, Гремина, Собакина - это были несомненные удачи артиста.
Казалось бы, вот примеры для подражания. Но, став оперным певцом, я никогда никого не копировал. Я и теперь говорю молодежи, с которой занимаюсь:
- Только не копируйте меня, не копируйте никого, исходите из своей индивидуальности. Тогда будет толк. А в копировании большой заслуги нет.
Из старой плеяды певцов выделялся и Василий Никитич Лубенцов. Он обладал центральным "увесистым" по звучанию басом. Талантливый, яркий актер, Лубенцов в свое время пел в Большом театре все ведущие басовые партии, а потом перешел на более характерные - Фарлафа, Варлаама, Хованского, Царя Салтана. И вокально, и сценически это получалось у него здорово. Все его персонажи были живыми и "сочными", и я, глядя на него, получал большое удовольствие. Василий Никитич тоже был симпатичным человеком, относился ко мне дружелюбно, давал полезные советы, а если критиковал, то старался делать это очень мягко.
Запомнился мне и Борис Николаевич Бугайский, наделенный плотным, сильным голосом. В молодые годы он тоже выступал во всех ведущих ролях басового репертуара, но, когда я поступил в Большой театр, Борис Николаевич исполнял не столь широкий репертуар: Фарлафа, Галицкого, Гесслера (центральная партия в "Вильгельме Телле"), иногда он пел Дона Базилио, и все его роли отличались большим мастерством исполнения.
С Борисом Николаевичем у меня постепенно тоже сложились дружеские отношения. Вообще все певцы относились ко мне очень тепло и помогали в моем развитии как оперного певца и актера. Я им очень благодарен за внимание и поддержку.
Нельзя не упомянуть и центрального баса Сергея Александровича Красовского. Высокий, плотный, с открытым русским лицом и доброй улыбкой, он был очень располагающим человеком. Его голос звучал весомо и красиво. Он пел Гремина, еще лучше Кончака (в этой партии особенно выразительно голос его звучал в низком регистре). Запомнился он мне в партии Деда Мороза в "Снегурочке", он был хороший Пан Голова в "Майской ночи", замечательный Морской царь в "Садко", где нужен "глыбистый" голос.
Михаил Александрович Соловьев, высокого роста, стройный и даже немного худощавый, обладал басом кантанте, очень мягким по тембру. Но его красивому голосу не хватало силы, и это сказывалось в пении и интерпретациях артистом тех ролей, которые он исполнял. И все же Соловьев создавал прекрасные образы Дона Базилио, Гремина, Царя в "Аиде", Андрея Дубровского.
Несколько гортанным призвуком отличался высокий бас Дмитрия Семеновича Мчедели - может быть, сказывалась грузинская национальная манера пения. Впечатляла его атлетическая фигура. Кроме того, одно время он заведовал нашей оперной труппой. Его все любили, и я часто вспоминаю о нем.
Высокопрофессиональный певец и актер, Евгений Васильевич Иванов высокий бас - долгое время служил в провинциальных театрах, в том числе в Алма-Ате, и владел большим репертуаром. На сцене Большого театра он прекрасно исполнял Мефистофеля, Мельника, Фарлафа, Гремина, Рамфиса, Дона Базилио и другие партии. Я подружился с Евгением Васильевичем. Он был остроумным, интеллигентным человеком, и никогда никто не слышал от него ни одного грубого слова.
Из Узбекского театра оперы и балета к нам в труппу пришел Николай Федорович Щегольков, который пел также и в свердловском театре. Эти театры славились разнообразным репертуаром, и Щегольков накопил множество ролей. Легко, без напряжения, пользовался он своим мягким голосом, и в дальнейшем мы в очередь пели с ним Сусанина, Мельника, Мефистофеля, Еремку, Галицкого.
Хочется вспомнить и об Анатолии Александровиче Яхонтове - хорошем Гремине, Гудале, Геслере в "Вильгельме Телле" Россини.
Среди баритональной группы старейшим певцом был Леонид Филиппович Савранский. Он еще во времена Шаляпина, Собинова и Неждановой успешно исполнял ведущие роли и в мое время тоже пользовался огромным уважением. Он обладал плотным драматическим баритоном и пел так выразительно, что его голос надолго оставался в памяти. Савранский брался не только за партии драматического баритона, но выступал и в роли Бориса Годунова. Он был прекрасным Князем Игорем, Троекуровым в "Дубровском", Грязным в "Царской невесте", Амонасро в "Аиде".
Одним из старейших певцов Большого театра, который начал работу в нем еще в дореволюционные годы, был Иван Павлович Бурлак, наделенный сильным лирико-драматическим баритоном. К сожалению, его голос тремолировал, однако путем огромной каждодневной работы певец достиг более ровного голосоведения. Он пел на хорошей опоре, на широком, ровном дыхании, и все звучало. Бурлак был прекрасным Фигаро, замечательным Демоном, Валентином, Бесом в "Черевичках", Амонасро, а в последние годы даже Риголетто.
Многие, конечно, помнят Алексея Петровича Иванова. Он пришел в театр немного раньше меня, и я был на его дебюте в "Риголетто", где Алексей Петрович поразил всех своим сильным драматическим баритоном. При этом он так выразительно пел, с таким вдохновением играл, что не только был принят в труппу, но и сразу же стал ведущим артистом и с огромным успехом исполнял весь драматический репертуар Большого театра. Среди его лучших партий Риголетто, Демон, Князь Игорь, Грязной, Амонасро, Мазепа, Скарпиа.
Однако Алексей Петрович пел не только драматические партии. Я слышал его в роли Фигаро в "Севильском цирюльнике". Несмотря на то, что у певца был мощный баритон с басовым оттенком, партию Фигаро, требующую легкости, он пел прекрасно и справлялся с ней без труда. И актерски он проводил ее просто здорово, легко двигаясь, с улыбкой, непринужденно.
Алексей Петрович очень серьезно относился к костюму, стремился, чтобы он был эффектным и хорошо на нем сидел. Сам гримировался, хорошо знал свое лицо, и это помогало ему создать выразительный облик, а значит и образ своего героя. Но еще более важное значение имела его фразировка: каждое слово было слышно в зале, и каждое было обусловлено внутренним состоянием актера.
Несмотря на то, что я был гораздо моложе Алексея Петровича, мы с ним так близко сошлись, что он как-то предложил снять с ним рядом дачу. Я согласился, и это было не только приятно, но и полезно: от Алексея Петровича я почерпнул для себя, как актера и певца, много важного. Я учился у него искусству интерпретации, фразировки, актерскому мастерству.
Среди других певцов-баритонов мне очень нравился Петр Михайлович Медведев. Сначала он работал в пекарне, был простым пекарем, но увлекся пением, участвовал в самодеятельности, ему посоветовали пойти учиться, и он действительно стал настоящим оперным певцом. У Петра Михайловича был настоящий драматический баритон, который особенно красиво звучал в верхнем регистре. Он прекрасно пел Томского, Демона, Вильгельма Телля, Грязного, Амонасро.
Меня удивило, что выходец из народа, который добился в своем искусстве такого мастерства, покинул сцену, не получив никакого звания. Мне было очень обидно за него и непонятно, как это могло случиться.
Замечательный по тембру голос - баритон - был у Ильи Петровича Богданова. Он пел в театре сравнительно недолго, лет восемь, исполняя партии Риголетто, Демона, Томского.
Пел в театре и Андрей Алексеевич Иванов, баритон, получивший, как и его однофамилец, звание народного артиста СССР. У него был очень красивый голос. Мягкий, но и с металлическими нотками. Андрей Алексеевич тоже работал в театре недолго, но в течение десяти лет выступал в партиях Князя Игоря, Демона, Валентина.
Большим уважением пользовались в театре и баритоны Пантелеймон Маркович Норцов и Владимир Ричардович Сливинский. Норцов очень хорошо вел лирический репертуар: пел Фигаро, Елецкого, Роберта, Жермона, Мазепу. Я не забуду, как он выходил в роли Жермона - красивый, стройный, подтянутый - и как обращался к Виолетте: снимал цилиндр, медленно стягивал перчатки и, не глядя, опускал их в цилиндр. Все это получалось у него так естественно аристократично! Лучшая же его партия - партия Онегина. Мы знали, что в свое время самыми выдающимися Онегиными были сначала Хохлов, потом Грызунов, а в пятидесятые, шестидесятые годы в этой роли славились Норцов и Сливинский. Они создавали два замечательных и совершенно разных образа.
Сливинский был любимцем и московской, и ленинградской публики. Блестящий, мужественный крепкий голос давал ему возможность петь и драматические партии: Демона, Эскамильо, в которых он пользовался неизменным успехом.
Лирические партии - Онегина, Елецкого - пел Петр Иванович Селиванов. В его репертуаре были также Жермон, Роберт в "Иоланте" и Шакловитый партия, требующая мощного звучания и отличной техники.
Владимир Николаевич Прокошев пришел к нам из Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Он в свое время поразил всех, когда приехал из провинции и спел Риголетто, Ренато в "Бале-маскараде", Грязного. Поразил своим могучим голосом и огромным темпераментом. И в Большом театре он пользовался грандиозным успехом. В репертуаре Прокошева, кроме Грязного, лучшими были партии Троекурова, Демона, Князя Игоря, Эскамильо, Вильгельма Телля.
Очень хорош был на сцене и Давид Александрович Гамрикели, обладатель уникального по красоте и силе лирико-драматического баритона. Еще во время грузинской декады перед самой войной он ярко выделился среди выступавших в Колонном зале. Давид Александрович спел ариозо Мазепы, ариозо Онегина, песню Веденецкого гостя, арию Роберта и серенаду Дон Жуана с таким блеском, что публика, казалось, была готова разнести зал. Его голос, собранный и сочный, заливал все уголки. Когда он поступил к нам в Большой театр, то выступал только в лирическом репертуаре, за исключением партии Риголетто: пел Онегина, Елецкого, Жермона, Веденецкого гостя.
Другой выдающийся певец того же поколения - Владимир Михайлович Политковский - исполнял все драматические партии, а иногда и лирические: Грязного, Томского, Скарпиа, Демона, Эскамильо и даже Онегина. И голос его звучал прекрасно, и при этом он был превосходным актером. Он мастерски умел пройтись по сцене, вынуть шпагу, снять шляпу или сверкающий военный кивер.
Но, кроме того, Владимир Михайлович иногда исполнял и басовые партии. Его голос и актерское мастерство позволяли ему выступать в ролях Руслана, Мефистофеля.
Однажды, после нескольких лет моей работы в Большом театре, он остановил меня в коридоре, и между нами состоялся тайный разговор. "Я хочу вас предупредить,- сказал Владимир Михайлович,- чтобы вы не разбрасывали свой голос. Диапазон его позволяет вам петь и высокие, и средние, и низкие партии, но вы сосредоточьтесь на высоких партиях. Все-таки у вас бас кантанте. А ведь я, когда начал петь не только баритональные партии, но и басовые, свой голос надломил. Он даже перестал мне одно время подчиняться, и мне стоило больших трудов снова направить его в правильное русло".
Но самое сильное впечатление среди всех певцов Большого театра производил на меня Дмитрий Данилович Головин. Я слышал его еще до сорокового года, когда подростком был на спектакле "Севильского цирюльника", где он пел в этом спектакле партию Фигаро. Казалось бы совсем небольшую. Она включает в себя каватину, несколько сольных фраз и участие в ансамблях. Однако Головин главенствовал над всеми, таким он обладал голосом и такой необыкновенной притягательной силой. На сцене он держался чрезвычайно просто, и именно его внутренний темперамент захватывал слушателей.
Например, когда он выбегал в начале первого действия, он не стоял на месте, как обычно это делают. Он пел каватину, беспрерывно скользя по сцене, и в конце концов просто танцевал с гитарой, а высокие ноты, которыми изобиловало окончание арии, бросал, как жонглер бросает мячи. Это производило потрясающее впечатление, и, конечно, разражалась буря аплодисментов. Трудно даже описать эту овацию.
Я помню его и в "Мазепе". Как он чувствовал внутреннее состояние своего героя! В ариозо он сидел, обхватив голову руками, перед портретом Марии. С какой глубиной чувства и силой произносил он фразу "О, Мария!". Как необыкновенно красиво звучал его голос на словах "в неге томной", а во фразах "в объятьях находил я рай" высокие соль-бемоль и ля-бемоль звучали так, что, казалось, вокальным возможностям и огромному дыханию певца нет предела. Его голос заливал зал, но поражала даже не сила звука, а множество красивейших обертонов в нем. После фортиссимо этой фразы Головин в заключении переходил вдруг на пиано, и слова "О, Мария, как я люблю тебя" звучали с захватывающей нежностью. Все это забыть нельзя.
А как необыкновенно Дмитрий Данилович пел развернутую, большую партию Демона. Когда он, стоя позади плачущей Тамары, словно распахнув крылья, произносил "К тебе я стану прилетать, сны золотые навевать" и брал высокие ноты соль и фа-диез, они звучали так красиво и с такой мощью, что публика бесновалась. В спектакле приходилось делать остановку: зал требовал, чтобы он повторял эти фразы. И Головин уходил в глубь сцены, и оттуда снова нес эти завораживающие звуки.
Говорят, что, когда прерывается действие, нарушается художественное целое спектакля. Но ведь опера - это, прежде всего, искусство пения, и своим пением артист доставляет такое удовольствие, что все остальное отодвигается на второй план. Прошло уже немало лет, а я как сейчас слышу голос Головина в этих партиях. Потрясающий был артист!
Мне удалось спеть с ним несколько спектаклей. В "Севильском цирюльнике" я пел Дона Базилио, а он - Фигаро. Правда, к этому времени он пел уже не с таким блеском, но исполнительское мастерство позволяло и слушать, и следить за его игрой с большим удовольствием.
Среди баритонов одно из ведущих мест в Большом театре занимал Владимир Федорович Любченко. Приятный, как актер, он и как человек был доброжелательный. Лицо его часто освещалось открытой милой улыбкой. Ему удавались партии Риголетто, Скарпиа, Троекурова. Владимир Федорович часто подходил ко мне и высказывал свое впечатление о моем пении, советовал, как, по его мнению, можно исполнить то или иное место.
Очень интересным певцом был также Александр Иосифович Батурин. Он учился в "Ла Скала" и был мастером своего дела. Очень красивый высокий бас кантанте позволял ему петь и басовые, и баритональные партии. В начале своей карьеры актер исполнял Мефистофеля, Мельника в "Русалке", Досифея. Но в последние годы, видимо не желая соревноваться с Пироговым и Рейзеном, Александр Иосифович начал выступать в партиях Руслана (причем пел его прекрасно), Томского, Князя Игоря, Эскамильо, Вильгельма Телля, Пимена, Нилаканты, Кочубея.
В дальнейшем Александр Иосифович стал профессором консерватории и подготовил много хороших певцов, которые поют в разных театрах нашей страны. Александр Иосифович был очень симпатичным, жизнерадостным человеком, он часто помогал мне советами, и мы дружили с ним, хотя спустя несколько лет мы стали "соперниками" по многим партиям.
Среди теноров Большого театра ведущее положение занимал Иван Семенович Козловский, под руководством которого я начинал свою карьеру певца в оперном ансамбле при Московской филармонии. С первых моих шагов на сцене Иван Семенович проявлял ко мне внимание и старался направлять меня по правильному пути. Когда же в 1943 году я начал работать в Большом театре, мы еще более сблизились. Со временем я получил возможность петь с ним в одних спектаклях и всегда с большим удовольствием вспоминаю о наших совместных выступлениях в "Фаусте", "Севильском цирюльнике", "Демоне", "Борисе Годунове", "Евгении Онегине", "Князе Игоре". В этих операх, как, впрочем, и во всех других, Козловский поражал не только публику, но и нас, артистов, своим неподражаемым мастерством.
Замечательным певцом-тенором был Сергей Яковлевич Лемешев. Впервые я услышал его незадолго до начала войны в партии Фауста. Уже в первых двух картинах он завоевал все симпатии публики. Светлых тонов костюм с развевающимся плащом, светлое трико, шпага и небольшая, в виде венца, шляпа с перьями подчеркивали стройную юношескую фигуру Фауста - Лемешева. Внешний облик певца был чрезвычайно привлекательным, а его голос лился звонко, красиво, свободно. Тогда я и не смел подумать о том, что вскоре на этой сцене буду петь в спектаклях вместе с Сергеем Яковлевичем.
Наше первое совместное выступление произошло в опере "Ромео и Джульетта". Помню нашу встречу. Мы, несколько участников спектакля, сидели в классе, ожидая начала спевки. Вдруг дверь отворилась и легкой походкой вошел стройный молодой человек (а в это время Лемешеву было уже за сорок). Он моментально покорил всех своей простотой, доброй улыбкой, сияющими серо-голубыми глазами и теплыми словами приветствия. Я сразу понял, что с таким человеком работать будет легко и приятно, и не ошибся. Спевки, репетиции на сцене и в классах, уроки фехтования Сергей Яковлевич проводил с энтузиазмом, с большим желанием сделать свою роль яркой, многогранной, привлекательной. В то же время он помогал всем артистам, занятым в спектакле, своими добрыми и нужными советами.
Вскоре в Большом театре начались репетиции "Руслана и Людмилы". Здесь Лемешев исполнял партию Баяна, казалось бы, небольшую, статичную, где артист занят лишь в одной первой картине оперы. Вокальная партия Баяна две песни. Но как они звучали у Сергея Яковлевича! Голос лился свободно, звонко, на большом дыхании и с необыкновенной теплотой. У певца была предельно ясная и четкая дикция. Ярко донесенное каждое слово, значительность и образность каждой фразы производили большое впечатление. И все это гармонировало с внешностью Баяна - Лемешева. Копна седых волос, спускающихся на плечи старца, седая окладистая борода с усами, сверкающий из-под густых бровей взор живых, умных и добрых глаз придавали облику Баяна необыкновенно притягательную силу и обаяние.
Без улыбки не могу вспомнить Лемешева в партии графа Альмавивы. В этом спектакле ярко проявился комедийный дар Сергея Яковлевича. Особенно это ощущалось в сцене, когда граф под видом пьяного солдата врывается в дом Бартоло, требуя постоя. Очень живо проводил артист и другую сцену, когда граф Альмавива, переодетый в черную длинную сутану, в шляпе с длинными полями, в больших черных очках, с нотной папкой под мышкой приходил от имени заболевшего Дона Базилио, чтобы вместо него дать урок пения Розине. Всю партию Альмавивы и эти оба превращения Лемешев проводил с тонким чувством юмора, нигде не пережимая, не переигрывая.
Большой интерес представляет одна из последних работ Сергея Яковлевича - роль, которую он исполнил в "Сорочинской ярмарке" Мусоргского. Эта роль совсем не "лемешевская", не его плана. Ведь мы привыкли слышать и видеть певца в амплуа героев-любовников. А тут вдруг ультрахарактерная партия Афанасия Ивановича, поповича. Но в этом, видимо, сказывался неуемный, ищущий, пытливый характер Лемешева-актера. Когда прошла премьера, удивлению моему не было границ. Откуда у нежного, лирического тенора вдруг зазвучали елейность, гнусавость, слащавость? Комедийный дар Лемешева и здесь проявился в полной мере. Публика от души смеялась и награждала певца дружными аплодисментами.
Я часто бывал и на концертах Сергея Яковлевича, и, кроме удовольствия, получал, как на уроках, много интересных сведений, а его вокальные и актерские приемы давали мне повод для важных выводов. Сольные выступления певца всегда проходили в переполненных залах и имели грандиозный успех.
Сергей Яковлевич тоже бывал на моих концертах, и одна из его похвал так запомнилась мне, что я хочу о ней рассказать
Я пел в тот вечер произведения Булахова, Дютша, Варламова, Оппеля, Абаза и других композиторов. По окончании моего выступления Лемешев пришел ко мне за кулисы и воскликнул: "Я поражен! Не тем, что у вас прелестно звучит голос и что вы поете с настроением. Нет! Меня поразил "Колокольчик" Гурилева. Когда вы спели первый куплет и взяли верхнюю ноту на форте, я решил, что так и должно быть. И вам это легко. Но тогда я подумал: "А как же вы справитесь со вторым куплетом, когда эту ноту нужно будет взять на пианиссимо? И вы меня покорили. Такого пианиссимо не всякий тенор может достичь! Пожалуй, и я не смогу!".
Много лет мы с Сергеем Яковлевичем проработали в Большом театре. Мне не забыть его необыкновенно ласкового отношения ко мне. "Ванечка" - так всегда называл он меня. А ведь "Ванечка" был на голову выше Сергея Яковлевича. Видимо, потому, что я был моложе Лемешева на семнадцать лет, он обращался ко мне так по-отечески ласково. Я же, как и все актеры, особенно молодежь, боготворил Сергея Яковлевича и относился к нему с большой нежностью и любовью.
Но если я заговорил о тенорах, то должен много лестных слов сказать и о Никандре Сергеевиче Ханаеве, отношение которого ко мне тоже могу назвать отеческим. Когда я спел две-три партии в театре, он сказал мне: "Ваня, помяни мое слово! Через несколько лет ты будешь премьером в театре". Ему было виднее...
Ханаев обладал редчайшим драматическим тенором огромного диапазона и владел им отлично. Он был невысокого роста, но строен, всегда подтянут, обаятелен. За кулисами театра Никандр Сергеевич появлялся прекрасно одетым, в белой крахмальной рубашке, с бабочкой. И на сцене он всегда производил сильное впечатление. Его голос просто поражал силой и металлическим блеском, а целеустремленность, собранность, артистический темперамент захватывали слушателей. Вот и сейчас он встает передо мной в своих ролях, а их целая галерея: Герман, Садко, Собинин, Финн, Хозе, Радамес, Отелло, Каварадосси, Каховский. Не могу решить, какой из них отдать предпочтение.
Одним из ведущих теноров Большого театра был также Федор Петрович Федотов, с которым мы выступали во многих операх. Помню его лирико-драматический мягкий и очень красивый голос. В "Руслане", например, он замечательно исполнял партию Финна. Это был мужественный старец и добрый волшебник. Он пел также Манрико, Садко, Вакулу, Тучу в "Псковитянке", Радамеса, Хозе, Собинина.
Красивым, плотным драматическим тенором обладал и Яков Иванович Енакиев. Правда, репертуар этого артиста был ограниченным, но зато такие партии, как Радамес, Каварадосси, Собинин, звучали у него превосходно: насыщенно, звонко, мощно. Особенно запомнились его верхние ноты. Его голос на них просто парил над хором и оркестром. К сожалению, он не обладал большим актерским дарованием, но пел замечательно.
Я очень дружил с Соломоном Марковичем Хромченко. Его голос, очень красивый по тембру, можно назвать ультралирическим тенором, поэтому Хромченко, в очередь с Козловским и Лемешевым, вел весь лирический репертуар. Он пел Ленского, Альфреда, Герцога, Индийского гостя, Берендея. Когда Соломону Марковичу было восемьдесят, он записывал на радио неаполитанские песни, и голос его звучал свежо и молодо. Удивительно!
Ультралирическим тенором обладал и Давид Федорович Бадридзе. Еще более светлым, чем у Хромченко, и тоже очень звонким. Мы с ним часто выступали в одних и тех же спектаклях. Он исполнял Фауста, Синодола, Индийского гостя, Альфреда в "Травиате" и много других партий.
Одним из моих партнеров был и Павел Иванович Чекин, наделенный лирическим тенором, но с характерным оттенком, помогавшим ему легко "лепить" разные образы. Он хорошо пел Ленского, Альфреда, Герцога, Индийского гостя, а также создал выразительный образ Еника в "Проданной невесте" Сметаны. В "Борисе Годунове" он был прекрасным Шуйским.
Партии, предназначавшиеся для лирического тенора, с успехом пел и Анатолий Иванович Орфенов. Очень музыкальный, он быстро учил весь репертуар, мог петь все, что ему предлагали. Уверенные в его высоком профессионализме, мы никогда за него не боялись. Все у него всегда звучало.
Некоторое время Орфенов заведовал нашей оперной труппой.
Борис Федорович Бобков, тоже обладавший лирическим тенором, был стройным красивым человеком с голубовато-серыми глазами, доброй улыбкой. Он нравился публике, особенно женщинам, в партиях Альфреда, Ленского, Дубровского. Правда, его карьера продолжалась не очень долго, и голос стал звучать чуть хуже, потускнел.
Из Ленинграда к нам приехал Виталий Игнатьевич Кильчевский артистичный певец, обладавший лирическим тенором, особенно крепким в верхнем регистре. Если он пел Фауста или Ромео, где были предельно высокие ноты, то брал их так легко и уверенно, и они звучали так сильно, что все мы просто радовались.
Одним из самых популярных и больших мастеров своего дела был Григорий Филиппович Большаков - лирико-драматический тенор. Его голос, с ясным, легким, свободным верхом, покорял красотой тембра, яркого, плотного и звонкого. Да и сам он был красив. Григорий Филиппович не только хорошо пел, но и создавал живые, убедительные образы. Я помню его Германа. Как значительна была каждая произнесенная им фраза, каждый эпизод его появления на сцене! Они запомнились на всю жизнь. Большаков создал также незабываемые образы Хозе, Собинина. Я помню его в труднейшей партии царственного Радамеса. Особенно меня покорял всегда романс "Милая Аида". Когда он подходил в последней фразе "Венец возвращу тебе" к си-бемоль и делал на нем большую фермату, публика устраивала ему овацию. И прямо противоположный образ - Вакула в "Черевичках", кузнец, влюбленный в Оксану, мешковатый, застенчивый, но очень обаятельный деревенский парень. Эта роль была большой удачей Большакова, замечательно ему удавалась, и он получил за нее Государственную премию СССР.
Кроме партий драматического репертуара, артист исполнял и лирические: Ленского, Владимира Игоревича, Фауста. Я пел с ним в "Фаусте" и помню, как блестяще он исполнял каватину и все дуэты с Маргаритой.
В те же годы уже сходил со сцены и допевал последние спектакли драматический тенор Борис Михайлович Евлахов. В свое время он тоже был очень известен и любим публикой. Когда я поступил в театр, его голос был уже в какой-то степени амортизирован, но Евлахов оставался стройным, подтянутым, незабываемо обаятельным. Несмотря на свои большие годы, он прекрасно пел Германа, Хозе, Радамеса, Ленского, Дубровского, и мы всегда им любовались.
Из Ленинграда к нам приехал и Георгий Михайлович Нэлепп. У него тоже был лирико-драматический голос, очень полетный, яркий и звонкий. Его первое выступление в театре должно было состояться в "Пиковой даме", которой дирижировал Пазовский. Георгий Михайлович пришел в класс на спевку, запел, а мы все стали переглядываться: где же голос? Какой-то сипловатый маленький голосишко. Нэлепп провел в четверть голоса и оркестровую репетицию, и мы стали ждать, что же будет на спектакле. И после того как он запел, а я в роли Сурина был в это время на сцене, по окончании акта за кулисы прибежали все, кто слушал его из зала, переполненные изумлением: "Вы знаете, как звучал Нэлепп?! Вот это да... Каждая нота заливала зал! Просто замечательно!"
Нэлепп был прекрасным Самозванцем, Германом, Собининым, Садко, Голицыным, Радамесом, Флорестаном. Как жаль, что певец рано умер. Именно такие артисты создавали настоящее лицо Большого театра.
Я помню Николая Николаевича Озерова, который был ведущим тенором и прекрасно пел партии Отелло, Садко, Хозе, Радамеса.
Очень красивым драматическим тенором, широким по объему и мягким, обладал Александр Робертович Хоссон. Полнота и невысокий рост не позволяли ему петь партии героического плана, но он создал выразительные образы волшебника Финна в "Руслане и Людмиле", Вашека в "Проданной невесте", хорошо пел Шуйского в "Борисе Годунове".
Конечно, у таких певцов-басов, как Пирогов, Рейзен, Батурин, Бугайский, Лубенцов, можно было почерпнуть очень многое, но я внимательно следил за работой всех артистов, не только басов и баритонов, но и теноров, и сопрано. Я изучал, как, например, они строят верхний регистр, берут высокие ноты и затем, проанализировав тот или иной прием, пробовал его на себе. И если он мне подходил, брал его на вооружение.
Теперь перейду к рассказу о наших певицах.
Начиная с двадцатых годов, три десятилетия украшала сцену Большого театра Валерия Владимировна Барсова. Ее звонкий серебристый голос и вдохновенное мастерство драматической актрисы всегда вызывали восхищение публики.
Первый раз я услышал Барсову в "Иване Сусанине". Меня поразил тогда ее голос, большой по объему, сила его звучания, и в то же время безупречное владение им певицей. Он то порхал, как легкий мотылек, то наполнял весь зал.
Незабываемы образы, созданные Валерией Владимировной: Людмила, Антонида, Розина, Виолетта. Хотя у нее было лирико-колоратурное сопрано, она могла петь и драматические партии: например, с успехом исполняла роль Леоноры в "Трубадуре".
Елизавета Владимировна Шумская пришла к нам из саратовского театра, проработав там около десяти лет. Ее прелестный звонкий голос, хрустально чистый, напоминал звук колокольчика. Впечатляла и глубокая вдумчивая работа артистки, настроение которой передавалось публике, отвечавшей ей огромной любовью. Шумская вела весь репертуар лирико-колоратурного сопрано. Она была прекрасной Маргаритой, Джульеттой, Людмилой, Антонидой...
Красивым лирико-драматическим сопрано обладала и Ксения Георгиевна Держинская. Ее голос был одновременно "крепким" и очень мягким, красивым и поэтому привлекательным. Исполнение Ксении Георгиевны отличалось необыкновенной музыкальностью, она пела проникновенно и была превосходной артисткой. Но годы брали свое, и ее сценическому облику стала мешать полнота. Все же Держинская прекрасно пела Ярославну в "Князе Игоре", Аиду, Лизу.
Застал я и Александру Константиновну Матову, большого мастера вокала. Ее лучшие роли, роли лирико-драматического сопрано - Аида и Тамара.
Прекрасно пела Людмилу, Джильду, Розину, Виолетту Елизавета Михайловна Боровская, наделенная "круглым", звонким сопрано.
К плеяде наших блестящих певиц нужно отнести и Елену Андреевну Степанову, обладавшую уникальным голосом - мощным, звонким, красивым и необыкновенно широким по диапазону. Я помню, как потрясала она слушателей, исполняя арию с колокольчиками Лакме, помню и созданные ею музыкальные образы Марфы, Людмилы, Антониды. Но, к несчастью, Елена Андреевна попала в автокатастрофу и после этого выступать уже не могла.
Очень приятным лирическим сопрано владела Елена Кирилловна Межерауб. Когда она пела Дездемону или Микаэлу, Тамару в "Демоне" или Татьяну в "Евгении Онегине", то наделяла своих героинь тем очарованием, которое было свойственно и ей. И голос ее звучал красиво и проникновенно.
Прекрасный, звонкий, сильный лирический голос был у Натальи Дмитриевны Шпиллер. Когда я пришел в театр, Наталья Дмитриевна находилась в полной артистической форме, была красивой и стройной, ее пение отличалось огромной выразительностью. По прошествии нескольких лет я стал выступать с ней в одних и тех же операх. Она пела Антониду в "Сусанине", Татьяну в "Онегине", а в "Вильгельме Телле" она замечательно пела очень трудную партию Матильды.
Музыку Россини вообще петь трудно, потому что нужно обладать не только сильным голосом, но еще и виртуозной техникой.
Я пел с ней во многих операх и всегда получал большое удовлетворение от общения с этой артисткой и певицей.
Наталья Дмитриевна выступала не только в опере, но и в концертах. Камерную музыку она исполняла с таким мастерством и вдохновением, что почитатели ее таланта буквально ломились на концерты, и достать на них билеты было невозможно.
Теми же качествами, что и Наталья Дмитриевна, обладала и Елена Дмитриевна Кругликова. У нее тоже был красивый, крепкий лирический голос. Он был настолько плотный, что, кроме Матильды, она пела и драматические партии: Февронию, Оксану в "Черевичках", Татьяну, Тамару и т.д. Кроме того, Елена Дмитриевна тоже замечательно исполняла камерные произведения.
Среди более низких голосов большой популярностью пользовалась Надежда Андреевна Обухова. Одной из последних ее партий была Любава в "Садко", но она пела уже очень редко. У нее был необыкновенно красивый голос с грудными низкими нотами, бархатный, теплый. Видимо то, что Надежда Андреевна очень располнела, помешало ей петь в театре, и она перестала в нем выступать.
Фаина Сергеевна Петрова обладала низким контральто, несколько с горловым оттенком. Она была очень музыкальная, артистичная, и такие роли, как Княгиня в "Русалке" или Графиня в "Пиковой даме", были лучшими ее ролями.
Анна Андреевна Зелинская обладала настоящим меццо-сопрано. Я застал ее, когда она еще очень хорошо пела Амнерис в "Аиде", Маддалену в "Риголетто" и Ангела в "Демоне". Это была очень симпатичная артистка.
Крепкое драматическое сопрано Александры Андреевны Бышевской покоряло не только своей мягкостью, но и силой. В образах Тоски, Аиды, Лизы она завораживала слушателя не только своим исполнением, но и внешним обликом ее лицо с правильными чертами не могло не привлекать.
Но особенно среди певиц Большого театра мне хочется выделить Глафиру Вячеславовну Жуковскую, наделенную полетным и звучным лирическим голосом, огромным обаянием и необыкновенным артистизмом. Глафира Вячеславовна выступала во всех партиях лирического сопрано и владела поистине колоссальным репертуаром. Лучшими из ее ролей, как мне кажется, были Иоланта, Татьяна, Дездемона. Когда состоялась премьера "Иоланты", то Жуковская так спела заглавную партию, что оркестранты,- а это самые строгие ценители - написали ей письмо, продиктованное необыкновенным восторгом. Мне хочется привести этот редкий документ.
"Дорогая Глафира Вячеславовна!
Коллектив оркестра Государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР сердечно поздравляет Вас с блестящим исполнением роли Иоланты.
Вы создали замечательный образ, исключительный по силе и выразительности, являющийся образцом реализма. Своим исполнением Вы выразили чаяния гениального Чайковского.
Поздравляя Вас еще раз, Глафира Вячеславовна, с заслуженным успехом, мы, коллектив оркестра, желаем во всей дальнейшей вашей плодотворной творческой деятельности на благо родного советского искусства являть собой пример для всей исполнительской молодежи".
(Восемьдесят подписей.- И.П.)
Среди певиц с низкими голосами прежде всего хочу выделить Елизавету Ивановну Антонову. Высокая, стройная, подтянутая, музыкальная певица, она часто играла Ваню в "Сусанине". Это был настоящий деревенский мальчишка. Антонова создала также запоминающийся образ Ратмира в "Руслане", была замечательной Солохой в "Черевичках". Елизавете Ивановне удавались и роли Кончаковны, Леля, она ярко выделялась в небольшой партии Нежаты в "Садко",
Очень талантливой артисткой, контральто, была Бронислава Яковлевна Златогорова, и я даже не знаю, кому отдать предпочтение - ей или Антоновой. Златогорова тоже покоряла слушателей сильным, звучным голосом. Она создала прекрасные образы Ратмира, Вани, Кончаковны, Леля, Любаши, Ольги в "Евгении Онегине". Среди ее лучших ролей - незабываемый образ Графини в "Пиковой даме". Певица проводила эту роль удивительно выразительно.
Ведущими меццо-сопрано являлись Вера Александровна Давыдова и Мария Петровна Максакова. Давыдова радовала звонким ярким голосом, артистичностью, музыкальностью, и на сцене всегда выглядела необыкновенно эффектно. Когда я поступил в Большой театр, то признался Вере Александровне, что был просто влюблен в нее и не пропускал ни одного ее выступления, особенно в партии Амнерис. Вера Александровна рассмеялась и в дальнейшем мы подружились с ней.
Давыдова тоже замечательно исполняла роль Любаши в "Царской невесте", Любови в "Мазепе", Марины Мнишек в "Борисе Годунове", Марфы в "Хованщине", Кармен. Она также регулярно выступала с сольными концертами.
В пятидесятые-шестидесятые годы Мария Петровна Максакова была уже в зрелом возрасте, но голос ее хорошо сохранился. Его характер трудно определить: не то сопрано, не то меццо-сопрано, зато он был красивым и очень ровным - одинаково хорошо звучал и на верхних, и на низких нотах.
Всех покоряла одухотворенность образов, созданных артисткой. Один из рецензентов написал даже, что в искусстве Максаковой есть что-то родственное шаляпинскому - она пела, как говорила, и не играла, а жила на сцене, совершенно сливаясь с ролью. Среди ее высочайших достижений Любаша, Марина Мнишек, Марфа, Кармен, Амнерис.
И Максакова, и Давыдова строго следили за собой. Они рассказывали мне, что никогда после обеда не ложились отдыхать, наоборот, по сорок-пятьдесят минут стояли, не двигаясь, чтобы не поправиться.
Многие артистки Большого театра были наделены прелестной внешностью высоки, стройны, обаятельны. Среди них и Александра Кузьминична Турчина. Ее лучшие роли - Весна, Кармен, Любава, Ганна в "Майской ночи", Хозяйка корчмы в "Борисе Годунове", Солоха, Амнерис. Теми же достоинствами обладала и Александра Владимировна Щербакова, выступавшая в ролях Кончаковны, Княгини, Маддалены; хорошо пела она и Ангела в "Демоне".
Мои первые роли
Когда я начал работать в Большом театре, мне, как и предупреждал Самосуд, давали сначала маленькие партии. В исполнительском плане я справлялся с ними довольно легко, трудность заключалась в их сценическом воплощении. Дело в том, что басам чаще всего поручаются роли стариков или людей степенных. Все эти роли требуют определенного грима: седая борода, усы, насупленные брови, седой парик. Но я был очень молод и, как ни старался, как ни клеил усы и брови, как ни гримировался, ни подкладывал специальные толщинки, мне говорили: "Как ты, Ваня, ни стремишься скрыть свою молодость, как ни гримируешься, а со сцены на нас смотрят молодые юношеские глаза".
У меня сохранилась газета "Советский артист" от 25 мая 1963 года, в которой А. Мелик-Пашаев так рассказывает о начале моего артистического пути: "Я вспоминаю 1943 год. В филиале Большого театра шла генеральная репетиция оперы Д. Кабалевского "Под Москвой" ("В огне"). В одной из картин на сцену поспешным шагом, почти бегом, вышел немецкий офицер. Артист, игравший его, очень старался выглядеть солидным и суровым, но по задорному посылу молодых глаз, сверкавших из-под низко надвинутой фуражки, было ясно, что он еще очень юн. Сухо бросив несколько отрывистых фраз-приказов, офицер быстро пересек сцену и скрылся в противоположной кулисе".
И все же я очень много работал над своими ролями, учил новые и новые партии, и только за 1943 год выступил в шести операх. 13 июня я сыграл свою первую роль в классическом репертуаре - роль революционера Анжелотти, восставшего против тирании римского наместника (опера Пуччини "Тоска"). Партия эта небольшая (Анжелотти появляется только в первом акте), речитативная, нетрудная вокально, но все же Анжелотти должен произвести соответствующее впечатление. Ведь он бежит от погони, скрывается в церкви, где работает живописец Каварадосси, и просит, чтобы тот его спрятал. Каварадосси прячет Анжелотти, за что расплачивается жизнью.
18 августа того же года я выступил в опере Верди "Риголетто" в роли Монтероне. Дирижировал оперой Кондрашин, а ставил замечательный режиссер Шарашидзе. Тициан Епифанович Шарашидзе был очень симпатичный, высокообразованный человек, работа с ним доставляла мне большое удовольствие и приносила огромную пользу. Монтероне - старый гордый граф, зловещий в своих пророчествах. Оскорбленный жестокими придворными, он проклинает Герцога и Риголетто, и его фразы нужно произнести весомо и страстно. Партия Монтероне трудна вокально: она высокая и напряженная, звучит все время в сопровождении оркестра тутти, и голос певца должен прорезать оркестр. Поэтому, когда мне предложили эту роль, я даже немного испугался. Но на репетициях голос звучал хорошо и как раз лучше всего в высоком регистре. Поработал я над ролью и сценически - она требует минимума жестов, и в то же время образ Монтероне должен в какой-то момент потрясти не только Риголетто, но и слушателей, чтобы они пронесли его проклятье через весь спектакль. Мне было в это время всего двадцать три года, и я снова, несмотря на грим - парик и усы,- не мог скрыть свою молодость. Она сквозила в движениях и походке, в осанке. Однако мое выступление руководство театра оценило довольно высоко.
Самосуд, который был тогда главным дирижером Большого театра, услышав меня в этой роли, попросил зайти к нему в директорскую ложу. Я пришел в костюме после первого действия, так как в третьем мне предстоял еще проход. Самуил Абрамович взял меня под руку, мы вышли в фойе, и он сказал, что даже не ожидал, что такая трудная партия получится у меня так хорошо. Затем Самосуд спросил меня, знаю ли я партию Сусанина. Я ответил, что знаю только арию. "Выучите дуэт с Ванькой и сцену с поляками в лесу",- посоветовал он. (Это две основные сцены, по которым судят, удалась ли роль артисту). Я, конечно, был обрадован и окрылен, взялся за работу, но, к сожалению, деятельность Самуила Абрамовича в театре неожиданно оборвалась. Как это случалось тогда и с другими дирижерами Большого театра, он был несправедливо уволен, и на смену ему пришел А. М. Пазовский.
В дальнейшем случилось так, что в "Риголетто" я не ограничился только партией Монтероне. Как-то мне позвонили из театра и сказали, что заболели все исполнители Спарафучилле и приходится отменить спектакль.
- Может быть, вы споете Спарафучилле? - обратились ко мне.
- Я же пою Монтероне.
- Ну, может быть, на Монтероне еще кого-нибудь найдем.
- Но я ведь никогда Спарафучилле не пел. Правда, партия у меня на слуху,- сообразил я.- Ладно, я посмотрю ноты.
Полистал клавир, позвонил и согласился: "Спою". Пришел в театр, и, так как Монтероне не нашли, предложил: "Давайте я спою и того и другого".
В первом акте я пел Монтероне, потом надевал плащ, сапоги и шляпу, клеил бороду, усы и выходил на дуэт с Риголетто в образе Спарафучилле. После этого я опять перегримировывался и в облачении Монтероне делал проход перед герцогскими покоями. Потом снова перегримировывался в Спарафучилле и проводил всю четвертую картину. Самое поразительное, что я без репетиции спел все ансамбли и нигде не ошибся, чему все удивлялись.
18 июня 1943 года я исполнил роль Старого слуги в опере А. Рубинштейна "Демон". Несмотря на то, что первые мои партии - Монтероне и Старый слуга - небольшие, Шарашидзе старался раскрыть для меня весь внутренний мир моих героев. Дирижировал оперой сначала Александр Петрович Чугунов, а потом Василий Васильевич Небольсин, замечательный дирижер, с которым я проработал затем всю жизнь. Прекрасен был и исполнительский состав. Тамару пели Талахадзе, Шпиллер, Кругликова, Шумилова, Иванова, Демона - Андрей и Алексей Ивановы, Бурлак, Медведев, Прокошев и Богданов замечательные певцы с чудесными голосами. И даже маленькую партию Синодала исполняли Орфенов, Козловский, Лемешев, Чекин и Хромченко. Этот спектакль всегда был праздником. А все мои действия направлялись на то, чтобы помочь молодому князю, который спешит на свадьбу к своей невесте, и я, как нянька, ухаживал за ним. Снова я клеил седые усы и бороду, чтобы казаться старше, но опять слышал: "Нет, Вань, не скрыть тебе молодости"
Как я старался! Вокально партия Старого слуги получилась у меня лучше. Она несложная, ее тесситура невысокая, петь приятно, потому что у Рубинштейна все партии очень певучие. Не зря публика любит эту оперу.
3 июля 1943 года меня ввели в оперу "Пиковая дама". Дирижировал Мелик-Пашаев, а ставил ее Баратов. Исполнители оперы, как всегда, оказались прекрасными. Партия Германа была поручена Ханаеву и Нэлеппу, а позже к ним присоединились Большаков и Ивановский. Панова и Чубенко изумительно пели Лизу. Эти артистки обладали могучими голосами и большим темпераментом. Норцов, Селиванов, Лисициан создавали запоминающийся образ князя Елецкого, Батурин, Иванов и Медведев - Томского. Фаина Петрова и Златогорова исполняли партию Графини и были в этих ролях незабываемы. Максакова и Борисенко пели Полину и Миловзора.
Меня ввели в роль Сурина, когда опера уже давно шла. Это небольшая роль и, хотя она проходит через все произведение, никаких трудностей для певца не представляет. Все же мне нужно было научиться носить мундир, сапоги со шпорами, мой Сурин должен был иметь светские манеры. Поэтому работа над этим образом помогла моему сценическому становлению.
Следующая роль - Князь Гремин в "Евгении Онегине" - досталась мне случайно. Все исполнители этой партии заболели гриппом, и заведующий нашей оперной канцелярии В. И. Филиппов попросил меня выручить театр и спеть эту партию. Я с радостью согласился, хотя и сам был нездоров.
Пошел гримироваться и распеваться - голоса нет. И чем больше я распевался, тем хуже звучал голос. К тому же я очень волновался. Вышел на сцену и так растерялся, что забыл подойти к Онегину, и Сливинский, который должен был спросить меня: "Скажи мне, князь, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит",- по близорукости стал меня искать, а я в это время находился на другой стороне сцены. Наконец Сливинский нашел меня, повернулся в мою сторону и запел. Тогда и я приблизился к нему и в положенное время "просипел" свою арию. Получил два хлопка за нее, предложил Татьяне руку и увел ее со сцены. Короче говоря, провалился. На следующий день в театре все на меня стали смотреть очень косо. Филиппов подошел ко мне и с иронией в голосе сказал: "Ну, спасибо, выручили-с, выручили-с".
Я думаю: "Ну все, я свое творчество отодвинул на далекий-далекий план". Но, как бывает в жизни, случилась опять вспышка гриппа. И все исполнители Гремина опять заболели. А я был здоров. И тогда Филиппов снова ко мне подошел:
- Иван Иванович, ну, может быть, на этот раз вы по-настоящему выручите театр?
- Да, выручу! Выручу! - обрадовался я.
И пошел петь спектакль. В этот раз дирижировал Небольсин. Я распелся, спел арию, и публика меня приняла прекрасно. За арию так долго и дружно аплодировали, что я, наконец, со спокойной душой предложил своей Татьяне руку и увел ее со сцены.
На следующий день ко мне уже обращались с похвалами. А Небольсин сказал: "Ну, Ванечка (он всегда звал меня Ванечкой, потому что я ему годился в сыновья), теперь это ваша партия, и вы будете петь ее в очередь с Максимом Дормидонтовичем Михайловым".
За эту партию я получил еще одну очень дорогую для меня похвалу. Как-то раз, выходя из театра после дневного представления "Евгения Онегина", я вдруг услышал из репродуктора, который был установлен на площади, арию Гремина в чьем-то исполнении. А сзади меня шла какая-то пара, и женщина сказала:
- Ну, опять "Онегин"! Не успели послушать в театре, как опять звучит. Но это другой артист. А как тебе понравился тот, который пел сегодня?
Я с трепетом стал прислушиваться
- Да знаешь,- ответил мужчина,- голос у него приличный, но он, видимо, очень старенький.
Когда я услышал эти слова, я готов был его обнять и расцеловать. Ведь сколько я прикладывал усилий, чтобы казаться старше!
В самом конце сорок третьего года я исполнил роль царя Египта в "Аиде" Верди, которой дирижировал замечательный дирижер, крупный музыкант Лев Петрович Штейнберг. Эта роль тоже не требует от певца решения больших задач. Она написана в очень удобной тесситуре, на центральном регистре, и просто нужно умение петь в ансамбле, с хором, двойным оркестром (к обычному здесь прибавляется еще духовой оркестр на сцене). При таком мощном сопровождении голос певца должен нестись сквозь толщу звуков, так что и в этой работе была для меня большая польза. В дальнейшем я пел в "Аиде" уже другую партию, о чем расскажу позже.
В 1943 году наша труппа стала готовиться к новой постановке "Евгения Онегина". Раньше эта опера шла в филиале Большого театра, а теперь ее задумали перенести на большую сцену, тем более что из эвакуации, из Куйбышева, приехала основная труппа. Я был назначен на роль Гремина. Но так как я был пятый или шестой Гремин, то в репетициях не участвовал. Основными исполнителями этой партии были Рейзен и Михайлов, пели Соловьев, Яхонтов. Я же ежедневно пропевал свою партию и ждал.
Когда начались репетиции, опять заболели все исполнители партии Гремина. И снова меня по телефону вызвал заведующий оперной канцелярией, теперь уже не Филиппов, а Иванов Борис Петрович, и потребовал: "Срочно в театр!" Я прибежал в театр.
- Сейчас будешь петь с оркестром Гремина.
- Как? Я же не репетировал даже под рояль, а вы сразу меня хотите с оркестром?!
- Да, будешь петь с оркестром. Не бойся.
В оркестровой яме уже сидел новый оркестр, который приехал из Куйбышева, основной состав. А вся "куйбышевская" труппа находилась в зале.
Короче говоря, когда дошло до моей сцены, я вышел, спел арию и... шквал аплодисментов из зала и из оркестровой ямы. Кончилась репетиция, подошел ко мне Мелик-Пашаев и говорит:
- Ваня, ну и молодец! Вы чувствуете, как вас приняли все? Это ведь неспроста.
- Да, очень приятно,- отвечаю.- Я просто на седьмом небе.
- Ну, мы еще поработаем над некоторыми тонкостями, и партия у вас будет изумительная. Это прекрасно, прекрасно.
Я ушел окрыленный. И вдруг через день он подходит ко мне, берет под руку и говорит:
- Ваня, мы с Борей (режиссером Борисом Александровичем Покровским) побеседовали и решили, что Гремина вам петь еще рано. Пока мы вас назначаем на Зарецкого.
Я скромно поклонился, сказал "спасибо", повернулся и ушел. И пел Зарецкого. Конечно, мне было очень обидно, но нос на квинту я не вешал, а продолжал работать дальше.
9 марта 1944 года я спел партию Вальтера в опере Россини "Вильгельм Телль". Эту оперу театр поставил еще в Куйбышеве, во время эвакуации, за что получил Государственную премию СССР. Теперь же опера возобновлялась на большой сцене с новыми замечательными костюмами и декорациями. Дирижировал оперой Мелик-Пашаев, а ставил ее Захаров. Два этих замечательных мастера воплотили на сцене произведение итальянского композитора блестяще. Мелик-Пашаев дирижировал с исключительным блеском и вместе с тем очень тонко. А Захаров использовал свой талант балетмейстера в постановке прекрасных танцев. И, как всегда, блистали исполнители. Телля пели Батурин, Медведев, Прокошев, Матильду - Шпиллер, Кругликова, Тенора-героя Большаков, Федотов.
И вдруг все исполнители партии Вальтера заболели. Подходит ко мне тогда Мелик-Пашаев и просит: "Ваня, выручите!"
А партия сложная. Вся музыка этой оперы очень трудна для исполнения. В ней много пассажей, требуется широкий диапазон голоса и в то же время точность исполнения. Но я согласился попробовать, быстро выучил партию, Мелик-Пашаев меня послушал и заключил: "Давайте петь!"
И буквально через три дня я пел премьеру. Конечно, дирижерам нравится, когда они видят, что молодой артист работает,- ведь нужно было выучить не только музыку, но и слова. Поэтому моя новая роль открыла для меня путь к дальнейшему продвижению в театре. Следующей более серьезной работой в том же сорок четвертом году стал Дон Базилио в "Севильском цирюльнике".
Шел "Севильский цирюльник" в филиале Большого театра, дирижировал Небольсин, который проникся ко мне расположением за то, что я все время учил новые партии. Он-то и предложил мне спеть в опере Россини. В этом спектакле тоже были заняты очень хорошие исполнители. Селиванов, Бурлак, Алексей Иванов пели Фигаро, Звездина, Фирсова, Ирина Масленникова прекрасно исполняли партию Розины, Козловский, Лемешев, Хромченко, Орфенов, Чекин играли графа Альмавиву. В роли Дона Базилио выступали Рейзен, Пирогов, Соловьев. Дона Бартоло замечательно исполняли Малышев и Федор Светланов, отец дирижера Евгения Светланова.
Моя роль Дона Базилио мне очень нравилась. Рейзен и Пирогов трактовали этот образ по-разному. В основном они рассматривали его в гротесковом плане и шаржировали многие сцены. А я старался избежать и того и другого. Я играл в реалистическом стиле и все время представлял себя в той ситуации, в которой оказался Дон Базилио.
"Базилио - очень бедный человек,- думал я.- Он, видимо, получает немного денег от скряги Бартоло за уроки с Розиной. Конечно, когда возникает замысел убрать поклонника Розины с помощью клеветы, Базилио предстает в упоении от своего вдохновения. Когда же Бартоло упрекает Базилио в измене, тот в свое оправдание отвечает, показывая на подаренное ему кольцо: "У графа есть в кармане такие аргументы, что спорить невозможно".
Гримируясь, я удлинял свою голову, клеил бороду, длинный нос, гримировал руки, удлиняя пальцы, высветляя все фаланги. Шея тоже была загримирована. Худой и высокий, я становился похожим на "червя", как характеризует Дона Базилио Бомарше. В то же время я был смешной, и стоило мне только появиться на сцене, как в зале уже раздавался веселый смех. Публика бурно реагировала и прекрасно принимала каждый выход моего героя.
Технически партия Базилио нетрудная, но очень яркая, выигрышная, интересная, поэтому каждый певец-бас старается иметь ее в своем репертуаре.
В конце 1945 года Небольсин и режиссер Саковнин предложили мне начать работу над партией отца Джульетты в опере Гуно "Ромео и Джульетта". Партия эта написана в чрезвычайно высоком регистре. А петь нужно легко, свободно. Капулетти счастлив, что отдает дочь замуж. Он появляется в первом действии и в предельно высоком регистре начинает петь: "Ну что ж, молодежь и милые дамы, пора танцевать, танцуйте все веселее..."
От этой партии все отказывались, и Небольсин предложил мне. "Давайте попробуем. У вас должно выйти".
Я попробовал, действительно вышло, и я пел премьеру. Этот спектакль мне особенно запомнился. Прежде всего в опере Гуно очень красивая музыка, и я жалею, что опера сейчас не идет у нас в театре. Она очень мелодична, музыкальна, трогательна. Ведь это не только Гуно, но и Шекспир! И все дуэты и ансамбли написаны вдохновенно.
Опера была прекрасно поставлена, но самое главное украшение спектакля составляли его главные исполнители Лемешев пел Ромео, а в очередь с ним выступали Кильчевский и Большаков. Ирина Масленникова и Елизавета Шумская исполняли партию Джульетты, Михайлов - Отца Лорана. И, хотя прошло уже много лет, я хорошо помню всех исполнителей этой оперы.
Нужно сказать, что мне самому партия Капулетти далась нелегко, пришлось вложить в нее очень много труда. В образе Капулетти я подчеркивал его чувство достоинства. В его манерах не должно быть никакой суеты, торопливости. И эта партия мне много дала в моем актерском становлении, это был тоже шаг вперед. Я развивался не только музыкально, но и вокально. Голос рос. Я даже сам не ожидал, что он так пойдет кверху и книзу одновременно. И звучание его стало мощным. Из-за того, что партия Капулетти трудная и высокая, многие ее исполнители просили: "Иван Иванович, спойте, я так волнуюсь, что не могу петь". И я пел, я не боялся.
В 1946 году, увидев, какие я делаю успехи, Мелик-Пашаев предложил мне спеть партию короля Рене в "Иоланте" Чайковского.
Раньше, когда эту оперу ставил Самосуд, просто мурашки по спине бегали - так изумительно он чувствовал музыку Чайковского. Самуил Абрамович дирижировал с огромным вдохновением и внутренним откровением большого художника. Жуковская, создавшая бесподобный образ Иоланты, была непередаваемо трогательна, без слез ее невозможно было слушать. Короля Рене превосходно исполнял ее муж Пирогов, а рыцаря Водемона - Большаков. Он пел с такой искренностью, что мы уходили после этого спектакля, совершенно очарованные. Каждая, даже самая маленькая, партия сверкала в нем как жемчужина. Это было что-то светлое, радостное, жизнеутверждающее. При других дирижерах этот спектакль получался несколько более блеклым. Трудно было добиться самосудовских вершин.
Я пел в этой опере, когда ею дирижировал Мелик-Пашаев. Он тоже вкладывал в этот спектакль много душевных сил, а режиссером оперы был Тициан Епифанович Шарашидзе. Он помогал певцам раскрыть внутренний мир своих героев и строил мизансцены так, чтобы актер видел дирижера и вместе с тем пел в публику.
В постановке, которую осуществил Мелик-Пашаев, Иоланту снова пела Жуковская, хотя она была уже на закате своей деятельности. В очередь с ней прекрасно пели Шпиллер и Шумская. Большаков, Кильчевский и Федотов очень выразительно исполняли партию Водемона. Звуковая стихия заполняла зал, когда Пирогов выступал в роли короля Рене. Изумительно звучал голос Батурина в партии мавританского врача Эбн-Хакиа, Норцов и Сливинский, который тоже был на закате, Лисициан и Селиванов прекрасно пели Роберта. Потом и меня ввели в эту оперу.
Когда я начал разучивать ее, у меня поначалу не хватало дыхания и сил, чтобы допеть все первое ариозо короля "Господь мой, если грешен я, за что страдает ангел чистый?" Оно очень трудное, в нем много больших пассажей, скачков. Сначала вверх - на словах "Но только дай мне не видать мое дитя объятым тьмою". А потом, когда Король обращается к Богу: "О Боже, Боже мой, сжалься, сжалься надо мной",- через две октавы нужно спуститься вниз. Особенно трудно все это исполнить с большой сцены, в сопровождении оркестра, и мне казалось, что я этих трудностей не преодолею.
Однажды на репетеции я поделился своими сомнениями с Мелик-Пашаевым
- Давайте попробуем,- предложил мне Александр Шамильевич.
Я запел, и голос вдруг пошел. Я даже нигде не остановился.
- Да все вроде нормально,- говорит Мелик-Пашаев.- Арию еще раз можете спеть?
А в это время я занимался с бывшим певцом Большого театра, педагогом-корректором, который проверял готовность наших партий, Михаилом Аркадьевичем Пумпеанским. Тот услышал вопрос дирижера и стал грозить мне издали пальцем, чтобы я второй раз не пел и голос не переутомлял. А мне по молодости лет ничего не было страшно. Я говорю:
- Что ж, давайте споем.
И второй раз спел еще лучше.
- Все в порядке, споете, не волнуйтесь,- похвалил меня Мелик-Пашаев.
И я спел.
Однако в том же сорок шестом году мне пришлось пережить очень большое огорчение.
Большой театр готовил в это время новую постановку "Бориса Годунова" Мусоргского, и А. М. Пазовский, очень хороший музыкант и справедливый человек, назначил меня на роль Пристава. Однако партия эта написана для низкого баса, я бы сказал "рычащего" тембра. А у меня другая природа голоса - так называемый бас кантанте, и роль Пристава у меня не получалась. И вот однажды на репетиции Пазовский разозлился на меня, стал кричать, но я его тут же прервал:
- Зря вы на меня кричите, и я больше вам на себя кричать не позволю.
Пазовский оторопел. Но я продолжал:
- Крик - не довод. Давайте разберемся спокойно. Вы мне предлагаете партию, которая меня не устраивает. А я вас, видимо, не устраиваю как певец другого амплуа. Давайте тогда по-хорошему разойдемся. Скажем друг другу "до свиданья" - и все. Я пойду в другой театр.
- Конечно, в другом театре вам дадут все, только вы там через два-три года погибнете! - в запальчивости проговорил Арий Моисеевич.
- Ну посмотрим,- ответил я.
Это было перед закрытием сезона. Я поехал в Ленинград, спел у них пробу, понравился, однако театр не мог предоставить мне жилье, и я от Ленинграда отказался. Меня приглашали к себе одесский, харьковский, новосибирский, свердловский театры, и после Ленинграда я собрался ехать в Новосибирск, потому что там жилищные условия были самые хорошие. Как-то я шел по Петровке мимо Большого театра и вдруг встречаю Пазовского. Он снял шляпу и поклонился:
- Здравствуйте, молодой человек.
- Здравствуйте, Арий Моисеевич.
- Ну, как ваши дела?
Я ему рассказал, что собираюсь поехать в Новосибирск. Рассказал еще о других предложениях. Пазовский подумал и проговорил:
- Будете петь в Большом театре. Скоро отпуск, поезжайте отдохнуть, а потом я даю слово, что вы будете петь всё.
- Действительно можно поверить вашему слову?
- Я никогда слов на ветер не бросаю.
Я уехал в отпуск. И когда вернулся, дела у меня сразу пошли в гору. Я спел опять Дона Базилио, и если Пазовский раньше ругал меня за эту партию, то тут вдруг расхвалил. В дальнейшем я спел Нилаканту, Галицкого, Мефистофеля, Руслана. И как-то Пазовский сказал Мелик-Пашаеву:
- Посмотрите, Александр Шамильевич, какими гигантскими шагами двигается этот молодой человек.
Значит, нужно иногда и поругаться, чтобы отстоять себя.
В связи с этим вспоминается еще вот что.
Как я уже говорил, в 1935 году мои родители были арестованы. Через несколько месяцев нас всех, дочерей и сыновей, оповестили о возможности свидания с ними. Мы приехали в Бутырскую тюрьму, и встреча с отцом потрясла меня. Она была очень короткая, эта наша последняя встреча, но мы и не подозревали об этом.
Отец мой был очень добрый, приветливый человек, чересчур, быть может, ласковый и внимательный по отношению к нам, детям и к своей жене, и вместе с тем человек волевой, сильный, атлетического сложения, И не случайно он в молодые годы служил в гренадерском полку. Когда же мы увидели этого изможденного, усталого старика, с глазами, полными слез, то поняли, что пережил наш отец в тюрьме.
Сначала мы все смотрели друг на друга и молчали. Отец старался сдержать рыдания, но это ему не удалось, и, словно задыхаясь, он произнес: "Дети мои!.. Я ни в чем не виноват!.. Не верьте ничему!.." Потом, после паузы он добавил: "Меня пытали. А ведь после такого подпишешь что угодно".
Отцу было предъявлено обвинение, что он имел связь с иностранцами, и он получил пять лет ссылки в Сибирь. Отец комментировал это так: "Ведь я инженер-теплотехник. Всю жизнь вожусь с канализационными и водопроводными трубами. Выходит, через них я и установил связь с иностранцами".
Мать получила десять лет за то, что она якобы ругала Сталина, и должна была также отправляться в Сибирь.
Раньше, в двадцатые-тридцатые годы, наша семья жила в Иркутске - в верховье Ангары, а теперь мои родители поселились в Мотыгино, в самом низовье реки. Нужно было приспосабливаться к этим суровым местам, но у отца были золотые руки, он все умел делать, и везде к нему относились с уважением. Время шло. Однако, когда уже почти кончился пятилетний срок ссылки, отцу вдруг объявили, что какая-то специальная комиссия пересмотрела его дело и прибавила к его пятилетнему сроку еще десять лет. Причем он в составе большой группы осужденных должен был следовать этапом в новые отдаленные места. В день прощания с нашей мамой он сказал: "Я тебя благословляю! Живи долго. А я так дальше жить не могу. Я очень устал. Мы договорились с товарищами, что на одном из этапов инсценируем побег, и пусть нас всех перестреляют!"
Так, видимо, все и произошло.
Боже великий! Боже милостивый! За что же страдали и погибли тысячи, сотни тысяч, миллионы честнейших людей? За что?! А мать, отбыв свои десять лет в ссылке, поселилась в небольшом селении близ Алма-Аты, где жили мои сестра Галина и брат Евгений. В 1946 году она вместе с братом Евгением приехала ко мне, хотя не имела права жить в больших городах. И вот однажды в нашу квартиру нагрянула милиция для проверки документов. У мамы забрали паспорт и велели прийти в отделение. В милиции же ей дали предписание в течение сорока восьми часов покинуть пределы Московской области.
Я прибежал в дирекцию Большого театра, рассказал обо всем, что случилось, и спросил, что они мне посоветуют. Но никто не знал, что делать.
- Раз моей матери нельзя жить в Москве, я, как только мать уедет из Москвы, тоже покину ее и буду искать работу где-то в другом месте! вспылил я.
Тогда дирекция театра обратилась в МГБ. Через некоторое время мне позвонили и попросили зайти на Кузнецкий мост и обратиться к заместителю председателя комитета. Фамилию его я не помню. Я все ему рассказал и повторил, что, если матери нельзя жить в Москве, я тоже уеду.
- И вам не жалко бросить Большой театр?
- Конечно, жалко! Но что же делать? Я прежде всего человек.
- Это делает вам честь. Но не беспокойтесь. Идите домой, я желаю вам всего доброго, все будет в порядке.
И действительно, мать вызвали в милицию, дали ей новый паспорт, и с тех пор она спокойно жила со мной.
Вскоре после того, как я стал солистом Большого театра, я познакомился с артисткой балета Людмилой Петровной Петровой, и в сентябре 1946 года мы стали мужем и женой. В свою первую свадебную поездку мы отправились в... пионерский лагерь "Артек". Дело в том, что в Большой театр пришло письмо от руководства "Артека" с просьбой выделить несколько певцов, артистов балета и оркестра, чтобы можно было составить из них ансамбль для обслуживания лагеря, "Артек" же нам предоставлял все условия для работы и пребывания там.
Нам с женой выделили хорошую комнату в двухэтажном доме на втором этаже. Он находился немного в стороне от главных корпусов лагеря, и это было очень удобно: мы не мешали пионерам, а они нам. При этом домики, где мы поселились, находились в двух минутах ходьбы от моря, так что мы и отдыхали, и работали.
Концерты в "Артеке" всем нам приносили чувство огромного удовольствия и удовлетворения. Пионеры слушали нас с таким интересом, что мы выступали перед ними не раз в неделю, как предполагалось, а гораздо чаще. Кроме того, мы много общались с ребятами, участвовали в походах, и всем нам было очень хорошо.
В том же сорок шестом году произошло еще одно важное событие в моей жизни.
Как-то в перерыве спектакля "Вражья сила", где я исполнял роль Еремки, нашего директора вызвали к Сталину, присутствовавшему на этом спектакле. Когда он пришел за кулисы в его комнату, Иосиф Виссарионович сказал:
- Сегодня выступал молодой человек с приятным голосом. Но какая же у него фамилия! Немецкая фамилия! А ведь мы только что закончили такую страшную, тяжелую войну! Сколько людей мы отдали за то, чтобы победить в этой войне. И вдруг на сцене Большого театра опять эта немецкая фамилия. Вы скажите артисту, чтобы он подумал. Может быть, ему нужно сменить фамилию.
Но я решил: "Пройдет время, забудется".
Однако вскоре опять был какой-то спектакль с моим участием. И опять Сталин вызвал директора и сказал:
- Что же вы не сказали молодому человеку, чтобы он подумал о своей фамилии?
- Да нет, я сказал.
- Ну и что же?
- Я ему сейчас еще раз скажу.
Наш директор пришел ко мне и говорит: "Иван Иванович! Второй раз мне товарищ Сталин сказал об этом. Я не хочу, чтобы он вызывал меня по этому поводу в третий раз, да его может и не быть. Как хотите, вы должны фамилию поменять".
Я подумал: "Ведь многие артисты имеют псевдоним. Например, Бурлак,его же фамилия Стрельцов".
Как-то сидели мы и обсуждали всей семьей этот вопрос. Я и говорю жене: "А не взять ли мне твою фамилию? И какая фамилия хорошая. Был ведь Осип Афанасьевич Петров, знаменитый бас, потом Василий Родионович Петров, второй знаменитый бас. И теперь будет Иван Иванович Петров. Может быть, не столь уж знаменитый, но вдруг фамилия окажется и для меня счастливой".
Так мы и решили. Я подал заявление в дирекцию, и на афишах появилась новая фамилия - Петров. В связи с этим произошел такой смешной случай. Когда моя фамилия появилась в первый раз на афише (было объявлено, что в спектакле "Иоланта" партию короля Рене исполняет И. И. Петров), то А. С. Пирогов, увидев это, побежал в театр. "Думаю, что же это такое, я никогда не слышал о таком артисте, и вдруг он сразу поет такую трудную партию,рассказывал он мне позже.- Но когда вышли вы и запели, я от души засмеялся".
Роли усложняются: Руслан, Мефистофель
Когда молодой человек делает успехи в театре, ему, соответственно, хочется спеть как можно больше ролей. И я, не удовлетворившись сыгранным, стал мечтать о роли Галицкого в опере "Князь Игорь". В то время замечательным Галицким был Александр Степанович Пирогов. Я ходил на его спектакли и репетиции, приглядывался, кое-что пытался заимствовать, а кое-что сделать по-своему и в конце концов партию выучил. Но когда нужно было сдавать ее дирижеру, режиссер спектакля Владимир Апполонович Лосский, бывший комический оперный актер, но в жизни человек мрачноватый, вдруг сказал: "Ну для чего нам седьмой Галицкий, когда у нас один Иван Сусанин?" Этим самым моя работа была приостановлена, хотя я уже прошел даже сценические репетиции.
И все же молодым артистам нужно все время исподволь учить новые партии, чтобы быть готовым спеть их, если никто из ведущих исполнителей не сможет вдруг выступить. Так случилось и с Галицким.
В начале 1947 года у меня в квартире вдруг раздался телефонный звонок.
Звонил заведующий репертуарной частью:
- Ваня, ты что делаешь?
- Да ничего, отдыхаю.
- Сейчас же иди в театр.
Прибегаю в театр.
- Иди в уборную, гримируйся.
- Что такое?
- Нужно петь Галицкого.
- Как Галицкого?
- Да, Стефан Сократович Николау спел первое действие и вдруг заболел. Всех обзвонили, никого не нашли. Выручай.
Я сначала растерялся, но подумал, что партию я знаю хорошо, сценически подготовил, много раз ее видел, вроде трудностей особых в сцене с Ярославной нет, и решил: "Раз просят, нужно выручать". Меня загримировали, одели, правда, в чужой костюм, и я вылетел на сцену: "Гони их всех отсюда вон!" - кричу Ярославне, и девушки, пришедшие к княгине жаловаться на меня, разбегаются. Всю сцену я провел удачно, публика меня приняла очень хорошо, проводила аплодисментами, короче говоря, это была большая удача. После спектакля ко мне подошел наш заведующий оперной канцелярией Борис Петрович Иванов и говорит: "Ну вот, поздравляю, у тебя родилась еще одна роль. На следующий спектакль я тебя уже поставил".
Партия Галицкого очень трудная актерски. Она требует владения разнообразными приемами игры, темперамента. Нужно выявить и сарказм, и издевку, с которыми Галицкий обращается к Ярославне, глупую самоуверенность князя, пришедшего к княгине подвыпивши. Эта роль сложна и в вокальном отношении. Особенно трудны две сцены в тереме Галицкого, где он поет свою знаменитую песню "Только б мне дождаться чести", и сцена у Ярославны, где князь Галицкий нагло ведет свой диалог с княгиней.
Говорят, что замечательно исполнял Галицкого Григорий Пирогов, но я его не видел, а видел Александра Пирогова, который очень мне нравился.
В первой сцене во время песни у меня часто к концу не хватало дыхания, и я как-то пожаловался на это Александру Степановичу. Тот рассмеялся и сказал
- Вы думаете, что у меня она проходит всегда гладко? Нет, дорогой мой! Как только я перестаю себя контролировать и выдаю звука больше, чем нужно, у меня происходит то же самое. Не форсируйте!
Уже после того, как я неожиданно выступил в "Князе Игоре", Мелик-Пашаев принял у меня партию Галицкого, и я стал исполнять эту роль в очередь с Пироговым. И еще в ней выступали Иванов и Щегольков.
В том же 1947 году я получил предложение от дирижера К. Кондрашина и режиссера Б. Покровского выступить во "Вражьей силе" А. Серова в роли Еремки. Партию Молодого купца пели в этой постановке Алексей Иванов и Иван Бурлак, Дашу - Леокадия Масленникова и Наталия Соколова, Груню - Вероника Борисенко, Николай Щегольков тоже пел Еремку.
Эта партия была для меня совершенно необычной. Еремка - крестьянин, кузнец, забулдыга, для которого вся жизнь заключается в том, чтобы заработать на чарку вина, и мне было трудно перевоплотиться в столь характерный образ - и в поведении, и в постановке голоса, и во фразировке. Ведь, играя на балалайке и напевая свои куплеты, Еремка доводит главного героя насмешками до того, что тот чуть не убивает свою жену (от чего опера и называется "Вражья сила"). Наш режиссер Борис Александрович Покровский видел образ Еремки, как мне казалось, несколько экзотично. То мне нужно было разлечься прямо на полу, то спрыгнуть с печки, то танцевать с балалайкой. И, хотя эта роль не отвечала моим внешним данным, я имел довольно солидный успех. Слушатели особенно горячо принимали песню Еремки "Широкая масленица". Я был молод, полон сил, песня звучала мощно, и публика встречала ее громом аплодисментов. У Щеголькова же эта песня получалась слабее, хотя он играл роль хорошо. Однако, когда наш спектакль получил Государственную премию, мне, по инициативе Покровского, который один полновластно всем командовал, премию не дали. Это было обидно и несправедливо. "Ну, что ж,- утешал я себя,- переживу. Ведь работа над ролью Еремки раскрепостила меня, я приобрел навыки в исполнении характерной роли".
Летом 1947 года наша советская делегация, в числе которой был и я, отправилась на Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся в Праге. Мы готовились к своим выступлениям долго и тщательно. Ведь это была наша первая зарубежная поездка. И куда - в центр Европы, центр европейской культуры! В Праге выступали такие величайшие музыканты, как Бетховен и Моцарт, и в городе до сих пор существует театр, который носит имя Моцарта, где ставятся моцартовские оперы в том виде, как они шли при самом композиторе.
Красавица Прага нас поразила. Особенно мне запомнились Вацлавское място, набережные, перекинутые над Влтавой мосты. И кругом - зелень, цветущие каштаны, остроконечные готические соборы и среди них поразительный собор святого Витта. Мы ходили по Праге как зачарованные.
Для нас, длительное время живших в изоляции, было непривычно и радостно видеть молодых людей из всех стран. Ведь в Праге собрались представители Азии, Африки, Латинской Америки, Южной Америки, США, Канады, Европы.
На концертах, оперных представлениях, на спортивных мероприятиях всюду было нарядно, торжественно. И всюду нас окружала такая доброта и доброжелательность, что этот первый фестиваль остался незабываемым.
Ирина Масленникова, Леокадия Масленникова, Вероника Борисенко и я приняли участие в конкурсе вокалистов и стали его лауреатами. Жюри, в которое входили прославленные деятели искусства из разных стран, отметило зрелость исполнительской культуры советских певцов. Я пел арию Сусанина, арию Гремина, песню Галицкого, романсы Глинки, Чайковского, Шуберта, Шумана и завоевал первое место и золотой приз.
В Праге я с радостью убедился, что наши советские песни всеми очень любимы. В огромном зале мы пели с хором "Песню о Родине" Дунаевского. Я запевал: "Широка страна моя родная". И когда песня закончилась, разразилась буря оваций. Слушатели требовали повторения и не умолкали, пока я снова не вышел на сцену. Когда же я запел второй раз, весь зал встал и, стоя, пел вместе со мной. Это было волнующе.
В один из дней мы дали концерт в зале филармонии "Рудольфинум". Когда концерт кончился и мы вышли из здания, то увидели, что нас ждет толпа молодежи. Этот зал стоит на возвышении, к которому ведет целый каскад ступеней. Нас подхватили на руки, понесли по ступеням и внесли в машину вместе с охапками цветов. Это было чрезвычайно трогательно!
Ровно через год, в 1949 году, такой же фестиваль состоялся в Будапеште. С раннего утра и до позднего вечера молодежь распевала песни, возникали танцы под звуки национальных оркестров. Во всех театрах, на стадионах, открытых эстрадах, в парках, садах, проходили концерты, конкурсы, участники фестиваля знакомили молодежь с искусством своих стран и народов.
Впечатление от этой поездки тоже было необыкновенно сильным. Стояло лето, был жаркий июль, мы гуляли по красивому городу, разделенному Дунаем на две части - гористую Буду и равнинный Пешт, где находятся все учреждения и магазины, любовались Дунаем, перекинутыми через него очень красивыми мостами, обилием цветов. Нас поразила масса бассейнов, в которые поступает вода из естественных теплых источников и ключей, и то, что специальные механизмы создают в бассейне волны, так как считается, что самое интересное купание - в волнующейся воде.
В Будапеште мы тоже выступали на конкурсе. На этот раз вместе со мной были Евгения Смоленская и Вера Фирсова. Все мы заняли первые места. Вторую премию получила Мария Звездина.
Большой приз фестиваля - самую высшую награду - завоевал и коллектив молодых артистов балета Большого театра. Солисты Р. Стручкова, М. Плисецкая, Г. Фарманянц, Ю. Кондратов и А. Лапаури получили первые премии на конкурсе классического балета.
Эти два фестиваля необыкновенно подняли наш дух, а в Большом театре для нас открылась широкая дорога для освоения нового сложного репертуара.
После того как я вернулся из Праги, в одной из наших канцелярий ко мне подошел Мелик-Пашаев и, взяв под руку, как он обычно это делал, стал спрашивать: "Ваня, ну, как живете, как дела?" Потом он похвалил меня: "Вот вы сколько спели. Молодец, чудесно! Вы так работаете! Так только и нужно! Обязательно так!" Мы разговорились, и вдруг Александр Шамильевич сказал: "Мы сейчас ставим "Руслана и Людмилу". Я хочу, чтобы вы спели Руслана".
Когда я это услышал, то не знаю, больше обрадовался или испугался. Наверное, больше испугался. Ведь Руслан - самая трудная партия в басовом репертуаре. Она написана для баритона, но по традиции ее поют басы, начиная с того великого Осипа Афанасьевича Петрова, который явился первым исполнителем этой роли, а потом Руслана стали петь Шаляпин, В. Петров, Рейзен, Г. Пирогов, А. Пирогов, Батурин. Правда, Федор Иванович недолго ее пел, видимо, она не устраивала его как актера - в этой роли негде развернуться, она очень статичная.
Так как партия Руслана баритональная, она очень высокая. Я как-то не поленился и сосчитал, сколько же в первом акте, очень трудном и напряженном, верхних нот ми-бемоль. Их около ста! И петь их нужно по-разному - то громко, то мягко, мецца воче, то пиано и пианиссимо. И я сразу же свои сомнения высказал Александру Шамильевичу:
- У меня это не выйдет. Я уверен, что у меня это не получится.
Но он меня подбодрил:
- Ваня, а я уверен, что у вас это получится. Нужно только заниматься. Ведь спели же вы все предыдущие партии. Они тоже трудные. Давайте работать.
Я выучил партию, и мы приступили к репетициям. Начали с первого трудного акта, затем остановились на небольшой и нетрудной сцене в гроте у Финна и подошли к самой главной арии "О поле, поле". Весь камень преткновения заключается в этой сцене, пожалуй, одной из самых трудных в басовом репертуаре. Если актер не может ее спеть - он не Руслан. С первой частью арии я справлялся спокойно, она мягкая, певучая, лирическая. А во второй части - "Дай, Перун, булатный меч мне по руке" и "О, Людмила, Лель сулил нам радость",- высокой, бравурной, меня не хватало. До половины допою, а дальше не могу.
Мелик-Пашаев мне тогда посоветовал:
- Ваня, вы распределите свои силы, сразу очень не увлекайтесь, приберегите голос для второй части.
И такт за тактом, кусок за куском он повел меня так, что я арию спел.
- Вот видите, спели, давайте еще.
Я еще спел.
- Ну, вы просто дурака валяли, у вас все звучит.
Однако я еще не очень был в себе уверен. Иногда выходило, иногда нет, хотя чаще стало получаться. Я много занимался. Нужно было распределить дыхание, голос, чтобы подойти к кульминации "во всеоружии". Наконец наступила оркестровая репетиция. На нее пришли Лемешев, Михайлов, Батурин, весь цвет Большого театра. Многим ведь хотелось просто послушать, как готовится спектакль. Первым Мелик-Пашаев пригласил меня, хотя на премьеру был намечен Александр Иосифович Батурин. Он был тогда народным артистом РСФСР, а я еще "никем". Я пропел первое действие, сцену с Финном. Все нормально. Теперь "О поле, поле". Тут я заволновался, но решил взять себя в руки, собрался и вдруг спел лучше, чем раньше. Видимо, присутствие таких больших певцов меня подстегнуло. Они даже мне зааплодировали.
И недели через три-четыре, уже после оркестровых репетиций, я 20 мая 1948 года пел премьеру. Так колоссальнейшая работа завершилась победой.
После того, как я уже несколько раз спел Руслана, встречаю как-то раз в театре Александра Степановича Пирогова. Он меня поздравил с исполнением такой трудной партии.
- Гриша Пирогов,- говорит,- прекрасно пел, и я пел, но нам это тоже давалось с трудом, так что я знаю, как это сложно.
- Все у меня идет хорошо, пока я не начинаю петь вторую часть арии "Дай, Перун, булатный меч мне по руке",- пожаловался я Александру Степановичу,- дыхание сбивается, и я еле допеваю.
- А почему так?
- Когда я ищу мечи и отбрасываю их, так как они легкие (а мои движения сопровождались звучанием оркестра и были продиктованы музыкой), пока наклоняюсь за одним, за вторым, за третьим, за пятым,- дыхания и не хватает.
- Меня Гриша учил, а я вам по наследству передам, что нужно делать. Вы перед этой сценой, когда декорации поставят, несколько мечей воткните в пригорки так, чтобы они кверху ручками торчали. И, когда вы будете искать мечи, один-другой можно ногой отбросить, те, которые повыше, вырвите руками и бросьте перед собой, чтобы не напрягаться, не наклоняться, не сбивать дыхания.
И когда я так сделал, то понял чудодейственную силу этого совета и очень поблагодарил Александра Степановича.
Позже мой педагог рассказывал мне, что Григорий Степанович Пирогов был изумительным Русланом. Его голос звучал, как виолончель - так мягко он пел. И я старался ему подражать.
Наш спектакль публика приняла бурно, и после премьеры "Руслана" в печати появились отклики на постановку. 14 июля в газете "Вечерняя Москва" критик И. Мартынов писал: "Надо отдать должное значительности усилий, затраченных на эту постановку. Для всякого, знакомого с партитурой, ясно, какого напряженного творческого труда потребовало осуществление спектакля. Этот труд принес ряд несомненных успехов". Во всех рецензиях больших похвал заслужили первые исполнители главных партий: И. Масленникова, С. Лемешев, М. Кузнецова, Н. Ханаев, Е. Антонова, М. Рейзен; отмечалась значительность работы, проделанной А. Мелик-Пашаевым, нравилось художественное оформление спектакля художника В. Дмитриева. Это была, действительно, настоящая пушкинская сказка. Режиссером был замечательный балетмейстер, поставивший с блеском ряд балетных спектаклей в Большом театре. Однако, и в оперных постановках режиссер Ростислав Владимирович Захаров показал себя с лучшей стороны.
При оформлении спектакля художник пользовался приемом контрастного сопоставления картин. Вся блестящая солнечная сцена венчания, проходившего перед дворцом, сменялась картиной в пещере Финна, а потом действие переносилось в темный лес, где Фарлаф встречался с Наиной. Большое впечатление производило поле, усеянное мертвыми костями, копьями и поломанными мечами. Постепенно туман над ним рассеивался и появлялась огромная во всю сцену Голова с живыми подвижными глазами и подвижными бровями. Она шевелила губами и дула на Руслана.
Эффектны и фантастичны были сады Черномора. Длиннобородый чародей прилетал по воздуху, в воздухе дрался с Русланом, и, когда Ратмир призывал: "Слетитесь ко мне, чудные девы",- они слетались на невидимых стальных тросах и совершали полет через всю сцену. Все это было замечательно.
Венчал оперу светлый финал во дворце Светозара. Появлялся Руслан, он возрождал Людмилу к жизни, и вся сцена озарялась солнцем и яркими красками.
Руслана одновременно со мной пели признанные мастера: народный артист РСФСР А. Батурин, который уже пел много раз этот спектакль и был прекрасным Русланом, и заслуженный артист РСФСР Н. Щегольков, исполнявший эту роль у себя в Свердловске, откуда он к нам и приехал.
Меня рецензенты и хвалили, и справедливо критиковали. "Большой театр,- говорилось в одной из заметок,- совершил смелый и даже в некотором смысле рискованный поступок, поручив партию Руслана такому молодому певцу, как Петров. Но, право же, театр может не раскаиваться в своей смелости. Молодой артист еще далеко не совершенный Руслан, но он уже Руслан, и мы можем предвидеть, что скоро это будет первоклассный исполнитель Руслана. Богатырский рост, картинная внешность, великолепный, мощный голос ласкающе бархатистого тембра, одинаково красиво звучащий и в пиано, и в форте, превосходная музыкальность, ясное понимание своих художественных задач все это задатки такого Руслана, каких немного можно сыскать на оперной сцене. Конечно, Петров еще нескладен актерски, он еще не вполне владеет своим исполнительским аппаратом, но по всему видно, что молодой артист умеет работать над собой".
А критик Городинский, не помню уж в какой газете, написал, что Петров справился со своей партией в вокальном отношении, а в сценической интерпретации ему не хватает сдержанности, он еще молодой, порывистый. Так что и в Руслане я оказывался слишком молодым. Но ведь Руслан еще юноша! И все же все эти замечания я принял к сведению и продолжал совершенствовать свою партию. Вскоре образ Руслана приобрел у меня эпические черты, стал более значительным. Это далось мне после долгого анализа и больших раздумий.
Вероятно, я горжусь тем, что овладел партией Руслана - самой сложной в оперном репертуаре. Ведь, повторюсь, писалась она для баритона, а поют ее басы, потому что у этих голосов она звучит более фундаментально, мощно. Вот хотя бы речитатив "О, поле, поле". Когда ее поет бас, он производит сильное впечатление.
В целом Руслан оказался важной ступенькой, ведущей меня к вершинам профессионального мастерства.
Героя оперы Глинки я спел более ста раз. Но потом кто-то из стариков, не помню кто, сказал: "Не надо больше его петь. Эта партия так забирает голос! Свое спели, пусть теперь другие поют. Вот Василий Родионович Петров (еще в шаляпинские времена) пел-пел, а потом решил: "Хватит, больше не буду".
Я последовал совету друзей и в конце концов от партии Руслана отказался.
7 апреля 1949 года я выступил в партии Мефистофеля в опере Гуно "Фауст". Когда Мелик-Пашаев предложил мне эту роль, я снова испугался и обрадовался. Ведь, несмотря на трудности всех предшествующих ролей, они были не слишком большими, а в "Фаусте" Мефистофель появляется во всех семи картинах. Он исполняет сольные номера, участвует в ансамблях и дуэтах, словом - это одна из самых трудных и длинных партий в оперном репертуаре. И я снова сказал Александру Шамильевичу, что сомневаюсь, удастся ли мне эта роль. "Ничего, ничего,- подбодрил Мелик-Пашаев,- работайте, удастся".
Как идет работа над образом? Сначала встает задача справиться с вокальными трудностями. В партии Мефистофеля, охватывающей большой диапазон, мне нужно было суметь распределить звучание голоса во всех регистрах. В то же время речь Мефистофеля полна подтекстов: он говорит с издевкой, насмешкой, то, завлекая, то дурача своих партнеров. Начинается работа над выразительностью декламации. Однако мысль, которую ты хочешь донести, нужно подкрепить соответствующей пластикой движений. И тут певец приступает к работе с режиссером.
Ставил "Фауста" замечательный, глубокий и тонкий режиссер, с которым я работал с большой радостью,- Николай Васильевич Смолич. Он очень помог мне в раскрытии образа Мефистофеля. "Не подражайте никому,- говорил он,- и не делайте из Мефистофеля примитивного черта. Играйте сильного человека с изысканными манерами. Ведь Мефистофель сам говорит: "Не правда ли, я настоящий джентльмен". Нельзя прийти и просто бухнуться на сиденье, нужно плавным движением откинуть плащ и мягко опуститься. Нужно уметь обращаться со шпагой".
Исходя из такого понимания роли, я и двигался по сцене: то вползал, как змея, то был вкрадчив и обворожителен, то ловко вспрыгивал на бочку с вином, и образ получился многогранным и действительно сильным. Это отметил один из рецензентов, откликнувшийся на мое выступление в этой опере. Он писал: "Мефистофель - Петров далек от трафарета. Основное в нем не дьявольское начало, а сила. Он силен, когда в начале спектакля просит старого Фауста посмотреть, как прекрасна жизнь, силен, когда проводит сцену заклинания, силен, когда поет последнюю знаменитую серенаду".
В исполнении "Фауста" участвовали все наши лучшие певцы. Шесть теноров работали над заглавной ролью: Козловский, Хромченко, Кильчевский, Большаков, Бадридзе и Орфенов. Шумская, Шпиллер и Талахадзе выступали в роли Маргариты; Лисициан, Бурлак, Селиванов - Валентина; Пирогов, Щегольков, Евгений Иванов пели Мефистофеля. Пирогов был в зените своей славы, и, конечно, первые спектакли пел он. Меня назначили на третий спектакль. Предварительно Мелик-Пашаев попросил:
- Уступите, пожалуйста, первые спектакли Пирогову.
- Какое может быть сомнение? - удивляюсь.- Я могу выступить в любом по счету спектакле. Моя задача - спеть хорошо!
Публика приняла меня доброжелательно, но я не остановился в работе над ролью и каждый раз старался привнести в нее что-то новое. Мои старшие коллеги старались помочь мне в этом. Бывало, подойдет Евлахов: "Ванечка, вы вчера пели Мефистофеля, прошли, сели и плащом сделали вот такое движение. Это движение грубое, Мефистофель так не должен себя вести. Попробуйте более изысканно,- советует он.- Давайте я вам покажу". И взяв плащ, показал. И так получилось у него плавно, изящно. Я попробовал и тоже так сделал. А ведь из таких мелочей складывается актерское мастерство! Моя роль совершенствовалась, и мои товарищи замечали это. Они говорили. "Сегодня ты сделал по-другому, интереснее". Или: "А прошлый раз было лучше".
Такое постепенное врастание в роль закономерно. Ведь даже Шаляпин только после того, как спел двадцать спектаклей "Псковитянки", заметил, что, кажется, начинает впеваться. По жесту, по крупице, по взгляду он привносил в образ Грозного различные черточки, пока не сложилась стальная монументальная фигура.
Постепенно партия Мефистофеля стала одной из самых моих любимых, и я объехал с ней почти весь мир.
Через месяц после моего выступления в роли Мефистофеля я появился на сцене в еще одной новой для себя роли - Кочубея в опере Чайковского "Мазепа".
Когда мне предложили эту партию, я, хотя уже и был лауреатом международных конкурсов, все еще сомневался в своих возможностях - уж очень она высокая. В провинции Кочубея чаще всего поют баритоны. Но Небольсин, как всегда, меня поддержал: "Вы такие высокие партии пели, споете и эту".
Я начал репетировать, и незаметно роль пошла. Небольсин был прекрасный музыкант, пианист. Он аккомпанировал иногда певцам на репетициях и все преподносил им как на ложечке. Такт за тактом анализировал оперу, советовал, как данный эпизод лучше спеть, но никогда ничего не требовал категорически.
"Давайте попробуем, может быть, по-другому будет лучше?" полувопросительно предлагал он.
И мы пробовали разные варианты и приходили к какому-то общему знаменателю. Так мы занимались в классе над каждым словом, нюансом, каждой фразой, мыслью. Это было очень интересно! Небольсин носил звание профессора и был настоящим профессором музыки, и теперь, когда я слушаю свои записи с ним, то наслаждаюсь сочным звучанием оркестра. Я вспоминаю его с большой теплотой и признательностью
На уроках я всегда пел в полный голос, хотя мне советовали поберечь его, но я не мог иначе, и множество раз мы повторяли одну и ту же фразу с полной отдачей, и это нравилось и моему маэстро, и большое удовлетворение доставляло мне самому.
Партия Кочубея короче, чем партия Руслана, но в ней есть даже более трудные места. Например, сцена в темнице написана в страшно высоком регистре. При этом эмоциональное содержание этого эпизода таково, что требует огромного нервного напряжения. Нужно ведь передать душевное состояние измученного пытками героя. И вначале многое у меня не получалось, но мало-помалу, день ото дня я впевался в эту роль, и партия Кочубея у меня стала получаться. Я старался создать многогранный образ. Кочубей богат и знатен, гостеприимен, это гордый почтенный человек. Трагическое осознание им происшедшего нужно было передать, подчеркнув его мужество, героизм. Даже на плаху он всходит с высоко поднятой головой. Так я трактовал эту роль, и она производила впечатление. Спектакль вообще получился очень яркий, и публика принимала его восторженно. Иногда заключительные сцены так действовали на некоторых слушателей, что им становилось плохо, многие уходили с мокрыми глазами. Это была заслуга и Небольсина, и замечательного режиссера Леонида Васильевича Баратова. Впервые он поставил эту оперу в Большом театре еще в 1932 году, а новая редакция спектакля приурочивалась к празднованию пушкинского юбилея - стопятидесятилетию со дня его рождения. Режиссер стремился как можно более правдиво отразить одну из самых героических страниц русской истории.
Л. В. Баратов прошел большую школу у Вл. И. Немировича-Данченко, с которым он работал сначала как актер, а потом как режиссер. И лишь затем он стал оперным режиссером. Леонид Васильевич прекрасно знал не только оперную и музыкальную литературу, но и историю, литературу, живопись, костюм. Он мог подойти ко мне и сказать: "Ванюша, ты надел аксельбант не на ту пуговицу, нужно вот сюда". Или. "А этот орден носят с другой стороны".
Это были мелочи, из которых складывалось единое целое. В спектаклях на историческую тему его знания были особенно важны.
Кроме того, Баратов обладал большим внутренним чутьем и вкусом, он работал с темпераментом, и спектакль оживал.
В "Мазепе" участвовали и замечательные солисты. Алексей Иванов был очень ярким, темпераментным Мазепой. Лисициан создавал более лирический образ, покоряя слушателей красотой и теплом своего голоса. Хорош был и Воловов. Партию Андрея прекрасно пели Большаков, Ивановский, Федотов.
Покровская, Чубенко и Панова, обладательницы мощных голосов, исполняли партию Марии, а Давыдова, Турчина и Борисенко создавали замечательный образ ее матери. Голос Борисенко звучал в этой партии сильно и необыкновенно красиво.
Кроме меня, Кочубея с успехом пели Батурин и Щегольков.
Спектакль был удостоен Государственной премии СССР, и я впервые получил тогда эту премию вместе с Ивановым, Покровской, Большаковым, Давыдовой. Было, конечно, приятно, что такая большая работа завершилась столь удачно. Но сильнее всего меня радовало, что если Руслан помог мне достичь определенных профессиональных высот в области вокала, то Кочубей овладеть трагедийными красками, это пригодилось мне в последующих работах.
Нилаканта, Досифей. Концертная бригада
Начало 1950 года ознаменовалось для меня выступлением в опере Делиба "Лакме". Здесь я исполнил роль Нилаканты, брамина старинного индийского храма. Свободолюбивый старец, призывающий свой народ на борьбу за независимость против поработителей Индии, мстительный и коварный хранитель своей святыни, готовый покарать каждого, кто, по его мнению, надругается над ней, любящий и страдающий отец - таким я должен был сыграть Нилаканту, и я вырабатывал сдержанность в своих движениях, величавость.
Вокально партия Нилаканты очень трудна. Она написана в высоком регистре, и особенно сложен уже первый выход брамина - его вокальные фразы построены на предельно высоких нотах. Вместе с тем знаменитые стансы Нилаканты, обращенные к Лакме,- "Лакме, взор твой померк лучистый, и улыбка тоски полна. Я хочу, чтобы ты улыбалась",- необыкновенно певучи и трогательны. Их нужно спеть нежно и проникновенно на мецца воче и пиано. Это безумно трудно, поэтому образ Нилаканты тоже дался мне не сразу. Преодолеть "подводные камни" мне вновь помогал Василий Васильевич Небольсин, и я много работал.
Вместе со мной в этом спектакле выступали Ирина Масленникова, Фирсова и Звездина, которые исполняли роль Лакме, Большаков и Кильчевский пели Джеральда. Партию Нилаканты, в очередь со мной, пели также Батурин и Щегольков.
В 1949 году Большой театр приступит к репетициям "Хованщины" Мусоргского, и 29 апреля 1950 года состоялась премьера оперы. Я пел Досифея. Вместе со мной эту партию исполнят также Рейзен и Огнивцев. Работа над образом Досифея была увлекательной.
Во-первых, партия Досифея очень большая. Досифей участвует в пяти картинах. И во всех этих картинах он много поет, причем есть эпизоды тесситурно высокие, особенно к концу спектакля. А во фразе: "Труба предвечного! Настало время в огне и пламени приять венец славы вечныя" около двенадцати или тринадцати ми бемолей. Это очень трудно для баса. Но я с этим справлялся довольно легко.
Досифей - фигура необыкновенно многогранная. Умный, даже мудрый человек - и в то же время фанатичный борец за старую веру, обреченный на гибель в этой борьбе; нежно любящий Марфу, утверждающий всюду мир - и в то же время грозный властитель своей паствы. Именно таким я хотел воплотить на сцене этот образ, чрезвычайно сложный и монументальный.
Я анализировал исполнение роли Досифея Шаляпиным и понял, что он стремился подчеркнуть прежде всего благородство главы раскольников. Ведь, несмотря на противоречивость его положения и противление передовым реформам своего времени, он обрисован Мусоргским с огромной теплотой, и я следовал шаляпинским традициям.
Работая над ролью Досифея, я много читал о Петровской эпохе, ходил в Третьяковскую галерею, в Русский музей в Ленинграде и искал, что можно использовать для воспроизведения внешнего облика своего героя. В конце концов, я решил, что грим должен подчеркнуть не благостность, а силу воли мятежного старца. В этом мне очень помог Федор Федорович Федоровский.
Были затруднения и в связи с костюмом. Когда я надел обычную черную монашескую рясу и клобук - черную шапку,- оказалось, что она закрывает мне уши. Петь же с закрытыми ушами очень неудобно - почти совсем себя не слышишь, поэтому трудно контролировать пение. Пришлось попросить портных боковые части клобука подшить, что не понравилось режиссеру. Он сказал, что клобук обязательно должен прикрывать уши.
Как-то на одном из наших спектаклей присутствовали представители духовенства, которые съехались со всей Европы на собор в Загорск. По окончании спектакля несколько человек, его участников, были приглашены на прием в гостиницу "Ленинградская". Я сел с отцом Пименом - патриархом Московским и всея Руси - и разговорился с ним. Оказалось, что спектакль Пимену очень понравился, все декорации и игра актеров, по его мнению, были правдивыми. Тогда я рассказал ему о своих переживаниях с клобуком, и он ответил, что мое желание открыть уши совершенно правильно. "Мы тоже так делаем,- сказал он,- потому что нам тоже неприятно, когда ничего не слышишь".
После этого я радостный пришел в театр, поведал режиссеру о своей беседе с Пименом и в последующих спектаклях уже спокойно пел с подшитым клобуком.
Прошла опера очень успешно. Главным образом благодаря выдающемуся составу исполнителей. Рейзен блестяще пел Досифея, Давыдова и Максакова пели Марфу, Ханаев и Нэлепп - князя Голицына, Алексей Иванов и Селиванов Шакловитого, Кривченя и Лубенцов - князя Хованского. Все эти роли были блестяще сделаны актерски, поэтому производили колоссальное впечатление. И теперь я, вспоминая этот спектакль, думаю: "Какое счастье, что я работал с такими мастерами!"
При постановке и исполнении оперы замечательно раскрылся талант режиссера Баратова и дирижера Голованова.
Прекрасно были выполнены декорации художником Федоровским. Перед слушателями во всей своей подлинной самобытности вставали картины старой Москвы - Китай-город, слободка. А в изображении дома Хованского, сложенного из огромных бревен, рядом с которым приютилась молоденькая краснеющая рябинка, сочетались монументальность и лиризм! Картина в Стрелецкой слободе, сцена самосожжения - потрясали. Постепенно все сильней и сильней начинали полыхать языки пламени, и скит на глазах у войска Петра, разваливаясь, сгорал. Эти декорации и театральные эффекты производили всегда огромное впечатление на публику и вызывали бурю оваций.
В ноябре пятидесятого года я с удовольствием выступил в еще одной новой для меня опере - "Морозко" композитора М. Красева. В ней я сыграл заглавную роль - властелина холодного лесного царства. Партия Морозко вокально написана очень удобно, она красива, и мне нравилось в ней выступать. Ведь "Морозко" - одна из немногих детских опер на сцене Большого театра.
В том же 1950 году у нас состоялась очень интересная командировка в Германию, где в это время проходило совещание министров иностранных дел четырех держав: Советского Союза, Соединенных Штатов, Франции и Англии. Представителем Советского Союза был Молотов, Соединенных Штатов - Даллес, Англии - Иден, Франции - Бидо. Чтобы показать миру, что в Советском Союзе есть не только медведи, но и певцы, и скрипачи, и пианисты, и что вообще наша культура находится на должной высоте, на это совещание решили послать хорошую концертную бригаду. В нее вошли Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Ирина Масленникова, Вероника Борисенко, Игорь Безродный и я.
Мы приехали в Восточный Берлин. После заседания Вячеслав Михайлович Молотов устроил в посольстве прием, на котором мы должны были выступить с концертной программой. Мы, конечно, волновались, потому что знатоков искусства собралось много: журналисты, дипломаты, представители общественности из многих стран, особенно из Восточной и Западной Германии. Когда начался концерт, мы почувствовали, с каким теплом относятся к нам слушатели, и нам сразу стало легко на сердце. Мы пели и играли, полностью отдаваясь во власть только одной музыке. Я спел русскую народную песню "Эй, ухнем!", романс Чайковского "Благословляю вас, леса", арию Дона Базилио и Серенаду Мефистофеля.
После концерта ко мне подошел заведующий протокольным отделом МИДа Федор Федорович Молочков и сказал, что Молотов просит к нему подойти. Я направился к Вячеславу Михайловичу. "Иван Иванович,- обратился он ко мне,вы все очень удачно выступили, и это, конечно, замечательно. Но особенное впечатление произвели, видимо, вы, и все министры просили меня, чтобы я вас представил им. Вы не возражаете?"
Мне, безусловно, это было приятно, а Молотов представил меня присутствующим здесь министрам, а потом познакомил с остальными гостями. На этом же вечере я попросил Вячеслава Михайловича разрешить нам дать несколько концертов в Германии для жителей этой республики. Мое предложение понравилось, Вячеслав Михайлович подозвал нашего посла Пушкина и сказал: "Устройте для них как можно больше концертов. Пусть поездят по стране, покажут свое искусство".
Мы выступали в Берлине, в зале филармонии, в сопровождении симфонического оркестра, затем в Лейпциге, Дрездене, Карл-Маркс-штадте и других городах.
В Дрездене Масленникова должна была выступать в "Травиате" Верди. Она попросила нас пойти в театр и поддержать ее. Мы, конечно, согласились. Вечером вместе с Давидом Ойстрахом и несколькими представителями из посольства отправились в театр. Спектакль шел хорошо. Ирина Ивановна, молодая, изящная, красивая, трогательно исполняла роль Виолетты, и ее принимали прекрасно. В антракте мы зашли за кулисы, чтобы поздравить певицу, но, не желая нарушать ее артистической собранности, вскоре вышли: "Ну, Ирочка, мы желаем вам ни пуха, ни пера, а сами пока пойдем к черту".
Но мы пошли не к черту, а в фойе. Здесь, вместе со всей публикой, двигались, как обычно, по кругу, и вдруг я заметил человека высокого роста в темно-синем костюме, с яркой запоминающейся внешностью: копна седых волос, густые брови, орлиный нос и серые пронизывающие глаза. Он прошел пару кругов, и всякий раз, как мы попадали в поле его зрения, так внимательно в меня вглядывался, что я спросил:
- Давид Федорович, что это он так на меня смотрит?
- Да он просто вас просверлил глазами,- ответил Ойстрах.
Этот человек, будто услышав наш разговор, оторвался от своей компании и обратился ко мне на русском языке (правда, говорил он с акцентом):
- Извините, пожалуйста, вы певец?
- Да, я певец.
- Вы Иван Иванович Петров?
- Да.
- Разрешите представиться: фельдмаршал Паулюс.
Когда я услышал это имя, то от неожиданности даже голоса лишился. Еле-еле выдавил из себя:
- Очень приятно.
Паулюс продолжал:
- Когда я после окончания войны жил под Москвой, на даче, то все время включал радио и очень часто слышал, как вы поете. Теперь, когда вы заговорили, я сразу узнал вас по голосу. Рад, что не ошибся. А ведь я вас никогда не видел.
Потом он пожелал мне больших успехов, мы вскоре ушли и больше уже не встречались.
В конце 1950 года наша труппа впервые получила приглашение выступить с концертами в капиталистической стране. Это была Швеция. Со мной вместе поехали Мария Петровна Максакова, Евгений Малинин и еще кто-то из наших хороших музыкантов. В Швеции нам предложили с Максаковой спеть по отделению. Публика приняла нас чрезвычайно горячо, но в газетах рецензенты спрашивали, почему я не пою у них в опере. Видимо, поэтому я неожиданно получил приглашение выступить в Королевской опере в Стокгольме в опере Гуно "Фауст", в партии Мефистофеля. Это было для меня очень интересное предложение. Мефистофеля я пел уже много раз, я дал согласие.
Дирижировать спектаклем должен был очень известный дирижер и пианист Исай Добровейн, игравший в свое время В. И. Ленину сонаты Бетховена. Но так как он находился на гастролях, то репетиции проводил его помощник, который в очередь с Добровейном вел этот спектакль.
На спевке я почувствовал, что все темпы у нас совпадают, и успокоился. Но когда начались сценические репетиции, то тут мне пришлось постоять за себя. Дело в том, что режиссер каждую минуту подходил ко мне и говорил:
- А вы знаете, Шаляпин здесь делал не так. Вот вы сели, а Шаляпин стоял... вы здесь не вынули шпагу до конца, а Шаляпин вынимал шпагу и делал круги, отгораживаясь от наступающих горожан, когда они увидели, что это черт в образе человека.
На это я ему каждый раз объяснял:
- Я никогда Шаляпина не видел, а только слышал его в записи, на пластинках. Шаляпин, конечно, гениальный певец, и я многое почерпнул от него. Но даже если бы я его видел и слышал при жизни, я бы никогда его не копировал, потому что каждый артист исходит из своих данных, своего представления об образе. Поэтому я играю роль, исходя из собственных возможностей.
Однако режиссер не унимался, и когда он в очередной раз обратился ко мне с подобным замечанием, я разозлился:
- Или вы уж принимайте меня таким, какой я есть, или приглашайте Шаляпина!
После этого мне была предоставлена полная свобода действий. К спектаклю из-за нелетной погоды Добровейн не смог прилететь, и оперой дирижировал Нильс Гревиллиус. Роль Маргариты исполняла замечательная певица Хельда Герлин. Эйнар Андерсен с успехом спел партию Фауста.
Мое выступление сопровождалось бесчисленными вызовами, появились интересные рецензии в газетах.
Вместе со своим аккомпаниатором, замечательным пианистом Александром Ерохиным, я побывал с сольными концертами в нескольких городах Швеции: Гетеборге, Мальме, но особенное впечатление на меня произвел теплый уютный Кристианштадт с его множеством прудов и красивой зеленью.
По окончании гастролей в Швеции мы отправились на пароходе в Хельсинки, где я должен был дать еще несколько спектаклей и концертов. Рано утром посол Константин Константинович Родионов, который был очень доволен нашими гастролями, и многие представители посольства приехали в порт, чтобы проводить нас. Наконец пароход отчалил. Я подошел к борту и залюбовался открывающимися перед нами видами. Небольшие фьорды, острова, то поросшие лесом, то увенчанные изящными постройками, радовали глаз. Время летело незаметно. Затем мы отправились в кают-компанию, где на столе нас уже ждал завтрак, и отметили удачное окончание гастролей.
Но вот корабль начало покачивать,- мы входили в открытое море. Сначала нас ожидала бортовая качка, которую многие пассажиры переносили достаточно плохо, когда же началась килевая, настроение и самочувствие испортились почти у всех окончательно. Но не у нас. Мы были молодые, крепкие, и никакая качка на нас не действовала. Только утром мы проснулись оттого, что в иллюминатор плеснула вода и облила нас.
Вскоре мы благополучно прибыли в Финляндию. Здесь я тоже пел Мефистофеля в "Фаусте" и Галицкого в "Князе Игоре", а также давал сольные концерты. Все мои выступления в Финляндии прошли очень успешно, и я со светлой душой возвратился на родину, в Москву.
Рамфис. Варяжский гость
В пятьдесят первом году я принял участие в новой постановке "Аиды" Верди. Оперой дирижировал Мелик-Пашаев. Мне не забыть, как завораживали оркестр и хор, как пели все артисты! Это было волшебство. Оркестр играл то затаенно, таинственно, то его звучание напоминало легкий шорох, а тутти было ослепительно.
Мне тоже захотелось принять участие в этом музыкальном празднике, я подошел к Александру Шамильевичу и сказал, что хотел бы спеть партию Верховного жреца. Александр Шамильевич рассмеялся, обнял меня и сказал, что очень рад моему желанию. Я вошел в спектакль.
Египетский жрец Рамфис - яркая фигура в спектакле. Он появляется в течение действия оперы несколько раз: то для того, чтобы вручить Радамесу священный меч, то для того, чтобы решить участь пленных и самого Радамеса. И хотя Верди не вложит в его уста никаких арий, партия Рамфиса певучая и красивая. Я исполнял ее с удовольствием, стараясь придать значительность каждому своему движению, повороту головы, всем своим интонациям.
Оформляла спектакль замечательная художница Тамара Георгиевна Старженецкая. В "Аиде" она очень точно воспроизводила эпоху и время действия, а декорации необычайно соответствовали стилю музыки. Прежние художники всегда стремились поразить воображение слушателей изображением огромных колонн, сфинксов, нагромождением пирамид. Это производило угнетающее впечатление. В декорациях Старженецкой тоже вдалеке изображались пирамиды, просматривались и сфинксы, но во всем соблюдалось чувство меры, высокий вкус.
В партии Верховного жреца мне было трудно определить свой внешний вид. По совету художницы я надевал парик и изображал бритую голову. Клеил брови и вытемнял глазные раковины, чтобы подчеркнуть силу и мрачность характера своего героя, и благодаря этому у меня был сверлящий пронизывающий взор. Одет я был в белую нарядную тогу, на которую сверху была накинута шкура леопарда, подпоясанная красивым поясом из латуни.
В том же году я спел еще одну небольшую партию - Варяжского гостя в опере Римского-Корсакова "Садко". Это мужественная песня, воспевающая суровую северную природу. Грим мой в этой роли, созданный с помощью Федоровского, включал светлый парик и светлые усы, с которыми контрастировал темный цвет лица, подверженного ветрам. Я сходил со своего корабля, одетый в северные скандинавские одежды, сшитые из тюленьих шкур, и рассказывал о своем красивом, но мрачном и зловещем крае. Трудность моей единственной песни "О скалы грозные дробятся с ревом волны" заключается в том, что ее следует выдержать в довольно медленном темпе и под конец мощно и красиво взять ноту ре. В этот момент играет весь оркестр, и нужно, чтобы этот звук несся в зал.
В связи с этой партией мне хочется рассказать об одном из ее замечательных исполнителей Максиме Дормидонтовиче Михайлове. Он обладал феноменальным по силе и объему голосом. Если Пирогов и Рейзен были высокими басами, то Михайлов имел голос, который можно охарактеризовать как центральный бас. Высоких басовых партий, за исключением Сусанина, он не пел. И меня, откровенно говоря, удивляло, как такой мощный и грузный голос просто и легко справляется с высокой по тесситуре и виртуозной партией Сусанина.
Правда, все данные этого артиста - невысокая, плотная фигура, простое, но доброе привлекательное лицо и, конечно, феноменальный голос как нельзя лучше подходили к этому образу.
Михайлова очень любила публика, и не только, когда он пел в опере, но и когда выступал в концертах.
Максим Дормидонтович страшно огорчался, если вдруг не мог выступить в спектакле, объявленном в афише. Со мной же произошел такой случай.
Однажды он должен был петь Варяжского гостя. Спектакль был утренний и предназначался для наших солдат. Я плохо себя чувствовал, был простужен, сидел дома. Вдруг раздался телефонный звонок. Звонили из театра и передали, что Михайлов просит меня срочно зайти к нему в гримировальную комнату. Я быстро собрался и через несколько минут был в театре. Когда я зашел к Михайлову, то увидел его, как всегда, до пояса голого за гримировальным столом. И окно, несмотря на холодный ноябрьский день, было открыто настежь.
- Ваня, выручи, пожалуйста, меня. Не звучит у меня что-то голос. Спой за меня Варяга! - обратился он ко мне.
Нужно сказать, что болел Михайлов чрезвычайно редко, и этот случай был из ряда вон выходящим.
- Что случилось, Максим Дормидонтович? Что с голосом? Простыли? спросил я.
- Нет. Понимаешь, шел я вчера мимо Елисеевского магазина, думаю, дай зайду, посмотрю, что там есть интересного. Смотрю - какие-то консервы, кажется, китайские. Решил купить пару банок. Пришел домой. Сел обедать, открыл банку, попробовал - очень вкусно. Так всю банку и съел. А потом у меня голос сел. Ну, спой за меня Варяга!
- Максим Дормидонтович, но я ведь простужен,- ответил я ему,- и с голосом у меня неважно.
Но он умолял меня спеть:
- Ведь что могут подумать и сказать солдаты? Михайлов не захотел для них петь.
Я быстро загримировался, вышел на сцену, спел и возвратился за кулисы. Вхожу в гримировальную комнату - на столе стоит бутылка шампанского и ваза с фруктами. Михайлов налил два бокала, поднял свой и сказал:
- Дорогой Ваня, хороший ты человек, спасибо тебе! Выручил меня! За твое здоровье!
Такой это был по-настоящему русский человек - добрый, порядочный, человечный, исполненный собственного достоинства.
За свою интенсивную работу, за тот большой репертуар, который я сделал за эти годы, 27 мая 1951 года я был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Это еще более подхлестнуло меня к творчеству, я почувствовал новый прилив сил.
В следующем пятьдесят втором году я спел небольшую партию Кума в опере Мусоргского "Сорочинская ярмарка", но уже в пятьдесят третьем году выступил в двух новых, сложных для меня ролях - Бестужева в опере Ю. Шапорина "Декабристы" и Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского.
Борис Годунов, Бестужев, Иван Сусанин
О партии Бориса Годунова мечтают все басы. В сороковые - пятидесятые годы в этой роли выступали Пирогов и Рейзен - певцы, обладавшие замечательными голосами, мощными атлетическими фигурами, артистическим талантом. Они создали разные, но очень убедительные и запоминающиеся образы, однако оба они уже были в возрасте, поэтому руководство театра решило попробовать на эту роль меня. Это, конечно, оказалось радостным событием, но оно налагало и большую ответственность.
Выучить партию Бориса не составило особого труда, потому что я эту оперу много раз слушал и частенько посматривал в клавир, интересуясь музыкальными указаниями Мусоргского. Однако психологически и сценически роль Бориса очень сложна. Я начал с поисков внешнего облика своего героя. Снова ходил в Третьяковскую галерею, рассматривал картины Репина, Сурикова, Васнецова. Неожиданно мне помог режиссер спектакля Баратов. Он принес маленькую открыточку, на которой тушью была нарисована голова Бориса Годунова. Этот рисунок Коровина оказался таким выразительным, что я взял его в основу для своего грима и внешнего облика. Он удивительно подходил к чертам моего лица, и с этого момента я понял, что начинаю входить в роль.
Работая со мной над образом Бориса, Леонид Васильевич делал много ценных указаний. Прежде всего он оберегал меня от лишних жестов. Ведь роль Бориса требует огромного эмоционального напряжения, и некоторые исполнители бросают подсвечники, переворачивают столы срывают скатерти, чуть ли не избивают Шуйского. "Иди от своего внутреннего состояния,- говорил Баратов,и учти, что в то время Борис Годунов был одним из самых культурных людей". Я следовал его советам. И что интересно? Когда в дальнейшем я выступал в Париже, меня больше всего радовало замечание всех рецензентов, отмечавших, что я пользовался самыми простыми и самыми скупыми средствами, а эффект выразительности был.
Очень помог мне в создании образа Бориса и художник Федоровский, который учил меня, как пользоваться гримом, чтобы подчеркнуть то или иное настроение моего героя, его душевное состояние, "В первом акте коронации,говорил он мне,- Борис в расцвете сил. Его ничего не тревожит, хотя он и сознает, что принятие власти - дело сложное, ответственное. Ко времени сцены в тереме он испытал уже много терзаний, и в душе его появляется трещина. Вид у него - измученный, на лице возникают морщины".
И Федор Федорович показывал мне, какой краской я должен пользоваться, чтобы оттенить впалые глаза, подчеркнуть складки лица. Он долго работал также над моим костюмом. Одеяние русского царя было ослепительно, особенно в первой картине, в сцене коронации. Здесь моя длинная мантия была украшена парчой, драгоценными камнями, так же как и барма (воротник), и шапка Мономаха. Когда я увидел все эти подлинники в Кремле, то они показались мне тусклыми по сравнению с театральными. Но у театра свои законы, и он должен ярко подчеркивать важные детали.
Н. С. Голованов, поставивший "Бориса" в 1948 году, был в ту пору уже болен. Спектаклем дирижировал Мелик-Пашаев, и мы с ним потихонечку, начиная с первой картины, стали работать над вокальной партией. Она предназначена для баритона, но хотя тесситура ее высокая, написана удобно. Ее музыкальная интонация, близкая к разговорной речи, подсказала манеру поведения моего героя, различную в разных ситуациях.
Одно из самых трудных мест - сцена коронации. Одетый в тяжеленную мантию, барму, в шапке Мономаха, с посохом и всеми царскими атрибутами, украшенными камнями, имитирующими натуральные, я должен был медленно выйти из храма, прошествовать вперед на самую авансцену и после тутти оркестра и колокольного перезвона в зловещей паузе мягко, на пиано начать: "Скорбит душа. Какой-то страх невольный зловещим предчувствием сковал мне сердце".
А в это время мое сердце прямо выпрыгивало от волнения, потому что, когда стоишь за кулисами и слышишь пение хора и всю громаду оркестра, душа от страха уходит в пятки.
Здесь у Бориса нет никаких жестов и движений. Только после первой части вступления он отдает державу и скипетр боярам и продолжает свой монолог: "Теперь поклонимся почиющим властителям Руси, а там сзывать народ на пир, всех, от бояр до нищего слепца, всем вольный вход, все гости дорогие". На слове "все" мелодия ариозо подходит к высокому фа от до, ре, ми в сопровождении мощного звучания оркестра. Нужно, чтобы певец пробил его и заполнил зал. И если у артиста есть голос, то эта сцена по своей красоте и величию производит огромное впечатление.
Когда Борис находится в тереме - в своей повседневной обстановке - он ведет себя совершенно иначе. Среди детей он ощущает большую раскованность, проще обращается с Шуйским. И опять совсем иной образ - в сцене у Василия Блаженного, когда к Борису обращается толпа народа и, протягивая руки, просит хлеба. Тут он, закусив губы и преодолевая ужасные предчувствия, должен показать свое милосердие и царственную простоту. В последней картине он вбегает в Думу в состоянии, близком к умопомешательству, с криком "Чур, чур, дитя". Это разные состояния, и я долго трудился над тем, чтобы донести их до слушателей. Работа была очень интересной, и мало-помалу образ моего героя начал складываться. Я одолел эту партию.
Первый раз я пел Бориса Годунова в день смерти Сталина. Об этом событии еще не было объявлено, только по радио передавали бюллетень о состоянии его здоровья, и когда я пришел в театр, все только и говорили о болезни Иосифа Виссарионовича. Сам я, охваченный скорбью, думал: "Как же в такой день меня будет принимать зал?" Но после сцены коронации публика так рукоплескала, что я удивился. И потом, по окончании сцены в тереме, когда я упал, положил крест и произнес: "Господи, ты не хочешь смерти грешника, помилуй душу преступного царя Бориса",- меня вызывали столько раз и с таким восторгом, что кто-то пришел ко мне и сказал: "Иван Иванович, вы знаете, сейчас такое настроение в театре - вы умираете на сцене, и все думают, что, может быть, в это время умирает Сталин".
После этого спектакля критика объявила о существовании третьего Бориса: Пирогов, Рейзен, Петров.
Но я понимал, главное - не успокаиваться, не зазнаваться, а только продолжать работать.
Через две недели я спел эту партию второй раз, и этот спектакль опять совпал с грустным известием: умер Готвальд. Пришел ко мне Мелик-Пашаев за кулисы и полусерьезно, полушутя говорит: "Ваня, если, когда вы будете петь в третий раз, кто-то еще умрет, вам эту партию дальше будет петь нельзя!"
Но, к счастью, больше никто не умирал, и я эту роль исполнял много-много раз, в основном в очередь с Александром Степановичем Пироговым
Как всегда, общий состав исполнителей был превосходным. Юродивого пели Козловский и Хромченко, Шуйского - Ханаев, замечательным Шуйским был и Чекин. Нэлепп и Большаков исполняли роль Самозванца, Максакова и Давыдова Марину Мнишек, Михайлов и Батурин - Пимена, Лубенцов и Кривченя - Варлаама, Турчина и Борисенко - Хозяйку корчмы. Это был ансамбль певцов, обладавших красивейшими голосами, и успех спектакля обеспечивался именно их искусством.
Нужно отметить также и блестящие декорации, выполненные Федоровским. Когда мы ездили с "Борисом Годуновым" за границу, то восторгу и удивлению публики перед оформлением оперы и ее костюмами не было границ. Федор Федорович, как талантливый художник, прекрасно чувствовал, какая гамма красок должна сопутствовать той или иной картине. Вот, например, первая сцена у ворот Новодевичьего монастыря. Она была сделана из толстых бревенчатых срубов, такой же мощный был вход в монастырь. Действие происходило в ночное время, поэтому только кое-где горели факелы, которые создавали настроение таинственности. И вдруг после этой темной картины открывалась сцена коронации в Кремле. В этой сцене народ был уже одет во все праздничные одежды, и Борис Годунов тоже в торжественном облачении выходил на площадь. Контраст поражал, и публика встречала эту сцену овацией.
А затем опять темная келья, сводчатые потолки, сводчатые окна и двери, и Пимен при свете свечи пишет свой ужасный донос на царя.
И снова смена красок - сцена в корчме. Большая комната в деревянном доме у литовской границы с большим столом и большими длинными лавками, печка, всевозможные приспособления для приготовления пищи. Кувшины, разноцветная керамическая посуда, вышитые полотенца.
И другие внутренние покои - царские: кабинет царя Бориса, где он вершит свои дела. Здесь тоже сводчатые потолки, но все стены обиты шелком. Окна с цветными стеклами и прозрачными легкими занавесками. Большая изразцовая печь. Большой дубовый стол, покрытый богатой скатертью. На нем приспособления для письма, свитки, документы, большой глобус, светильники. Рядом - кресла из витого дерева с мягкими сиденьями. Все это красиво, но неброско. (Когда я потом бывал в Кремле, в этом же самом царском тереме, то всегда поражался - терем, как и подлинные одежды того времени, не произвел на меня яркого впечатления - декорации Федоровского были ярче.)
Новую краску вносила и сцена "У фонтана" с красивыми лестницами, балюстрадой, нарядными польскими костюмами. Пейзаж "Под Кромами" с прогалинами, лесом, на фоне которого виднелась церквушка, был выписан Федоровским тщательно и ярко. А последняя сцена смерти Бориса проходила на фоне темных тонов. Хотя убранство внутренних покоев отличалось богатством, все краски были приглушены.
С партией Бориса я объехал вскоре весь мир и должен сказать, что оперу Мусоргского всюду любят и принимают восторженно.
В июне 1953 года была поставлена опера Ю. Шапорина "Декабристы". Работа над этой оперой напоминала творческую лабораторию.
Прежде всего, Шапорин принес партитуру, в которой музыки было гораздо больше, чем могло прозвучать в один вечер. (Так уже случалось раньше - и Глинка, и Мусоргский не всегда учитывали возможности сцены.) И все сообща уговаривали Шапорина эти длинноты сократить. Композитор долго сопротивлялся, но, когда спектакль был уже готов, всех похвалил: "Молодцы ребята, а то было бы скучно".
На всех репетициях оперы присутствовали и сам композитор, и дирижер Мелик-Пашаев, и режиссер Охлопков, а также все участники спектакля. Сначала мы собирались в директорской ложе и обсуждали, что получилось накануне и что нужно сделать сейчас. Каждый из нас делился своими мыслями, это был интересный творческий процесс, и он дал большие результаты. Кроме того, сколько пользы приносило общение с такими замечательными музыкантами, как Шапорин, Мелик-Пашаев, с режиссером Охлопковым! Хотя драматические режиссеры в оперных спектаклях обычно проявляют себя не самым лучшим образом, однако разносторонние исторические познания Охлопкова сыграли в этой постановке полезную роль. Успеху спектакля очень способствовали прекрасно поставленные массовые сцены на Сенатской площади, сцена шествия на каторгу, бала у Николая.
Охлопков помогал нам и в овладении ролью. Он показывал, как нужно держаться на сцене, мог изобразить, например, походку Николая. Мне, как исполнителю партии Бестужева, он показывал, как тот должен вбежать, снять на ходу плащ, бросить шляпу и в порыве радости обнять своего друга.
Вокальная партия Бестужева несложна. Александр появляется во второй картине "На почтовом тракте", чтобы объявить своим друзьям, что император скончался и всем нужно срочно ехать в Петербург. Здесь Бестужев обрисован небольшой порывистой арией "Бьет барабан, трубы восстания зовут нас". А перед расставанием с друзьями молодой декабрист запевает грустную задумчивую арию песенного склада "Ой вы, версты, версты, да белы снега", навеянную, быть может, нерадостными предчувствиями грядущих событий.
Это самые выразительные, эмоционально сильные моменты в партии Бестужева. Однако он участвует и в сцене на Сенатской площади, появляется в кабинете Рылеева, в последней картине "По Сибирской дороге" - маленькой остановке по пути на каторгу.
Я пел партию Бестужева с удовольствием. Образ экзальтированного, бесстрашного, порывистого молодого человека, одухотворенного идеей свержения самодержавия, был мне очень близок, ставил передо мной интересные актерские задачи.
Как всегда, в спектакле были собраны лучшие исполнительские силы театра: Пестеля пели Кривченя и Пирогов, Каховского - Нэлепп и Ханаев, Рылеева - Алексей Иванов и Лисициан, Трубецкого - Селиванов и Воловов, цыганку Стешу - Давыдова и Вербицкая, Елену - Покровская, Дмитрия Щепина-Ростовского - Ивановский.
Судьей нашей работы стали не только публика, всегда тепло принимавшая спектакль, но и время - спектакль продержался в репертуаре семнадцать лет. Быть может, только трудность постановки оперы, сложность декораций и костюмов помешали ей выдержать соревнование с нашими классическими произведениями.
Через год, летом 1954-го, я выступил в еще одной новой для себя партии, мимо которой не может пройти ни один бас,- в партии Ивана Сусанина.
Дирижировал этой оперой Небольсин, а ставил ее Баратов. Одним из ведущих исполнителей Сусанина был тогда Михайлов. Это быта его вотчина партия Сусанина удивительно отвечала его громадному голосу и богатырской внешности.
Среди певиц, занятых в "Иване Сусанине", прежде всего назову Масленникову, Шумскую, Гусельникову. Это были очень хорошие Антониды. Златогорова, Антонова, Гагарина, Соколова - не только замечательные певицы, но и прекрасные партнеры - пели партию Вани. Ханаев, Большаков, Федотов вдохновенно исполняли роль Собинина. Они с такой легкостью брали верхнее до, которое звучит в самом начале партии, что никому и в готова не могло прийти, как это трудно даже для большого мастера.
Партия Сусанина ставила передо мной чрезвычайно трудные задачи. Прежде всего нужно было раскрыть характер моего героя. Если в первой картине Сусанин - мудрый, рассудительный крестьянин, то в третьей он трогательный отец, безмерно любящий своих детей. А когда идет на верную гибель, он, чтобы отвлечь внимание поляков, не без иронии замечает "Червонцы ярче сабли светят".
Трудность роли Сусанина заключалась для меня и в том, что я должен был нарисовать образ человека "от земли", а у меня несколько другая внешность, и мне приходилось перерабатывать свою индивидуальность, как и в Галицком, и в Еремке.
Вокально партия Сусанина также очень сложна. Композитор наделил ее и фундаментальностью звучания, и трудной высокой и низкой тесситурой. Ее исполнение требует от певца полного диапазона голоса и большой певческой техники.
И все же партия Сусанина оказалась мне по голосу, и, когда я спел первый спектакль, Небольсин остался очень доволен и даже написал в газете, что родился трагедийный актер Иван Иванович Петров.
Я продолжал работать над ролью, и некоторые находки появлялись совершенно неожиданно. Так, однажды я чувствовал себя плохо. Собравшись с силами, экономя каждый звук, пропел свой последний монолог "Чуют правду". Прихожу после спектакля за кулисы, и вдруг все ко мне бросаются в полном восторге. Оказывается, эти мои размышления, высказанные с предельной сдержанностью, для себя, без подчеркнутого драматизма, произвели на слушателей особенно сильное впечатление. И этот прием я использовал в последующих спектаклях.
Певцы моего поколения
Мне снова хочется вернуться к рассказу о певцах Большого театра. На этот раз - певцах моего поколения.
И опять начну с басов.
В 1949 году в нашем театре стал работать вдумчивый талантливый актер Алексей Филиппович Кривченя, начинавший свою карьеру в Новосибирском оперном театре, где он был ведущим исполнителем басового репертуара,- пел Сусанина, Мельника, Мефистофеля, Бориса Годунова. Но, на мой взгляд, у артиста был голос, предназначенный для характерных ролей. Алексей Филиппович попробовал исполнить эти партии в Москве, но не произвел в них должного впечатления и сам это почувствовал. Зато когда он выступил в "Хованщине" в партии Ивана Хованского, то всех поразил. Сильный голос, среднего роста плотная фигура, артистизм - все способствовало созданию живого запоминающегося образа. Хованский - Кривченя стал украшением спектакля.
Яркими достижениями артиста явились и роли Варлаама и Фарлафа. Невозможно было без улыбки наблюдать его в сцене с Наиной. А каким многогранным характером наделял он Кончака в "Князе Игоре"! Перед слушателями вставал человек сильный, хитрый, умеющий говорить и властно, и вкрадчиво. Но, как мне кажется, одна из самых удачных ролей Алексея Филипповича - Черевик в опере Мусоргского "Сорочинская ярмарка". Наблюдая за его игрой, мы всегда весело смеялись. Замечательный был Черевик!
Низким характерным басом обладал и Алексей Павлович Гелева. Он с успехом пел Хованского, Варлаама, Фарлафа и Кончака. И, быть может, еще более низкий бас был у Леонида Михайловича Ктиторова, выступавшего в партиях Морского царя, Хованского, Пристава и других.
К сожалению, очень рано ушел из жизни Александр Павлович Огнивцев, обладавший замечательным по тембру басом кантанте. Мы в очередь с ним исполнили много партий. Высокого роста, атлетического сложения, красивый, он прекрасно выглядел в ролях Бориса, Досифея, Мефистофеля, Короля Рене, Галицкого. Пел талантливо и пользовался огромной популярностью. Запомнился он мне также в партии Гремина. Ему очень шел генеральский костюм, и поведение артиста среди присутствующей на балу знати было непринужденным и уверенным. Трудную в вокальном отношении арию он пел свободно, выразительно, музыкально, с большой теплотой.
Переходя к баритонам, я должен прежде всего сказать о приехавшем к нам из Новосибирска Михаиле Григорьевиче Киселеве. Он был небольшого роста, щупленький, и мы всегда удивлялись, откуда берется такой мощный голос. Он прекрасно пел Фиделио, Фигаро, Грязного, Риголетто.
Плотным лирическим баритоном обладал и Алексей Алексеевич Большаков. Он приехал из Свердловска, где уже наработал большой репертуар и прекрасно пел не только лирические, но и драматические партии. Это удавалось Алексею Алексеевичу потому, что он прошел прекрасную школу, и, когда я слушал его, то хорошо это понимал. Он был великолепный Жермон, интересный Онегин, запоминающийся Елецкий, создал яркий образ Родриго в "Доне Карлосе", легко справлялся с такой труднейшей партией, как Риголетто.
Еще один очень симпатичный баритон - Евгений Семенович Белов. Его красивый по тембру голос отличался мягкой лиричностью. Театральными удачами певца явились Онегин, Елецкий, Жермон, Сильвио в "Паяцах".
Среди лирических баритонов выделялся Павел Герасимович Лисициан. Он поступил в Большой театр немного раньше меня, но как-то сразу вошел в репертуар. И это естественно - уж очень красивым голосом он обладал: ровным, мягким, свободным, легко звучащим. Для него не было никаких затруднений ни в верхнем, ни в нижнем регистре, все ему удавалось легко, и все звучало насыщенно, завораживало множеством красивейших обертонов. Мы всегда испытывали большое удовольствие, когда он пел в спектаклях, исполняя роли Онегина, Роберта, Елецкого, Жермона. Партия Жермона была у него одной из лучших, потому что он демонстрировал свое беспредельное дыхание, кантилену, и можно было действительно им заслушаться. И еще он был замечательным Эскамильо.
Но однажды Лисициан нас удивил. Он вдруг взялся за партию Амонасро в "Аиде". А ведь это сугубо драматическая партия, и мы даже не поверили, что она у него получится. Но что значит работа и серьезное отношение к делу! Павел Герасимович овладел этой ролью и сделал ее очень весомой, выразительной. Она у него звучала и убеждала, несмотря на лирический голос. И актерски эта роль была сделана им очень ярко. Он нашел характерный грим и костюм, которые искал долго, сомневаясь, пробуя разные варианты. Он советовался со всеми нами и подошел к поставленной перед собой задаче очень творчески.
С Павлом Герасимовичем нас связывает большая дружба, которая длится с момента моего поступления в Большой театр. По его совету я построил дом в Манихино, в дачном кооперативе Большого театра, и поселился в двух минутах ходьбы от него. Мы продолжали общаться не только в театре, но и на даче, и это приносило обоим большое удовлетворение. Мы вместе ездили в гастрольные турне и в Прагу, и в Югославию.
Однажды на спектакле у нас произошел такой смешной случай. Шел "Фауст". Серов пел заглавную роль, а Лисициан - Валентина. И вот в сцене поединка перед домом Маргариты, когда Валентин начал свою дуэль с Фаустом, у того вдруг сломалась шпага. В руке у него остался один эфес. "Что мне делать?" - шепчет он мне. Я отдал ему свою шпагу. Он схватил ее, сильно махнул, но и она сломалась. Один эфес и от моей шпаги остался! Но ведь Фауст должен убить Валентина! Что делать? Тогда я подобрал клинок, который валялся на полу, подкрался сзади на цыпочках к Валентину и в тот момент, когда это полагалось сделать Фаусту, нанес ему удар в спину. Валентин упал.
Когда кончился акт и закрылся занавес, мы все весело рассмеялись, и наше нервное напряжение улетучилось.
Борис Григорьевич Шапенко, лирико-драматический баритон, пришел к нам из Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Он обладал хорошей внешностью, музыкальностью, артистичностью, а его голос особенно ярко звучал в верхнем регистре. В основном он пел лирические партии, но выступал и в ролях Грязного, Родриго в "Доне Карлосе", Трубецкого в "Декабристах" и т.д.
Моим партнером по многим операм был и Павел Васильевич Воловов, наделенный крепким лирико-драматическим баритоном. Он был и очень хорошим артистом, владел выразительной фразировкой, а его голос отличался приятным тембром. Среди его ролей - Мазепа, Роберт, Калиник в "Майской ночи".
Среди теноров мне хочется выделить Владимира Викторовича Ивановского - моего товарища еще с училища имени А.К.Глазунова. Володя обладал драматическим тенором с лирическим оттенком. Вначале он работал в Кировском театре. Однажды я поехал на гастроли в Ленинград, пел там в "Мазепе", и мы оказались партнерами. Я исполнял партию Кочубея, а он Андрея. После спектакля мы разговорились. Володя сказал, что ему хорошо работается, но его уже пригласили в Большой театр: Ханаеву стало трудно по возрасту петь Германа, и театр искал замену.
Среднего роста, худощавый, Ивановский хорошо смотрелся в ролях Германа, Хозе, Канио, Пинкертона в "Чио-Чио-сан", Флорестана в "Фиделио", Ионтека в "Гальке". Он завоевал положение ведущего тенора Большого театра.
В спектаклях каждого театра важную роль играют не только певцы, исполняющие первые партии, но и артисты, выступающие в эпизодических ролях, дополняющих произведение необходимыми выразительными деталями. Они помогают глубже раскрыть настроение данного момента - порой за счет привнесения контрастной краски. Например, в "Мазепе". Народ замер в ожидании прихода несчастных Кочубея и Искры, обреченных на казнь. И вдруг, откуда ни возьмись, пьяный казак, во все горло распевающий веселые куплеты. Это та краска, которая еще больше подчеркивает всю трагедию происходящего. Артист, играющий казака, должен здорово провести эту сцену.
В Большом театре была целая группа певцов "второго плана". Они замечательно выполняли свою миссию. Так, Александр Николаевич Перегудов был запоминающийся Искра, Подьячий и даже получил за эту роль Государственную премию СССР.
Сергей Николаевич Колтыпин мог петь и Фарлафа, и Вагнера в "Фаусте", Скулу в "Князе Игоре". Федор Маркелович Годовкин пел Пьяного казака, Ерошку в "Князе Игоре". Множество вторых партий исполнял и Владимир Александрович Малышев. Он пел Сурина, Скомороха и создал прелестный образ Бартоло. Виктор Васильевич Горбунов, обладавший зычным голосом, был прекрасный Митюха, Пристав. Андрей Алексеевич Соколов - яркий Бомелий, Шуйский, Лыков.
Настоящим, мощным голосом обладал и Михаил Васильевич Сказин, и иногда его спрашивали:
- Миша, почему ты не поешь первые партии?
- Да я и так доволен,- отвечал он.- Чувствую, что с первыми мне было бы трудно справиться.
В роли Трике мне запомнился Вениамин Семенович Шевцов, а Даниэль Александрович Бедросьян был хороший Зарецкий.
Можно перечислять еще много имен: Юрий Михайлович Филин, Иван Иванович Маньшавин, Георгий Дмитриевич Шульпин, Леонид Сергеевич Маслов, Иван Михайлович Ионов, Иван Данилович Хапов, Иван Михайлович Скобцов. Все они по крупице привносили свой талант в спектакли Большого театра, украшая их, способствуя их блеску и совершенству.
Теперь перейду к рассказу о певицах, лирических и драматических сопрано.
Одной из моих постоянных партнерш была Елена Ивановна Шумилова. Ее трепетный голос, окрашенный как бы серебряным призвуком, придававшим ему необыкновенное очарование, помогал ей создавать трогательные образы Татьяны, Микаэлы, Гальки, Маженки.
Прелестный голос - красивый по тембру, ровный, мягкий и в то же время звонкий - был и у Татьяны Емельяновны Талахадзе, которую я помню еще со времени Всесоюзного конкурса вокалистов, состоявшегося до войны. Она тоже хорошо пела Татьяну, Тамару, Микаэлу, Чио-Чио-сан и многие другие партии.
К тому же поколению певиц относятся и замечательные артистки Софья Григорьевна Панова и Наталья Самойловна Чубенко - драматические сопрано. Стройная, статная, Панова обладала крепким голосом. Она пела Ярославну, Шелогу, Лизу, Тоску, Гориславу, Оксану. Пела с огромным темпераментом, и так мощно звучал ее голос, что, когда вместе с ней какую-то партию исполняла певица меццо-сопрано, трудно было различить их по характеру голоса.
У Натальи Самойловны был более мягкий, драматический и вместе с тем богатый различными оттенками голос. Она прекрасно пела Лизу, Машу в "Дубровском", Гориславу, Наташу в "Русалке", Гальку, даже исполняла меццо-сопрановую партию Марины Мнишек в "Борисе Годунове" и легко справлялась с ней. Вообще это была очень талантливая артистка, эффектно выглядевшая на сцене.
Моей хорошей партнершей была Вера Михайловна Фирсова. Она привлекала мощным звонким голосом, но, главное, блестящей техникой. Поэтому для нее как будто не существовало трудностей в тех сложных ролях, которые она исполняла,- Антониды, Лакме, Розины, Виолетты. Помню наше совместное выступление в "Сказке о царе Салтане" - какой она была незабываемой Царевной Лебедь! Или прелестной Людмилой в "Руслане и Людмиле".
Много теплых слов мне хочется сказать об Ирине Ивановне Масленниковой, наделенной небольшим, но очень теплым и красивым голосом. Она и сама была изящной, интересной женщиной, очаровательной актрисой. Это сочетание голоса, внешности и необыкновенной музыкальности, артистизма помогало ей создавать образы героинь, которые покоряли слушателей. Она была изумительной Снегурочкой, прелестной Розиной. В ее активе партии Антониды, Людмилы, Джульетты.
Небольшого роста, подвижная, привлекательная, всегда смеющаяся или улыбающаяся - такой мне запомнилась Мария Николаевна Звездина - Розина, Джильда, Лакме, Церлина, Снегурочка. Все эти роли были большой удачей артистки.
На протяжении многих лет работала в Большом театре Нина Ивановна Гусельникова, наделенная мягким лирико-колоратурным сопрано. Мы часто выступали с ней в одних и тех же операх, где она исполняла роли Антониды, Людмилы, Джильды и была очень приятной партнершей.
Хорошим лирико-колоратурным сопрано обладала и Галина Васильевна Белоусова-Шевченко, которая тоже часто оказывалась моей партнершей. Она пела роли Джильды, Антониды, Людмилы и многие другие.
Часто в спектаклях со мной выступала и Татьяна Федоровна Тугаринова Наташа в "Русалке", Ярославна в "Князе Игоре", Лиза в "Пиковой даме", Елизавета в "Доне Карлосе". Очень серьезная певица и хорошая актриса. Жаль, что она очень рано ушла из жизни.
Привлекательной артисткой, покорявшей красивым голосом, была Галина Васильевна Олейниченко - Розина, Царевна Лебедь, Людмила, Антонида, Джильда.
Талантливой актрисой была Нина Ивановна Покровская лирико-драматическое сопрано. Нина Ивановна хорошо держалась на сцене, выразительно фразировала, что помогало ей создавать незабываемые образы Марии в "Мазепе", Гориславы, Ярославны, Елены в "Декабристах". Я пел с ней во всех этих операх и получал большое удовольствие. Мы записали с Покровской "Алеко", где она прекрасно исполнила партию Земфиры.
Запомнился мне и теплый голос Натальи Петровны Соколовой - он лился прямо в душу. К тому же она была прекрасной артисткой, очень глубокой и содержательной. Ее обаяние и необыкновенная проникновенность исполнения доставляли наслаждение. Среди ее лучших ролей - Аида, Лиза, Галька, Елена, Керубино.
Не столь широким репертуаром обладала Евгения Федоровна Смоленская, но голос у нее был крепкий и в то же время очень мягкий. Он помогал ей создавать обаятельные образы Ярославны, Наташи, Лизы, Елены, Аиды.
Моя партнерша по многим операм Леокадия Игнатьевна Масленникова запомнилась мне в ролях Маргариты, Маженки, Даши во "Вражьей силе", Татьяны. У Масленниковой был очень звонкий голос, особенно в верхнем регистре.
И первые, и вторые партии пела Антонина Алексеевна Иванова, обладавшая хорошим звонким лирическим сопрано. Среди ее значительных работ - Тамара, Мария.
И все же самыми лучшими данными, на мой взгляд, обладала Вероника Ивановна Борисенко. Она пленяла своим прелестным голосом-большим, свободным, огромного диапазона. Он звучал просто поразительно. Такие ее партии, как Груня во "Вражьей силе", Любаша, Любава, Марфа, Амнерис, Кончаковна - незабываемы. Но мне кажется, что Вероника Ивановна мало работала над собой и могла бы достичь, благодаря своим замечательным данным, еще большего.
В то же самое время пела в Большом театре и Ирина Николаевна Соколова, низкое меццо-сопрано. Благодаря мальчишеской внешности она очень естественно выглядела в ролях Вани, Ратмира, Леля. Но Ирина Николаевна пела и Ольгу, Маддалену и другие партии.
Много теплых слов мне хочется сказать о своей землячке, иркутянке Варваре Дмитриевне Гагариной, обладательнице очень красивого низкого меццо-сопрано. И внешне она была чрезвычайно привлекательна. Такие роли, как Ольга, Княгиня, Кончаковна, Полина, Весна, Лель, Ваня, Ратмир, прекрасно ей удавались.
Моя сокурсница по училищу имени А. К. Глазунова, где мы когда-то вместе учились, Елена Ивановна Грибова очаровывала в ролях Ольги, Зибеля, Маддалены.
Валентина Федоровна Клепацкая прекрасно исполняла партию Вани в "Иване Сусанине" и была моей партнершей в этой опере, которую мы записали на пластинку. Ей удавались партии Зибеля в "Фаусте", Княгини в "Русалке", Федора в "Борисе Годунове".
Из артисток, исполнявших вторые партии, вспоминаю Марию Николаевну Левину, которая очень хорошо играла роли Няни в "Демоне" и Лариной в "Евгении Онегине". Во многих небольших партиях очень успешно выступали Бася Ароновна Амборская, Ольга Федоровна Инсарова, Тамара Анатольевна Парфененко. Нина Александровна Остроумова была моей партнершей в "Фаусте", где пела Марту, и мы с увлечением проводили с ней комические сцены, которые она очень талантливо играла. Одна из ее запоминающихся ролей - Наина в "Руслане и Людмиле". В ролях Марты и Наины производила большое впечатление Мария Георгиевна Кузнецова.
Все это были яркие характерные актрисы, без которых многие спектакли Большого театра сильно бы проиграли.
Дирижеры, с которыми я работал
Большую роль в моем актерском становлении и развитии сыграла повседневная работа в театре с выдающимися дирижерами и режиссерами. Я хочу и о них рассказать.
Первая творческая встреча с дирижером, которая произвела на меня очень сильное впечатление, состоялась еще в довоенные годы, когда я был солистом Московской филармонии. Тогда на репетиции "Реквиема" Верди я встретился с одним из самых выдающихся дирижеров того времени - Львом Петровичем Штейнбергом. Он был уже немолод, но держался бодро, подтянуто. Мне запомнились копна его седых волос, пышные усы, живые темно-карие глаза, зажигавшиеся огоньками. Лев Петрович обладал блестящей дирижерской техникой и большим темпераментом. Когда я стал солистом Большого театра, то успел спеть с ним только партию Царя в "Аиде" Верди.
Определяющую же роль в моей судьбе сыграл другой дирижер, один из самых больших мастеров оперного искусства, Самуил Абрамович Самосуд. Этот удивительный музыкант тонко чувствовал не только музыку, но и стиль произведения, прекрасно знал законы сценического искусства и ясно ощущал драматургическое развитие каждого произведения.
Дирижируя, Самосуд никогда не заглушал певцов, стараясь подчинить все исполнение вокальному звучанию, в то время как игра самого оркестра отличалась всегда яркостью, стройностью, филигранностью отделки деталей. Такие постановки Самосуда, как "Иван Сусанин", "Пиковая дама", "Иоланта", "Черевички", забыть невозможно.
Самуил Абрамович светился обаянием. Вся его ладная фигура, благородная осанка, выразительное лицо, обрамленное чуть седеющими волосами, добрый и умный взгляд карих глаз притягивали внимание, очаровывали. Он был очень общительным человеком, приятным, остроумным собеседником, обладавшим чувством теплого юмора. Так же, как и другие музыканты - Голованов, Пазовский,- он часто приходил, в театр, чтобы просто послушать какой-нибудь спектакль, и когда он появлялся в ложе, то в театре сразу возникала напряженная творческая атмосфера. Когда же сам Самуил Абрамович становился за дирижерский пульт и поднимал дирижерскую палочку, все замирало. Только скулы на лице Самосуда приходили в движение, а затем по взмаху его руки начинала литься вдохновенная музыка.
К сожалению, этот огромный мастер очень немного времени проработал в Большом театре, и я с ним ничего не спел, кроме двух опер, которые прозвучали в концертном исполнении - "Тангейзер" Вагнера, где мне была поручена ведущая партия Ландграфа, и "Джоконда" Понкьелли. Здесь я выступил в роли Альвизе.
Когда на смену ушедшему из театра Самосуду пришел Арий Моисеевич Пазовский, то и он сумел завоевать наши сердца. Это был не просто превосходный дирижер, но и замечательный педагог, любивший и понимавший вокал. И старых и молодых актеров он захватывал своей вдумчивой, точной отделкой каждого спектакля. Я начал работать с Пазовским над партией Сусанина и получил от него массу ценных советов, но, к сожалению, не успел тогда довести эту работу до конца и пел Сусанина с другими дирижерами, уже гораздо позже.
Арий Моисеевич казался человеком сумрачным, у него был строгий взгляд, в котором ощущалась большая воля. Дирижерское искусство Пазовского отличалось большой ясностью: у него были очень выразительные руки, разнохарактерные жесты. Иными словами, он обладал замечательной дирижерской техникой. Очень жаль, что он тоже мало проработал у нас в театре. Пошатнувшееся здоровье заставило Пазовского оставить Большой театр.
На смену ему пришел третий могикан Николай Семенович Голованов. Мне запомнилось его круглое широкое лицо с припухлыми губами, слегка вздернутым, довольно мясистым носом, тонкими, будто нарисованными темной краской бровями. Взгляд его был приветлив и одновременно прозорлив. Однако он преображался, как только становился за дирижерский пульт. Теперь перед всеми представал предельно волевой человек. Все подчинялось ему безоговорочно. Блестящая техника сочеталась с огромным темпераментом. Особенно удавалась Голованову русская музыка - Римский-Корсаков, Мусоргский, Рахманинов. Здесь ему, пожалуй, не было равных. Прекрасно звучала под его управлением "Поэма экстаза" Скрябина.
Я пел под руководством Голованова "Хованщину". Опера прошла тогда с огромным успехом. И до сих пор, несмотря на то, что со времени ее постановки прошло уже сорок с лишним лет, спектакль не устарел, не потерял свой свежести и яркости красок. Так добротно он сделан.
С Головановым мне, к сожалению, пришлось встретиться еще раз только на записи "Алеко". Николай Семенович был болен, только что перенес инсульт, поэтому сидел за пультом и дирижировал лишь слегка. Но как все звучало под его управлением! Как записан "Алеко"! И сегодня я не могу слушать эту запись без волнения! Оркестр не просто брал аккорд. Этот аккорд жил, дышал!
Но характер у Голованова был сложный и крутой. Многим певцам и музыкантам часто доставалось от него на орехи. Бывало, посмотришь на него, и кажется, что он дирижирует не палочкой, а кнутом. Если Николай Семенович слышал, что кто-то поет плохо, он мог и накричать на репетиции, и заглушить оркестром на спектакле. Но, если артист пел хорошо, музыкально, если был охвачен порывом вдохновения, он создавал все условия для его успеха и комфорта, вовремя убирая оркестр, чтобы подчеркнуть звучание голоса. Так высокая дисциплина и творческое воодушевление делали свое дело, и во времена "правления" этого музыканта театр достиг одной из самых высоких своих вершин.
Большинством спектаклей, в которых я пел ведущие партии, дирижировали Александр Шамильевич Мелик-Пашаев и Василий Васильевич Небольсин. С Мелик-Пашаевым я пел Руслана, Рене, Бориса, Мефистофеля, Рамфиса, Бестужева. Когда со сцены я видел дирижера, захваченного музыкой, его выразительные жесты и умное, одухотворенное лицо с блестящими сквозь очки глазами, то с радостью подчинялся обаянию и внутренней силе этого музыканта. Петь под его дирижерскую палочку было не только легко, но и чрезвычайно приятно.
Коньком Мелик-Пашаева была итальянская музыка: среди его вершинных достижений - "Аида" и "Кармен". Прекрасно звучали под его управлением и оперы Чайковского: "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Иоланта", но, повторяю, в итальянской музыке ему не было равных.
Александр Шамильевич очень тепло относился ко мне, и однажды после моего второго выступления в роли Бориса написал целое исследование, посвященное моей творческой деятельности. Из уважения к его памяти и чувства благодарности я хочу привести его здесь. И пусть простит меня читатель и не обвинит в нескромности. Ведь это маленькое эссе - и характеристика самого Мелик-Пашаева как дирижера, его отношения к актерам Большого театра.
Итак, цитирую...
"Да здравствует царь Борис Федорович!" - в третий раз зычно возглашают бояре, и далеко-далеко, в глубине необъятной сцены Большого театра, сопровождаемый славословящим хором, ликующими трубами, грохотом литавр и трезвоном колоколов появляется взволнованный, томимый тревожными предчувствиями царь Борис. Медленно и величественно шествует он путем коронованного повелителя, как бы никого не видя и ничего не слыша, хотя вокруг него еще долго шумят приветственные клики и несется колокольный звон. Наконец, в последний раз вздрогнули литавры, и все замерло. После бури звуков напряженная, страшная, как бы зловещая тишина. Народ приник к земле, бояре отодвинулись, полилась скорбная тема преступного царя, и Борис "наедине со своей душой" начинает свой потрясающий монолог.
Какой волнующий и ответственный момент для исполнителя! В какой мощной творческой форме надо быть артисту, чтобы после подавляющей своим великолепием, ослепляющей глаз и поражающей сцены коронации с ее мириадом ликующих звуков, принять на себя все внимание притихшего театра, в немногих, но таких значительных словах раскрыть всю душу смятенного царя, просящего у державного Отца благословения, дабы "в славе править свой народ". Как трудно здесь выдержать масштаб величия и не показаться мелким, суетливым, не выпасть из общего настроения сцены.
При этом нельзя забывать и о вокальных трудностях монолога, о разнообразии эмоций, требующих соответственно разнообразия красок, о пианиссимо на верхнем ми-бемоль (воззри с небес) и о могучем заключении с блестящей концовкой: "всем вольный вход, все - гости дорогие!"
Во время творческих собеседований на занятиях оба наших маститых исполнителя Бориса - А. С Пирогов и М. О. Рейзен, в течение более чем двух десятков лет исполнявшие и вынашивавшие эту труднейшую роль, этот венец творения, эту "девятую симфонию" для баса, получившие в этой партии заслуженное признание нашего народа, оба они подчеркивали охватывающее их каждый раз особое волнение именно в этой сцене, и думаю, что не ошибусь, если скажу, что именно по тем мотивам, которые я приводил выше
А как же артист И. И. Петров, всего дважды в жизни испытавший "тяжесть" шапки Мономаха и царских барм? Разволновался ли, занервничал, растерял ли накопленное и в связи с этим не раскрылся полностью? Безусловно, да, и было бы странно, если бы случилось иначе. Разумеется, линия звука во фразе "воззри с небес на слезы верных слуг" в классе шла ровнее и мягче, а последнее фа на втором уже спектакле заполняло театр мощнее и ярче, чем на первом. Но, думаю, что это одна сторона вопроса. Есть и другая, не менее важная, а именно: творческий и интеллектуальный рост художника, дающий ему право держать экзамен на аттестат зрелости, и об этой зрелости, в связи с выступлением Ивана Петрова в "Борисе", мне хочется сказать несколько слов.
В результате упорной работы над собой, в результате постоянного совершенствования духовный мир мастера делается богаче и шире, количество художественных впечатлений, накапливаясь, обуславливает переход в иное, более сложное качество; талант, подобно необработанному алмазу, шлифуется повседневным трудом и культурными навыками, буйная стихийность постепенно уступает место мудрой организованности. Словом, мастер растет на глазах. Когда же, наконец, наступает волнующий момент претворения в жизнь накопленного, он оказывается подготовленным к нему всем предыдущим процессом труда.
Эта мысль мелькнула в моем сознании в момент первого появления Петрова в глубине сцены, и пока он совершал свой неторопливый переход к авансцене, я окинул мысленным взором этапы творческой жизни одаренного певца, этапы, которыми мне, как дирижеру, пришлось руководить.
Вот старый Вальтер из "Вильгельма Телля", послуживший первым звеном в цепи наших художественных взаимоотношений, одна из первых ролей И. И. Петрова в Большом театре. Партия эта небольшая, но в нее входит множество ансамблей и знаменитый терцет с блестящими фиоритурами и огневым финалом. Здесь надо сказать о качествах Петрова как профессионала, выгодно отличающих его среди остальной молодежи уже с первых шагов его работы и по сей день. Он всегда твердо знает партию, всегда находится в творческом контакте с дирижером, а если ошибется, что может случиться со всяким, то сразу разберется в обстановке и выправит положение. На уроки он всегда является подтянутый, подготовленный, и, что особенно ценно, жадно впитывает в себя все, могущее помочь ему в деле подготовки партии. Проработав дома усвоенное на уроке, процедив его через свое сознание и вокальный аппарат, он на следующее занятие является обогащенным, поднявшимся на следующую ступень познания, привнося часто и свои художественные дополнения
Подобная система занятий подхлестывает и педагога-дирижера, и процесс усвояемого протекает успешно, быстро и горячо.
Перелистываю книгу времени дальше. Вот Руслан, Рене и, наконец, Мефистофель. Три труднейшие партии, три этапа, пройденных Петровым с честью. Разумеется, не сразу выявились полностью эти многогранные характеры (они еще долго будут выявляться), но из спектакля в спектакль, из года в год настойчиво совершенствует певец вокальную сторону, ищет жизненную правду образа, углубляет детали в характеристиках, заложенные авторами. Бесстрашие к опасностям, чистота души, преданность делу и верность чувству, типичные для Руслана, властность и суровость короля Рене, сочетающиеся с теплым отцовским чувством к своей "голубке бедной Иоланте", галантность и кажущееся добродушие в сочетании с холодным презрением и ненасытной злобой ко всему сущему в Мефистофеле - слишком много здесь красок и чувств, чтобы молодой художник мог их воплотить в столь короткий срок, но семена работы уже дают благодатные всходы, и сердцу музыканта приятно, когда он слышит в крошечном дуэттино Руслана и Людмилы в первом действии и далее в каноне "Какое чудное мгновенье" те пианиссимо в звуковедении Петрова, то разнообразие эмоций, которые потребовались по характеру музыки, но ранее не удавались певцу. Подобные же сдвиги заметны и в других партиях.
Вот мысли, которые промелькнули в моем сознании, пока Петров пел, в первый раз в жизни, свой монолог. Он прошел сложный, трудный путь от Руслана и Мефистофеля к Борису, прошел достойно и честно, завоевав право на этот творческий "пик" постоянным трудом и совершенствованием. Его Борис и вокально, и драматически - многообещающая и уже сейчас во многом яркая, импонирующая фигура. Голос звучит ровно, мощно и красиво, психологически образ развивается правдиво, сцены с Шуйским и Федором ведутся в верных интонационных красках. Не надо забывать лишь, что к моменту избрания на царство Борису было сорок семь лет, он был тонким и умным политиком, имевшим за плечами почти десятилетний опыт фактического управления государством при Федоре Иоанновиче и ожесточенной борьбы с реакционно настроенными боярами. И внешний вид, и все проявления чувств должны говорить о большой житейской мудрости, о железной воле, умеющей подавлять и бурные вспышки, и истинные чувства к опутывающему его кознями Шуйскому. Необходимо также ярче, полноценнее вживаться в переходы от одного состояния к другому, так гениально прочувствованных Мусоргским в его знаменитых, как бы звучащих паузах. Но для всего этого, да и для многого другого, о чем у нас с Петровым было и будет еще много говорено, необходимо спеть Бориса не два, а по крайней мере двадцать два раза, чтобы создать какой-то прочный фундамент накопленного и постоянно его расширять, углублять и совершенствовать. Этого я от души желаю одаренному певцу.
Л. Мелик- Пашаев
27 апреля 1953 года".
С Василием Васильевичем Небольсиным я пел Сусанина, Кочубея, Досифея, Гремина, Нилаканту, Дона Базилио. Его отличала совершенная техника, точный жест. Оркестр под его управлением играл стройно, красиво. Небольсин прекрасно знал всю музыкальную литературу, легко выявлял стиль и выразительные особенности каждого произведения, так что петь с ним тоже было легко и радостно. Стройный, высокий человек с интересной внешностью, он и за пультом производил яркое впечатление.
Теперь, когда я слушаю свои записи с ним, то всегда наслаждаюсь сочным звучанием оркестра.
Оба эти дирижера так интересно со мной работали! Создавался настоящий творческий процесс.
В середине пятидесятых годов в театр пришел Борис Эммануилович Хайкин, с которым мне также приходилось петь во многих спектаклях. Это был опытный дирижер, привезший из Ленинграда, где он работал в Кировском оперном театре, большой творческий багаж. Дирижировал он очень мягко, не заглушая певцов.
Еще мне хочется вспомнить добрым словом Александра Васильевича Гаука, замечательного педагога, воспитавшего немало дирижеров, занявших ведущее положение. Среди них достаточно назвать Мелик-Пашаева и Светланова! Я часто выступал с Гауком в симфонических концертах, исполняя под его управлением оратории Шапорина "На поле Куликовом" и "Сказание о битве за русскую землю", Девятую симфонию Бетховена, "Ромео и Юлию" Берлиоза.
Это творческое общение с большими музыкантами доставляло мне не только незабываемую радость, но и способствовало творческому росту и становлению.
Мои коллеги-музыканты
Среди моих товарищей по театру, которые помогали в моем становлении, были люди многих специальностей.
Прежде всего хочу рассказать о наших концертмейстерах, которые готовили с певцами их партии. Они давали много ценных советов молодым артистам, способствуя их профессиональному развитию. Не могу назвать всех, отмечу лишь Соломона Григорьевича Бриккера, Евгению Михайловну Славинскую, Галину Яковлевну Галину и Всеволода Дмитриевича Васильева. Именно с ними мне чаще всего приходилось работать.
С Соломоном Григорьевичем я готовил партии Грозного в "Псковитянке", Сусанина, Бориса Годунова. Это был не только прекрасный пианист. Он знал все требования, которые предъявляли дирижеры к исполнению того или иного произведения. И, когда я начал с Бриккером учить партию Сусанина, Василий Васильевич Небольсин мне сказал: "Ну, Ванечка, вы учите партию, а мы с вами потом все доделаем в художественном отношении".
Бриккер занимался со мной придирчиво, не пропуская ни одной неправильной ноты или какого-либо ритмического нарушения. Он вникал и во все психологические детали исполнения. И когда Небольсин принимал партию, то после первого акта он как-то вопросительно на меня посмотрел, но никаких замечаний не сделал, только бросил мимоходом: "Очень хорошо". Когда же я спел дуэт с Ваней и сцену в лесу, он захлопнул клавир:
- Ванечка, мне нечего вам сказать. Вы прекрасно все это сделали!
- Василий Васильевич, это заслуга не моя, а Соломона Григорьевича, который ни в чем мне не делал поблажки.
- О, Соломон Григорьевич замечательный концертмейстер,- подтвердил Небольсин.
Бриккер был не только чудесным пианистом. Он часто вставал и за дирижерский пульт и даже дирижировал "Иваном Сусаниным", что свидетельствовало о его больших творческих возможностях.
Евгения Михайловна Славинская, работая в театре, преподавала в Институте имени Гнесиных, будучи профессором. Заниматься с ней тоже было большим удовольствием. Я готовил с Евгенией Михайловной партию Мефистофеля в "Фаусте". Иногда она дирижировала этим очень сложным спектаклем и делала это прекрасно.
Самые хорошие слова мне хочется сказать и о Галине Яковлевне Галиной. Это мягкая, сердечная, отзывчивая женщина, прекрасный музыкант. Она относилась к своим обязанностям творчески и вдохновенно.
Со Всеволодом Дмитриевичем Васильевым я учил партии в "Аиде" и "Декабристах". И хотя у него был лишь "концертмейстерский" голос, сам он прекрасно показывал, как нужно спеть ту или иную фразу, и занятия с ним всегда вызывали во мне благодарность.
Моими друзьями и учителями в Большом театре стали и многие артисты оркестра, среди которых были замечательные музыканты. Например, концертмейстер оркестра Жук. Он пользовался огромным авторитетом, и получить от него одобрение своей игры и пения считалось большой честью. Он часто делал мне замечания, высказывал различные пожелания, но относился весьма тепло.
Первоклассным мастером был контрабасист профессор Иосиф Францевич Гертович. Как-то он предложил мне спеть арию Моцарта, в которой солируют бас-певец и контрабас в сопровождении оркестра. Я выступил в этом концерте, и публика приняла нас очень тепло. Позже я записал эту арию на пластинку, но партию контрабаса играл тогда молодой артист Валерий Куренин, так как Гертович у нас уже не работал.
Замечательные виолончелисты Леонид Адамов, Владимир Матковский, Исаак Буравский, Лев Вайнрод, Федор Лузанов также часто аккомпанировали мне в концертах. Моим другом был трубач Тимофей Докшицер.
Не только дружеский, но и творческий контакт связывал меня с Юлием Реентовичем. Я часто выступал с ансамблем скрипачей, которым он руководил. Мы исполняли романсы Глинки, Чайковского, а кроме того, записали на пластинку произведения зарубежных классиков. Там были "Колыбельная" Моцарта, "Сурок" и "Застольная" Бетховена, "Шарманщик", "Серенада" и "Нетерпение" Шуберта, "Аве Мария" Баха - Гуно, "Агнус Деи" Бизе, "Ты, как цветок, прекрасна" Листа и многие другие романсы. Сейчас этой пластинки уже не достанешь.
Моими помощниками на спектаклях были и замечательные мастера своего дела - суфлеры Большого театра. Представители старшего поколения А.Лангфиш и А.Альтшулер работали еще в дореволюционных театрах. Они помнили Шаляпина и Собинова, Нежданову и Григория Пирогова и рассказывали об этих артистах много интересного, потому что из своей суфлерской будки видели их совсем рядом.
Добрым словом мне хочется вспомнить и суфлеров более позднего времени - М. Смирнова и Н. Дугина.
Яркие, интересные впечатления я вынес и из общения с нашими композиторами, с которыми мне пришлось работать в Большом театре и на концертной эстраде.
Одним из них был Юрий Александрович Шапорин, очень симпатичный и обаятельный человек, интересный и внешне - высокий, просто-таки гренадер. Первое мое знакомство с Юрием Александровичем произошло в филармонии. Ставилась его оратория "Сказание о битве за русскую землю". Партия баса Старого воина - была написана в ней, как и в кантате "На поле Куликовом", из расчета на возможности голоса Александра Степановича Пирогова, что, конечно, создавало много трудностей для других исполнителей. Ведь Пирогов обладал мощным голосом очень широкого диапазона и большим дыханием. Однако, когда мне предложили также выучить эту партию, я с удовольствием взялся за работу, потому что музыка Шапорина мне очень нравилась. Хотя его музыку и упрекали в излишней связи с традициями классиков, но мне кажется, что это не является ее недостатком. Музыка Шапорина, очень мелодичная, эпическая, никого не оставляла равнодушным.
Работая над партией Старого воина, я часто пользовался советами Юрия Александровича, который помогал мне войти в образ моего героя.
Во время войны этой ораторией дирижировал чудесный музыкант и обаятельнейший человек Александр Васильевич Гаук. Через несколько лет на сцене Большого зала консерватории Евгений Федорович Светланов предложил свою трактовку произведения, которая была ближе его большому таланту. Со Светлановым мы записали ораторию на пластинку.
С Евгением Федоровичем я работал и над кантатой Шапорина "На поле Куликовом". Басовая партия в этой кантате даже труднее, чем в "Сказании...", но я учил ее с большим удовольствием, и она принесла мне много радости.
Еще больше я сблизился с Юрием Александровичем Шапориным в те годы, когда в Большом театре ставилась его опера "Декабристы". Я с удовольствием пел в ней партию Бестужева, а затем мы записали эту оперу на пластинку. Почти ежедневные встречи с композитором, его огромное обаяние, его рассказы о замечательных поэтах, писателях, пианистах, с которыми он дружил, были очень интересны и давали нам много пищи для размышлений.
Творческие контакты связывали меня и с другим замечательным музыкантом и педагогом - Дмитрием Борисовичем Кабалевским. Это был человек высокого роста, чрезвычайно худой, похожий, пожалуй, на Паганеля из романа "Дети капитана Гранта", веселый и очень привлекательный, наделенный чувством юмора. Помню, пришел он как-то на репетицию и заявляет: "Вы знаете, что со мной произошло? Ехал я на машине с дачи и вдруг чихнул. А был гололед. Не успел опомниться, как смотрю - уже лежу в кювете".
Впервые я встретился с Дмитрием Борисовичем, когда он мне предложил исполнить только что написанные им сонеты на стихи Шекспира. У меня сохранились ноты, отпечатанные на стеклографе, на которых стоит надпись: "Дорогому Ивану Ивановичу Петрову с искренним уважением и симпатией. Дмитрий Кабалевский. 7.IX.1954 года".
Я, конечно, с удовольствием исполнял эти сонеты, и многие из них остались в моем репертуаре. Когда я был в Париже, то президент граммофонной фирмы "Шан дю Монд" Жан Руар предложил мне записать новые произведения советских композиторов. Я назвал сонеты Кабалевского, и он ухватился за эту идею. Все семь сонетов были записаны. Позже Дмитрий Борисович дописал еще три сонета. Во время войны в Большом театре ставилась опера Дмитрия Борисовича "Никита Вершинин". Я был назначен на партию главного героя, но, видимо, она мне не очень удавалась. Я чувствовал, что композитор не удовлетворен, нервничает, и премьеру пел Алексей Филиппович Кривченя. К сожалению, хотя в этой опере много хорошей музыки, спектакль не произвел цельного впечатления и в репертуаре театра не удержался.
Несколько лет тому назад я вел на телевидении цикл передач "Камерная музыка русских советских композиторов", и очередь дошла до произведений Кабалевского. Я рассказывал о его фортепьянных и скрипичных пьесах, квартетах, вокальных сочинениях. Рассказывал очень тепло, потому что музыка их мне чрезвычайно нравилась. И буквально через день или два после передачи я получил от Дмитрия Борисовича письмо из больницы, где он в это время находился. Кабалевский писал: "Дорогой Иван Иванович! Я с такой радостью прослушал Вашу передачу. Сколько вы сказали теплых прекрасных слов, которые меня так обрадовали и согрели! Большое Вам спасибо".
Познакомился я и с величайшим композитором Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. В жизни это был чрезвычайно застенчивый, даже робкий человек. Если ему приходилось высказать замечание, то он делал его с таким видом, как будто упрашивал исполнителя, когда по праву мог бы настаивать.
С Дмитрием Дмитриевичем я впервые встретился в очень интересной работе над ораторией "Песнь о лесах". Пели Ивановский и я, а дирижировал А. Юрлов. Это настолько интересное произведение, что даже фирма "Шан дю Монд" записала ораторию с нашим участием. Пластинка с большим успехом разошлась среди любителей классической музыки и во Франции, и в других странах. И когда я сравнительно недавно был в Париже, то видел вновь изданную "Песнь о лесах" в магазинах, она продается.
Кроме "Песни о лесах", я исполнял романсы на стихи Долматовского, написанные Шостаковичем: пел "День обид", "День встреч", "День радости". Эти разные по настроению романсы я включал в свои сольные, а иногда и в сборные концерты, и всегда они встречали теплый прием у публики.
Исполнял я также партию баса в Тринадцатой симфонии Шостаковича, написанной для хора, симфонического оркестра и баса, для которого создана очень трудная партия. Большая, широкая по тесситуре и сложная интонационно. Эта симфония также вызывала горячий отклик у нашей публики.
Доставила мне большую радость и работа над очень сложным и очень ярким творением, производившим всегда большое впечатление,- "Казнь Степана Разина". Эту ораторию я впервые исполнил в Большом зале консерватории, дирижировал Г. Рождественский. В концерте принимали участие наш хор и оркестр. Затем мы исполнили эту ораторию на гастролях в Монреале, и публика встретила ее овациями.
Наш классик легкой музыки, музыки красивой, певучей, Исаак Осипович Дунаевский был человек внешне как будто ничем не примечательный, но какой это был замечательный музыкант! Как он чувствовал и природу голоса, и стиль каждого персонажа своих музыкальных комедий! К сожалению, я мало исполнял песен Дунаевского, потому что они в основном написаны или для высокого женского голоса, или для высокого мужского. Для баса почти ничего нет, кроме песенки из кинофильма "Дети капитана Гранта". Но эту песенку Паганеля - "Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка - это флаг корабля" я пел на "бис", и публика принимала ее восторженно.
Как гимн, величественно и торжественно, звучит песня "Широка страна моя родная". Недаром одно время вставал вопрос о том, чтобы сделать ее гимном нашей страны. Я испытал незабываемую радость, когда Дунаевский предложил мне записать эту песню на пластинку. Он дирижировал, а я пел. Эта запись долгое время звучала по радио, а теперь, наверное, устарела, так как появились стереофонические записи.
Еще несколько слов хочется сказать о замечательном нашем композиторе Араме Ильиче Хачатуряне. Автор "Спартака" и "Гаянэ" относился ко мне по-дружески. Он мало написал вокальной музыки, но все-таки я пел его песню "Море Балтийское". Раздумья матроса о родных местах переданы в ней мелодией мягкой, пластичной, очень красивой.
Я вспоминаю нашу совместную поездку на пароходе по городам Волги. Мы плыли от Москвы до Астрахани и обратно с оркестром Горьковской филармонии. В этих концертах участвовал и Эмиль Гилельс. Я выступал с сольными концертами и пел под аккомпанемент оркестра, которым дирижировали Ю. Темирканов и А. Хачатурян.
А кто не знает замечательного мелодиста, композитора Тихона Николаевича Хренникова? Музыка его так доходчива и любима! Когда я был студентом музыкального училища, нам предложили выступить в Музыкальном театре имени Вл. И. Немировича-Данченко в хоре, чтобы усилить его, в опере "В бурю". Какие красивые хоры мне запомнились! Например "Пахать бы теперь" - мы с удовольствием его пели. Или хор "Окаянные мучители" мастерски сделанный хор поселян. В то же время как выразительны сольные номера - песня Леньки, ария Листрата, ария Натальи, монолог Сторожева.
Я, к сожалению, не пел в операх Тихона Николаевича. Они в Большом театре почти не шли. А в опере "Мать" не было партии по моему амплуа. Но я с удовольствием пел и записал на пластинки песни из сюиты "Много шума из ничего". Аккомпанировал оркестр радио, а дирижировал Е.Акулов. Я иногда слушаю эту запись, и мне очень нравятся "Как соловей о розе", "Ночь листвою чуть колышет", "Песня пьяных", "Серенада Барахио". Они так обаятельны и поэтичны!
Часто я вспоминаю наше совместное выступление с Тихоном Николаевичем Хренниковым во многих древнерусских городах - Пскове, Новгороде, Великих Луках, где Тихон Николаевич был депутатом. Он выступал перед избирателями, а потом мы давали концерты. Я пел, аккомпанировал мне сам автор, и нас очень хорошо принимала публика.
Гастроли в "Гранд-Опера"
В
1954 году я получил приглашение на гастроли из Франции. Концертное бюро Парижа, во главе которого стоял писатель, большой друг Советского Союза Жорж Сориа, предложило мне спеть Бориса в "Борисе Годунове" и Мефистофеля в "Фаусте". Кроме того, я должен был выступить с концертом в огромном зале "Пале де Шайо".
Поехать во Францию, спеть на той сцене, где выступали самые выдающиеся мастера всего мира, в том числе наш гениальный Федор Иванович Шаляпин, спеть в тех ролях, в которых Шаляпин покорял публику "Гранд-Опера", было очень ответственно и рискованно. Поэтому можно понять мою радость и волнение, когда я думал об этом предложении. Ведь я мог и не понравиться избалованным французам! Все же я решил рискнуть и дал согласие.
И вот мы трое, мой аккомпаниатор Александр Ерохин, руководитель нашей группы Жорж Орвид и я, на небольшом самолете "Ил-14" (турбинных лайнеров тогда еще не было) летим во Францию. По пути мы остановились в Праге, но не выходили с территории аэродрома и вскоре отправились дальше в Брюссель. Этот перелет мне очень запомнился. Мы летели на небольшой высоте, и, хотя уже начинало темнеть, озера и реки, маленькие селения и города, расположенные на нашем пути, были хорошо видны. Дома красиво освещались разноцветными неоновыми огнями реклам.
После короткой остановки в Брюсселе мы наконец приземлились в Париже. На аэродроме нас встречали Жорж Сориа и, что оказалось полным сюрпризом, Саша - Александр Сергеевич Аникин, с которым мы несколько лет играли в волейбол в команде "Локомотив". От неожиданности я его даже не сразу узнал. Потом спрашиваю:
- Саша, а что ты делаешь в Париже? Извини, я не знаю.
- Я первый советник посольства в Париже,- отвечает он,- и с удовольствием приехал, чтобы встретить тебя, отвезти в город, помочь устроиться и пожелать больших успехов на французской земле.
Саша познакомил меня со свой женой, Верой Александровной, и мы поехали в посольство. Посол Сергей Александрович Виноградов тоже очень тепло меня встретил и сказал: "Ну, Иван Иванович, мы подумали и решили, что вам, наверное, будет удобно жить в посольстве. Видите, какой у нас шикарный дом".
Милое четырехэтажное здание советского посольства находилось на улице де Гренель. Каждому из нас отвели комнату со всеми удобствами. Здесь же, в посольстве, была и очень хорошая столовая, так что о быте беспокоиться не приходилось.
На следующее утро должна была состояться репетиция, и мы на машине поехали в театр. Я очень волновался, стараясь представить себе, как пройдет встреча с дирижером и как примут меня певцы. Наконец мы подъехали к роскошному зданию "Гранд-Опера". Из всего, что я видел в Париже, это архитектурное сооружение произвело на меня самое большое впечатление, поэтому я сразу же опишу его.
Издали "Гранд-Опера" кажется совсем небольшой, но на самом деле это величественное здание.
Несколько ступеней из белого гранита ведут к семи аркообразным входам, по которым можно попасть во внутренние помещения театра, а семь застекленных дверей, расположенных над арками,- на балконы с двойными колоннами. Эти колонны и множество скульптурных украшений, выполненных с большим вкусом, создают незабываемую архитектурную композицию. Венчает здание зеленовато-желтая свинцовая крыша, над которой парят аллегорические фигуры.
Первое фойе театра ничем не примечательно, но лестница, которая ведет в гранд-фойе и дальше на верхние ярусы, поражает своим великолепием: разноцветный мрамор, колонны, балюстрады, отдельные и групповые скульптуры, разрисованные потолки.
Выдержано гранд-фойе в строгом стиле. Оно огромное, тянется вдоль всего театра, резные позолоченные колонны придают торжественность. Потолки и простенки, расписанные лучшими живописцами, изящные выразительные канделябры, спускающиеся сверкающие люстры, изумительный паркет - все это гранд-фойе.
Зал "Гранд-Опера" вмещает тысячу восемьсот зрителей. Он немного уступает Большому театру. В нем четыре яруса, справа и слева, как и в Большом театре, расположены большие ложи, сцена закрыта красивым занавесом. Все промежутки между ярусами в резных золотистых украшениях. Однако позолота не слишком яркая, она приглушена. Кресла театра обиты материалом красновато-вишневого цвета, что создает торжественно-строгое настроение, и, конечно, очень красивы потолок и люстра.
Но самое главное - изумительная акустика "Гранд-Опера". Пение в таком зале не требует никакого напряжения и потому доставляет огромное удовольствие.
...Итак, мы вошли в театр и направились в зал, где нас ждали на репетиции. Вдруг я услышал: "Приветствую артиста Большого театра Ивана Петрова!"
Оказалось, что это ко мне обращается очень известный в Париже выходец из России хореограф Сергей Лифарь. Затем ко мне подошел еще один человек, который тоже приветствовал меня по-русски.
- Моя фамилия Третьяков,- сказал он и добавил: - Но это вам, наверное, ничего не скажет.
- Но, может быть, вы имеете отношение к Третьякову, который прославился как организатор выставок передвижников и основатель картинной галереи в Москве, которая сейчас носит его имя?
- Да,- отвечает,- это мой дед. Неужели у вас в России его до сих пор помнят?
- Не только помнят, но и чтят. Перед зданием картинной галереи стоит огромный памятник Павлу Михайловичу Третьякову за то, что он совершил такой подвиг в искусстве.
Наконец наступила первая спевка оперы "Борис Годунов". Дирижировал оперой Жорж Себастьян, который, к моему удивлению, прекрасно говорил по-русски. Когда я спросил, откуда он так хорошо знает русский язык, он ответил, что жил в России, работал там на радио, был ассистентом у Голованова и других ведущих русских дирижеров.
- Я старался запомнить их трактовку музыки, их замечания, даже отдельные штрихи,- добавил Себастьян.- Ведь я понимал, какие это мастера, и учеба у них очень мне помогла.
Когда мы под рояль прорепетировали "Бориса Годунова", Себастьян спросил меня:
- Ну как, вам удобно петь так, как я дирижирую? Вас устраивают темпы, фразировка?
- Очень удобно,- отвечаю - У меня такое впечатление, как будто я с вами много-много раз пел.
Видимо, Жорж Себастьян был польщен моими словами.
- И у меня то же самое,- произнес он.- Будем надеяться, что все так и будет на спектакле...
Настал день моего выступления. Конечно, я очень волновался. В этот вечер в "Гранд-Опера" собрались все "сливки" парижского общества.
Опера "Борис Годунов" идет в Париже с одним антрактом. Первое действие заканчивается сценой в тереме, а все произведение - смертью Бориса. Спел я пролог, мне зааплодировали за монолог "Скорбит душа", и я почувствовал какое-то облегчение. Голос мне подчинялся, да и акустика была превосходная
Так как антрактов не было, начались следующие картины, и постепенно подошла сцена в тереме. Эта сцена очень важна для раскрытия образа Бориса. Ее нужно спеть с большим темпераментом. накалом, суметь привнести в характеристику Бориса различные краски. Наконец я провел и эту сцену и закончил словами: "Господи, ты не хочешь смерти грешника, помилуй душу преступного царя Бориса",- и, когда я положил последний крест, занавес медленно опустился.
А в зале - гробовая тишина. Во мне даже все похолодело. Думаю: "Ну, полный провал". И вдруг после какой-то паузы - неимоверный взрыв аплодисментов и крики из публики. Меня более получаса вызывали на поклоны
Счастливый, я пришел в гримерную, чтобы перегримироваться: добавить седину, подчеркнуть усталость в чертах лица и глазах. Ведь Борис Годунов уже сломлен преследующим его видением царевича. Но ко мне в гримерную хлынули люди, которые хотели высказать свое впечатление, и я услышал массу добрых слов. Прибежал за кулисы и наш посол Сергей Александрович Виноградов и, несмотря на грим, начал меня обнимать и целовать. При этом он говорил что-то восторженное. Наконец, немного успокоившись, он вдруг воскликнул:
- Иван Иванович! Что же это вы сделали?
Я удивился
- Как что сделал? Ну, постарался хорошо спеть, хорошо сыграть. По-моему, мне это в какой-то степени удалось.
- Да нет, вы понимаете, что вы сделали? Ведь те дипломаты, которые, проходя мимо меня, делали вид, что меня не замечают, бросились ко мне в ложу и поздравляли с успехом. Вот видите, что может сделать искусство!
Мне это, конечно, было очень приятно. Должен отметить, что моему успеху способствовал и замечательный состав исполнителей. Жорж Себастьян дирижировал очень чутко. Он проявил понимание русской музыки, чувство стиля. Это было самое главное. Но, кроме того, он прекрасно ощущал природу голоса. Оркестр под его управлением звучал вдохновенно. Великолепны были мои партнеры Жан Жиродо - Василий Шуйский и Рене Вердье, исполнявший Лжедмитрия. Совьер Депре, обладавший очень мягким басом, пел Пимена. Рене Бланко выступал в роли Варлаама, а артистка Сюзанна Сорока, наделенная красивым, высоким меццо-сопрано, создала яркий образ Марины Мнишек. Она надолго запомнилась мне и выступала со мной в спектаклях "Бориса Годунова" в других городах. Лилиан Бертон пела Ксению. Мощно, красиво, по-мусоргски звучал хор.
Итак, первый спектакль позади. Признаться, я не ожидал такого успеха. Пожалуй, это был самый большой успех в моей творческой жизни. Но что скажет критика?
На следующий день мы с волнением ждали появления парижских газет. А вот и почта! Что же пишут о моем выступлении в "Борисе"? Должен откровенно признаться, что рецензии оказались чересчур хвалебными Особенно нас удивили такие газеты, как "Монд" и "Фигаро", не питавшие к нашей стране симпатий. И все же они отмечали, что никогда еще ни одного артиста не вызывали так долго кланяться. Однако некоторые критики с недоверием ждали моего исполнения Мефистофеля. Они писали: "Русский певец выступил в своей русской национальной опере, где имел большой успех,- это закономерное явление. Но теперь посмотрим, как он выступит в нашей национальной опере".
Затем я снова спел Бориса, и этот спектакль прошел так же успешно. Утром мне позвонил Жорж Сориа. "Иван,- сказал он,- я поздравляю вас с успехом и хочу обрадовать: наше бюро решило прибавить к вашему гонорару еще определенную сумму франков. Ведь вы сделали громадные сборы. На все ваши выступления билеты распроданы, в том числе и входные, стоячие места".
Я не знал, как поступить в данном случае, и сказал Жоржу Сориа, что этот вопрос мы решим завтра, а сам побежал на консультацию к послу. Выслушав меня, Сергей Александрович Виноградов заявил, что такой случай в его посольской деятельности встречается впервые, и дал согласие на предложение Жоржа Сориа.
Но меня волновало другое. Дело в том, что я все же где-то успел простудиться и чувствовал себя плохо. Когда у певца легкая простуда, небольшой насморк, он еще может участвовать в спектаклях и концертах. Но если раздражена трахея, то в этом случае он уже петь не может. А я как раз почувствовал начало ларинготрахеита.
Паническая мысль овладела мною: "Спел два спектакля, такой успех, и конец гастролям!"
Об этом я известил и посла.
- Вы понимаете, Иван Иванович, что это скандал,- говорил Сергей Александрович в волнении.- Такой ажиотаж вокруг ваших спектаклей! Нет! Отменить выступление невозможно! Вы должны петь! - Затем после небольшого раздумья он решил: - Сейчас наши товарищи отвезут вас к врачу, врач очень хороший, и все будет в порядке.
Вскоре мы были у врача. Врач-ларинголог, сын известного коммуниста Марселя Кашена, внимательно осмотрев мою носоглотку и трахею, пришел к заключению, что в таком состоянии я петь не смогу. Однако, выслушав все мои доводы по поводу последующих выступлений, Кашен, немного подумав, спросил:
- А как у вас сердце?
Я ответил, что до сих пор никаких претензий у меня к нему не было.
- Тогда давайте попробуем, может быть, что-нибудь и выйдет,- заключил он.
В течение двух дней мне делали инъекции довольно внушительных размеров. Что мне кололи, не помню, но, кажется, какой-то антибиотик. Кроме того, меня снабдили ингалятором и порошками. И произошло чудо. Наутро в день спектакля появился голос, а вечером я пел Мефистофеля в "Гранд-Опера". Правда, в прологе оперы я чувствовал еще какое-то неудобство, связанное с моим трахеитом, но уже в следующей картине, "На ярмарке", голос мне подчинился полностью. Когда я спел куплеты "На земле весь род людской", публика наградила меня овациями, и дальше спектакль шел с нарастающим успехом. Мне было особенно приятно, когда за кулисы пришла необыкновенно симпатичная пожилая седая дама - внучка композитора Гуно, и я услышал от нее много теплых приятных слов о моем выступлении в "Фаусте" в роли Мефистофеля.
Однако не обошлось и без конфузной ситуации. Оперой дирижировал Луи Форестье, профессор Парижской консерватории. Холодный музыкант, лишенный каких-либо эмоций. И случилось так, что после спетой мною серенады, обычно встречаемой бурными аплодисментами, он не сделал паузы и пошел дальше. Начался терцет, который заглушили аплодисменты публики, и этот красивый номер пропал. По сему поводу в газетах на следующий день Форестье изругали самыми последними словами. Писали, что это кощунство и издевательство по отношению к Гуно и к гостю из России. Как его только не поносили! Однако обо мне опять были восторженные рецензии во всех газетах.
Через день в одном из самых больших концертных залов Парижа "Пале де Шайо" состоялся мой сольный концерт. Когда я вышел на сцену и посмотрел в зал, то у меня захватило дух от такого количества людей. Дамы, как я успел разглядеть, были в вечерних платьях и в небрежно накинутых на плечи манто из каракуля или норки, кроме того, на них сверкали драгоценные украшения. Мужчины же были в смокингах, крахмальных рубашках с бабочкой.
Сразу же, при первом моем появлении на сцене, публика очень тепло приветствовала меня,- видимо, резонанс после спетых мною трех спектаклей сделал свое дело.
В первом отделении концерта я пел романсы русских композиторов: Глинки, Чайковского, Бородина, Рахманинова, Шапорина. Второе отделение состояло из произведений Шуберта, Шумана, Верди, Гуно.
Прием был великолепный, и мне пришлось спеть еще одно, третье отделение, на "бис" семь романсов. Прекрасно аккомпанировал мне Александр Павлович Ерохин.
И вообще все было прекрасно: зал, публика, настроение.
Нечего и говорить, что в перерыве между спектаклями и репетициями я использовал каждую свободную минуту, чтобы побродить по Парижу.
Гюго, Бальзак, Мопассан, Ромен Роллан, Золя и многие другие замечательные писатели познакомили нас с Францией, с Парижем и его достопримечательностями. Много видели мы и кинокартин об этой стране, но все это несравнимо с тем впечатлением, которое получаешь, когда сам находишься в Париже и убеждаешься, насколько он красив и какое могущественное воздействие на душу оказывает вдохновенное творчество.
Выходя из "Гранд-Опера", я попадал на площадь Оперы и шел по одной из вытекающих из нее улиц - Бульвару капуцинов, Итальянскому бульвару или Бульвару Мадлен, который ведет к церкви св. Мадлен, напоминающей греческий храм, опоясанный колоннадой.
Направо от "Гранд-Опера" идет небольшая улица Мира, которую венчает Вандомская колонна - она особенно красиво смотрится вечером, освещенная огнями. Прямо от "Гранд-Опера" берет начало улица Оперы, в ее конце расположен знаменитый театр "Комеди Франсез".
Но больше всего мне нравились неповторимые ансамбли Парижа, которыми можно любоваться месяцами, например, знаменитый Лувр, триумфальная арка Дю Карусель, сад Тюильри. Сад этот очень красивый: подстриженные кустарники, необыкновенно подобранные сочетания цветов, аллеи со скамейками для отдыха.
Однажды я вошел в центр площади Дю Карусель и хотел сфотографировать на память особенно понравившиеся мне виды. Вдруг ко мне подошел какой-то француз и стал что-то объяснять. Я тогда только начал изучать французский язык, поэтому плохо его понимал, но он повел меня на определенное место и показал, что в пролете Триумфальной арки виден египетский обелиск, который стоит на площади Согласия. Дальше открываются Елисейские поля и в конце триумфальная арка Звезды. Вся эта панорама была незабываема.
Наиболее сильное впечатление производит арка Звезды, когда смотришь на нее с улицы де Голля: именно тогда она кажется особенно огромной. Я поднимался вверх на балюстраду, которая сделана специально для обозрения Парижа, и любовался двенадцатью лучами улиц, которые расходились от меня в разные стороны. Красиво бывает в этом месте и по вечерам, когда поток машин создает игру красных и светлых огней.
На Елисейские поля - самый торжественный проспект Парижа - я любил смотреть с площади Согласия. Он открывался, обрамленный кустарниками и каштанами, сверкающий витринами богатых магазинов.
Нравилось мне и бродить по берегу Сены, и смотреть через мост Александра III, незабываемый благодаря своим колоннам и позолоченным фигурам, как на фоне Поля инвалидов, украшенного цветами, вырастал дворец Инвалидов.
Замечательное произведение архитектуры - знаменитый Нотр-Дам, воспетый многими поэтами и писателями. Он находится на острове, который образует Сена. Я не буду о нем много рассказывать, он хорошо известен и по фильмам, и по открыткам, но мне особенно нравился вид на Нотр-Дам со стороны набережной Монтенбло. Окруженный каштанами, он тянется вдоль реки, крутых гранитных стен набережной, обвитых не то плющом, не то виноградником.
Запомнился мне и Пантеон. Если смотреть на него сквозь улицу Суфло с ее фонтанами и нарядными зданиями, то создается особый, праздничный эффект.
Ну, конечно, впечатляет и Эйфелева башня - символ города. Ее видно издалека со всех точек Парижа. Но вблизи ее громадная конструкция поражает и невольно вызывает удивление, как в те времена Эйфель мог построить такое сооружение.
Очень красива и набережная Сены. Вдоль реки проложены дорожки для прогулок пешеходов, создано много уголков, где можно просто посидеть у воды, посмотреть, как рыбаки ловят рыбу. А бесчисленные мосты над Сеной служат прибежищем для бездомных людей.
Улицы, бульвары, площади, сады, маленькие улочки, скверы - в Париже их бесчисленное множество. Хотелось везде побывать и все увидеть! И какое же радостное чувство я испытал, когда прочел название одной из улиц Севастопольский бульвар.
Несмотря на то, что я был очень занят на репетициях и спектаклях и не имел возможности долго бродить по Парижу, я все-таки посетил музей Родена. В нем, к сожалению, осталось мало произведений великого скульптора. Большинство из них вывезено за рубеж, за океан, и все же то, что осталось, запоминается на всю жизнь. Например, мое воображение захватили композиции "У врат ада" и "Рука дьявола" (на протянутой руке двое обнявшихся влюбленных; они прикрыты другой рукой, и создается впечатление, что они - в ловушке). Очень красива скульптура "Поцелуй", выразительны бюсты Бальзака.
Был я и в Лувре, но, можно сказать, в этот раз "бегом". Лувр нужно осматривать месяцами.
За время гастролей в Париже я много общался с артистами театра: солистами, хористами, инструменталистами и рабочими сцены. Мы по-дружески разговаривали (тогда еще с помощью переводчика) и даже сфотографировались на память. В конце гастролей меня пригласили в Дом актера (если можно его так назвать, так как он занимает две-три комнаты, человек на сорок-пятьдесят), который находится неподалеку от "Гранд-Опера". Туда же пришли шикарно одетые солистки оперы и многие артисты. Дамы сняли свои норковые и каракулевые манто, бросили их на ворсистый ковер, который покрывал пол, сели на него и пригласили последовать их примеру и меня.
Нам подали закуски и шампанское, и мы стали пить за здоровье французских артистов и за здоровье артистов Большого театра. В промежутках между тостами велась непринужденная беседа, все шутили, веселились.
Наконец настал и тот торжественный момент, ради которого мы все собрались. Президент ассоциации французских артистов Эдмонд Шастене вручил мне адрес от Общества артистов Национального оперного театра и удостоверение почетного члена "Гранд-Опера" за выдающееся исполнение ролей Бориса Годунова и Мефистофеля в опере "Фауст". При этом Шастене сказал, что все будут рады, если я приеду в их страну, и что бы я ни захотел спеть, они всегда будут к моим услугам. После этих слов я с надеждой подумал, что мне еще придется петь в "Гранд-Опера", и не ошибся.
Через год я был снова приглашен во Францию, чтобы выступить в "Борисе" и "Фаусте". Кроме того, планировались гастроли в других городах. Я, конечно, ехал с большой радостью и приятным волнением. Мои выступления в "Борисе" и "Фаусте" публика принимала так же горячо, как и в первый раз, хотя рецензий было уже гораздо меньше. Я немного удивился этому, но мне объяснили, что критики просто не хотят повторяться.
В Париже я познакомился с генеральным секретарем "Гранд-Опера" Фабром Лебре, который является также генеральным секретарем кинофестиваля в Каннах. С ним у меня связан один смешной эпизод, который запомнился и мне и ему надолго.
Как-то после спектакля Лебре подошел ко мне, поздравил с успехом и предложил провести день вместе. Я с удовольствием согласился и спросил, что мы будем делать. "Там посмотрим,- ответил он.- Я заеду за вами завтра на машине".
Он действительно заехал за мной, и мы решили покататься по городу,мне хотелось посмотреть места, которые я еще не видел. Мы поднялись на Эйфелеву башню, не раз сфотографировались там и отправились в Версаль. Версальский дворец чем-то напомнил мне наш Петергоф: тот же каскад фонтанов, красивые правильные аллеи. Видимо, стиль французской архитектуры сказался при строительстве нашего северного дворца.
Настало время обеда. Мы отправились в ресторан, а затем Лебре сказал, что хочет угостить нас кофе, но таким замечательным, какого больше нигде во Франции нельзя получить. И мы поехали в маленькое кафе на Монмартре.
Там мы сначала погуляли, посмотрели на рисунки художников и потом зашли в кафе, где сразу же ощутили замечательный специфический запах. Лебре подозвал официанта и заказал кофе, который вскоре принесли. Действительно, он оказался потрясающий. Его пили, как кому нравилось - и черный, и со сливками. Но Лебре сказал, что в кофе полагается добавлять хороший коньяк, подозвал официанта и что-то ему тихо сказал. Минуты через полторы официант пришел с небольшой бутылкой, облепленной землей, как будто ее только что выкопали. Когда он открыл эту бутылку, из нее заструился белый дымок, и аромат коньяка разлился на весь зал. Официант принес специальные плоские бокалы, из которых французы пьют коньяк, и каждому плеснул по нескольку маленьких глотков. Видимо, в моих глазах при этом мелькнуло удивление, и Лебре, заметив мой взгляд, сказал: "Я знаю, что у вас так не пьют".
Подозвал официанта и велел налить мне полный бокал, что тот и сделал. Мы чокнулись за здоровье присутствующих (с нами была жена Лебре и кто-то из его друзей), за общее благополучие, и я этот коньяк сразу выпил залпом.
Что было со всеми присутствующими и с официантом, трудно передать. У того вообще глаза вылезли на лоб. Он застыл в немом ужасе. Потом всплеснул руками и убежал, а мои собеседники начали между собой перешептываться. Я почувствовал, что сделал что-то не так, а потом сообразил: "Ведь они-то пьют по капельке. И то эту налитую капельку сразу не выпивают, а подолгу смакуют ее". Лебре подозвал официанта, попросил его налить мне еще, и тот налил, правда, уже не полный фужер. Наконец закончился этот вечер, стало темно. Мы оставили автомобиль и пешком пошли по вечернему Парижу, любуясь его красотой, а затем я возвратился в отель.
Прошло два или три года, и Фабр Лебре приехал в Москву вместе с балериной Лилиан Дейде и танцовщиком Мишелем Рено (балетной парой),- они танцевали в "Жизели" главные партии. Танцевали, между прочим, очень хорошо, в особенности Дейде, которая пользовалась большим успехом. Я решил, что должен ответить Лебре на приглашение в Париже, позвонил в Центральный Дом работников искусств директору ресторана и попросил для гостей из Франции приготовить самый изысканный ужин.
После вечернего спектакля я повел всех в ЦДРИ. Нас ждали, и стол был накрыт: красная и черная икра, лососина, белуга, севрюга,- чего только там не было! Но гости мои, может быть, потому, что артисты балета должны соблюдать дисциплину, только чуть-чуть прикоснулись к угощению. Правда, Лебре был несколько более активен. Мы выпили немножко коньяку и "Хванчкары", и тут Лебре на меня лукаво посмотрел и говорит: "А вы знаете, мы ведь до сих пор не можем забыть, как вы в кафе на Монмартре хватили залпом коллекционный коньяк".
Югославия
В пятьдесят пятом году меня пригласили в Министерство культуры СССР и предложили поехать в Белград, где в это время предполагалась встреча Хрущева, Булганина и Микояна с Иосипом Броз Тито и другими руководителями Югославии. Я должен был отправиться с группой московских артистов: Вишневской, Ростроповичем, Безродным и Гилельсом. Нам нужно было приехать в определенное время на аэродром в Тушино, где нас ждал специальный самолет. Тогда еще не было "Ил-18", но уже были хорошие самолеты, и мы думали, что полетим на одном из лучших. Но когда мы подъехали к аэродрому, то увидели старый военный грузовой самолет. Внутри у него по бокам вдоль стен стояли железные скамейки и еще лежал какой-то груз.
Мы вылетели, самолет набрал высоту, и вдруг началась сильная болтанка, в результате которой все оказались в плачевном состоянии. Один я крепился. Мне приходилось не только за всеми ухаживать но еще и собирать ящики, которые сновали по всему длинному коридору, и связывать их веревками. В конце концов мы долетели до Будапешта. Вышли все с зелеными лицами.
Затем мы совершили еще один перелет и прибыли в Белград, разместились в гостинице, и через день или два состоялся прием в нашем посольстве, который давали члены нашего правительства в честь правительства Югославии.
Прием проходил в дружеской обстановке, но возникали иногда размолвки, потому что в Югославии еще помнили о разногласиях между Тито и Сталиным. В конце приема Микоян обратился ко мне:
- Иван Иванович, спойте нам что-нибудь.
- Я бы спел, но ведь нет инструмента.
- Давайте без инструмента, спойте "Стеньку Разина", а мы все подпоем.
Я запел "Стеньку Разина", но не рассчитал тональности и взял слишком высоко. Пою и думаю: "В какой же тональности я пою? Нужно один или два куплета пропустить, очень трудно петь".
И когда я спел "Сам наутро бабой стал", решил пропустить куплет и запел: "Мощным взмахом поднимает он красавицу княжну..." - но туг Броз Тито прервал меня:
- Нет, нет, товарищ Петров, вы не тот куплет поете.
- Почему?
- Ну как же! Вы же пропустили куплет!
- Какой?
- Нужно петь "Этот ропот и насмешки слышит грозный атаман".
Ну, мне пришлось спеть все куплеты. Мои слушатели остались довольны, но я совершенно измучился. Спрашиваю потом своих:
- В какой тональности я пел, что-то не разберу? Я пою в фа-мажоре.
А Игорь Безродный отвечает.
- Иван Иванович! Да вы на кварту выше спели!
Значит, я брал в каждом куплете по два раза соль - предельную баритональную ноту.
Наша делегация приехала в Югославию впервые после размолвки, которая произошла у Тито со Сталиным, и наше правительство стремилось смягчить обстановку. Прием сопровождался широким застольем, было много вина, произносились тосты. Но Никита Сергеевич Хрущев, глава делегации, не давал никому слова сказать. Он прерывал Булганина и Микояна и даже поссорился с бывшим послом Югославии в Советском Союзе. Хрущев бросил ему упрек в том, что он неправильно себя вел, когда был в Советском Союзе, и тот вспылил. Тито стал их успокаивать и говорит:
- Никита Сергеевич, учтите, что мы, уважая вас, должны сказать, что мы уважаем и наших работников Министерства иностранных дел. Они сыграли большую роль в налаживании наших отношений. Как видите, у нас теперь все хорошо, и пусть будет мир.
Нам, артистам, предложили дать в Югославии ряд концертов. Я должен был выступать в оперном театре в Белграде. Там тогда как раз шла опера "Князь Игорь", и меня попросили выступить в роли князя Галицкого. Я приехал в театр, прорепетировал и спрашиваю:
- А как быть с костюмом?
- Ну, костюм мы вам найдем.
- Но знаете,- говорю,- в чем беда? Рубашку вы на меня найдете, может быть, и штаны тоже, но ведь у меня нога очень большая - сорок шестой размер.
- О да,- говорят,- нужно поискать.
Бросились в гардероб, но там ничего не нашли, тогда решили раздеть одного хориста, у которого оказался такой же большой размер сапог. Я извинился перед ним, но он ответил, что рад мне помочь, и пошел слушать меня в зал.
Спектакль был хорошо поставлен, в классических традициях, кажется, кем-то из наших режиссеров. Он прошел успешно, так что я получил большое творческое удовлетворение.
Потом мы разъехались по разным городам с концертами, и мне запомнилось, что, когда югославы узнавали, кто мы, они всегда задавали нам вопросы, касающиеся культа личности Сталина. Эта тема их, как и нас, очень волновала.
Я помню еще одну поездку в Югославию. Мы поехали вместе с женой, Людмилой Петровной. Это было начало июня. У меня должно было состояться несколько спектаклей в Сараеве, в Новом Саду, а потом в Белграде и еще в каких-то городах - кажется, в Любляне, Загребе. Я спел "Фауста" в Новом Саду, а потом поехал в Белград, чтобы выступить в роли Бориса Годунова. Однако накануне вечером я себя не очень хорошо почувствовал, на следующий день стало еще хуже, появились болевые ощущения в животе. Я все-таки пошел на репетицию в театр. Там было много моих друзей, в том числе дирижер Оскар Данон. Я им сказал, что неважно себя чувствую, и поэтому попросил быстро пробежать мои места.
- Пойду в гостиницу и полежу. Что-то я, видимо, нехорошее съел,добавил я.
Так и сделали, но на следующее утро мне стало совсем плохо. Я вызвал врача из нашего посольства, тот посмотрел меня, сказал, что подозревает аппендицит, и предложил поехать в больницу, где лечится весь наш дипломатический корпус. Приехали мы в больницу. Там Бруновачка, очень хороший специалист, главный врач, дружелюбно встретил нас:
- О, Борис ко мне пожаловал! Вот интересно! Недавно я лечил одного великого человека, а теперь нужно лечить другого.
- А что же это за человек? - спрашиваю.
- Ко мне привезли артиста МХАТа Смирнова, который играл Ленина. А теперь Борис Годунов к нам пожаловал.
После того как Бруновачка меня обследовал, он заявил:
- Срочно на операционный стол. Аппендицит.
Он заверил мою жену, что никогда не ошибается, нам предоставили большую комнату, в которой моя жена все время могла со мной находиться, и меня привезли в операционную.
- Как же я лягу на операцию, когда я должен завтра петь?! - пробовал я еще сопротивляться.
- Ну-ка встаньте, как полагается Борису!
А я даже разогнуться не могу;
- Ну вот видите, а ведь Борис должен и падать, и гоняться за призраком! Сможете вы это сделать?
Когда привезли меня в операционную и сделали укол, врач сказал: "Считайте до десяти". Я просчитал только до семи и проснулся от какой-то сильной вспышки: это после операции, по прошествии часов десяти, меня снимали фоторепортеры. Через несколько дней ко мне пришли мои друзья: тенор Маринкович, баритон Попович, бас Чангалович. Они принесли мне цветы и конфеты, а Чангалович - даже большую бутылку югославского коньяка.
- Ваня,- сказал он,- ты сейчас не можешь пить, но потом выпьешь за нашу встречу, нашу дружбу.
И Бруновачка подтвердил:
- Через пару дней он рюмочку сможет пригубить.
Я обрадовался его снисходительности и решил пожаловаться:
- Профессор, ведь мне только бульончик и манную кашу дают, а есть-то хочется!
- Ничего, ничего, сейчас вам что-нибудь принесут.
Вскоре вошла монашка и подала мне большую тарелку, во всю величину которой лежал кусок мяса с зеленым горошком и морковкой.
Я безумно удивился. Спрашиваю:
- Это что, мне?!
- До вас, до вас,- отвечает.
Я не поверил, потребовал профессора.
- Что случилось? - спрашивает.
- Неужели это мне?!
- Но вы же хотели есть? Ешьте!
Позже Бруновачка мне рассказал, что операция была сделана вовремя, уже был перитонит, пришлось дважды промывать полость, но во время операции он почувствовал, что у меня крепкие мышцы, и понял, что я, наверное, был спортсменом.
Я рассказал ему, что мы собирались с первого июля поехать под Киев на машинах и провести там месяц, порыбачить, а теперь я подведу друзей. Но Бруновачка ответил, что я могу не волноваться, через две недели можно сесть за руль. И действительно, вернувшись в Москву, я вскоре сел за руль, и мы поехали отдыхать.
Царь Салтан, Иван Грозный, Балага
После большого перерыва, вызванного моей напряженной гастрольной деятельностью, я взялся за новые роли. В пятьдесят девятом году их оказалось две - роль Салтана в опере Римского-Корсакова и роль Грозного в "Псковитянке" того же композитора.
Партию царя Салтана мне предложил Небольсин.
Я послушал запись этой оперы, и она мне очень понравилась. Я знал эту музыку и раньше, но теперь слушал ее с профессиональным пристрастием. Обнаружилось, что партия царя Салтана очень трудная и написана в высокой тесситуре. Римский-Корсаков вообще не стеснялся - для басов он писал довольно сложно, не говоря уже о царе Додоне в "Сказке о золотом петушке", где партия просто невероятно виртуозная и чрезвычайно трудная по тесситуре.
Ставил спектакль Г. И. Анисимов. Как всегда, подобрался хороший состав исполнителей. Помню, Володя Ивановский пел Гвидона, Фирсова Царевну Лебедь, Смоленская - Милитрису, Алексей Иванов - Гонца. Партия Салтана написана для характерного баса. В ней много игровых моментов, много тепла, иронии, комических красок, и мне было интересно над ней работать. Я быстро выучил эту роль и с удовольствием выступал в ней.
Чтобы подчеркнуть комический характер роли, я клеил огромную рыжую бороду, рыжевато-седоватые усы, надевал того же цвета всклокоченный парик. К моему большому носу клеили еще нос в виде картофелины сначала из папье-маше, а потом я съездил на кинофабрику и заказал нос из пенопласта.
Опера "Псковитянка" была поставлена в Большом театре еще в 1953 году. Тогда главную роль в ней исполняли Пирогов и Огнивцев. Партия Грозного одна из лучших в творческом багаже Пирогова. Он наделял образ своего героя большой силой, а голос его покорял красотой. Каждое слово звучало упруго и казалось тяжелым слитком. Огнивцев тоже хорошо, по-своему, пел партию Грозного. Дирижировал оперой Жуков, режиссировал Баратов, а оформлял ее Федоровский. Постановщики спектакля были большими мастерами, и "Псковитянка" имела громадный успех.
Со временем Пирогов ушел со сцены, и эту роль предложили выучить мне.
Я работал долго. Опять пошел в музей, посмотрел Грозного у Васнецова, как он опускается по ступеням собора с посохом. В этой картине он показался мне уж слишком благодушным. Посмотрел и репинского Грозного. Но и этот мне не подошел. Я сделал собирательный образ. Вообще-то, мое лицо и крупный нос с горбинкой легко было загримировать, чтобы создать внешне похожий тип. К тому же я наклеивал бороду, усы и брови, затемнял впадины под глазами, и все это помогало мне создать психологически верный образ. В поисках нужного костюма для Ивана Грозного мне снова помог Федоровский. Ведь в походе Грозный надевал на себя кольчугу, а сверху прикрывал ее плащом. Федоровский предложил мне красивую с украшениями кольчугу, но мне было неудобно в этом костюме, и я сказал Федоровскому, что кольчуга меня очень сковывает. Тогда художник заменил ее на более простую, из какого-то легкого материала, в которой я чувствовал себя свободнее, и петь мне стало легче.
В своей трактовке образа русского царя я старался идти от музыки Римского-Корсакова. У него Грозный выписан очень ясно. Даже и придумывать ничего не нужно было. И хотя вокальная партия в основном речитативная, в ней есть и покоряющие певучие места, например, обращение Грозного к своей дочери, которое звучит необыкновенно нежно.
Трудной была сцена в тереме у Токмакова. Когда Грозный узнает, что Ольга - его дочь, то он, пораженный этим открытием восклицает: "Да, предстанут все убийства!.. Много крови! Псков хранит Господь!!!" Последнюю высокую ноту, которую он берет, певец должен держать до тех пор, пока не закроется занавес. Тут у многих исполнителей этой партии не хватало дыхания. У Пирогова же эта нота звучало здорово, но и у меня она получалась.
Мне хочется рассказать и о прекрасных декорациях оперы. Ведь историческая основа ее давала много простора для деятельности и фантазии Федоровского.
В первой картине был виден терем боярина Шелоги, который должен вот-вот вернуться из похода. Окна терема были открыты, в них лился солнечный свет и протягивали свои ветви цветущие деревья. Эта светлая картина по контрасту сменялась мрачной сценой вече. Площадь. Над каменными зданиями сгустились черные тучи. Сквозь них проглядывает луна, и на высоком месте собравшиеся псковичи ждут гонца, который должен им принести весть об Иване Грозном.
И снова - внутренние покои. На этот раз - это дом одного из самых богатых людей, наместника Пскова князя Токмакова. А в конце оперы - царский шатер: походная ставка, как называл его Иван Грозный. Диван и стены покрыты богатыми персидскими коврами. Задняя стена шатра приподнята, и вдали открывается красивый изгиб реки, поля и леса. Здесь и происходят все драматические события и развязка произведения.
Роль Грозного мне очень нравилась, но, к сожалению, я исполнил ее всего несколько раз.
В следующем 1960 году я сыграл маленькую роль ямщика Балаги в опере Прокофьева "Война и мир". Эта партия содержит всего несколько фраз и куплеты, поэтому, когда Мелик-Пашаеву пришла мысль предложить мне ее, он сделал это полушутя-полусерьезно. Взял меня как-то под руку, как это обычно он делал, и говорит: "Ваня, спел бы Балагу, хорошая ведь партия".
Я согласился. Быстро выучил, спел, и у меня получилась хотя и маленькая, но заметная роль, которая запомнилась.
Япония
В 1959 году мне предложили поехать с сольными концертами в Японию. Это было заманчивое приглашение. Наши артисты, которые гастролировали в этой стране, рассказывали, что в Японии прекрасные залы, доброжелательная публика, и я отправился в путешествие в хорошем настроении.
В середине мая мы вылетели из Москвы вместе с аккомпаниатором Семеном Клементьевичем Стучевским. В Москве было холодно, около нуля градусов, но меня предупредили, что в Японии уже жарко, и я оделся довольно легко. Прямого рейса Москва-Токио тогда еще не было, и нам предстоял долгий, утомительный и наполненный неожиданными впечатлениями путь через многие страны. Сначала на "Ил-18" мы полетели в Ташкент, где уже было градусов десять-двенадцать тепла, но дул пронизывающий ветер, и мы все страшно замерзли. Потом мы поднялись над Гималаями и направились в Индию. Вид, открывшийся перед нами, оказался незабываемым. Мы увидели горы, покрытые снегом, зеленеющие долины, горные озера, кишлаки. И чем выше мы поднимались, тем становилось красивее: перед нами было голубое небо, голубые озера и горы.
Часа через два мы подлетели к Дели. Когда самолет стал снижаться, мы увидели людей в набедренных повязках и в тюрбанах на голове, но сами все еще никак не могли согреться после Ташкента. Когда же самолет подрулил к зданию аэропорта и открыли дверь, на нас, как из горячей топки, хлынул раскаленный влажный воздух. Дух захватило. Мы забрали вещи и пошли в здание аэровокзала, но пока прошли эти триста метров, то стали по пояс мокрыми. Не только рубашка, даже галстук промок. Было более сорока градусов тепла.
Нас повезли в гостиницу и сказали, что завтра мы полетим дальше, а пока можем отдохнуть. Кондиционера в гостинице не было, под потолком крутились огромные пропеллеры, которые слегка обдували, и это было единственное спасение. Нам со Стучевским очень хотелось посмотреть Дели. Мы прошли два квартала, но было настолько душно, что дальше двигаться уже не смогли. Пришлось вернуться в гостиницу, лечь, и только я решил задремать, как вдруг увидел какие-то тени под потолком. Оказывается, это бегали по потолку большие ящерицы, сантиметров по тридцать. Позже с ужасным треском начали летать огромные жуки. Я испугался: "Может, они кусаются, ядовитые. Не хватало еще какую-нибудь кобру увидеть. Тут не до отдыха".
Все же мы переночевали, а на следующий день нас повезли в аэропорт, и мы сели на самолет индийской компании "Эйр-Индия", который совершал рейсы Дели - Токио. При этом пилоты были индийские, а стюардессы - японки. Все они стройненькие, хорошенькие, в белых кофточках, в лаковых туфельках на шпильке, с маленькими пилоточками на голове - ну просто красотки, и я залюбовался девушками.
Однако наш самолет не направился прямо в Токио, а полетел сначала в Карачи, столицу Пакистана. И снова мы провели часа полтора на аэродроме, а из Карачи вылетели в Калькутту, куда прилетели уже вечером, и все та же жара стояла неимоверная. Дышать было нечем. Над головой опять с треском летали какие-то жуки, но мы пережили и это. На следующий день из Калькутты полетели в Рангун. Там в здании аэропорта на открытой веранде проходил сбор духовенства, и мне запомнилось, что все мужчины были наголо обриты и одеты в розовые тоги, наподобие римских.
Затем мы вылетели в Бангкок, столицу Таиланда, где нас встречали таиландские стюардессы, такие же юные, стройные, одетые в облегающие платья с разрезом вдоль ноги. Меня поразила их красота: большие миндалевидные глаза, прямой нос, приятный бронзовый цвет кожи. Наверное, для работы стюардессами специально подбирают красавиц.
Из Бангкока мы попали в Сайгон - теперь это город Хошимин, а из Сайгона перелетели в Гонконг. Здесь нас ожидали неприятности: местные врачи потребовали сделать прививки от холеры. Однако мы решительно отказались. Тогда нас заперли в комнату со стенами из железных прутьев, так что мы оказались будто в клетке для животных. Нам сунули по бутылке сладкой воды, которую пить было нельзя, и в конце концов, так как мы наотрез отказались делать прививки, нас посадили в самолет, и после двух суток пути мы, наконец, приземлились в Токио.
Мы ждали, что нас будет кто-нибудь встречать, и видели, что какие-то люди с кино- и фотоаппаратами подошли к нашему самолету, спрашивая что-то у пассажиров. Но так как к нам со Стучевским никто не обратился, самостоятельно прошли в здание аэропорта. Здесь мы увидели сто двадцать сто пятьдесят японцев, которые стояли стройными рядами, но никого, встречающего нас, так и не заметили.
Я уже начал волноваться, как вдруг подбегает ко мне молодой человек и на ломаном русском языке спрашивает, не я ли господин Петров. Удостоверившись, что это я и есть, горестно восклицает:
- Боже мой, что же будет?!
- Что случилось? - спрашиваю.
- Да мы вас перепутали, к одному, второму, третьему подходили, думали, что это вы, а вы уже прошли. Мы готовились к съемке, а теперь все пропало!
Чтобы не расстраивать их, мы со Стучевским вновь вошли в самолет. Они смогли нас снять, выходящими из лайнера, и были совершенно счастливы.
Когда же вновь вошли в здание аэропорта, собравшаяся молодежь вдруг запела "Расцветали яблони и груши". Спев нашу "Катюшу", они исполнили еще несколько русских песен, а потом рассказали, что у них в Японии организовано хоровое общество, которое уже насчитывает пятьсот тысяч человек. Оказывается, японцы очень увлекаются пением и особенно любят русские песни.
Наконец нас повезли в отель. Он назывался "Акасака Принц Отель". Здесь мы познакомились с антрепренером Нагатой, который устраивал наши гастроли, и переводчиком Акузавой. Нагата сказал, что он счастлив видеть нас, что японцы очень любят музыку, и мы скоро в этом убедимся.
Действительно, я выступал в одиннадцати или двенадцати городах Японии, и всюду залы, кроме одного маленького - на полторы тысячи мест,вмещали от двух с половиной до трех с половиной тысяч зрителей. Акустика их была изумительная. Никаких микрофонов. Можно петь даже шепотом, и все прекрасно слышно в каждом уголке зала. Японские рояли фирмы "Ямаха" были настроены идеально и звучали прекрасно. И публика была тоже замечательная.
Ведущий на двух языках, по-английски и по-японски, объявлял всю программу, такая же программа была на руках у слушателей, и дальше концерт шел без объявлений.
На одном из первых концертов я пел романсы Бетховена "Под камнем могильным", Брамса "Ода Сафо", Шуберта "Бурный поток", Шумана "Два гренадера", Грига "Люблю тебя", арию Фиеско из оперы Верди "Симон Бокканегра", арию Дона Базилио из "Севильского цирюльника". Во втором отделении я пел "Сомнение" Глинки, "Персидскую песню" Рубинштейна, два романса Чайковского, сонет Кабалевского, два отрывка из "Бориса Годунова", песню Галицкого из оперы "Князь Игорь" и русские народные песни. Особым подарком было для японцев то, что я пел на их родном языке народную японскую песню "Дорога", и они всегда радостно и бурно выражали свой восторг.
Мы дали не один концерт в Токио.
Прекрасная публика встречала нас бурей аплодисментов и потом стихала, как по команде. Воцарялась такая тишина, что было бы слышно, как пролетит муха.
И только по окончании музыки вновь раздавались рукоплескания. Такой прием, конечно, вдохновлял.
После концертов выходили рецензии, в которых отмечалось, что западный репертуар хорошо знаком японцам по выступлениям итальянских, французских и других европейских гастролеров, поэтому желательно, чтобы русский певец больше пел русских народных песен. Пришлось мне включить в программу такие песни, как "Ноченька", "Эй, ухнем!", "Вдоль по Питерской".
Когда мы ступили на японскую землю, нам со Стучевским выдали по проспекту нашего пребывания в Японии. Все развлечения, музеи, репетиции, концерты были расписаны не только по дням и часам, но и по минутам. Мы со Стучевским скептически посмеялись над этим расписанием, но когда один день прошел, и в нем ни минуты не было нарушено, и точно так же второй день прошел, третий, удивлению нашему не было границ. И так весь месяц! Я думаю, что когда японцев называют азиатскими немцами, то это еще и немцам делается комплимент. Они не такие пунктуальные, как японцы.
Однажды пришли мы в каком-то городе попробовать акустику зала. Репетиция должна была состояться в двенадцать часов, мы приехали без двадцати двенадцать и увидели, что на сцене еще репетирует оркестр.
Я подумал: "Когда же они успеют убрать все пульты и подготовить сцену?"
А пока суть да дело, Акузава пригласил нас пройти в соседнюю комнату и выпить перед репетицией кофе.
- Акузава,- говорю я,- так мы же не успеем.
- Ничего, не беспокойтесь, все будет в порядке.
Ну, мы выпили кофе. Без пяти минут двенадцать я снова заглянул на сцену и увидел, что там еще что-то оживленно обсуждается. Но ровно в двенадцать нас пригласили опробовать инструмент и акустику зала, и я обнаружил, что на сцене находились только рояль и стул для пианиста. Я был поражен!
- Когда же все это успели сделать? - спросил я удивленно у Акузавы.
- Сцена механизирована,- ответил он.- Она разделена на три отсека. На одном шла репетиция оркестра, потом оператор нажал кнопку, и эта часть сцены опустилась, а ваша поднялась.
Токио произвел на меня колоссальное впечатление. Это один из самых больших городов мира. В нем не было тогда небоскребов, и он состоял в основном из одно- и двухэтажных зданий. Как-то вечером, часов около десяти, Нагата-сан посадил нас в автомобиль и покатил по городу. В вечернем Токио очень привлекают рекламы. Их там не меньше, чем в Америке. Сделаны они очень изобретательно. Например, человек пьет пиво. Он его наливает, пьет, и кажется, что пену он выплескивает прямо на улицу. Все рекламы движущиеся, и эта динамика и смена цвета захватывают. Улицы Токио моют щетками с мылом. Они очень чистые.
Однажды, в перерыве между концертами, Нагата-сан спросил, как бы я хотел провести дни отдыха, и я ответил, что с удовольствием бы порыбачил. Тогда Нагата-сан повез меня к одной из горных речушек. Однако оказалось, что так как недавно прошли дожди, вода в речке была коричневая, как кофе. Мы, правда, забросили удочки, но, конечно, ничего не поймали. Нагата увидел, что я немного расстроился, и решил меня утешить. "Сейчас мы поедем на одно место, где мы обязательно поймаем рыбу",- сказал он.
Он позвонил куда-то по телефону, и мы приехали на ферму, где в небольших прудах разводят форель, а когда она подрастет, ее переводят в пруды побольше. Я взял удочку и только ее забросил, как сразу же поймал рыбку. Японцы зааплодировали, закричали "браво".
Я вытащил штук, наверное, пятнадцать форелек, грамм по сто. Мне даже было их жалко. А рядом было большое озеро, где плавали большие рыбины, и я сказал Акузаве:
- Вот туда бы заглянуть.
- Сейчас я спрошу,- ответил он.
После того как он переговорил с хозяином фермы, тот подошел и предложил мне ловить рыбу там, где мне хочется.
И только я закинул небольшую бамбуковую удочку, мне попалась сразу же форель килограмма на два. Я поводил ее потихонечку и потом вытащил.
Японцы говорят:
- О, вы ловите, как настоящий рыбак.
- Ну, я и дальше поступлю как настоящий рыбак,- ответил я. Осторожно снял рыбину с крючка и выбросил обратно.- Матку трогать нельзя. Она должна дать потомство.
Японцы зааплодировали еще больше, и мы поехали в ресторанчик, где нам поджарили мелких форелек, которых мы наловили.
Потом мы отправились в город, и, так как после легкой рыбной закуски прошло уже много времени, Нагата предложил пойти пообедать в японский ресторан. В зале стоял стол, сделанный из одной толстой доски шириной в метр и длиной во весь зал в форме буквы "г". В месте изгиба стола - центр по обслуживанию посетителей: повар в белоснежном халате с засученными рукавами, в белом колпаке и маленькие поварята. Вокруг них - котлы с кипящим маслом, специями, жидким тестом. Поварята приносят из подсобного помещения разделанную рыбу и большие японские креветки - по размеру они больше наших раков. Повар окунает все это в котлы с приправой, тестом, а потом кидает в кипящее масло. Затем он кладет еду на тарелки и, как жонглер, пускает их вдоль стола. Тут же подается японская водка, которая называется саке. В ней всего лишь четырнадцать градусов. Она не хмельная, но приятная. Пьют ее подогретой. К рыбе и креветкам подаются также разнообразные закуски. Из чего они приготовлены - непонятно. Думаешь, что тебе дали винегрет, положишь его в рот, а такое впечатление, что схватил раскаленных углей.
В конце обеда я похвалил саке, но сказал, что она не сравнится с нашей русской водкой. Когда же я вернулся в отель, то нашел в своем номере коробку, а в ней десять бутылок русской водки - подарок от Нагаты. Оказывается, нельзя было и заикаться о том, что тебе что-то нравится.
Между прочим, в Токио есть и русский ресторан, где нас угощали пельменями, шашлыком, черной икрой, лососиной, грибами - все, как у нас в России.
После обеда Нагата предложил нам отдохнуть, а вечером поехать посмотреть что-нибудь интересное.
Он решил повезти нас в ночной клуб. Это, правда, не было для меня новостью. Я был в Фоли Бержер и Мулен Руж во Франции, где много интересных, красиво оформленных эстрадных номеров и где господствует стриптиз.
Когда мы спустились вниз и вошли в зал, вдруг директор по радио сначала на японском, потом на английском языке объявил, что к ним в гости пришел певец Иван Петров. Все присутствующие встали и зааплодировали. Я смутился от неожиданности, но, конечно, поклонился, и когда мы прошли и сели на небольшом диване, Нагата попросил подождать:
- Одну минуточку, я сейчас пойду все устрою.
Через две-три минуты он пригласил нас подойти к балюстраде, за которой сидело множество очень интересных женщин. Одни из них были одеты в кимоно различных оттенков, а другие были в европейских вечерних туалетах.
- Выбирайте каждый себе даму,- предложил Нагата.
- Для чего же? - спрашиваю.
- Так принято.
- А что эта дама будет делать?
- Гейша, когда мы сядем за стол ужинать, должна будет за вами ухаживать, чтобы вы приятно провели время. Она может рассказать вам что-нибудь интересное, предложить вкусное блюдо, которое вы еще никогда не ели, налить в бокал шампанского, воды. Так в течение всего вечера она будет вашим гидом. Это ее обязанность. И ничуть не больше.
Но мы стеснялись выбрать себе какую-либо даму, и тогда Нагата назначил их нам сам. Мы вернулись и опять сели на диванчики.
- Сейчас для нас сервируют стол,- пояснил Нагата.- А потом мы будем ужинать и смотреть представление.
Мы не могли сами разговаривать с японками, и нам помогал Акузава. Это был очень приятный молодой человек, почтительный, как это принято у всех японцев.
После небольшой беседы Акузава сказал мне, что я очень нравлюсь девушке, которая должна была развлекать Стучевского. Потом он сказал мне это еще раз, а потом и сама эта гейша подсела ко мне, а свою подругу отправила к Стучевскому.
Съезд гостей был назначен на двадцать три часа, и к этому времени нас пригласили за стол. Ужин длился час. Нас угощали разнообразными японскими блюдами, а под конец сказали:
- Сейчас мы вас угостим супом из ласточкиных гнезд. Вы когда-нибудь ели такой?
- Конечно, не ели. Очень интересно.
Подали суп, очень ароматный, вкусный. Я спрашиваю:
- Скажите, действительно это из ласточкиных гнезд?
- Да нет, этот суп делается из плавников молодой акулы, а в него добавляется морская травка, из которой ласточки вьют гнезда. Получается пахучий бульон.
Дары моря у японцев в почете. Нам предлагали и змеиное, и черепаховое мясо. Правда, от змеиного я отказался, испугался почему-то.
Затем начался концерт. Зал, где мы сидели, напоминал зал театра, где партер свободен, а места амфитеатра заняты столиками. В конце зала вдруг загорелся огромный диск, олицетворяющий солнце. Оно начало "всходить", заблистали яркие лучи, и на музыку половецких плясок из "Князя Игоря" выбежали обнаженные японки, выкрашенные бронзовой краской и поэтому напоминавшие бронзовые статуэтки, и с ними полуобнаженный японец, тоже бронзовый. Под музыку Бородина они исполнили свой номер, который прошел с большим успехом.
Обычно в ночных клубах половину номеров составляет стриптиз. Выступают женщины разных национальностей, но они не просто раздеваются, а разыгрывают маленькие сценки, в которых все так изящно и красиво, что действительно доставляет эстетическое удовольствие.
Часть программы составляют и замечательные эстрадные номера. Здесь поют, выступают жонглеры, дрессировщики с собаками, большой популярностью пользуются комические номера, шутки. Так что весь вечер проводится весело.
Закончилось представление около трех часов ночи. Антрепренер спросил меня, доволен ли я. Я ответил, что, конечно, доволен, а гейша, которой я понравился, сказала, что теперь она свободна от своих официальных обязанностей и придет ко мне в отель. Видимо, она шутила, но Стучевский очень испугался. Он грозно крикнул:
- Иван Иванович! Вы что, с ума сошли?
- Это же не я, а она,- улыбнулся я.
Наша ночь, конечно, закончилась очень невинно. Кроме этого ночного клуба, мы были во многих других интересных местах. Мне помнится, например, танц-ревю. Я получил от этого представления огромное удовольствие. Мне очень понравились замечательные костюмы и декорации. Танцевали одни только женщины, но они исполняли и мужские, и женские роли, представляли сцены из пьес, посвященных европейской и японской жизни
В перерыве между действиями японцы пригласили нас пойти в кафе. "Мы вас сейчас угостим самым вкусным, что есть в Японии,- сказали они,- это будет настоящий японский чай и японские пирожные".
Мы пришли в кафе, где все обратили на нас, как обычно, внимание, потому что я среди японцев возвышался, как Гулливер. Нам принесли в больших пиалах зеленый чай, густой, как клей, да еще с пеной. Когда я глотнул этого чая, у меня дух захватило. Семен Клементьевич спрашивает:
- Ну как?
- Никогда в жизни ничего подобного не пил.
Тогда он отхлебнул сразу полпиалы, и глаза у него полезли на лоб. Так он этот чай проглотить и не смог. Японцы от смеха не знали, куда деваться. А потом мы попробовали пирожные, сделанные в форме маленького печенья, и они оказались такими приторными, что съесть их тоже было невозможно.
Меня спросили:
- Ну как, вкусно?
- Знаете, мы так сытно пообедали в японском ресторане,- ответил я.Вы не обидитесь, если я с собой заверну в салфеточку?
Семен Климентьевич, который теперь откусил уже маленький кусочек, говорит:
- Я тоже заверну.
Так мы попробовали самое вкусное из того, что было нам предложено.
После Токио мы поехали в Осаку (второй по величине город Японии). И с самого юга проследовали до северного острова Хоккайдо. В Осаке на следующий день после концерта мы попали в театр Кабуки. Очень интересно само здание театра - белое, с провисшей, как у пагоды, крышей, украшенное красивыми балконами. Как известно, в этом театре играют пьесы только мужчины. Но они так гримируются и вырабатывают такую походку и манеры при исполнении женских ролей, что создается полное впечатление игры женщины.
Мне запомнились в Осаке очень красивые дворцы в стиле пагод, окруженные водоемами, в которых плавают большие цветные рыбины.
По стране мы передвигались в основном на поезде, где обнаружили массу приспособлений, предназначенных для удобства пассажиров. Так, сиденья поворачиваются на сто восемьдесят градусов, чтобы пассажиры могли разговаривать, сидя лицом друг к другу. Вагон радиофицирован, но радио не слышно. В подлокотнике имеется маленькая коробочка с телефончиками, которые вставляются в ушную раковину, и переключатель на две-три станции. Так каждый может послушать спектакль или концерт, не мешая другим.
И еще вот что интересно. На станциях служащие приносят завтрак: на подносе из керамики чайник с чаем и чашечка, а рядом в плетеной корзиночке несколько ломтиков сырой рыбы (это чисто японский завтрак, который мне, правда, не понравился), кусочек жареного лангуста или креветка, два кусочка ветчины, пара кусочков сыра и два-три кусочка хлеба. Также обязательно входит в меню завтрака ламинария - морская капуста, которая у японцев в большом почете.
Во всех городах Японии, и особенно в Токио, замечательные магазины игрушек. Игрушки меня поразили сразу же, как только я прилетел в Токио и ступил на аэродром; в аэровокзале они занимали часть зала, отгороженную столбиками с цепочкой. Особенно привлекли мое внимание радиоуправляемые игрушки: летающие самолеты, разъезжающий на мотоцикле полицейский, который останавливается, снимает ногу с мотоцикла, строго смотрит по сторонам, потом, как бы увидев, что все в порядке, продолжает поездку.
В Японии много деревянных игрушек, очень дорогие куклы-гейши в нарядных платьях и самураи в военных костюмах и со шпагами.
Когда я зашел в магазин в Токио, Нагата меня спросил: "Какие игрушки вам нравятся?"
Я ему показал, а он моментально их купил и прислал мне в отель. С тех пор я уже перестаю попадаться на его хитрость. И Стучевскому сказал, что не нужно проявлять никаких эмоций, потому что потом будем себя неловко чувствовать.
Как-то, гуляя по городу, мы зашли в один из больших магазинов, этажей в шесть-семь. У эскалаторов стояли хорошенькие японочки в форменных костюмах. Они протирали губками движущиеся поручни эскалатора, благодарили за посещение магазина и желали хорошей покупки.
Я хотел купить себе обыкновенные белые рубашки, но японцы сказали, что таких размеров у них не бывает. Они предложили мне сшить сорочки и показали на выбор множество образцов тканей. Продавцы стали меня измерять, но чему-то все время смеялись. Я спросил у Акузавы, почему они смеются. Тот, боясь, видимо, меня обидеть, сначала не хотел переводить, но потом сказал, что на меня, оказывается, нужно в два раза больше материала, чем на обычного японца.
Через день рубашки были готовы, и я долго ими пользовался, выступал в них на концертах.
Мы знаем, что японцы очень трудолюбивый народ. И я мог в этом убедиться. Когда мы проезжали по стране, я видел, как японцы работают. Они нагнетают воду из колодцев на свои рисовые поля, намечают специальным устройством лунки для рассады и потом вручную в каждую луночку сажают рис. Или, например, я не мог понять, почему на деревьях какие-то мешочки висят. Оказывается, все плоды - яблоки, груши, сливы - завязаны в полиэтиленовые мешочки, чтобы вредители не могли их надточить. Можно только ахнуть от изумления! Такой труд вызывает огромное восхищение.
В Японии мне очень понравились национальные парки. Они так красиво убраны, так естественно в них сочетаются подстриженные газоны и кусты, вид на море и сопки со снежными вершинами. Некоторые же сопки дымятся. Мы застали период цветения вишни. И все дома, фабрики, даже мосты утопали в розово-сиреневом цвете.
Отели в Японии двух видов - европейские, со всеми принятыми у нас удобствами, и японские, где спят на полу, на циновке, и весь ритуал умывания, и вся обстановка - чисто национальные.
А в гостиницах, где мы останавливались, меня всегда трогало их декоративное убранство: перекидные мостики разных цветов между залами, сады с карликовыми деревьями, дорожками, речками и цветами. Но однажды вечером, когда я пришел поужинать, то увидел, что все это исчезло. Я спросил, куда все девалось, и мне ответили, что с помощью специальных устройств эти декорации опускаются, а на их месте устанавливаются столики для гостей.
Были мы и в домах у японских деятелей культуры, которые слушали наши концерты. Интересно, что в дом японца в своей обуви войти нельзя. Или вам предлагают мягкие домашние туфли, или вы снимаете обувь и идете в носках. Пол застелен ковриками, циновочками. И однажды случился курьез. Пришли мы в гости, раздеваемся, и вдруг Стучевский мне шепчет:
- Беда!
Вижу - он стоит нога на ногу. Спрашиваю, в чем дело.
- У меня дырка на носке.
- Ну скорей проходите и ногу спрячьте под стол.
Но столики там такие низкие, что я просунуть свою ногу не мог. Стучевский же сделал это молниеносно.
Один концерт в Японии я дал бесплатный, в пользу общества "Поющие голоса". Я думаю, что сейчас это общество насчитывает не менее миллиона членов. Куда бы мы ни приходили, даже в ресторан, всюду пели песни, в том числе русские: "Катюшу", "Стеньку Разина", "Из-за острова на стрежень". В память об этом концерте члены общества подарили мне наручные часы-будильник. С тех пор прошло более тридцати лет, но эти часы до сих пор прекрасно ходят, а будильник звенит. Один раз я даже нырнул с ними в море, но они высохли на солнце и до сих пор меня выручают. Подарили они мне и маленький карманный приемничек и киноаппарат. Как-то я, разъезжая по Токио, снимал этим аппаратом, а потом забыл о нем, и, когда выходил из машины, он упал прямо на асфальт. Все три его объектива потеряли устойчивость.
- Пропал аппарат! - сказал я грустно.
- Не расстраивайтесь! - ответили мне.- Мы сейчас заедем в любой магазин и починим.
Я не поверил, но действительно, через двадцать минут мне вернули целехонький аппарат.
Заключительный концерт проходил в огромном переполненном спортзале, вмещающем десять тысяч зрителей. Концерт состоял из трех отделений. В первом я пел под рояль русские песни и советские романсы. Помимо меня, выступали хор и оркестр. Во втором отделении я пел в сопровождении оркестра арии, в основном из русских опер: Сусанина, Гремина, Варяжского гостя. А в третьем отделении я с оркестром и хором мальчиков исполнил "Песню о лесах" Шостаковича. Слушали нас с огромным вниманием, и на долю этой оратории выпал огромный успех.
Закончив гастроли в Японии, которые длились месяц и пять дней, мы, усталые, но вдохновленные успехом, отправились в обратный путь на самолете "Эр Франс". Мы получили специальное приглашение французской фирмы, которая просила нас воспользоваться услугами их компании и предоставила нам некоторые льготы, не взяв денег за лишний груз. От этого полета мы получили большое удовольствие, особенно когда нам подали обед точно такой, какой подают во французских ресторанах.
Вернувшись в Москву, мы долго вспоминали прекрасную Страну восходящего солнца и эти гастроли.
Западная Германия
В некоторых из двадцати пяти стран, где я гастролировал, мне пришлось побывать по два-три раза и более. Так, например, в Западной Германии я был трижды. А во Франции пять раз.
Первая поездка в Западную Германию состоялась в ноябре 1960 года. Я ехал тогда с сильным волнением. С одной стороны, еще сильны были воспоминания военных лет, и меня мучило опасение встретиться с фашистскими настроениями. С другой стороны, я понимал, как музыкален немецкий народ, давший миру таких композиторов, как Бетховен, Шуман, Вагнер, Брамс, Малер. Имена их бессмертны, и это еще больше увеличивало чувство ответственности перед предстоящими концертами.
Мы отправились в эту поездку вдвоем со Стучевским, и самолет доставил нас во Франкфурт-на-Майне, где должен был состояться первый концерт. Когда мы проходили таможенный контроль и таможенники увидели наши советские паспорта, они не поверили своим глазам и созвали всех служащих: мало кто из наших артистов там тогда выступал.
В первом концерте я должен был петь камерную программу. Я всегда стараюсь строить ее так, чтобы успех от отделения к отделению нарастал, поэтому важно в каждой части концерта расставить "победные точки". Мне казалось, что ими могут стать яркие бравурные арии Дона Базилио и князя Галицкого. Но мне возразили: "У нас не принято в камерных концертах петь арии. Арии у нас поются только под оркестр".
Пришлось перестроить всю программу В первом концерте я пел "Аве Мария" Баха - Гуно, "Под камнем могильным" Бетховена, "Приют" Шуберта, "Агнус Деи" Бизе и три песни Дон Кихота Равеля. Всю эту программу я пел на языках подлинника, а заканчивал отделение шумановским "Я не сержусь".
Второе отделение составили русские произведения: "Сомнение" и "К Мери" Глинки, баллада Даргомыжского "Старый капрал", "Благословляю вас, леса" и Серенада Дон Жуана Чайковского, два сонета Кабалевского (мне эти романсы Кабалевского очень нравятся - они так созвучны шекспировским стихам и всегда пользуются успехом у публики).
Первый концерт прошел успешно, и я приготовился ехать по маршруту дальше, но еще оставалось немного времени, чтобы побродить по городу. Во Франкфурте мне очень понравилась остроумная выдумка архитекторов сделать у зданий на уровне второго этажа козырек, который нависает над тротуаром и спасает прохожих от дождя или солнца. Ведь в нижних этажах витрины магазинов. Так пусть же в любую погоду покупатели любуются ими, и может быть, им захочется что-либо купить.
Второй концерт состоялся в Гамбурге. Это город-порт, куда заходят огромные океанские лайнеры. Когда я посмотрел на эти корабли, стоящие прямо в городе, у меня просто дух захватило.
Здания в Гамбурге в основном невысокие, в четыре- пять этажей, но все они выложены из красного кирпича и покрыты крышей из красной, потемневшей от времени черепицей. Над ними возвышаются острые пики костелов и остроконечная башня красивого здания ратуши. Все это создает впечатление необычайного единства архитектурного ансамбля.
Концерт в Гамбурге тоже прошел успешно, и на следующий день ко мне явился представитель западногерманской граммофонной фирмы "Эуродиск" ("Европейский диск") и предложил сделать записи на пластинке. Однако у меня не было для этого времени, поэтому руководители фирмы купили у нашей "Мелодии" несколько матриц и с них сделали много пластинок. Они хранятся у меня. Здесь и полная запись опер - "Борис Годунов", "Сказка о царе Салтане", "Сказание о невидимом граде Китеже" - и отдельные арии, и романсы русских композиторов, и русские песни.
Следующий концерт у меня был в Кельне. Подъезжая на поезде к огромному трехпролетному и очень красивому мосту через Рейн, я увидел очертания громадного Кёльнского собора. Он поражает уже издалека, но когда мы на поезде проезжали мимо него, я был просто захвачен его величием. По-моему, этот собор третий в мире по своим размерам. Он необычайно красив. Устремленные вверх готические порталы, внутреннее убранство, витражи, которые я потом с восхищением рассматривал,- все это чудо архитектуры.
У меня оставалось время, чтобы погулять по Кёльну. Внимание привлек еще один необычайный мост через Рейн - легкий, воздушный. Он держится на одной опоре, похожей на перевернутую латинскую букву V, и по нему движутся только автомобили и пешеходы. Большое удовольствие я получил, бродя по красивому парку с разнообразными цветами, водоемами и множеством водоплавающей птицы. А оперный театр показался мне скорее похожим на дворец спорта. Зато сколько в городе маленьких изящных костелов! Мне запомнился один из них - церковь св. Мартина, устремленная в небо пятью шпилями. Особенно наряден Кельн в ночное время, расцвеченный горящими огнями, которые отражаются в Рейне.
Далее концерты у меня состоялись в Мюнхене и Штутгарте. В Штутгарте очень хороший театр, где я спел "Бориса Годунова". Спектакль был не совсем обычным. Началось с того, что мне предложили репетицию только в классе. Петь же на сцене нужно было фактически без репетиции. Я согласился, так как привык уже ко всяким декорациям и мизансценам, но когда я вышел в сцене коронации, то был поражен. Вся сцена была затянута черными бархатными полотнищами, а ее пол представлял собой возвышение, которое шло от самой рампы, а в конце сцены ступеньки вели вниз. И ни церквей, ни храмов, ни колоколен, ни Кремлевской стены. Наверху, прикрепленный к бархату, висел лишь кусочек купола с крестом,- символ церкви.
Мне показалось это чересчур странным. Что же, думаю, будет в тереме? В тереме стояла одна колонна, подпирающая свод, кресло Бориса, и больше ничего. Думаю: "Как же сейчас пройдет сцена с Федором и Шуйским?" Но, когда я увидел, что Федор у моего кресла приютился с картами на полу, я задал ему вопрос, который должен был задать: "А ты, мой сын, чем занят?" - все пошло хорошо, и мы исполнили сцену так, как она написана у Мусоргского. И все же в диалоге с Шуйским я чувствовал себя не очень удобно, лишенный привычных у нас аксессуаров. Ведь в Большом театре на сцене стоит глобус, на столе лежат перья около чернильницы, свитки, документы, с которыми царь работает.
По окончании действия меня без конца вызывали, а потом пришли наши работники посольства, которые присутствовали на спектакле. Я сказал им, что в полном недоумении от такой постановки, но они неожиданно ответили: "Вы в своем костюме были таким красивым и ярким пятном, что на вас было сосредоточено все внимание. Ваш костюм на черном бархате просто сверкал!"
И я с благодарностью вспомнил Федора Федоровича Федоровского, по эскизам которого был сделан мой костюм из позолоченной парчи, настоящего бархата, украшенного камнями, отшлифованными так, что они играли, как настоящие. Этот костюм готовился под непосредственным наблюдением Федора Федоровича.
Как обычно, после спектакля в газетах появились отклики рецензентов, а журнал "Оперн вельт" посвятил мне много теплых слов и поместил большие фотографии.
Гастроли прошли быстро. Они были хорошо распланированы, я не устал и получил множество впечатлений. Но перед отъездом мне нужно было куда-то потратить заработанные немецкие марки, и я пошел в магазин. Купил себе рыболовные принадлежности, подарки жене и дочерям и вдруг увидел на самом верхнем этаже очень интересную дачную мебель, сделанную в мексиканском стиле,- яркие цветы на синем фоне. Здесь были шезлонги, кресла, зонт и диван-качалка. И еще меня поразил бассейн, сделанный из двух стальных листов, скрепленных штырями и образующих круглый сосуд, в который вставляется нейлоновая чаша. Наливается вода - и купайся. Двадцать пять кубометров воды! Мне очень хотелось приобрести эту мебель, и это оказалось возможным.
Немецкая пароходная фирма подсчитала все расходы по доставке гарнитура из магазина до Москвы, и недели через две после возвращения мне позвонили из таможни: "Ради бога, заберите ваш ящик, он нам загородил всю таможню!"
Так эта мебель и бассейн появились у меня на даче, украшая ее и улучшая настроение.
Второй и третий раз я выступал в Западной Германии вместе с оркестром имени Н. П. Осипова, о чем расскажу дальше.
Снова Париж. Флоренция
В марте 1962 года я вновь получил приглашение из Парижа выступить в трех спектаклях "Бориса Годунова" и два раза спеть в "Фаусте". Мне, конечно, очень приятно было опять встретиться с Жаном Жиродо, который пел Шуйского, с Сюзанной Сорокой, исполнявшей партию Марины Мнишек, Жераром Серкояном - Пименом и молодым Гишем Ове, обладавшим очень хорошим голосом и выступавшим в роли Самозванца. Однако я спросил парижан, почему они не подготовят своего Годунова, а все время приглашают гастролеров - Бориса Христова, Чангаловича, итальянского баса России Лемени. Мне ответили, что во Франции нет соответствующих голосов. И все же мне очень жаль, что опера Мусоргского, пользующаяся во Франции такой любовью, всегда идет с участием гастролеров.
В тот раз я спел Бориса не три, а четыре раза и еще исполнил два раза Мефистофеля. Дирижировал "Фаустом" на сей раз Андре Клюитенс, превосходный мастер и тонкий музыкант. Не успел я спеть несколько фраз во время репетиции, как он остановил пианиста и спросил меня, нуждаюсь ли я в этой спевке. Я сначала удивился, а потом ответил, что свою партию знаю хорошо. Тогда Клюитенс, улыбнувшись, сказал: "Я вас слышал в "Фаусте". Это было прекрасно, поэтому мне спевка тоже не нужна".
И в тот день мы расстались. Но затем я получил большое удовольствие от общения с этим блестящим музыкантом. Он не только помогал певцу, но и вызывал чувство вдохновения.
В этот приезд у меня произошла еще одна интересная встреча. В промежутке между моими выходами на поклоны после окончания первого действия "Бориса" (он шел, как всегда, с антрактом после сцены в тереме) ко мне подходили с поздравлениями многие любители музыки и музыканты. Вдруг, появившись в очередной раз за сценой, я услышал какие-то шипяще-свистящие звуки. Оказывается, это все произносили имя Софи Лорен. Ко мне немного раскачивающейся походкой подошла высокая красивая дама в длинном норковом манто. Мы поздоровались, и Фавр Лебре, главный секретарь французской оперы, познакомил меня с ней. Это оказалась кинозвезда Софи Лорен, которая сказала много теплых слов о моем исполнении и пригласила нас по окончании спектакля приехать к ней в гости. Однако на следующее утро мы должны были уезжать и не могли принять ее приглашение. Тогда Софи Лорен попросила меня подарить ей мою фотографию. Когда я закончил выходы на поклоны, мы зашли в мою гримерную, и я подарил прелестной актрисе фотографию с теплой надписью и спросил:
- А вы свою фотографию можете мне подарить?
- О, с удовольствием. Завтра утром у вас в отеле у портье будет моя фотография.
Теперь эта фотография висит у меня на стене, и мне так приятно читать надпись над ней: "Ивану Петрову со всей симпатией и обожанием".
В Париже я подружился с Жаном Жиродо. Он не только поет в опере, но и является профессором Сорбоннского университета, где преподает вокал. Как-то Жиродо пригласил меня вместе с ним пообедать и повез в алжирский ресторан, где было все так остро приготовлено, что у меня аж слезы из глаз катились, когда я дегустировал алжирские блюда.
- А не отразится ли эта еда на голосе? - заволновался я.
- Нет, для голоса это полезно, я все время тут обедаю,- успокоил он меня.
И действительно, все обошлось благополучно.
После обеда Жиродо повез меня к себе домой пить кофе. Певец хотел показать мне свой новый дом, расположенный в одном из самых фешенебельных районов Парижа - он недавно в него переехал. Мы подъехали к резным железным воротам, и я увидел двухэтажный особняк, а рядом с ним бассейн и еще один маленький домик - рабочий кабинет певца с залом и фонотекой. Мы беседовали, слушали музыку, и я с удовольствием провел у Жиродо пару часов.
В Париже чрезвычайно увлекаются автографами, и я так быстро раздал все свои фотографии, что потом уже пришлось расписываться на программках. Порой мне приходилось сидеть после спектакля не менее часа в проходной, чтобы подписать программки всем желающим. Однажды, когда я уже удовлетворил всех жаждущих, и мы с женой и переводчицей вышли из театра, во дворе к нам подошла какая-то дама и, обращаясь к Людмиле Петровне, спросила: "Мадам Петрова, вы не будут против, если я поцелую вашего мужа?" Моя жена сначала ахнула от удивления, но потом сказала, что она, конечно, не возражает, и эта дама, поцеловав меня в щеку, вручила подарок - какую-то маленькую коробочку. Так как кругом были люди, то я не стал раскрывать ее, положил в карман пальто и забыл о подарке. А на следующий день мы уезжали в Ниццу. Нам говорили, что в Ницце только пять-семь дней в году бывает холодно, а все остальное время сияет солнце. Но оказалось, что на Лазурном берегу в эти дни было холоднее, чем в Париже. Дул сильный ветер, солнца не было, и все же мы захотели прогуляться. Мы вышли на улицу, я по обыкновению опустил руку в карман и вдруг обнаружил забытый подарок. Раскрыл коробочку и увидел в ней медальон в виде золотой веточки и цепочки, к которой прикреплена старинная золотая монета. Я был очень тронут.
В Ницце специально для меня поставили "Бориса Годунова". Дирижер Жорж Себастьян приехал из Парижа, а режиссером спектакля был сын мэра города Ниццы Пьер Медсен. Конечно, этот театр не имеет таких возможностей, как "Гранд-Опера" или какой-то другой большой театр. И все же опера была оформлена интересно, и спектакль прошел очень хорошо, с должным успехом.
Кроме "Бориса Годунова", я пел и в "Фаусте". В этой опере были заняты хорошие певцы. Но меня удивило и опечалило, что, уделяя много внимания вокалу, они совсем не стремились раскрыть сценический образ, и спектакль превращался в костюмированный концерт.
В Ницце у меня произошла еще одна незабываемая встреча. Однажды ко мне подошла наша переводчица Жанин и сказала:
- Иван Иванович, с вами хочет встретиться один очень интересный человек, и я уверена, что эта встреча доставит вам большое удовольствие.
- А кто же это такой?
- Я пока не хочу вам говорить. Завтра поедем на побережье, там есть музей Фернана Леже - знаменитого французского художника. Он приедет туда и с вами встретится.
На следующее утро мы встали рано, часов в восемь, позавтракали, и я с женой и переводчицей отправился в музей. Леже сам выстроил это красивое здание и украсил его яркими цветными витражами. Пока мы рассматривали их, к нам неожиданно подошли двое молодых людей, блондинов, похожих на наших русских парней, и отрекомендовались. Это были Жан и Поль Торезы - сыновья Мориса Тореза. "Папа просил его извинить, он немного задерживается, сейчас подъедет,- сказал один из них. Он специально прислал нас, чтобы мы пока вас развлекали".
Жан и Поль говорили на чистом русском языке. Они показывали нам музей, а через полчаса приехал и Морис Торез. Он только что перенес инсульт и шел, опираясь на трость.
- Извините, что я опоздал и не был вчера на "Борисе Годунове" в Ницце, сказал он.- Я очень хотел попасть на этот спектакль, но мне ЦК не разрешил пойти.
- Почему?
- Развили свою преступную деятельность оасовцы. Они подкладывают бомбы под автомобили и дома, так что многие люди пострадали. Но я очень хотел с вами встретиться, спасибо, что вы пришли. Пойдемте, посмотрим галерею Леже.
Я уже успел убедиться, что на живопись Леже влияли многие направления современной живописи, кроме реалистического. А я не поклонник такого искусства, и Морис Торез угадал мои мысли.
- Я знаю, что в Советском Союзе этого художника не понимают, а у нас его любят и чтят, тем более что он из рабочего сословия, член коммунистической партии.
Он объяснял мне содержание каждой картины, рассказывал, почему она написана так, а не иначе, а после того, как мы обошли музей и сфотографировались, Морис Торез сказал, что заказал нам в Канне обед. "Сейчас еще рано, мы поедем немного погуляем по побережью - там такой красивый берег Средиземного моря, а потом пообедаем".
Мы осмотрели город Канн, где проходят знаменитые кинофестивали, погуляли по берегу, побросали в воду камушки, пообедали в ресторане и снова сфотографировались. С тех пор у меня хранится снимок, сделанный на память.
"Если я вам еще не надоел,- сказал Торез после обеда,- давайте поедем ко мне. У меня здесь маленькая вилла, где я отдыхаю и работаю. Конечно, я больше работаю, чем отдыхаю, но сегодня я буду очень рад, если вы меня навестите".
Мы приехали в его маленький двухэтажный домик, выпили кофе. Морис Торез рассказал, что он пишет свои труды на нескольких языках: итальянском, испанском, английском, немецком и русском. Он показал нам свои рукописи. Остроумный собеседник, Торез в то же время был таким доброжелательным человеком, такое от него исходило тепло, что мы не заметили, как пролетел вечер, и покинули его гостеприимный дом только в одиннадцать часов.
В Ницце нас пригласил к себе и мэр города господин Медсен. Он очень хвалил постановку "Бориса", исполнителей и музыку оперы, говорил, что это большое событие для всех любителей музыки.
Пребывание в Ницце запомнилось мне и благодаря красочным праздникам, которые проходили там в то время. Во-первых, в Ницце проводился карнавал, и это зрелище просто потрясло нас. Необычайны были костюмы разных цветов, разнообразны маски, торжественны выборы королевы этого праздника. Она восседала на троне, и ее, всю усыпанную розами, везли на специальном постаменте. И, наподобие нашего обряда сожжения масленицы, вывезли на маленьком плотике в море огромное чучело из соломы и папье-маше и там вечером сожгли его.
А через несколько дней начался праздник цитрусов, тоже очень интересное зрелище. Мне запомнилось, что на всех бульварах и улицах, на цветниках и травянистых покровах были выложены различные узоры, сделанные из лимонов, апельсинов, мандаринов и грейпфрутов.
И еще очень яркое впечатление - посещение ресторана на окраине Ниццы, почти на границе с Италией. Он расположен на прибрежных камнях, выступающих из воды, и обед там напоминает некое театральное действо. Сначала вы заказываете закуски, и, пока их готовят, вдруг раздается стук в пол, подбегает официант, отворачивает ковер, открывает люк, и из него рыбаки предлагают только что пойманную рыбу, лангусты, омары, креветки. Вы можете выбрать то, что вам нравится, официант относит это на кухню, и там дары моря приготовляют.
Недалеко от Италии в море выступает маленький полуостров, на котором расположено одно из самых миниатюрных государств в Европе - княжество Монако. В нем своя гвардия в семьдесят человек, красивый дворец желтовато-оранжевого цвета. Около него - пушки и ядра, в определенное время происходит смена караула, и принц Монако со своей супругой выходит из дворца и совершает торжественное шествие.
В одном из уголков Монако находится Монте-Карло - знаменитый игорный дом и тут же оперный театр. Я получил приглашение в нем выступить, но по каким-то причинам выступление у меня там не состоялось. Театр этот очень красивый, в нем часто пел Шаляпин, выступали известные певцы всего мира.
Мне хотелось посмотреть, как играют в рулетку, и оказалось, что в разных залах играют в разные игры. Есть зал для игры в рулетку, зал с автоматами, где тоже делают ставки.
Залы, где играли в рулетку, произвели на меня тяжелое впечатление. Ведь люди здесь часто проигрывают состояния, а многие даже кончают жизнь самоубийством. Мне запомнился рассказ шофера такси, как тот привез сюда однажды банкира - он вез его издалека, чуть ли не из Парижа. Этот миллионер просил таксиста подождать, чтобы потом ехать обратно, но, после того, как проиграл два или три миллиона, решил в Париж не возвращаться, а пойти в отель. Таксисту же он не дал на чай ни одного цента. И тот потом долго смеялся над такой скупостью.
Монте-Карло стоит у подножия гор, спускающихся к морю, и если посмотреть с высокого места вокруг, то открывается далекая перспектива на море, город и примыкающее к нему селение Ментона. Вечером море освещено огнями. Пароходики и яхты светятся на рейде, и все это производит незабываемое впечатление.
Затем я опять поехал в Париж. Там мне предстоял четвертый спектакль "Бориса Годунова", кроме того, в Большом концертном зале я должен был спеть с оркестром под управлением Геннадия Рождественского несколько арий: песню Варяжского гостя, арию Гремина, песню Галицкого из "Князя Игоря" и серенаду Мефистофеля. Публика, как всегда, отнеслась ко мне очень тепло, и меня пригласили приехать и на следующий год.
В этот раз я много времени проводил в Лувре. Большое впечатление произвела на меня выставка картин импрессионистов, а также картины моего любимого художника Коро. В этот раз в Лувре было представлено свыше четырехсот его произведений из частных коллекций. Я долго-долго любовался ими.
Отдельно, где-то в другом здании, были выставлены картины Гойи. Они тоже были собраны из частных коллекций, принадлежавших не только французам, но и испанцам, и коллекционерам картин из других стран. Эта выставка, конечно же, мне чрезвычайно понравилась.
В Париже я встретил своего друга Эмиля Гилельса. Мне больно, что он так рано ушел от нас. Хочется немножко рассказать о нем, потому что я испытывал к нему нежное чувство привязанности и глубокое восхищение.
Познакомился я с Эмилем Григорьевичем во время поездки на фестиваль "Пражская весна", а потом мы часто вместе гастролировали в Советском Союзе и за рубежом. По своей манере поведения Гилельс производил впечатление сдержанного и даже несколько замкнутого человека. Справляясь о здоровье или творческих планах, он никогда не выплескивал своих эмоций, хотя на самом деле это была глубоко чувствующая и ранимая натура. Чувствовалось, что Эмиль Григорьевич постоянно живет своим творчеством.
Хотя мы с Милей не дружили домами, но я посещал его клавира-бенды, а он - мои концерты и спектакли, и я всегда ощущал его доброжелательность. Помню, пел я в Одессе. Смотрю, появляется в ложе Эмиль со своей супругой. Оказывается, он гостил тут у родственников и пришел меня послушать. После спектакля мы гуляли по городу, любовались парком на берегу моря.
Творческая судьба Гилельса сложилась необычно. Если в начале своего пути он сосредотачивался прежде всего на техническом совершенстве игры, то в последние годы его искусство приобрело невероятную глубину чувств, философичность, стало эмоционально раскованным. Слушая его, я всегда восхищался и удивлялся этому постоянному совершенствованию.
Помню, я как-то был на концерте Мили в Большом зале консерватории. Особенно сильное впечатление на меня произвело его исполнение "Лунной сонаты", и когда мы вместе с Яковом Заком и Яковом Флиером выходили из концертного зала, я спросил Флиера:
- Яша, как тебе Миля? Какое впечатление?
- Что ты спрашиваешь?! - воскликнул он - Да он сейчас вырос в такого гиганта, что мы можем смотреть на него только снизу вверх. Он теперь где-то на Олимпе.
Гилельс был очень широкой натурой. Он часто приглашал меня куда-нибудь пообедать и никогда не разрешал заплатить ни одного франка. Ни за что. "Я тебя пригласил, и все".
В тот раз он тоже пригласил меня пойти с ним в рыбный ресторанчик. Что-то заказал по-французски, а я тогда еще плохо знал этот язык и не понял его. Вдруг на больших тарелках с зеленью из нейлона, которую не отличишь от настоящей, нам принесли устрицы. Я очень удивился. А Миля говорит:
- Ты не бойся, попробуй, это очень вкусно.
- А как же их едят?
- Видишь, тут трезубец такой - одновременно ножичек и вилочка, так ты этим ножичком подпили ножку, на которой держится устрица, потом выдави туда сок лимона. А теперь все это с поджаренным хлебом, который нам дали, нужно проглотить.
Я проглотил одну устрицу и вначале даже не ощутил никакого вкуса, а потом распробовал, и мне понравилось: похоже на хорошие маринованные грибы. В конце концов я так увлекся, что съел две порции - двадцать четыре устрицы!
Однажды в посольство приехали наши спортсмены-бегуны, которые выступали на приз газеты "Юманите". Когда они услышали, что я прошу официантку принести мне устрицы, то невероятно удивились, а потом, увидев, как я их ем, женщины разбежались. Я рассмеялся. "Ну что вы за народ такой, ведь во Франции на каждом шагу продают устрицы, это полезно, вкусно, поэтому их едят".
Постепенно все успокоились, но попробовать отказались.
В том же 1962 году произошло одно очень приятное событие - ассоциация граммофонных фирм наградила меня почетной медалью "Золотой Орфей". Я не знаю, из чего эта медаль сделана, но она очень тяжелая и большая. На ней написано: "Академия лирических дисков, 1962 год. Золотой Орфей. За лучшую интерпретацию. Приз Вани Морсо. Вручается месье Ивану Петрову". В данном случае я получил медаль за переиздание московских пластинок с записью "Сказки о царе Салтане", "Сказания о граде Китеже" и русских народных песен.
После всех этих событий я в очень хорошем настроении вернулся в Москву.
Вскоре нескольких артистов Большого театра пригласили во Флоренцию на майский музыкальный фестиваль. В это время там должна была исполняться опера Мусоргского "Хованщина". Из Москвы вылетели дирижер Хайкин, режиссер Баратов, Алексей Иванов, Авдеева, Гелева, Ивановский и я. Мы должны были прорепетировать оперу со всеми ее участниками еще до премьеры.
Так как рейса Москва - Флоренция не существовало, мы прилетели в Рим, где пробыли почти сутки. Нам повезло, потому что мы хоть немножко смогли посмотреть знаменитый город. Даже беглое знакомство принесло нам много радости.
Наша гостиница находилась рядом с Колизеем, и мы прежде всего направились к нему. Это огромное здание, которое издалека не кажется таким большим, но на самом деле поражает своими размерами. Особенно же сильное впечатление произвел на нас амфитеатр. Мы увидели разрушенный подпольный этаж под ареной, где находились гладиаторы и откуда они шли на бой, и настолько перенеслись в атмосферу того времени, что стало даже жутковато.
От Колизея широкая аллея ведет к изумительному собору святого Петра, окруженному замечательной по красоте и величию колоннадой. Издалека собор тоже не кажется таким большим, но когда подходишь поближе, эта громада впечатляет, а если с верха собора смотришь вниз, то люди начинают казаться какими-то блошками. Это монументальное строение, включающее в себя один главный и четыре маленьких купола. Каждое же его отделение почти равно Исаакиевскому собору.
Собор святого Петра очень красив не только внешне, но и внутри. Эффектно проходит и обряд богослужения. Он торжественен сам по себе, но когда еще звучат духовные песнопения - то все это вместе взятое, конечно же, производит огромное впечатление.
Очень понравился мне алтарь де ла Патрия - алтарь Родины. Это белокаменное здание, к которому ведут большие ступени. Когда же мы шли по набережной По, то я увидел знакомое здание, и мне тут же пришли на память слова, которые я пел в "Тоске": "Сейчас бежал я из тюрьмы Сант-Анжело". Это действительно оказался тот самый знаменитый замок, из которого бежал Анжелотти, спасаясь от Скарпиа,- величественное и мрачное здание, производящее тягостное впечатление.
Ассоциация с другим произведением искусства возникла у меня в ресторане, где мы решили попробовать настоящие итальянские спагетти. Когда нам подали их, я сразу вспомнил фильм с участием Чарли Чаплина "Огни большого города" - как Чаплин разрезал макароны ножницами,- потому что мы тоже никак не могли управиться с длинными в полтора метра макаронами, которые итальянцы ловко накручивали на вилку.
Побродив по Риму и полюбовавшись развалинами древних колонн и храмов, мы отправились на самолете во Флоренцию, которая сразу же поразила наше воображение. Это город-музей, город шедевров. В нем нет новых зданий, кругом зелень, цветы и, куда ни глянешь,- всюду старинная скульптура, живопись, архитектура. С ума сойти можно!
На площади Синьории сразу же бросается в глаза палаццо Веккьо, перед которым находится замечательное творение Микеланджело - огромная скульптура Давида. Рядом - Юдифь и Олоферн Донателло. Жестокая красавица держит в левой руке голову Олоферна, а в правой - меч. Тут же справа - лоджия Деи Ланци, в которой находится знаменитая скульптура, изображающая Персея, отрубающего голову со змеями Горгоны, и другая скульптура - "Похищение сабинянок" Джованни да Болонья. Здесь же - знаменитая галерея Уффици. В ней представлены очень многие великие итальянские мастера, но больше всего полотен Боттичелли. Неподалеку, в галерее Питти - картины Рафаэля, Тициана, Тинторетто, Андреа дель Сарто. Вот такие драгоценности сосредоточены только на одной площади!
Со всех точек Флоренции сверкает собор Дуомо, украшенный белым, зеленоватым и темно-коричневым мрамором. Как-то мы с моим другом Ивановским шли мимо, и я предложил зайти в собор. Мы полюбовались иконами и витражами, и вдруг я увидел какую-то лестницу. По ней можно было подняться на крышу собора, и мы полезли вверх. Сначала шли легко, но потом почувствовали, что стали уставать, а чем выше мы поднимались, тем сильнее дул ветер и становилось холоднее. Я испугался, что мы простудимся и не сможем петь, но все же мы поднялись на смотровую площадку, где открылся незабываемый вид на Флоренцию. Оказалось, что, кроме покатых красных черепичных крыш, много крыш плоских, заканчивающихся маленьким заборчиком, на них разведены сады посажены кустики не то сирени, не то жасмина, масса цветов, поставлены красивые кресла-качалки, а на некоторых домах наверху даже маленькие бассейны, в которых блестит голубая вода.
Во Флоренции есть много небольших интересных строений, например, церковь Санта Мария Новелло, старинное, очень привлекательное здание. Знаменит мост Понта Веккиа, перекинутый через очень маленькую, несудоходную речку. Вода в ней еле-еле перетекает через камушки, а кое-где исчезает вообще. И вдруг несколько лет назад эта река понесла с гор массу воды, и из-за наводнения залило первые этажи музеев и погибла масса картин.
Мост Понта Веккиа - пешеходный и представляет собой как бы маленькую улочку, на которой справа и слева расположены четырехэтажные дома ювелиров. На верхних этажах они работают, живут, а внизу - это сплошь лавки. Мы даже ночью любили гулять по этому мосту и любоваться изяществом выставленных в витринах изделий.
Репетиции "Хованщины" шли гладко. Мы нашли общий язык и с итальянскими певцами - исполнителями небольших ролей, и с артистами хора и оркестра, и через два-три дня у нас состоялась премьера. Городской театр во Флоренции - очень большой, он вмещает тысячи три человек. Он лишен помпезных украшений, но акустика его хорошая, и мы несколько раз спели оперу Мусоргского.
Начинались спектакли в девять тридцать вечера, а заканчивались около двух часов ночи. Естественно, что рабочий люд не мог ходить на эти спектакли поздно, страшно дорогие билеты. Но та публика, которая посещала театр, оказала нам очень теплый прием, в прессе были опубликованы хвалебные рецензии.
Как и в других городах, во Флоренции большой рынок, окруженный массой лавчонок, торгующих кожаными изделиями, сумками, туфлями. Рядом с рынком маленький водоем, посреди которого стоит фигура кабана, между клыками которого бьет фонтанчик. По традиции все приезжающие во Флоренцию бросают в этот фонтан монетку, чтобы еще раз посетить этот город. Мы все тоже побросали туда мелочь, но больше во Флоренцию нам поехать не удалось.
Собакин, Мельник, Филипп
В шестьдесят втором году я выступил в новой роли Собакина в опере Римского-Корсакова "Царская невеста". Собакин - отец Марфы, богатый купец и уважаемый человек. Роль его не представляет больших трудностей. Она выдержана в среднем регистре, очень певучая, и я любил ее исполнять. Особенно мне нравилось ариозо Собакина "Забылася, авось полегче будет", наполненное грустными мыслями о своей несчастной дочери, красивое и трогательное.
В том же году, 29 декабря, в Большом театре состоялась премьера "Русалки" Даргомыжского. Я давно мечтал спеть партию Мельника, и наконец эта возможность мне представилась.
Образ Мельника, как будто простого мужичка, представляет большой простор для исполнителя. Ведь нужно выявить и его трудолюбие, и мужицкую хитрость, и любовь к дочери, способность к героическому самопожертвованию. Особенное же мастерство требуется в предпоследней трагедийной картине. Музыкально партия Мельника очень разнообразна и психологически, и в использовании различных оттенков - пиано, меццо-воче, фортиссимо, где нужно справляться с очень высокой тесситурой.
Дирижировал оперой Геннадий Константинович Черкасов, ставил Георгий Ансимов, Тугаринова пела Наташу, Ивановский - Князя. Кроме меня, в роли Мельника выступал Ведерников. Таков был состав премьеры.
Несмотря на то, что премьера прошла очень хорошо и публика принимала нас восторженно, нам сильно влетело от критики. Критиковали режиссера, художника, певцам тоже попало. Но я считаю, что певцы тут были ни при чем. Художник предложил оформление спектакля, при котором, например, в первом действии мельница, дуб и скамья, на которой сидела Наташа, оказались на третьем плане.
И когда Мельник выходил с мельницы и пел свою арию, он должен был петь "Ох, то-то, все вы девки молодые!", почти повернувшись спиной к публике, в глубине сцены. И это неудобство сразу сказывалось. Конечно, как он мог донести свой монолог до слушателей?!
Вся сцена была устлана какими-то поролоновыми коврами. По ним ходить было неудобно, потому что ноги утопали и можно было упасть. Кроме того, они поглощали звук. Мы сами себя плохо слышали, а от этого петь нам было трудно и неудобно.
В сцене "сумасшествия" я должен был слезать с дерева прежде, чем произнести: "Здорово, князь!" Дерево тоже стояло далеко, слезать с него было неудобно, как бы шею не сломать. Вот за эту неудачную постановку нас ругали.
И все же для меня роль Мельника явилась еще одним интересным приобретением.
Много раз я обращался в дирекцию Большого театра, в художественное руководство, к главным дирижерам и режиссерам с предложением поставить оперу Верди "Дон Карлос". Я очень люблю эту замечательную оперу и ее изумительную музыку. А какая в ней басовая партия короля Филиппа! Ведь это - один из самых сильных образов у Верди. Да и для всех остальных голосов много интересных ролей. В конце концов мои уговоры подействовали, и оперу решили поставить.
Мелик-Пашаев как-то поделился со мной своими сомнениями:
- Существует ведь три варианта "Дона Карлоса". Какой же возьмет театр?
Я отвечал, что нужно выбрать тот вариант, который идет в "Ла Скала". Но наш театр ухитрился сделать еще четвертый вариант: поменяли местами некоторые эпизоды, а другие совсем сократили.
Дирижировал оперой прекрасный музыкант из Болгарии Асен Яковлевич Найденов, который выступал также и в других странах, хорошо знал французскую и итальянскую музыку. Он работал с большим увлечением, зажигал нас, актеров, своим энтузиазмом. Ставил спектакль Иосиф Михайлович Туманов. Его мастерство проявлялось в умении найти кульминационные эпизоды, которые нужно было выделить, что ярко подчеркивало драматургическую цельность спектакля. Создавая мизансцены, он ставил певцов так, что их голоса всегда неслись в зал. Оформлял оперу прекрасный художник Вадим Федорович Рындин, который тоже помог нам своими советами.
Короля Филиппа, кроме меня, пели Огнивцев и Ведерников. Иногда Ведерников пел также Великого инквизитора, Милашкина и Тугаринова исполняли роль Елизаветы, Архипова, Леонова, Никитина - Эболи, Большаков и Шапенко Родриго. Зураб Анджапаридзе создал замечательный образ Дона Карлоса пылкого, порывистого молодого человека. Он прекрасно исполнял эту роль, и я как сейчас слышу его высокие хлесткие ноты. Как они красиво звучали!
Роль Филиппа очень интересна и разнообразна. Это жестокий человек, в котором под личиной аристократа скрывается самый настоящий инквизитор. Создать такой образ, конечно, трудно, но я старался именно так исполнять эту роль, и это мне удавалось. Кульминацией партии является знаменитая ария Филиппа - "Усну один в порфире королей, только придет мой час последний, смертный". Король предается размышлениям в своем кабинете, и я попросил художника, чтобы он на переднем плане поставил камин. Я приходил, закутываясь в меховую накидку. Не потому, что холодно в комнате - Филиппа донимал внутренний озноб. Я садился в кресло около камина и, как бы согреваясь теплотой, идущей от горящих поленьев, начинал свою арию. Это производило впечатление.
Вокально партия Филиппа трудная. Певец, исполняющий ее, должен обладать диапазоном более двух октав. В ней часто встречаются низкие ноты фа, соль, а наверху много высоких звуков, нередки эпизоды, в которых партия Филиппа должна доминировать над хором и оркестром, звучать сильно и выразительно.
Оформлял спектакль, делал эскизы к костюмам художник Вадим Федорович Рындин. Он приходил в мастерскую и работал с каждым мастером, чтобы добиться нужного эффекта. Декорации в "Доне Карлосе" производили большое впечатление, но наиболее яркой была сцена у храма. Перед зрителями возвышался огромный готический собор, и его шпиль терялся где-то высоко в небе.
Как и другие художники, Рындин пользовался противопоставлением разных красок. Например, в чередовании картин сада королевы и сцены у монастыря Сан-Джюсто. Приглушенные тона кабинета короля, где я пел свою знаменитую арию "Я не был ею любим", подчеркивали сумрачное настроение музыки и действия. Мне также понравилось, что сцена в храме противопоставлена мрачной картине в тюрьме. Вадим Федорович не побоялся использовать, кроме светильников и витражей, фрагменты из полотен Эль Греко - это было очень красиво.
Много поисков было связано с костюмом моего героя. Здесь тоже большую помощь оказал Вадим Федорович. Я изучал шаляпинские снимки и его высказывания об этом образе. Ведь он тоже долго искал наиболее выразительные черты облика короля-инквизитора. В конце концов я сделал парик с короткими, стрижеными, жесткими, как у ежа, волосами, что должно было подчеркнуть жестокость Филиппа. Волосы были с проседью. Ведь сам Филипп говорит, что "она печально посмотрела на мои седины". Лицо обрамляла и седеющая борода. Главное же - мы хотели подчеркнуть внутреннюю усталость Филиппа.
"Дон Карлос" был поставлен во Дворце съездов. Мне спектакль нравился, он пользовался большим успехом и у публики. Однако как-то в Москву из Франции приехал мой друг Жан Руар, президент граммофонной фирмы "Шан дю Монд". Он побывал на этой опере Верди, а потом на следующий день пришел ко мне в гости.
Я, конечно, спросил, какое у него впечатление от нашей постановки. Он неожиданно сказал: "Ты только не обижайся, я тебе честно скажу. Вы все пели хорошо. Но все же то, что вы делали на этой огромной сцене, что связано с микрофонами, все это - антихудожественно. В опере так не должно быть. В ней самое главное - красивое звучание музыки без всяких прикрас, без преувеличений. А вы зависите от микрофона, и это видно. Это не настоящее искусство".
Конечно, мне было немножко обидно, потому что мы в эту оперу вложили много труда и сил. Кстати, наш четвертый вариант сыграл со мной злую шутку, когда я поехал на гастроли в Прагу и там исполнял роль Филиппа. Родриго пел Николай Херля, Дона Карлоса - Ион Писо - оба певца из Румынии. В этом театре тоже своя версия оперы. На репетиции мы начали петь по-разному в ансамблях, никак не могли прийти к общему знаменателю, а на спектакле, во фразе, которая должна идти гораздо позже, я выскочил и пропел на фортиссимо: "Вы веру в Бога потеряли!" Поняв свою ошибку, я сначала перепугался, но после спектакля мы очень смеялись.
И все-таки "Дон Карлос" прекрасная опера, и она должна идти в Большом театре.
Лондон, Мюнхен, Женева, Вена
Насыщен гастрольными поездками и впечатлениями оказался и шестьдесят третий год. В марте я, вместе с нашими артистами - Зарой Долухановой, Яковом Заком и Борисом Гутниковым - поехал в Лондон на праздник газеты "Дейли уоркер". Он проходил в огромном зале "Альберт холл", рассчитанном на пять тысяч мест. И все же в нем нет микрофонов. Замечательная слышимость достигается благодаря акустическому устройству зала. Он круглый, как цирк, из темно-бурого кирпича, внутри совершенно простой, без всяких украшений.
Концерт нашей делегации прошел очень хорошо, принимали нас прекрасно, тем более, что в зале собрались доброжелательно настроенные к России слушатели.
Свободного времени у нас было мало, но мы смогли немножко ознакомиться с Лондоном. Оказалось, что по площади это один из самых больших городов мира, состоящий из двадцати восьми мэрий! Иногда мы садились в двухэтажный автобус, который был всегда выкрашен в яркий красный цвет, поднимались наверх, так как там лучше видно, и ехали через весь город. Такой маршрут длился обычно более часа.
Улицы Лондона очень разные по своей величине. Иногда автобус въезжал на такую узкую улочку, что чуть не касался своими боками домов, и все же мчался с бешеной скоростью. На втором этаже нас так сильно раскачивало, что приходилось крепко держаться за поручни.
В целом Лондон поразил меня яркостью своих красок. Это очень зеленый уголок земли. Много деревьев, прудов с водоплавающей птицей, окруженных розариями. Я-то представлял себе столицу Англии погруженной в знаменитый туман, а оказалось, что это очень радостный город, и все в нем создает приподнятое настроение.
Нам понравилась площадь Пикадилли, оживленная Темза, с небольшими теплоходиками, прогулочными катерами и баржами, которые безостановочно куда-то сновали, ажурный мост Тауэр, переброшенный через Темзу и висящий между двумя башнями. Мне запомнились и арка Веллингтона, и Вестминстерское аббатство, и Адмиралтейская арка, и красивая Трафальгар-сквер с огромной колонной Нельсона, под которой в величавых позах расположились львы. Вместе со всеми туристами мы наблюдали выезд королевы из Букингемского дворца. Сначала появились гвардейцы в ярко-красных кафтанах с золотыми пуговицами. На головах у них были большие шапки из черного каракуля (их цвет красиво сочетался с черным цветом брюк). Публика почтительно приветствовала королеву.
Королева в Англии неприкосновенна. Про нее нельзя сказать ни одного плохого слова. Про правительство, про всех политических деятелей - что угодно. Я видел, как собирается небольшая толпа, устанавливает импровизированную сцену, и все начинают ругать членов парламента за то, что много безработных, за то, что поднимаются цены, за то, что бездомные ночуют около вытяжек из метро, пытаясь хоть немного согреться,- да мало ли за что!
Мы, конечно, посмотрели и английское метро и обнаружили, что наши станции по сравнению с английскими - роскошные дворцы. Станции лондонского метро - просто туннели, но стены их увешаны яркими рекламными щитами. И сама сеть метро огромна.
Недалеко от нашего отеля, где мы жили, находился знаменитый Гайд-парк. Как известно, англичане очень любят его. Они не только гуляют по широким аллеям, но и располагаются на газоне, под сенью какого-нибудь большого дерева. Они приходят с пледами, расстилают их, вынимают из сумок термосы с чаем, кофе, сандвичи, еще какую-нибудь легкую закуску и проводят там несколько часов.
Есть в парке и специальные дорожки для верховой езды, по которым мужчины и женщины в специальных костюмах совершают прогулки. Это тоже очень красивое зрелище. И еще мы заметили, что в Гайд-парке, как и в других парках, прямо на траве лежат в обнимку молодые пары. Когда я удивился и обратил на это внимание переводчика, то тот взволнованно прошептал: "Только вы вида не показывайте, что их заметили, потому что они могут обратиться в полицию: скажут, что вы нарушаете их покой, и придется уплатить штраф".
Перед отъездом из Лондона мы побывали в новом концертном зале "Ройял-фестивал холл". Это светлый просторный зал с прекрасной акустикой. Мы слушали там Фишера-Дискау. Он с большим успехом пел произведения Генделя, Баха, и публика принимала его восторженно.
Затем мы простились с городом. Но вскоре я вернулся, на этот раз с оркестром Осипова, о чем расскажу несколько позже.
Следующие мои гастроли в шестьдесят третьем году состоялись в ФРГ. Как я уже говорил, я поехал на этот раз с оркестром имени Н. П. Осипова, его дирижерами Дубровским и Гнутовым. Этот замечательный коллектив был создан в довоенные годы выдающимся виртуозом-балалаечником Николаем Петровичем Осиповым. С ним с удовольствием выступали ведущие солисты Большого театра: Барсова, Обухова, Максакова, Пирогов, Козловский, Лемешев. Я также, будучи еще совсем молодым артистом, получил от Осипова предложение спеть с оркестром, а затем стал довольно часто гастролировать вместе с ним.
Неожиданно ушедшего из жизни Николая Петровича заменил его младший брат Дмитрий Петрович Осипов, пианист и также очень серьезный музыкант. С этим оркестром я объездил многие города нашей страны. Пел в клубных залах, в музыкальных училищах. И в Советском Союзе, и за рубежом критики отмечали стройность и красоту звучания оркестра, в чем была большая заслуга дирижеров оркестра Виктора Павловича Дубровского и Виталия Дмитриевича Гнутова. Оба дирижера хорошо передавали стиль исполняемых произведений, особенно русских композиторов. Предельно мягко, чутко аккомпанировали певцам.
В поездке в ФРГ с нами было несколько солистов: певицы В. Левко, Л. Зыкина и Т. Сорокина и балетная пара Лиля и Юрий Мироновы. Мы посетили около сорока городов страны: Нюрнберг, Гамбург, Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне и множество совсем маленьких, названия которых я даже не помню. Все они во многом похожи друг на друга.
Первое большое впечатление в ФРГ было связано с тем, что наш антрепренер Лотер Бок открыл в Мюнхене, городе, где зародился фашизм, мемориальную доску В. И. Ленину. Этому событию был посвящен митинг. Правда, фашиствующие элементы пытались сорвать митинг, но рабочие разогнали хулиганов и кое-кому дали по физиономии. Когда открыли доску и положили к ней цветы, Бок произнес речь. Между прочим, он сказал:
- Я очень много получил писем, в которых мне грозят расправой. Но я никого не боюсь.
Все мы были очень взволнованы.
Яркое впечатление возникло от пребывания в Байрейте - городе, где устраиваются фестивали вагнеровских опер, и осмотра знаменитого байрейтского театра. Правда, на спектаклях мы не присутствовали, так как театр был закрыт, но внутрь его зашли. Байрейтский театр - это строгое здание красного кирпичного цвета, без всяких украшений снаружи и изнутри. Сиденья обиты темным бархатом. Мы обратили внимание на то, что оркестровая яма в зале закрыта от публики козырьком и такой же козырек идет со стороны сцены. Я спросил, для чего это сделано. Мне объяснили, что так как вагнеровские оперы очень насыщены по оркестровке и особенно сильно звучит медь, то певцов можно заглушить. А при таком устройстве, если даже певец будет петь пиано, его будет хорошо слышно.
Мы посетили дом, вернее сказать, остатки дома, где жил Вагнер, и его могилу - большой холм, весь усаженный цветами, где мы тоже возложили цветы. За стеной дома Вагнера сохранился флигель, в котором находится Вагнеровский музей. Мы побывали там. Запомнились партитуры "Тристана и Изольды", "Лоэнгрина" и других опер, написанных рукой гениального немецкого музыканта. Там же мы увидели и кое-какие его вещи, письменные принадлежности, перья, метроном. Водил нас по залам внук Вагнера, который и заведовал музеем.
Наш очередной концерт должен был состояться в Нюрнберге, и внук Вагнера любезно обещал доставить нас на своем "мерседесе".
От Байрейта до Нюрнберга 120 километров, но нам сказали, что доедем за 50 минут. Я удивился. Мы сели в машину - я рядом с шофером, а дирижер Виктор Дубровский сзади - и поехали. Стрелка на спидометре быстро подошла к отметке 100. Когда же мы выехали на виадук, она показывала уже 150, и я инстинктивно вместо педалей тормоза стал давить на пол и увидел, что Дубровский уже не сидит, а сполз вниз. Тогда я осторожно спросил шофера по-немецки:
- А машина хорошая?
- Очень хорошая,- успокоил тот меня.
Смотрю, стрелка спидометра опять поползла вверх: 170, 180, 190, 200! Уже больше 200! Скорость самолета! У меня сердце ушло в пятки. Правда, дороги в ФРГ сделаны так, что движение происходит только в одну сторону никаких пересечений. Либо ты едешь в тоннель, либо на виадук. Даже для скота сделаны виадуки!
Короче говоря, мы действительно от дома Вагнера до гостиницы в Нюрнберге доехали ровно за сорок минут.
Мы выступали каждый день, а иногда даже по два раза в день. Переезды на автобусах были очень утомительны, и однажды в Нюрнберге, когда нужно было особенно рано вставать, я сказал, что должен отоспаться, а то вечером не смогу петь. Наш антрепренер Лотер Бок мне предложил: "Вы спите спокойно часов до десяти, а потом, после завтрака, я вас на своем автомобиле довезу".
Однако я проснулся рано, часов в восемь, и вдруг услышал какие-то странные звуки - бил барабан. Оказалось, что это была первомайская демонстрация. Играл оркестр, шли люди. Я выглянул из окошка и увидел, что все направляются к ратуше. Я быстренько оделся и помчался туда.
На площади было уже тысяч десять народа с красными транспарантами. Немецкого языка я не знаю, но я почувствовал, что это демонстрирует свою мощь рабочий класс. В переулках я увидел полицейские и санитарные машины, но ничего плохого не произошло.
После демонстрации Лотер Бок с женой и я сели в машину и отправились за 800 километров в город Киль. Вечером там должен был состояться концерт. Я волновался, как бы мы не опоздали, но Бок меня утешал: "Ничего, ничего, машина у меня прекрасная",- говорил он.
Выехали на шоссе и поехали со скоростью 150-160 километров в час. Вдруг в машине что-то стало постукивать. Бок остановился, открыл капот, но он, наверное, такой же автомобилист, как я,- умеет только водить машину и плохо в ней разбирается. Потом он закрыл капот, поехал, но стало стучать еще сильнее. Бок съехал с основной дороги на запасную и решил, что дальше двигаться невозможно.
- Нужно пойти позвонить, чтобы приехала обслуживающая машина,- сказал он.
- Куда же вы пойдете звонить?
- А вот по стрелочке мы сейчас узнаем.
Вижу, вдоль шоссе стоят маленькие метровые столбики, и на них стрелки, которые показывают, в какой стороне ближе телефон.
Но только Бок собрался пойти позвонить, как вдруг подъехал желтенький "фольксваген", который обслуживает автолюбителей. Нас спросили, что случилось, осмотрели машину и произнесли приговор:
- Мотор капут.
У меня сердце в пятки ушло. Еще полпути не проехали, значит, на концерт не успеем. Было уже часов двенадцать.
Бок успокаивает:
- Не беспокойтесь, все нормально.
Маленькая улиточка взяла нашу машину на буксир, и мы поехали дальше. Оказалось, что по всем дорогам через 40-50 километров есть пункты отдыха и обслуживания, где можно и починить машину, и выпить кофе или чаю, пообедать в ресторане. А если путник торопится, он может взять в автомате за мелкую монету кофе с лимоном или со сливками. Тут же за пфенниги выскакивает и булочка с колбасой или с сыром.
Наконец, мы приехали на этот пункт. Стали в сторонке. Бок говорит:
- Вы идите с Ингрид в кафе, выпейте кофе, а я пока должен оформить кое-какие бумаги.
Пока мы пили кофе, к нашей машине подъехали два "мерседеса": в один сложили все наши вещи из машины Бока, чтобы мы могли ехать дальше, а другой взял наш "мерседес" на буксир и уехал.
Оказывается, отделение фирмы, расположенной во многих городах, не только ремонтирует машины, но и предоставляет их напрокат. Все это заняло полчаса, и в пять часов мы были в Киле. Когда же мы возвратились в Нюрнберг, отремонтированная машина уже ждала нас.
Я думаю, что и у нас сервис должен быть таким же, как и в других странах.
Мы выступали в Германии с большим успехом, и немцы часто старались выразить нам свою благодарность. Они приглашали нас в гости, чтобы поближе познакомиться с советскими музыкантами, дарили памятные подарки. Так, в одном из городов мы были приглашены на завод фирмы "Грюндиг" - его хозяин с женой были на нашем концерте, и он им очень понравился. Мы приехали - весь оркестр, шестьдесят пять человек, администрация, два дирижера, несколько солистов.
Сначала мы осмотрели рабочие помещения и были восхищены культурой их производства. Чистота. Внизу для рабочих кафе, ресторан, автоматы с кофе и сандвичами - немцы любят быстро поесть, чтобы затем полчаса полежать или поиграть в теннис.
Потом нас пригласили к столу, и мы приятно провели время - играли, пели, балагурили, у всех было хорошее настроение. В заключение вечера жена хозяина сказала, что она с супругом хотят сделать нам подарки, и каждому оркестранту был вручен магнитофон. Певцам преподнесли маленькие, очень красивые приемники высокого класса, а меня спросили, чего бы хотелось мне лично.
Я говорю: "Вы знаете, у меня дома есть ваш магнитофон, есть радио, и я бы хотел посмотреть, что у вас есть наверху в демонстрационном зале. Тогда я, может быть, что-нибудь у вас куплю".
А я уже видел, что у них есть превосходная новинка: приемник "грюндик-саттелит", обладающий фантастической чистотой настройки, и, пройдясь по залу, я сказал, что хочу его у них купить. Бок пошел договариваться с хозяевами, и после того, как мы еще потанцевали и попели, вернулись домой. Я вошел к себе в номер и увидел большой ящик с надписью "Грюндиг". Вызываю горничную, спрашиваю, что это такое. "Это подарок от фирмы".
В Мюнхене же нас пригласили на пивоваренный завод. Ведь немецкое пиво славится на весь мир. Когда мы пришли на этот завод, прежде всего бросилась в глаза неимоверная чистота. Ни соринки. Рабочие - в белых сапогах по пояс, в белых куртках и белых капюшонах. Я спросил, почему все в белом. "Это потому,- ответили мне,- что на белом будет видна грязь. А все должно быть стерильно чистым".
Потом мы посмотрели, как работают автоматы, которые разливают пиво, и нам очень понравилось, как они отбрасывают в сторону бутылку, если она оказывается некачественной.
Здесь нам тоже сделали подарки. Все получили большие кружки из керамики, очень красивые. На каждой из них изображалась какая-нибудь бытовая сценка. А мне преподнесли бочонок из пластика с манометром, который указывает крепость пива.
Но самый дорогой для себя подарок я получил в Гамбурге, где выступал. Публика принимала нас, как всегда, прекрасно, и после концерта певицам Зыкиной, Левко и мне фирма "Эуродиск" вручила "золотую пластинку".
Это было, конечно, очень приятно, и я храню эту пластинку как дорогую реликвию.
Были мы гостями и фирмы "Бурда", которая тогда пользовалась известностью только на Западе. Наш оркестр устроил с "Бурдой" на их стадионе футбольную встречу.
Завершив гастроли в Германии, мы отправились в Швейцарию, дали один концерт в уютном очаровательном Цюрихе, а потом побывали в городках Констанце и Бодензее. Их маленькие домики, увитые виноградом, множество цветов и зелени очаровывали взгляд.
Следующим пунктом нашего следования была Вена. Это, конечно, один из самых красивых городов мира, даже Риму и Лондону, по-моему, не сравняться с ней. Нигде больше я не встречал такой стройной планировки, таких удивительных ансамблей.
В Вене мы дали только один концерт для телевидения, приняв участие в большом ревю, на котором выступало много певцов, чтецов, исполнялись сцены из оперетт. Для оркестра имени Осипова в этой программе тоже было отведено время.
Зал телевидения напомнил мне большой спортивный зал с такими же уходящими вверх рядами скамей. Справа и слева в нем - въезд на сценическую площадку. И когда исполнялись сцены из оперетт Штрауса, то роскошно одетые дамы и мужчины во фраках выезжали прямо в фиакрах, запряженных лошадьми. При этом сверкающие платья певиц и страусовые перья, украшавшие их, были сногсшибательны.
Наше выступление прошло хорошо. Я пел с оркестром русские народные песни: "Эй, ухнем!", "Вдоль по Питерской", песню Галицкого, арию Мельника, песню Еремки из оперы "Вражья сила", "Песню пьяных" Хренникова. Этот репертуар пользовался всегда большим успехом. Так произошло и здесь.
Пятый раз во Франции.
Белград, Бухарест, Милан
В том же сезоне я был пятый раз приглашен во Францию. Мне предложили выступить на открытии оперного сезона в Ницце и в нескольких спектаклях в Бордо и в Тулузе. Турне началось в Бордо, где мне уже привелось выступать дважды. Здесь красивый, комфортабельный театр на тысячу пятьсот мест. Привлекательность этого здания - не только внешняя. В зрительном зале очень хорошая акустика благодаря тому, что помещение облицовано деревом. Правда, стены оштукатурены, но зал резонирует как скрипичная дека: голос никогда не надо напрягать,
В "Фаусте" я исполнил Мефистофеля. В заглавной партии выступал Поль Финель из парижской "Гранд-Опера", а Маргариту пела молодая артистка Мишель Лебри. Оба мои партнера были отличными профессионалами, да и все остальные участники спектакля пели хорошо.
Как всегда во Франции, "Фауст" восторженно принимался публикой. Французы, естественно, очень любят своего Гуно, и национальные традиции исполнения его лучшего произведения должны представлять, как мне кажется, значительный интерес и для нас. Ведь когда произведения Мусоргского или Чайковского идут в зарубежных театрах - они недаром стараются максимально приблизиться к русским традициям исполнения. Вот так же, с моей точки зрения, надо и нам, ставя зарубежные оперы, стремиться приблизиться к первоисточнику, к традициям страны, где родилась опера.
Я потому говорю об этом, что мне представляются не всегда оправданными, например, те купюры, с которыми у нас идет "Фауст". Скажем, в Бордо или Париже дуэт (в саду) Фауста и Маргариты звучит полностью, тогда как в Москве из него изъят - и не для пользы дела - большой кусок. Во французских театрах победный хор солдат звучит чуть ли не вдвое дольше, чем у нас, и это усиливает контраст перехода к драматическим сценам с участием Валентина. Я думаю, что не надо нам делать купюр и в терцете Маргариты, Фауста и Мефистофеля в сцене в тюрьме.
Стоит задуматься и над купюрами в "Вальпургиевой ночи". У нас это просто балетный акт, который никак не связан с общим действием. А между тем Гуно написал для этого акта много не только танцевальной, но и вокальной музыки. И именно пение - слово и мелодия - объясняют, почему Фауст попадает вдруг в это волшебное царство теней, где проходят "Клеопатра - царица грез, Лаиса в венке из роз" и другие пленительные видения, вызванные из небытия колдовскими чарами Мефистофеля...
После выступления в "Фаусте" я получил приглашение дирекции театра Бордо выступить в "Хованщине", которую там в это время ставили.
Публика в Бордо очень приветливая, а сам город необычайно красив своими старинными зданиями и широченной Гаронной, куда заходят даже океанские пароходы. Мы провели приятнейший вечер в семье мадам Конье, директора школы, где дети изучают русский язык. Она живет при школе. За этот вечер я успел подружиться и с хозяйкой, и с ее дочерью Кристианой, педагогом школы. В дальнейшем, когда я приезжал в Бордо, что случалось не раз, я всегда их посещал, но и они не раз были в нашей стране и восхищались радушием наших людей. Обе женщины неутомимо собирали пластинки с записью игры Рихтера, Ойстраха, Когана и выступлений наших певцов. Однажды, желая позабавить меня, семья Конье предложила послушать пластинку с записью скрипичного концерта Бетховена в сопровождении индийского дрозда (у меня есть фотография этого дрозда). Эта удивительная музыкальная птица живет у мадам Конье давно. Путешествуя по Индии, она купила маленького полумертвого птенчика, в вате, в теплых тряпочках привезла его во Францию, вскормила - и выросла чудо-птица.
Когда я был у них, он вдруг выскочил из своего укрытия при клетке, где у него спальное место, и заговорил по-французски. Сначала он сказал, что хочет есть, и после того, как ему дали кусочки банана и апельсина, оповестил о том, что хочет петь. Тогда хозяйка завела ему скрипичный концерт Бетховена в исполнении Ойстраха, и он вместе с ним стал насвистывать эту мелодию, точно повторяя мотив.
Я подошел к клетке, просунул в нее палец и был за свою дерзость наказан: дрозд меня клюнул, но, когда к клетке подошел хозяйский пес, дрозд его приветствовал: "Бонжур, Трезор". И так он балагурил часа полтора. Когда же я приехал в следующий раз, мадам Конье мне сказала, что научила дрозда говорить "Браво, Иван Иванович!" И он действительно в какую-то паузу эту фразу произнес.
В Ницце спектакли прошли столь же успешно, как в Бордо. Сезон открывался "Борисом Годуновым" - самой популярной за рубежом русской оперой. Она идет здесь только с гастролерами, приглашаемыми из разных стран.
Театр существует на очень небольшую субсидию, поэтому оформление спектаклей самое скромное, но выразительное. В тереме Бориса - всего две колонны, переходящие в "тяжелый свод", и задник с нарисованными слюдяными оконцами. Но, используя немногое, умело применяя свет, художник создает необходимую сценическую иллюзию - точную по стилю, хоть и предельно экономную.
Поставил "Годунова" талантливый Пьер Медсен - сын мэра Ниццы. Самозванца пел Жан Грей из Лиона, а Шуйского - Жан Жиродо. С обоими артистами я встречался в спектаклях во время прошлых гастролей, и мы радовались новой встрече, как старые друзья.
Большое впечатление произвела на меня певица Берта Монмарт в роли Марины Мнишек. Хотя у нее сопрано, она успешно справляется и с партиями, написанными для меццо. У нас в театрах такие явления чрезвычайно редки, а на Западе исполнительницы партий Амнерис или Кармен поют и чисто сопрановые партии, а драматическому тенору ничего не стоит выступить в партии лирического баритона, и наоборот. Берта Монмарт - отличная Елизавета Валуа в "Доне Карлосе" Верди. Я слушал эту оперу в "Гранд-Опера", и мне очень понравилась вся постановка.
Как и в Ницце, в Тулузе у меня было два спектакля "Годунова". Театр здесь возглавляет большой знаток и энтузиаст оперы Луи Изар. Некогда он пел с Шаляпиным, Александром Кипнисом и другими мировыми знаменитостями. Мне был дорог успех у тулузской публики, но не менее приятным было сердечное отношение такого директора театра. Мы расстались друзьями; я пообещал Изару приехать, чтобы спеть в "Хованщине": отказать этому страстному поклоннику русской музыки было просто немыслимо.
После Франции я в третий раз отправился в Югославию... Приехав в Сараево, я почти сразу должен был идти в театр на вечернюю репетицию - на следующий день был назначен спектакль. Я решил лечь пораньше и хорошо отдохнуть, но выспаться не удалось: на заре меня разбудили какие-то странные звуки. Сначала они слышались издалека, потом стали раздаваться все ближе, все громче. Это были крики муэдзинов, зазывавших правоверных на молитву. Они пронзительными голосами выводили довольно сложные мелодии со множеством фиоритур. Воздав должное искусству муэдзинов, я все-таки посетовал про себя на то, что в маленьком Сараеве так много мечетей - сто двадцать! Такой многолюдный хор спугнет любой сон... К счастью, публика не заметила, что Мефистофель поет, не выспавшись, и "Фауст" прошел удачно.
Затем я выступал в Скопле. Здесь еще были очень ощутимы последствия недавнего землетрясения. Я хорошо помнил этот прелестный городок по прежним приездам в Югославию и теперь не узнал его. На месте первоклассного отеля валялся щебень и стояли бараки. Среди них - наспех выстроенная гостиница, еще сырая и неуютная. Разрушенным оказался и концертный зал. Правда, чудесный оперный театр уцелел, но все здание было покрыто трещинами, и его вскоре пришлось снести, потому что отремонтировать было уже невозможно.
Выставочный зал, где проходил мой концерт, был переполнен. Я очень люблю благодарную югославскую публику и всегда с удовольствием для нее пел. И на этот раз разнообразная программа из классических и современных советских произведений принималась очень хорошо. После каждого номера Семену Климентьевичу Стучевскому и мне долго аплодировали.
Затем я приехал в Белград, который поразил меня огромным строительством. Столица Югославии все больше хорошела, красота и разнообразие ее архитектуры радовали взор.
В оперном театре я встретился со своими старыми знакомыми: басом Чангаловичем, баритонами Поповичем и Григорьевичем, тенором Маринковичем. При встрече они сжали меня в объятиях, как если бы мы были самыми близкими людьми. Эти певцы были хорошо известны советским слушателям по гастролям в нашей стране. Знали у нас и главного дирижера белградской оперы Оскара Данона. Он дирижировал всем репертуаром очень мягко, выразительно, с глубоким пониманием, и петь с ним было легко. Тонкий и знающий музыкант, на редкость работоспособный человек, Данон завоевал для своего театра мировую славу именно благодаря русскому репертуару.
С огромным успехом выступал этот театр во множестве стран, показывая оперы Мусоргского, "Князя Игоря" Бородина, "Сказание о невидимом граде Китеже" Римского-Корсакова. Белградцы включили в репертуар своих зарубежных гастролей "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, "Катерину Измайлову" Шостаковича. И везде их восторженно принимали.
"Фауста" в Белграде ставил режиссер из ФРГ Шрам. Меня осторожно предупредили: "Постановка необычная, может быть, вам что-то и покажется странным или нескладным,- вы уж нас извините..."
Не скрою, странного в этом "Фаусте" было предостаточно! Я просто не понимаю, как можно было так бесцеремонно поступить и с оперой Гуно, да и литературным первоисточником - великим гётевским "Фаустом". Все в спектакле, словно нарочно, нарушало романтический колорит оперы, и я переименовал фамилию Шрам на Срам. Представьте себе: "красуются" на сцене три алых помоста разной высоты, соединенных очень неудобными лестницами. Артистам все время приходится думать не о пении и игре, а о том, как бы не споткнуться на крутых ступенях и не полететь вниз. И никак эти помосты не "включены" в действие, не помогают игре актеров. Просто помосты и все... Разве вот два "помощника" Мефистофеля - балеринки, наряженные чертенятами, подадут старому Фаусту свиток и перо, передадут "документ" своему "хозяину", а потом застынут в "дьявольской" позе на вышеупомянутых лестницах...
В Загребе - одном из красивейших городов Югославии - я спел сольный концерт и Бориса Годунова в местной опере. В небольшой партии Рангони выступал замечательный баритон Руджак, который недавно вернулся из США, где в течение года пел в "Метрополитен-Опера". Загребская труппа хороша и по подбору голосов, и по разнообразию репертуара, в котором также много русских произведений. "Катерину Измайлову" Шостаковича загребский театр вывозил в Италию и имел огромный успех.
В Любляне я побывал впервые. Очаровательнейший этот город расположен в ста километрах от Италии. Чистенькие, небольшие домики под яркими черепичными крышами на фоне зеленых склонов гор. Улицы и площади залиты солнцем. Жизнерадостные люди. Красивое здание филармонии, увенчанное статуей... трубочиста. Мне рассказали, что нарядный с отличной акустикой концертный зал был выстроен трубочистом: всю свою жизнь копил он деньги, чтобы оставить городу дом, где сможет царствовать музыка...
Всегда с удовольствием выступал я в Клуже - одном из самых музыкальных городов Румынии. Здесь всего на сто шестьдесят тысяч жителей два оперных театра, и они постоянно переполнены. Репертуар театра широк, и, кажется, легче сказать, что в нем не идет, чем перечислить хотя бы основные названия. Во всяком случае, на афишах представлены все лучшие оперы мира от Моцарта до Вагнера, от Глинки и Даргомыжского до Чайковского и Прокофьева. Легко понять поэтому, как приятен мне был успех в этом городе, где на сей раз я пел в "Годунове" и "Фаусте",
Оперу Гуно я исполнил в уютном Тимишоаре, с его интереснейшей картинной галереей национальных художников, а затем приехал в Бухарест.
Столица Румынии, как и Белград в Югославии, строилась быстро и красиво. Не было двух домов, повторяющих друг друга по архитектуре и окраске, так что спутать их было невозможно и они являлись истинным украшением столицы.
Мне понравились не только жилые дома, но и новые административные здания. Например, выстроенный в центре Зал конгресса, примыкающий к бывшему Королевскому дворцу. Архитектура последнего, естественно, весьма отлична от Зала - этого во всех отношениях современного здания. Но строители нашли способ соединить их в один ансамбль, органично "вписать" новое здание в старое окружение.
"Борисом Годуновым" в Бухаресте дирижировал Эджиньо Массини. Этого превосходного музыканта хорошо знали советские слушатели. Когда-то бухарестский театр гастролировал у нас, и Массини изумительно провел "Трубадура" Верди и многие другие спектакли. Петь, когда оркестром и сценой управляет "волшебная палочка" Массини,- огромное удовольствие. Он прекрасно понимает природу вокального искусства, его внимание к певцу исключительно.
Затем я вернулся домой, увозя с собой ту сердечную теплоту, с которой относились ко мне - советскому артисту - публика и зарубежные коллеги по искусству.
Однако вскоре мне опять пришлось отправиться в путь.
В четверг, 22 октября мы были в Шереметьеве. В девять утра в огромные кабины "Ту-114" вошли взволнованные артисты Большого театра: солисты оперы, балет, хор, оркестр. Предотъездная сутолока, объятия, прощания, напутствия.
Впервые нашему оперному театру выпала честь прорубить "окно в Европу". И сделать это предстояло в Милане, в одном из мировых центров оперной культуры. "Ла Скала" ждал нас.
Четыре часа беспосадочного полета
Внизу Киев, Львов, Ужгород... Самолеты пересекли советскую границу. Будапешт... Не прошло и четырех часов, как мы были над Ломбардской равниной Северной Италии. К полудню лайнеры плавно опустились на миланском аэродроме Мальпенса. Вот и "полуденная земля" Италии. День оказался пасмурным, хоть и теплым.
В аэропорту, современном здании из стекла,- простор, свет. Нас встречают наши габтовцы - приехавшие заблаговременно работники постановочной части. Здесь и директор "Ла Скала" синьор Антонио Гирингелли, и несколько певцов миланского театра - большинство из них находилось в зарубежных турне. Мы встречаемся как близкие знакомые. Каждому вручают изящную карточку: "Театр "Ла Скала" поздравляет коллектив Большого театра СССР с приездом в Милан и желает счастливой работы и полного успеха". Потом нам раздают значки "Ла Скала". Такой значок заменяет пропуск в здание театра.
Автобусы доставляют нас в отели. "Континенталь", где мне отведен номер,- это лучшая гостиница Милана.
Вечером - прогулка по городу. Первое впечатление - множество автомобилей. Они очень разные и, с нашей точки зрения, их водители совершенно недисциплинированны: ездят куда хотят и как хотят, останавливаются, где найдут нужным.
Милан в районе "Континенталя" производит впечатление солидности, устроенности, богатства. Рестораны, кафе, кино, магазины, реклама - в огромном количестве.
23 октября было дано нам "на освоение". Все высыпали на улицы, однако шел мелкий дождь. Над городом висел совсем лондонский "смог" - туман, насыщенный частицами угля и копотью. Кто-то даже начал покашливать. Это было совсем некстати: могли начаться катары... Да, недаром миланские певцы никогда в это время не поют у себя дома. Здесь сезон открывается обычно 10 декабря, когда погода установится и ничто уже не грозит драгоценным природным данным певца.
При свете дня центр был так же красив, как вечером, даже красивее. Представилась возможность рассмотреть знаменитый Миланский собор и его площадь. Собор действительно великолепен. Целый лес пинаклей - маленьких башенок, устремленных в небо. Мраморные кружева бесчисленных украшений. Мадоннина (по-нашему, ласкательно, мадонночка), стоящая с крестом на шпиле, почти на стодесятиметровой высоте... Считается, что Миланский собор образец стиля пламенеющей готики. Но каково было выдержать единство стиля всем причастным к созданию этого в своем роде уникального сооружения! В самом деле, собор, начатый строителями в 1386 году под руководством французских и немецких мастеров, достраивался итальянскими архитекторами XV-XVI столетий. Фасад его относится к началу, а колокольня - к середине XIX века, порталы создавались в сороковых годах нынешнего столетия.
В тот же день я полюбовался и замком Сфорца. Как и собор, он господствует над Миланом и виден почти отовсюду. И так же, как собор, он стал символом города, его эмблемой. Не прозрачный "модерн-небоскреб" на площади Республики, не небоскреб Пирелли, а архитектурные создания прошлых поколений определяют характер, лицо этого делового, сугубо современного города.
Суббота, 24 октября,- первый рабочий день. Утром - репетиция "Годунова" (под рояль), вечером - "Князя Игоря".
Пришли в "Скалу" задолго до назначенного времени. Само здание театра ничем не примечательно. Можно пройти мимо, и даже сердце не екнет: дескать, вот где тебе предстоит то ли оказаться "на щите", то ли "со щитом"...
Интерьер театра нарядный и традиционный. Шесть ярусов. "Зеркало" сцены на два метра короче, чем в Большом, и сама сцена меньше. Да, ГАБТ торжественнее, импозантнее, недаром все иностранцы так восхищаются. Но и зал миланцев хорош.
Хороша и акустика. Однако, к ужасу и сожалению нашему, она коварна. Стоит певец у рампы, поет - все прекрасно. Повернулся, сделал шаг вправо или влево - пропал голос! Еще немного подвинулся - снова все звучит превосходно... К этим "фокусам" акустики надо приспособиться, изучить их так, как их изучили миланцы - они-то отлично знают, где надо встать, чтобы прозвучало наилучшим образом.
В воскресенье, 25 октября, утром прошла репетиция "Игоря" (под рояль). Вечером - оркестровая "Бориса Годунова". Она началась в восемь вечера (по местному времени), а закончилась в половине второго ночи. Оказалось, что артистов оркестра совсем не видно: "яма" на полтора метра глубже, чем в Большом. Это было непривычно. Попробовали поднять оркестр заглушает пение.
В понедельник, 26 октября, отдыхали. Я побывал в парках, но нельзя было уставать, перегружаться впечатлениями. Нужно было соблюдать тот режим, у которого всю жизнь певец (да и любой артист) находится в рабском подчинении.
В тот же день получил письмо из Брешии. Фирма граммофонных пластинок сделала мне трогательный и многозначительный подарок - прислала пластинку, где на восьми языках записан призыв к миру, к содружеству народов, к их взаимоуважению, к сохранению детей - будущего Земли...
Глава фирмы Тино Давини написал мне, что, посылая пластинку, фирма не преследовала никаких рекламных или коммерческих целей. Ею руководило только одно желание - сделать так, чтобы глаза детей оставались доверчивыми и они росли счастливыми. А для этого необходим мир.
Сердечный подарок и письмо отвлекли мои мысли от того, что весь день не давало покоя, от дум о волнующем "завтра". Как-то примут нас искушенные итальянские слушатели, избалованные выдающимися певцами своей "страны бельканто"?
Во вторник, 27 октября, за несколько минут до начала спектакля "Борис Годунов" директор "Ла Скала" Антонио Гирингелли пригласил наше руководство к главному пульту, дающему свет всему театру, и торжественно перерезал белую ленту. "Пусть это сияние озарит успех ваших гастролей",- сказал он. Все были растроганы и взволнованы.
Потом прозвучали государственные гимны. Привычная мелодия Гимна Советского Союза в этой обстановке воспринималась как бы заново. В ней нам слышался голос Родины, и мы чувствовали, что должны сделать все, чтобы не обмануть ее ожиданий...
Открылся занавес... По всем ярусам развешаны огромные венки розовых гвоздик. Так по традиции отмечаются самые торжественные спектакли.
Зрительный зал был переполнен избранной публикой, представителями итальянской театральной и музыкальной общественности. Многие знатоки оперного искусства приехали из Рима, а также Франции, Англии и других стран Европы.
Уже после первых картин мы почувствовали, с каким большим вниманием слушает нас миланская публика. С каждым действием все больше нарастали интерес и волнение зрителей. Когда во втором часу ночи закончился спектакль, восторгу зрителей не было предела. Не могу не вспомнить и о том, как партер и галерка, стоя, долго скандировали: "Бо-рис! Пет-ров! Бо-рис! Бо-рис!"
У наших ног была масса цветов - розовые гвоздики, цветы в корзинах, в букетах.
У всех участников спектакля, у всех, кто стоял за кулисами, сияли глаза. Радость царила повсюду.
Сколько раз открывался занавес? Мы сбились со счета. Сколько минут длилась овация? Кажется, десять, быть может, и больше - никто не смотрел на часы.
Успех превзошел все наши ожидания.
За кулисы пришли деятели итальянского театрального и музыкальною искусства, поздравляли нас с триумфом. Среди них была и известная певица Тоти Даль Монте, которая в свое время блистала на сцене "Ла Скала". Было очень приятно услышать от нее слова одобрения.
"Такого успеха в Милане,- сказала Тоти Даль Монте,- я давно уже не помню. Вас необычайно хорошо и тепло принимала миланская публика. Меня тоже покорило искусство всего ансамбля Большого театра. Восхищает и великолепная постановка спектакля, и мастерство оркестра, хора, балета".
Но о времени пришлось все-таки вспомнить. Журналисты устраивали нам прием, и надо было торопиться. Ведь переодеться и разгримироваться после "Годунова" - дело не быстрое и не такое уж легкое.
На приеме журналистов министр туризма и зрелищ Италии Л. Корона, мэр Милана профессор П. Букалосси и другие официальные лица, критики, итальянские артисты поздравляли нас с успехом. Чувствовалось, что это были не традиционные комплименты гостям, а нечто большее... К счастью, прием проходил в отличном темпе. Ведь спектакль окончился очень поздно.
На следующий день газета "Унита" вышла с волнующим для меня заголовком: "Апофеоз Мусоргского и Петрова". Вообще на наш спектакль откликнулось множество газет самых разных направлений: "Аванти", "Коррьера делла сера", "Джорно", "Паэзе сера". В них единодушно отмечался наш успех.
"Борис Годунов" в постановке Большого театра,- писала "Унита",спектакль поразительной жизненности и притягательной силы, спектакль, рожденный и предназначенный для народа". Сообщалось, что, несмотря на дождь, у входа в театр толпилось много любопытных: иные, не достав билетов, довольствовались тем, что разглядывали роскошные машины, туалеты и прически дам, узнавали знаменитостей. Газеты отметили, что наш спектакль посетили известные певцы Тоти Даль Монте, Марчелла Поббе, Джанна Маритани, тенор Джанни Раймонди, а также прима-балерина "Ла Скала" - двадцатичетырехлетняя Карла Фраччи, которая прославилась еще восемь лет назад, исполнив партию Золушки в балете Прокофьева.
Газеты подчеркивали, что "Борис Годунов" - самый ответственный спектакль наших гастролей. Здесь отлично понимали, как нам трудно победить требовательную публику и прессу. Ведь миланцы знали оперу Мусоргского, что называется, "назубок". Они слышали в ней Шаляпина. К этому можно, пожалуй, прибавить, что в начале двадцатых годов "Годуновым" дирижировал здесь сам Тосканини!
Приятно было, что рецензенты не только восторгались отдельными исполнителями (и меня не обошла критика своим благосклонным вниманием), но отмечали и успех нашего театра в целом. Хвалили монументальный стиль постановки, говорили, что даже самые большие знатоки творчества Мусоргского нашли в этом спектакле для себя много нового.
"Когда поднялся занавес после пролога и возникла грандиозная сцена коронации, происходящей в Кремле,- зрители почувствовали себя перенесенными в сердце Древней Руси, в атмосферу царского самовластья",- отмечала "Унита".
"Безымянный этот исполнитель,- писал о хоре критик Франко Аббиати,поет с исключительным мастерством. Все было исполнено необычайно слаженно, проникновенно, с глубокой искренностью и точностью".
"Вся постановка просто изумляет, доставляет истинную радость глазу",так заканчивалась рецензия газеты "Италия".
28 октября прошел блестяще спектакль "Пиковой дамы". Это было вдвойне радостно. Во-первых, потому, что наш театр одержал еще одну победу, а во-вторых, потому, что здесь несколько постановок "Пиковой" уже терпели фиаско. А мы сумели сломить предубеждение против Чайковского и его гениальной оперы. Большую роль сыграло, конечно, искусство исполнителей Анджапаридзе, Вишневской, Архиповой, Лисициана, Фирсовой.. .
В четверг, 29 октября, состоялась чудесная прогулка по озеру Комо, которую организовали Корона, Букалосси и Гирингелли. Я ехал в машине синьоры Тосканини, дочери прославленного маэстро, и получил от нее приглашение посетить квартиру гениального дирижера... Тут я немного схитрил, ответил, что с удовольствием приеду, и даже не один, иначе товарищи станут мне завидовать, а зависть чувство низменное, и я не хотел бы стать причиной его возникновения... Синьора Тосканини весело засмеялась и сказала, что, разумеется, я могу прийти с кем угодно и когда угодно.
Комо неописуемо красиво. Вода в этом озере, где глубина достигает четырехсот метров, напоминает синий жидкий хрусталь, сквозь который видна вся фантастика подводного царства. Мое сердце рыболова разрывалось на части: в воде показывались рыбы, от которых нельзя было глаз отвести! Совсем как в нашем "Садко"...
...Объехав, а лучше сказать, облетев на стремительном катере озеро и осмотрев его берега, вдоволь надышавшись чистым воздухом, мы вернулись в Милан. У нас было еще достаточно времени, чтобы осуществить давнюю мечту увидеть "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи.
Существует столько описаний, репродукций, исследований этого бессмертного творения, что, кажется, вряд ли стоит пытаться произнести еще какие-то слова о скромной и потому, наверное, особенно величественной фреске в трапезной доминиканского собора. От нее трудно уйти. И... трудно уже увидеть картину такой, какой знаешь ее по репродукциям и описаниям. Несмотря на все усилия реставраторов, она, как утверждают специалисты, обречена на гибель. Со времени наполеоновских войн, когда солдаты устроили в этой трапезной конюшню, краски стали осыпаться. Сколько они проживут еще, никто не знает.
В воскресенье, 1 ноября, я во второй раз пел Годунова. Был гораздо спокойней, и мне казалось, что голос звучал и игра была лучше, чем на премьере.
Спектакль транслировался по телевидению. Мы понимали, что на этот раз стены зрительного зала намного расширились, и потому в тот вечер особенно старались доставить удовольствие нашим слушателям. Кроме того, мы знали, как трудно было достать билеты на наши спектакли. Точно так же, как в Москве вокруг гастролей миланцев, здесь в связи с выступлениями Большого возник страшный ажиотаж с билетами. Наши афиши висели повсюду с табличками: "Все продано", хотя средняя стоимость билета составляла двенадцать тысяч лир. Много это или мало, судите сами: квалифицированный миланский рабочий зарабатывает в месяц до семидесяти тысяч лир.
На следующий день почти все наши поехали на экскурсию в Венецию. Мне же пришлось отказаться от этого удовольствия - предстояла премьера "Князя Игоря", и я не мог рисковать: какой-нибудь порыв ветра, или повышенная влажность, или еще какая-нибудь из тысячи и одной угроз, постоянно подстерегающих наш голосовой аппарат, могли лишить меня возможности петь.
И вот я один в "Континентале". Спустился в холл. Это огромный зал с помостом, на котором иногда демонстрируются последние моды сезона. Порой в соседнем зале собираются члены клуба богатых женщин для игры в бридж. Но в этот час никаких специальных "континентальных" мероприятий не проводилось. Был включен телевизор, и я скоротал около него несколько часов.
В последующие дни я посетил могилу Джузеппе Верди. Отлично зная, как тернист в Италии путь артиста, Верди завещал после смерти построить в Милане на его средства дом для престарелых итальянских актеров. Я побывал в этом доме, где для каждого артиста полагалась маленькая квартира, обставленная прекрасной мебелью, ничем не отличавшейся от домашней и создававшей такой же уют. В подвальном же этаже здания сооружен склеп, где похоронены Верди и его жена Джозепина. Подле дома находится памятник композитору.
...Теперь я должен вернуться несколько назад, к концу шестьдесят третьего года, когда Баратов неожиданно предложил мне попробовать выучить партию Кончака.
- Но ведь эта партия рассчитана на низкий голос,- возразил я,- а у меня высокий и даже не центральный бас.
- Ничего, все прозвучит,- заверил Баратов.- Попробуем. Ведь пел же Шаляпин.
Мне рассказали, что когда в роли Кончака выступал знаменитый певец Василий Родионович Петров, то во фразе "Ты как хан здесь живешь" он брал фа не нижнее, как это принято у наших исполнителей, а первой октавы. Я посмотрел в партитуру и увидел, что фа стоит в ней на обеих строчках. И я тоже стал петь фа первой октавы. Это звучало очень выразительно.
И еще я пришел к следующему выводу. У меня не такой широкий звук, как у Михайлова, одного из лучших исполнителей партии Кончака, привносившего в нее свои яркие краски, поэтому я должен найти собственную интерпретацию этого образа. Я старался петь арию как можно более мягко, подчеркивая в ней множество вкрадчивых интонаций и в то же время рисуя сложный, противоречивый характер человека одновременно мужественного и жестокого, хитрого, коварного и услужливого.
Когда роль была готова, Светланов попросил меня спеть в Милане обе партии.
- Сначала споете Галицкого, а потом переоденетесь, перегримируетесь и Кончака.
Сказано - сделано. Я попросил разрешить мне попробовать провести этот эксперимент в Москве, и в январе шестьдесят четвертого года исполнил в спектакле "Князь Игорь" обе роли. Это, конечно, было очень трудно. И потому, что у Галицкого высокая партия, а у Кончака - центральная и низкая. И потому, что требуется большая внутренняя перестройка от характера насквозь русского к образу восточного властелина. Но у меня получилось.
Теперь, 2 ноября в "Ла Скала" я снова выступил в "Игоре" в обеих партиях.
Мы исполняли эту оперу еще несколько раз. Спектакли следовали чуть ли не через день, но нас поддерживал нарастающий успех гастролей. Об "Игоре" писали более чем тепло. В "Италии", например, рецензент отмечал Т. Тугаринову, которая "в роли Ярославны была энергична и увлекательна", хвалили и меня. Отлична, по словам рецензента, была Кончаковна - Л.Авдеева. "Энергично и уверенно дирижировал превосходным оркестром Е. Светланов, который уже показал себя как мастер в "Борисе Годунове". Хору и балету публика аплодировала двадцать минут".
Очень успешно прошли "не мои" спектакли: "Война и мир" и "Садко". Слава о "Войне и мире" облетела не только всю Италию. Лондонская "Таймс" хвалила буквально всех исполнителей, сцену бала, весь первый акт, "блестящую постановку" Б. Покровского, вдохновенные декорации В. Рындина и подчеркивала: "Абсолютно ясно, что наиболее кропотливого труда потребовала музыкальная подготовка спектакля под руководством Г. Рождественского".
Премьера "Садко" состоялась в знаменательный, торжественный для всех нас день - 7 ноября. Прошла она достойно великого праздника. В. Петров Садко и В. Фирсова - Волхова пели выше всяких похвал. "Гадзетта дель пополо" озаглавила статью "Большой закрывает серию своих спектаклей красотой магической былины "Садко"". В рецензии отмечалось, что наш театр "был в лучшей форме, начиная от оркестра, которым дирижирует Светланов, и кончая хором, доказавшим, что он совсем не устал от ежедневной работы в таких больших спектаклях. В равной мере это можно сказать о солистах - В. Петрове, В. Фирсовой, Л. Авдеевой, В. Левко, А. Гелеве..."
Несмотря на то, что премьера окончилась очень поздно, все мы, собравшись небольшими компаниями, отметили годовщину Октября. На чужой земле даже интимно организованное торжество чудесно и волнующе. И очень захотелось домой...
11 ноября мы наконец смогли воспользоваться любезным приглашением синьоры Тосканини - прийти в дом, где жил великий дирижер.
В мрачные годы фашизма Артуро Тосканини пришлось покинуть родину. Вот как это произошло. Однажды дирижеру позвонили из личной канцелярии Муссолини и предупредили, что на спектакль в "Ла Скала" прибудет "сам дуче", и, следовательно, перед началом спектакля должен быть исполнен гимн. Маэстро ответил: "Гимна не будет". Ему стали угрожать. Он повторил свой ответ и положил трубку... Вечером "сам" явился в "Скалу". Гимна не было. По окончании спектакля, едва Тосканини вышел из театра, его избили фашистские молодчики. На следующий же день он уехал в США.
...После кончины Тосканини две его дочери перевезли все личные вещи артиста в Италию и превратили бывшую квартиру на виа Дурини, 26, в музей. Здесь масса нот и среди них - партитуры всех сочинений, когда-либо прозвучавших в оркестре под управлением Тосканини. Фотографии композиторов с нежнейшими и благодарственными надписями, начиная с портретов Верди, Дебюсси, Рахманинова; отлично выполненный бюст Таманьо в роли Отелло.
Мы провели в этом доме полтора часа - время небольшое, но впечатления, полученные здесь, сохранились надолго.
В четверг, 12 ноября, мы посетили Геную. После мрачноватого туманного Милана она кажется особенно светлой, блистающей истинно итальянскими красками неба и моря. Даже беглый объезд города, даже взгляд издали на его древние здания, особенно прекрасные в прозрачном, сияющем воздухе, доставлял нам несказанное удовольствие. Затем мы выехали на дорогу, идущую по побережью, чтобы повидать маленькие селения Рапалло, Сан-Маргарито и Портофино, совершенно справедливо причисленные к красивейшим местам на земле. Бесчисленные заливы - синие, голубые, зеленоватые... Всюду виллы, отели, пансионаты. Маленькие ресторанчики, большие и маленькие кафе. Казалось, что сама природа создала здесь все условия для отдыха и радости. Но труд человека, его вкус, фантазия, талант умножили ее привлекательность.
Уже затемно мы возвратились в Геную. Она была так же хороша, как днем. А памятник Неизвестному солдату напоминал мраморную базилику.
В пятницу, 13 ноября, я отправился в Чартоза ди Павиа - знаменитый монастырь. От его художественных сокровищ трудно оторвать взгляд. Например, меня поразил триптих, выточенный из слоновой кости Бальтассаром дельи Эмбриаком и датированный 1400 годом. Эта работа - чудо трудолюбия и вдохновения. Очень понравилась и алтарная доска Валерио Закки. Пестрые цветы, травы и листья выполнены в такой радостной гамме и с такой сочностью, что жизнелюбие человека, создавшего это произведение искусства, не могло не захватить нас...
Сходное чувство я испытал, глядя на "Мадонну с младенцем", принадлежащую кисти Луини. На фоне прелестного пейзажа (камни, море, замок, зелень) изображены молодая женщина и ребенок, играющий алым цветком. Имя Бернардино Луини я узнал только здесь, в Италии, и для меня знакомство с его живописью оказалось радостным и интересным открытием. Оно, к счастью, продолжилось при посещении картинной галереи Брера.
16 ноября утром мне неожиданно позвонила синьора Тосканини: "Приезжайте сегодня вечером в театр. Я хочу вас познакомить с одной интересной дамой и думаю, что это знакомство будет также интересно и для вас".
Заинтриговала меня ужасно.
Вечером в ложе директора театра Валли Тосканини представила меня очень симпатичной статной женщине - Марине Федоровне Шаляпиной, дочери знаменитого певца, напоминавшей обликом своего отца. Марина Федоровна была со своей дочерью Анжелой, милой скромной девушкой лет восемнадцати.
- Вот что я вам принесла,- сказала Марина Федоровна.- Надеюсь, что мой подарок будет вам не только приятен, но и дорог.
Открываю протянутую ею голубую коробочку. Старинный перстень. Вещь, сделанная для сцены искуснейшим бутафором по подлинным русским образцам...
- Неужели?!.
- Да-да, вы угадали! С этим перстнем отец пел Годунова. Теперь я хочу подарить его вам...
Не уверен, что я сумел выразить свою радость, свою гордость, свой восторг так, как следовало... У меня не было "опыта" получения таких сокровищ, и, кажется, я просто растерялся. Марина Федоровна и ее дочь великодушно дали мне время прийти в себя.
Перстень Федора Ивановича Шаляпина я хранил как дорогую реликвию и ни разу не надевал его. Мне казалось, что это было бы кощунственно с моей стороны.
Во вторник, 17 ноября я попал в Костелло Сфорцеско. Для итальянцев этот замок - символ свободолюбия граждан, мужества, многократно проявленного ими при защите родного города. С улицы Данте он выглядит особенно величественным. Еще издали, глядя на крепостные стены и сторожевые башни, понимаешь, почему миланцы так гордятся им. Здесь много великолепных картин Корреджо, Богоньоне, Лотто. Но, конечно, "Пьета" Микеланджело главный магнит, притягивающий к этому музею.
Это - последняя работа бессмертного художника, его лебединая песня, оборвавшаяся на полуслове. До самых последних дней, пока рука держала резец, трудился Микеланджело. Он не закончил скульптуру, но и так она прекрасна: Богоматерь в своем вечном оплакивании погибшего сына потрясает. Горе, выраженное в "Пьете", впечатляет глубоко и сильно.
В четверг, 19 ноября состоялся последний гастрольный спектакль "Князь Игорь".
Утром я пошел в музей театра "Ла Скала". К нашим гастролям в первом зале музея была сделана экспозиция: Шаляпин - во всех ролях. Кроме того, в музее собрано много прекрасных портретов композиторов - блестящей плеяды авторов, писавших для "Скалы", большая экспозиция посвящена Верди. Есть превосходные эскизы декораций. Рассматривал все это со смешанным чувством признательности и грусти: то, что экспонировано,- великолепно. Но почему-то многого нет. Нет великого множества певцов - тех самых, без кого не было бы триумфов опер Верди, веристов, их предшественников и последователей. Неужто Баттистини, Титта Руффо, Галли-Курчи, Джильи, Тетраццини и многие-многие другие не заслужили своего места в этом музее?
Вечером "Игорь" прошел великолепно. Но дело даже не в этом, а в том, как прощалась с нами публика. На сцене выстроились все участники оперы, все солисты, артисты хора, балета, оркестра, все дирижеры, режиссеры, внушительное зрелище. Публика неистовствовала: аплодировала, кричала. Такого в театре в эти дни еще не было.
Каждому из нас в Милане была вручена серебряная медаль. Такой медалью, называемой "амброзиада", по имени основателя города Милана Амброзия, в Италии награждают очень редко, за большие заслуги.
Много статей написали о нас итальянские критики и публицисты. Я хочу привести несколько выдержек из наиболее характерной, по-моему, статьи Джакомо Манцони, который высказал ряд интересных мыслей, касающихся современного состояния нашего оперного искусства, школы Большого театра и тех уроков мастерства, которые извлекли итальянцы из гастролей московских артистов.
"Коллектив театра,- писал критик в газете "Унита" 28 октября 1964 года,- предстает перед зрителем как единое целое, причем нельзя не заметить его серьезность, полноту отдачи в служении музыкальному искусству, отсутствие какой бы то ни было погони за показной виртуозностью. Блестящее подтверждение этому - тот факт, что, несмотря на почти полное изменение состава певцов от спектакля к спектаклю, каждое новое выступление Большого театра превращается в новый успех. Действительно, участники спектаклей настолько дополняют друг друга, что театр не нуждается в дежурных "звездах", которые приковывали бы к себе по очереди все внимание публики. Это великолепный урок хорошего тона, который коллектив Большого театра преподает всему театральному искусству Италии.
Миланцы увидели "Бориса Годунова" в постановке, осуществленной около пятнадцати лет назад. Один только этот факт говорит о многом. Для итальянского оперного театра такое отношение к постановке спектакля почти немыслимо. Здесь в моде своеобразная погоня за переменами, они производятся буквально ежегодно, и лишь в крайне редких случаях можно увидеть повторение тех же мизансцен, работу того же режиссера на протяжении двух-трех лет подряд.
...Остановимся еще на одном вопросе, который привлек особое внимание итальянских музыкальных деятелей. Я имею в виду включение в репертуар театра современного произведения - оперы Прокофьева "Война и мир". Мы видим, как крупнейший театральный коллектив страны социализма в длительной и, несомненно, нелегкой творческой работе отводит постоянное место в своем репертуаре опере, созданной в наши годы... Гастроли прошли с большим успехом, встретили огромный интерес миланской, да и не только миланской публики. Для нас это урок мастерства, верности музыкальному искусству. И урок этот, мы уверены, не пройдет для Италии бесследно".
И закончить эту главу я хочу словами директора миланского театра "Ла Скала" Антонио Гирингелли, который в беседе с нами отметил, что успех наш был грандиозным.
"Я могу утверждать,- сказал А. Гирингелли,- что выступления московских артистов стали праздником искусства. Творческие связи между труппами "Ла Скала" и Большого театра надо закреплять и развивать. Они имеют огромное значение, двигают вперед развитие культуры, сближают людей, народы, страны".
Америка
В октябре 1965 года я совершил очень интересную гастрольную поездку по Соединенным Штатам Америки. Я выехал туда со своей женой, Людмилой Петровной, и с моим постоянным концертмейстером Семеном Климентьевичем Стучевским, так как в основном должен был давать сольные концерты.
Вначале, когда мы вылетели из Москвы, самолет взял курс на Париж. Здесь мы пересели на самолет компании "Эр Франс", и он направился в Америку. Чтобы не лететь через океан, мы для большей безопасности должны были двигаться вдоль берегов Англии, Исландии, Гренландии и Канады.
Однако не обошлось без приключений. Пролетели мы около часа, получили чашечку кофе с конфеткой - наш первый завтрак - как вдруг стюардесса объявляет, что в связи с непредвиденными обстоятельствами самолет возвращается в Париж. Мы еще час пролетели до Парижа, нас пригласили в аэропорт, угостили ленчем, а в это время стали ремонтировать наш самолет. Оказывается, один из четырех двигателей отказал. Так что мы просидели на аэродроме два с половиной или три часа, и опять объявили посадку. На этот раз полет прошел гладко, и мы приземлились в аэропорту имени Дж. Кеннеди, построенном по последнему слову техники. Здесь самолет подъезжает к большому помещению, из которого к нему подается коридор, и когда пассажиры выходят из самолета, то сразу попадают в здание аэропорта. Так что не страшны ни дождь, ни снег, ни ветер, ни холод.
В аэропорту нас встретил антрепренер Герберт Барет. Он помог нам расположиться в нью-йоркской гостинице и пригласил в ресторан. Здесь Барет объяснил мне маршрут выступлений по Америке: шесть сольных концертов и один вечер в Нью-Орлеане, на юге Соединенных Штатов, где я должен был принять участие в концертном исполнении оперы "Борис Годунов".
Первый мой сольный концерт был намечен в небольшом городе Юджине, штат Орегон, почти на побережье Тихого океана. Мы немножко отдохнули в Нью-Йорке и на следующий день отправились в Юджин. Самолет, на котором мы летели, был небольшой, летел невысоко и делал частые посадки. Для транзитных пассажиров, какими мы были, в аэропортах Америки отведены специальные места для отдыха с мягкими креслами и бесплатный бар. Мы с благодарностью пользовались им, чтобы скрасить наш долгий полет.
Наконец, мы прибыли в Юджин. На следующий день мне предстоял концерт, но все же мы с женой и с Семеном Климентьевичем пошли посмотреть городок. Это одноэтажная Америка, которая очень отличается от городов с небоскребами, неимоверно давящими своей огромной черной массой. Здесь же все домики не похожи один на другой, окружены стрижеными газонами и палисадничками с цветами - все это очень радует глаз.
У одного из устроителей концерта я спросил, каков у них концертный зал, на что тот ответил, что акустика у них неважная.
- А микрофоны есть? - спросил я.
- Нет, у нас с микрофонами не поют.
- А большой зал?
- Большой.
- Сколько вмещает?
- Двенадцать тысяч.
Я думал, что я ослышался и переспросил:
- Сколько, сколько?
Он повторил:
- Двенадцать тысяч.
У меня сердце ушло в пятки. Ведь в программе первого отделения были произведения Бетховена, Брамса, Шуберта, Россини, в программе второго Глинка, Даргомыжский, Бородин, Мусоргский, "Эй, ухнем!" Кенемана и два произведения Хренникова. Этот камерный репертуар требует не мощного звука, а выразительного пения, полутонов. Я схватился за голову.
- Давайте изменим программу, так же нельзя!
- Нет-нет, программа отпечатана. У нас не полагается менять ее. Публика идет на объявленную программу, иначе будут неприятные разговоры.
- Когда же можно посмотреть этот зал?
- Завтра утром.
- Но завтра уже концерт.
- Перед концертом и попробуете зал.
Пришли мы утром к концертному залу, и оказалось, что это баскетбольный зал при университете: баскетбол в Америке очень распространен.
- Как же я здесь буду петь? - удивился я.
- Ничего, ничего, вечером увидите, все будет в порядке
- Но где сцена?
- Все сделаем, не беспокойтесь.
К вечеру мне страшно захотелось спать. Ведь разница во времени составляет между Москвой и Юджином одиннадцать часов! И хотя я взял с собой большой термос с кофе, ноги буквально не шли. Однако нужно было собраться и спеть.
Я пришел в зал и убедился, что сцена сделана очень оригинально. Она выезжала из бокового отсека и сверху была покрыта отполированной деревянной раковиной. Эта раковина как рупор фокусировала звук, и он несся в зал. Я запел и понял, что мой голос хорошо слышен. Публика меня принимала прекрасно, и мне долго аплодировали.
После первого отделения пришла за кулисы моя жена и сказала, что голос звучит, все замечательно слышно. Я успокоился, второе отделение пел уже спокойнее и лучше и был очень рад, что "первый блин" не вышел комом. На следующий день в газетах меня похвалили за программу, за то, что я пел мягко и в стиле. Понравилась и американская песня "Миссисипи", которую я спел на "бис".
В тот же день мы выехали в город Спокан. Это соседний штат Вашингтон. Там концерт тоже проходил в большом зале, но я уже акклиматизировался, и мое выступление приняли хорошо.
После второго концерта я совсем успокоился, и мы полетели в Нью-Йорк. Здесь мы дня два или три отдыхали, осматривали город, все нам было, конечно, очень интересно.
Когда подлетаешь к Нью-Йорку или подплываешь к нему на пароходе, то большое впечатление производит статуя Свободы и громада высотных зданий, над которыми возвышается изумительный по красоте Эмпайр-Стейт билдинг. Мне очень захотелось подняться на сто второй этаж этого небоскреба. Лифт за минуту без остановки поднимает на восьмидесятый этаж, а потом еще полминуты уходит на то, чтобы подняться на самый верх. Вид здесь, конечно, очень красивый. Как на ладони - все высотные дома, Гудзон, с его замечательными мостами - изящным, воздушным Бруклинским и мостом Джорджа Вашингтона, отделанными украшениями. Однако мне не понравилось, что огромные здания, от пятидесяти до ста этажей, заслоняют солнце, от чего город делается мрачным и скучным, кроме того, в нем мало зелени.
И все же нужно признать, что в Нью-Йорке много красивых строений. Мне запомнился район Ротшильда, китайский, арка Вашингтона, музей С. Р. Гуггенхейма - белоснежное здание, напоминающее пароход. В китайском районе на секунду показалось, что я попал в Китай. Здания построены в стиле пагод, рекламы провозглашают что-то на китайском языке, привлекают взгляд многочисленные китайские ресторанчики. Мы были и в негритянском районе Нью-Йорка, Гарлеме, но тут нам не разрешили даже выйти из машины, так как это опасно.
Ночью особенно впечатляют Таймс-сквер и Бродвей. С нью-йоркской рекламой может соревноваться только лондонская, парижская и реклама Токио. Все движется, все сверкает разноцветными огнями. Это и ошеломляет, и создает оживление.
Среди массы небоскребов очень приятно видеть церкви и храмы. Они как бы приютились около своих громадных собратьев. Мне запомнились храм Эмануэля и собор святого Патрика.
Но больше всего меня пленяли прогулки по Центральному парку. Там очень много зелени, цветов, увеселений, можно покататься на лодках в прудах, можно покормить орешками ручных белок, которые бегают по парку. Но с наступлением темноты в парке находиться опасно.
Я очень люблю живопись и хотел пойти в знаменитый Метрополитен, но не мог пройти к музею, потому что всю улицу занимали демонстранты в самых разных костюмах - кто в военных, с оружием и гранатами, а кто в балетных нарядах; разыгрывалась инсценировка военных действий. Эта демонстрация, которая продлилась не один час, шла под лозунгом прекращения войны во Вьетнаме. А накануне была, оказывается, демонстрация за победу во Вьетнаме. Но из-за всех этих демонстраций музей был закрыт, и я не смог туда попасть.
Из окна своей гостиницы я с интересом наблюдал, как сносят двадцатии двадцатипятиэтажные здания, которые считаются нерентабельными, и на их месте воздвигают восьмидесятиэтажные. Сначала возводят металлический каркас, потом закрывают его пластиковыми "шторами", чтобы ничего не летело вниз, на головы прохожим, а отделка здания начинается с самого верхнего этажа (все материалы завозятся ночью).
Как автолюбитель, я интересовался в Америке и автомобилями. Мне было любопытно все, что связано с их продажей: и то, что автомобиль, проданный на исходе года, стоит уже дешевле, чем в начале, и автомобильные частные рынки, где на ветровом стекле выставляются все данные об автомобиле. Поразили меня и автомобильные кладбища, куда свозят машины, которые, на наш взгляд, еще в очень хорошем состоянии. Их потом спрессовывают, так что они превращаются в тонкие пластины, нагружают одну на другую и увозят.
И в Америке, и в Европе я обратил внимание на рекламы, предупреждающие об опасности превышения скорости. Несмотря на то, что в Америке дороги - одни из лучших в мире, скорость движения на них была ограничена. Высший предел - 60 миль в час, то есть чуть-чуть больше ста километров, хотя двигатели дают возможность развить скорость почти до трехсот.
После Нью-Йорка, где мои гастроли прошли очень хорошо, мы в приподнятом настроении полетели на самый юг Америки, в город Нью-Орлеан, который стоит в дельте Миссисипи. Это город, состоящий из двух- и трехэтажных домов с изящными балкончиками, с железными решетчатыми перильцами, украшенный красивыми южными деревьями, цветами, и если в Нью-Йорке было прохладно, то тут мы ходили в легкой одежде. В Нью-Орлеане давали в концертном исполнении оперу "Борис Годунов". Играл симфонический оркестр Орлеана, пел студенческий хор в двести двадцать человек из соседнего маленького города Баттон-Руж. И как чисто и стройно они пели на русском языке! Руководил постановкой Питер Пауль Фукс - очень опытный музыкант, замечательный дирижер (он десять лет проработал в "Метрополитен-Опера"). Прекрасные певцы Нельси Колтс - меццо-сопрано и Ричард Вил - тенор исполняли свои партии Марины Мнишек и Самозванца на русском языке.
Во время репетиции меня поразило, что Фукс ни разу никого не остановил. И, когда закончилась репетиция, он подошел ко мне и спросил:
- Как вам нравится исполнение оперы нашими артистами?
- Вы знаете, я просто поражен и удивлен! Студенты поют как самые настоящие профессионалы,- ответил я.
- Да,- согласился Фукс.- Они относятся к этому очень серьезно. И как овладели русским языком!
Сам Фукс тоже немного знал русский. Спектакль прошел очень хорошо, получил теплые рецензии, так что моя "копилка" эмоций пополнилась.
Орлеан тоже произвел весьма благоприятное впечатление. Чего в нем только нет! И прекрасные бассейны, и красивейшие парки, и увеселительные аттракционы.
Последний концерт был в Баттон-Руже, который находится от Орлеана недалеко - километров сто-сто двадцать. Мы отправились туда на автомобиле. Дорога шла в дельте Миссисипи. И вдруг я обратил внимание на плакат с изображением крокодила. Я спросил, что это значит, и мне объяснили, что в этих местах водятся аллигаторы и нужно быть осторожными. "Сейчас уже больших нет, но недавно полутораметрового поймали",- добавил шофер.
На следующем плакате изображалась гремучая змея с открытой пастью и выставленными зубами. Это, оказывается, было предупреждение, что здесь много змей. И когда я зашел в магазин и заглянул в спортивный зал, так как интересовался рыболовными принадлежностями, то увидел рядом охотничий отдел. Рассматривая его, я обнаружил флакон, на котором была нарисована такая же змея. Оказывается в нем содержится противоядие - сыворотка против укусов змей, особенно против гремучей змеи. Пользоваться этим флаконом очень легко и просто: нужно подставить флакон к месту укуса, нажать кнопку - и через какую-то долю секунды получишь инъекцию сыворотки.
Третий мой концерт в Америке состоялся в малюсеньком городке, который называется Нью-Лондон. Его даже на карте не всегда найдешь. Но в нем тоже имеется свой университет, и городок существует только потому, что в нем обучаются многие студенты. Зал при университете рассчитан на две тысячи мест.
На мой концерт собралась молодежь. Она принимала меня с большим энтузиазмом, а после концерта мы были приглашены к мэру Нью-Лондона. Беседа с ним была очень теплой. Говорили о том, как хорошо, что советские артисты приезжают в Америку, и какое это большое событие для их малюсенького городка.
Накануне нашего отъезда хозяин мотеля, где мы остановились, решил устроить в нашу честь небольшой ужин, на котором мне предстояло еще одно яркое гастрономическое впечатление. После того как мы опробовали все обычные закуски, наш хозяин заявил, что хочет нас угостить настоящим бифштексом.
- А что такое настоящий? - спросил я.
- Обычно у нас в ресторанах подают бифштекс из нашего американского мяса, а я вас угощу из самого лучшего - аргентинского. Оно самое дорогое, но самое вкусное.
Передо мной поставили небольшое блюдо со стейками, как называл их хозяин, на котором лежал огромный кусок мяса. Я решил, что это на всех. Однако по такой же тарелке поставили каждому из присутствующих, и я увидел, что Стучевский устремил на меня удивленный взор.
- Это что же, надо все съесть? - спросил он.
- Нет, необязательно,- ответил хозяин.- Вырежьте себе кусочки, которые вам больше всего нравятся, а остальное оставьте.
Я попробовал мясо, и оно действительно оказалось изумительным. "Нет,подумал я,- нельзя выбрасывать такую драгоценность". И все съел. Так закончилось наше пребывание в Нью-Лондоне, и мы вернулись в Нью-Йорк, а через пару дней поехали в Питтсбург. Здесь производят алюминий, поэтому многие здания, в том числе и небоскребы, облицованы алюминием. Американцы говорят, что это красиво и в то же время практично - не поддается коррозии. А кроме этого, здание всегда можно промыть шлангом, и оно выглядит чистым.
В Питтсбурге нас заинтересовал спортивный зал на двадцать тысяч мест. Он шаровидной формы, как половина перевернутого апельсина. Крыша же сделана из алюминия и разделена пополам. В плохую погоду она закрыта. Но в хорошую погоду обе половины открываются, и действие происходит на открытом воздухе.
В Питтсбурге я пел на языке подлинника "Аве Мария" Баха - Гуно, "Приют" Шуберта, "Я не сержусь" Шумана, "Агнус Деи" Бизе, "Три песни Дон Кихота" Равеля и арию Филиппа из оперы Верди "Дон Карлос". Таково было первое отделение. А во втором я пел "Сомнение" Глинки, "Старый капрал" Даргомыжского, "Благословляю вас, леса" и Серенаду Дон Жуана Чайковского, "Сонет Шекспира" Кабалевского, песню Шостаковича "День радости" и песню Еремки из оперы Серова "Вражья сила". Публика принимала все хорошо, и у меня в преддверии нью-йоркского выступления поднималось настроение.
Затем мы снова вернулись в Нью-Йорк. Рецензии в газетах были, как обычно, очень хорошими, но я обратил внимание на такое высказывание: "Знаменитый артист,- писали газеты,- выступал в оперных театрах в Милане, Праге, в "Гранд-Опера", в Барселоне, во многих городах Германии, а наши устроители не могли сделать так, чтобы он спел у нас в "Метрополитен-Опера". Что же, мы должны ехать в Москву, чтобы слушать его там в операх?" Я, конечно, не мог не согласиться с сетованиями американцев.
Из-за того, что я был очень занят концертами и много переезжал из города в город, я мало куда мог пойти. Поэтому одно из самых сильных впечатлений осталось у меня от американского телевидения, имевшего тогда шесть цветных программ и столько же черно-белых. Причем, некоторые программы работали круглосуточно. Вот придешь после концерта, сваришь себе в номере кофе - а для этого все уже заботливо приготовлено: кофе, сахар, сухие сливки,- и сразу же включаешь телевизор. В основном идут боевики. Один кончается, другой начинается. Потом посмотришь вдруг на часы. Ах... четыре часа утра. Скорей выключаешь телевизор и спать.
Мне кажется, что телевизор вытесняет в Америке все другие развлечения, и театр, и кино. Но программы очень разные, для разных возрастов, для любителей рукоделия или коллекционирования, любителей рыбной ловли - программы на любой вкус. Это очень хорошо. Я думаю, что нам это тоже нужно развивать.
И все же я побывал на замечательном концерте шведской певицы Биргит Нильсон. Москвичи помнят ее необыкновенный голос по выступлениям в опере "Турандот" Пуччини, где она пела главную партию. Мы были тогда покорены ее необыкновенно мощным и красивым голосом. В Америке она пела песни Бетховена. Пела очень мягко, красиво, с точным ощущением стиля. Исполняла романсы Грига, песню Сольвейг,- с большим настроением и тоже чрезвычайно мягко. Я даже удивлялся, как певица, которая обладает таким огромным оперным голосом, так свободно им управляет. Нильсон также прекрасно пела Сибелиуса, очень изящно и красиво исполняла романсы Рихарда Штрауса, затем пела Шуберта и Шумана, а заключила она свой концерт "Вальсом" Иоганна Штрауса и в конце даже завальсировала. Я думал, что от аплодисментов публики взорвется зал.
В Нью-Йорке я выступал в зале филармонии, который составляет часть Линкольн-центра. Он состоит из трех зданий - оперы, оперетты и филармонии. Это очень красивый комплекс.
Мне сказали, что на концерте в Нью-Йорке будет присутствовать много русских, и я начал с русского отделения. Сначала я пел романс Булахова "Не пробуждай воспоминаний", затем "Колокольчик" Гурилева и его же Песню ямщика, затем - очень редко исполняемое даже у нас произведение, балладу Ренчицкого "Проезжайте", "Сомнение" и "К Мери" Глинки и арию Сусанина. Затем я спел "Старого капрала" Даргомыжского и арию Мельника из его оперы "Русалка". А во втором отделении - "Благословляю вас, леса" и Серенаду Дон Жуана Чайковского, "Утро" Рахманинова, каватину Алеко из его одноименной оперы, русскую народную песню "Ноченька", "Эй, ухнем!" Кенемана, "Сонет Шекспира" Кабалевского, "Серенаду" Хренникова и на "бис" еще бесчисленное количество всевозможных песен и романсов.
Публика меня принимала очень хорошо, может быть, еще за счет присутствия русских эмигрантов, покинувших родину еще до революции и во время гражданской войны. Я видел, как они утирали слезы. Потом чуть ли не ползала пришло ко мне с объятиями и поцелуями за кулисы. "Боже мой! Мы перенеслись в Россию! Как вы нам напомнили нашу родину",- восклицали они и проливали потоки слез.
Это было грустно и трогательно.
Многие русские, присутствовавшие на концерте, приглашали меня в гости. Кое у кого мы бывали и с радостью убеждались, что эти люди, живя вдали от родины, сохраняли русские традиции.
У меня сохранилась программка моего выступления в Нью-Йорке характерная частичка деловой Америки. Несколько страничек программки занимает реклама. Здесь и новый самолет, в котором можно смотреть телепередачу, и новая марка машины, и реклама проигрывателей и норковых пальто, анонс о новых концертах, демонстрация женских причесок и фотографии Нью-Йорка; рассказ о концертах Бернстайна, реклама ключей, часов и духов; репродукции картин импрессионистов, и только после этого - Иван Петров, бас. И начинается моя программа, а дальше опять идут рекламы.
А однажды случилась такая история. Мы должны были пойти на прием в наше посольство. Однако я чувствовал себя усталым, мне не хотелось никуда идти, и я сказал жене:
- Вот есть же Бог, пусть он сделает так, чтобы мы не пошли.
И только я сказал, как погас свет. Тут же по громкоговорителям объявили, что Ниагарская станция, которая снабжает электричеством весь район вокруг Нью-Йорка, отказала - произошла авария. Застряли лифты, и, чтобы люди не задохнулись, ломами пробивали стены, на улицах не хватало полиции, чтобы регулировать движение, так что некоторые американцы сами становились на перекрестках, стараясь предотвратить аварию. Возникла паника. Некоторые думали, что это начало войны, и по радио объявили, что самолеты в воздухе. Но часов через шесть, когда мы уже легли спать, зажгли свет.
После месяца пребывания в Америке мы с легкой душой отправились к себе на родину. Вспоминая потом об этой поездке, я думал о том, что у меня сложилось двоякое впечатление об этой стране. С одной стороны, не мог не привлекать большой технический прогресс, поражало огромное строительство, замечательные концертные залы, разнообразные марки машин. С другой стороны, удручали несчастные негры, многие из которых ведут бездомную жизнь, сильно развитая проституция, множество наркоманов, которые пристают к прохожим и особенно к иностранцам. Ко мне тоже не раз приставали, просили денег, и только когда я своим громовым голосом кричал: "Эй, полиция!" - их как ветром сдувало.
И еще меня поразила одна особенность, свойственная не только Америке, но и многим европейским странам. Едешь по шоссе. Красивая местность. Поля, луга, реки, озера. Но все загорожено забором, сеткой, колючей проволокой. От шоссе до этой загородки пять метров, и дальше ты не можешь ступить ни одного шага. Ни искупаться или порыбачить на озере, ни погулять в лесу. Это все частная собственность.
Да и сама многоэтажная Америка на меня произвела мрачное впечатление. Хотя и здания, и улицы красивы, но так они нагромождены друг на друга, что в несолнечную погоду просто темно. Поэтому одноэтажная Америка понравилась мне гораздо больше.
Князь Юрий. Барселона
В марте 1966 года в Большом театре состоялось знаменательное событие: после длительного перерыва (с 1926 года) была поставлена опера Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" произведение очень сложное и в музыкальном, и в философском отношении. В этом спектакле я выступил в последней для меня новой партии - князя Юрия.
Эта роль статична. Князь почти не движется по сцене. Он только сообщает китежанам о татарском нашествии и приближении орды, а также дает мудрые советы. Но вокально она написана очень сложно. Партию Юрия обычно поют басы центрального плана, которые могут брать и низкие, и высокие звуки, так как в мелодии арии встречаются широкие скачки - даже больше, чем через октаву - и приходится с самых верхних звуков спускаться в самые нижние "этажи". Так что овладение партией князя Юрия свидетельствует о мастерстве певца, и мне пришлось над ней долго работать. Но затем я выступал в этой опере с большим удовольствием.
Очень хорошо дирижировал оперой молодой тогда Геннадий Рождественский, а постановщиком ее был Иосиф Михайлович Туманов
В том же 1966 году я получил через Жоржа Сориа приглашение от Хуана-а-Помпиаса, руководителя театра "Лисео" в Барселоне, спеть Мефистофеля в четырех спектаклях "Фауста". А я даже не знал, что в Барселоне есть большой, замечательный театр, вмещающий около трех тысяч человек, театр, в котором пели самые выдающиеся певцы всего мира. Испания стала девятнадцатой страной в моих зарубежных гастролях.
В ноябре мы с женой вылетели в Париж. Через три с половиной часа мы были уже в столице Франции, и, ожидая очереди, чтобы пройти таможенный и паспортный контроль, увидели через стекло, что нам машут Жорж Сориа и несколько человек из его агентства. Они подавали знаки, чтобы мы проходили скорее, и когда мы миновали паспортный контроль, то Сориа закричал: "Времени в обрез!" Потом более спокойно объяснил:
- Сейчас конец рабочего дня, но я договорился с испанским консульством (я им обещал две бутылки хорошего коньяка), чтобы они тут же дали вам визу в Испанию. Они ждут. Скорее.
Мы вышли, сели в машину, приехали в испанское консульство, там нам поставили печати в паспортах, и мы поехали на другой аэродром, откуда небольшой самолет должен был доставить нас в Барселону. С нами поехала переводчица Лили Дени - симпатичная молодая женщина, которая меня сопровождала во многих предыдущих поездках по Франции. Она сказала, что нам будет в Испании очень интересно. Мы сели в самолет и через час с чем-то приземлились в Барселоне.
Барселона - один из самых богатых и благоустроенных городов Испании. Среди его достопримечательностей - порт, где стоит каравелла Колумба. Сюда пришвартовываются и большие корабли, и масса маленьких суденышек. Ну а справа и слева идут пляжи, раскинувшиеся вдоль набережной на песчаных берегах. Это очень живописные места, и сюда с удовольствием съезжаются барселонцы, чтобы приятно провести время. Это их любимое место отдыха.
На улицах Барселоны много зелени, а мостовые выложены брусчаткой гладким, прочным, красивым камнем, который моют, поэтому на улицах очень чисто. Но, кроме больших улиц, очень симпатичны маленькие улочки. По ширине они такие, что, казалось, если бы я развел руки, то достал бы от одной стороны до другой. Дома на них украшены балкончиками с замысловатыми узорами, чугунным или железным литьем. От дома к дому перекинуты мостики с красивыми перилами, что придает городу незабываемое своеобразие
Необычайно уютны внутренние дворики, которые есть почти в каждом доме. Они также вымощены плитами или брусчатыми камнями, в них масса цветов, зеленых газонов, деревьев, красивых скамеечек, где можно посидеть. Прелестны арки и ниши, лестницы, которые ведут на второй этаж.
А в тех местах Барселоны, где часть дома повреждена и осталась голая стена, ее используют для цветной рекламы, которая одновременно и украшает улицу, и призывает сделать какую-нибудь покупку.
Это старый город. В этой его части - театр, бульвар, Кафедральный собор. Он необыкновенно красив. Я взял фотоаппарат, чтобы его сфотографировать, но никак не мог приспособиться - он не попадал в объектив. К собору примыкают два здания типа каземата, вероятно, какие-то церковные постройки, и, кроме этого, он со всех сторон закрыт домами. Только когда я сообразил, что мне нужно войти в один из двориков напротив, я сделал снимок. Это чистейшая готика, очень красивая, строгая, без всяких нагромождений. По своему стилю собор чем-то напомнил мне знаменитые Кёльнский и Миланский соборы. Правда, Миланский собор гораздо больше, чем кафедральный собор в Барселоне.
Еще одно замечательное и очень своеобразное здание Барселоны Церковь Святой семьи, сочетающая в себе разные стили. Эта церковь строилась не один век, поэтому в ней уживается и готика, и модерн. Мы очень подолгу останавливались около нее и любовались творением испанского архитектора.
Поразил меня и рынок Барселоны. Я видел очень интересные рынки во Франции, в Мельбурне, в Италии, но здесь рынок произвел на меня самое сильное впечатление. На нем те же фрукты, бананы, кокосовые орехи, какие-то мало известные плоды: манго, папайя и совсем нам неизвестные; конечно, очень много цитрусовых. Но что особенно интересно - это удивительные дары моря! Мало того, что все рыбы - каких-то необыкновенных размеров (иногда кажется, что это кусок кита), но они и необычных для нас видов - гигантские макрели, огромные лангусты - существа типа раков, в шейке которых, наверное, килограмма два мяса, омары, креветки, устрицы, чего только нет! И еще меня поразили уже разделанные осьминоги. Их щупальца, отрезанные от тела, толщиной в человеческую руку или ногу, длиной по два-три метра, продаются отдельно. Хозяйка приходит на рынок, ей отрезают часть осьминога, и теперь дело за ее кулинарными способностями. Мне рассказывали испанцы, что осьминога нужно уметь готовить. Нельзя ни недоварить, ни переварить должно быть соблюдено точное время. Тогда у осьминога мясо нежное и очень вкусное.
Как-то я с женой и переводчицей Лили Дени пошел в ресторан отеля, где мы жили, и Лили предложила заказать вкусное блюдо.
- Какое? - поинтересовался я.
- Не беспокойтесь, я на свой вкус закажу,- предложила Лили.- Надеюсь, что и вам тоже понравится.
- Ну, давайте,- согласился я.
И она заказала так называемые дары моря. Нам подали большую сковородку, на которой лежали морские раки, креветки, какие-то мидии, кусочки лангустов и что-то похожее на бублики. К этому подали еще рис, какую-то темную приправу и зеленый сладкий перец. Мы стали все это пробовать, и все было очень вкусно. Дошла очередь и до бубликов. Какая красота! И они очень вкусные. Я спросил:
- А это не осьминог?
Но Лили мне сделала предостерегающий знак: молчите, а то жена испугается и не будет есть. Но, когда мы пошли гулять после обеда, она открыла секрет. Действительно, это оказался осьминог. Он был очень вкусно приготовлен с прованским маслом и разнообразными специями.
На следующий день, когда мы пришли в ресторан, Лили говорит:
- Иван Иванович, я для вас заказала еще одно блюдо. То же самое, только приготовленное немного иначе.
И мне одному принесли сковородку поменьше, а на ней лежал целиком зажаренный маленький осьминог. Это тоже было очень вкусно. У многих из нас существует предубеждение к осьминогам, устрицам, черепахам, крокодилам, я уже не говорю про змей. А ведь все это - деликатесы.
Из нашего отеля была видна очень интересная церковь Тибидаго. Она стоит на возвышенности, которая тоже называется Тибидаго и находится немного в стороне от Барселоны. Архитектура этой церкви очень необычна. Верхняя часть - это готика, а нижняя - в восточном стиле. Вся церковь построена из светлого, почти белого камня, который при солнце - утреннем или вечернем - буквально сияет.
И еще я не рассказал о бульваре Рамблаз, по которому мы ежедневно гуляли. Это, пожалуй, самое оживленное место в Барселоне. Утром - часов до двенадцати - это торговые ряды. Торгуют цветами, экзотическими рыбками в аквариумах, птицами, кошками, собаками и даже обезьянками. Разглядывать всех этих животных очень приятно, и бульвар становится притягательным местом для прогулок.
На одной из площадей я вдруг увидел скопление народа. Потом разглядел наскоро сколоченный помост, занавесочки, и оказалось, что здесь выступала бродячая труппа комедиантов. Публика смеялась, аплодировала. Такие сценки для Испании очень характерны.
Гранд-театр "Лисео" на восемьсот мест больше, чем наш Большой. В нем пять ярусов, плюс еще бельэтаж и бенуар. Само здание вплотную смыкается с другими домами. Выделяет его только очень красивый навес у подъезда, под который подъезжают на автомобиле или даже на фиакре, чтобы не попасть под дождь.
Ну, конечно, незабываемы интерьер театра, замечательные нарядные фойе и исключительный по красоте зал. Он славится своей акустикой. Когда я пришел на первую репетицию и вышел на сцену, я аж похолодел. "Какой же здесь,- думаю,- нужен голос, чтобы он заполнил этот зал?!" Но, когда я запел, впечатление было такое, будто я пою в комнате.
"А с публикой будет еще лучше",- сказали мне.
И действительно, когда я пел в спектакле, я не чувствовал никаких трудностей. Пел свободно, легко.
Очень интересен репертуар театра. Он чрезвычайно разнообразен, хотя театральный сезон длится всего два месяца и двадцать дней. Это время, когда не работает коррида. Сезон, в котором участвовал я, начался 10 ноября 1966 года. За такой короткий период в театре было поставлено восемнадцать опер: "Кармен", "Фаворитка", "Норма", "Фауст", "Кавалер роз", "Риголетто", "Фиделио", "Отелло", "Манон", "Дон-Жуан" и очень много других произведений.
В "Лисео" испанцы - только артисты хора и оркестра. А солистов приглашают из разных стран. Главным образом из Италии, но также из Франции, Англии, Германии и других государств. Господствующий стиль постановок определяется миланской "Ла Скала". Даже декорации привозят из Милана, прямо морским путем.
На первой репетиции я познакомился с дирижером, режиссером, артистами. Дирижировал оперой итальянец Оттавио Цино, который приехал из Палермо, а режиссером был голландец Франс Берлаге. Фауста пел молодой итальянский тенор Анжело Мори. Он обладал очень хорошим голосом, и мне запомнились его прекрасные верхние ноты. Все были в сборе, кроме Маргариты - Лидии Маримпьетри. Это солистка римской оперы. Она прилетела в Барселону позже, и мы пока репетировали без нее. Хотя певцы обладали хорошими голосами, на репетициях происходило много досадных недоразумений. Молодые певцы недостаточно хорошо знали свои партии, врали, и дирижер что-то кричал им по-итальянски - ругал их. Когда начался пролог, Анжело Мори никак не мог уяснить, что на сцене у доктора Фауста стояло два бокала. Один, волшебный, который был закрыт атрибутами декораций - книгами, свитками - и предназначался для Мефистофеля. А второй принадлежал Фаусту. Фауст брал кубок, говорил, что сумеет пойти наперекор судьбе, и хотел его выпить. Но он все время хватал кубок Мефистофеля, при этом невольно нажимал на пружину, и из бокала вылетало огромное пламя. Это повторялось несколько раз.
Я очень боялся, что во время спектакля он снова возьмет мой кубок и сорвет сцену. Но на представлении Анжело Мори не растерялся, взял свой кубок, а я ему отдал мой - волшебный.
Спектакль прошел гладко, успех определился сразу, и в первом же антракте мне пришлось раздать весь запас фотографий и массу автографов. Наутро все газеты вышли с рецензиями. Вот завидная оперативность! Вечером спектакль, который кончается ночью, а утром уже рецензии в газетах. Отклики критиков были очень хорошие, меня хвалили за исполнение роли Мефистофеля, понравился мой голос. Как я уже говорил, в театре "Лисео" пели все знаменитые певцы: Рената Тебальди, Мария Каллас, Джульетта Симеонато, Рената Скотто, Марио Дель Монако, Борис Христов. Поэтому выступить в нем и получить положительные отзывы было очень почетно.
В Барселоне посещает оперный театр самая, наверное, нарядная публика во всем мире. Моя жена рассказала мне в антракте, что чувствовала себя среди роскошно одетых дам, несмотря на то, что на ней были красивые украшения, самой бедной. Я видел публику в Париже, в Нью-Йорке, в Милане, но такой, как в "Лисео", не видел нигде.
После этого спектакля у меня выпало два дня выходных, и мне предложили поехать посмотреть на небольшие горы Монсеррат. Мы сели в автомобиль и отправились в путь - километров за шестьдесят. Дорога оказалась очень красивой. Мы ехали вдоль полей, оливковых рощ, попадались деревья, напоминающие реликтовые сосны, а вершины гор быта похожи на сахарные головы.
Монсеррат - это и монастырь, где живут монахи. Он состоит из нескольких зданий в три-четыре этажа. В связи с тем, что сюда приезжает много туристов, которые хотят осмотреть эти места, сделано все для того, чтобы они получили как можно большее удовольствие. Построены перекидные мосты и арки, всюду стоят изящные скульптуры, на обрыве устроена смотровая площадка, и оттуда открывается незабываемый вид.
Мы зашли в монастырь, и нас познакомили с его настоятелем. Неожиданно он заговорил с нами на чистейшем русском языке. Я очень удивился. Спрашиваю:
- Вы что, русский7
- Нет.
- Так вы что, были в России?
- Нет. Я изучал русский язык.
- Как же вы так изучали русский язык, что говорите даже без акцента?
Оказалось, что он знает около десяти языков, читает нашу литературу.
Настоятель монастыря предложил нам посмотреть монастырскую библиотеку, которая составляет гордость монастыря. А потом мы зашли в ресторан, имитирующий кельи монахов - небольшие залы выдолблены прямо в горах. Сверху спускаются лампочки, падает приглушенный свет, создавая таинственную романтическую атмосферу. Здесь же - и отель для туристов.
Я слушал в Барселоне три оперы. Произвела впечатление "Турандот" Пуччини, которая прошла с большим успехом, а также "Норма" Беллини. От этого спектакля я получил огромное удовольствие. В заглавной роли выступала болгарская певица Бокачевич, а ее партнершей была знаменитая итальянка Фьоренца Коссото. Муж Коссото Ива Винка тоже пел в этом спектакле, и он оказался просто прелестным певцом. И опера удивительно красивая. Я уверен, что она с большим успехом могла бы идти и у нас, но почему-то о ней не вспоминают долгие годы. А ведь петь такую музыку, пусть кое в чем и однообразную, весьма полезно для исполнителей. Вне сомнения, что и публика устремится на такой спектакль. Драматический сюжет, превосходные мелодии никого не могут оставить равнодушным.
Третий спектакль, который мне удалось посетить, "Богема" Леонкавалло. Нужно сказать что даже у итальянцев эта вещь не очень в почете. Хотя в ней много красивых мелодий, но она, конечно, уступает опере Пуччини. Видимо, ее поставили потому, что это произведение никому не известно, а ведь всегда приятно узнать что-то новое. Раз так - сборы будут, а это решает все.
Хуан-а-Помпиас рассказывал мне, что их театр не получает никакой государственной поддержки. Он существует как частное предприятие и целиком зависит от сборов, то есть интереса публики к спектаклям. Конечно, театр ведет нелегкую жизнь. Поэтому где уж думать о тщательных репетициях, проработке деталей и создании художественных образов! И все-таки у такой системы есть свои положительные стороны. Как правило, на испанской сцене поют многие первоклассные солисты, обладающие немалым опытом и актерским мастерством. Поэтому уровень большинства постановок оказывается очень высоким. А репертуарное разнообразие - это огромное преимущество любого театра. За последние двадцать лет в Барселоне было поставлено почти двести опер. И среди них самые сложные. Семь опер Доницетти, четыре Массне, семь Моцарта, семь Рихарда Штрауса, одиннадцать Вагнера и столько же Верди. Русская классика представлена тремя операми Мусоргского, пятью Римского-Корсакова ("Сказание о невидимом граде Китеже" прошло в Барселоне сорок четыре раза). Идут "Золотой петушок", "Царь Салтан" (тоже прошел двадцать пять раз) и "Псковитянка". Кроме того, в репертуаре театра "Князь Игорь" Бородина, "Евгений Онегин" Чайковского, "Катерина Измайлова" Шостаковича. И все русские оперы исполнялись на русском языке
Рассказываю об этом не потому, что статистика сейчас в моде, а потому, что эти сведения должны заставить задуматься такой театр, как Большой, которому важно найти путь к расширению своего репертуара.
Однажды Хуан-а-Помпиас сказал, что готов был поставить в "Лисео" специально для меня какую-нибудь русскую оперу, чтобы я мог в ней выступить. Я предложил "Русалку" или "Ивана Сусанина". Опера Глинки, по моему мнению, обязательно должна была понравиться испанцам и благодаря своей мелодичности, и танцевальным сценам. Хуан-а-Помпиас поставил только одно условие - приехать со всеми своими костюмами - и предложил мне собрать состав "Сусанина". Я, конечно, обрадовался, но этот разговор дальнейшего развития не получил.
Гастроли в Барселоне прошли очень успешно. Публика принимала прекрасно, и я радостный отправился домой.
Путь мой снова лежал через Париж, где мы должны были дня три ждать самолета "Аэрофлота", и нас поместили в прекрасной гостинице. Начало декабря в Париже - это начало Рождества, подготовка к празднику. Несмотря на ужасную погоду - слякоть, мокрый снег,- город был очень красиво украшен, иллюминирован; елки, сделанные из позолоченных и серебряных материалов, сверкали; в витринах красовалась масса игрушек, украшений, все это произвело на нас огромное впечатление.
Это пребывание в Париже запомнилось мне и благодаря новым гастрономическим впечатлениям. Как-то мои друзья предложили нам пойти в рыбный ресторан на Плас Пигаль. Здесь находится множество увеселительных заведений и самые знаменитые рыбные рестораны. Тот, в который попали мы, выглядел необычно. Некоторые его комнаты напоминали трюм корабля. С потолка свешивались канаты и различные корабельные принадлежности, стояли бочки.
Мы отведали здесь множество различных рыбных яств и даже очень вкусных морских ежей, икра которых считается деликатесом. Однако мне захотелось попробовать еще чего-нибудь, еще более специфическое.
- Я столько раз бывал в Париже, а еще не ел настоящей французской пищи.
- Какой же?
- Лагринуй - лягушачьи лапки.
- Сейчас мы вам закажем.
Я выпил для храбрости коньячку, съел - очень вкусно: как самый нежный цыпленочек.
- Попробуй,-говорю жене,- не бойся, очень вкусно.
Она взяла одну лапочку, ей тоже неожиданно понравилось, и мы на память привезли несколько лягушачьих косточек в Москву.
Австралия, Новая Зеландия
Однажды мне позвонили из Министерства культуры СССР и сказали:
- Иван Иванович, не хотите ли вы поехать на гастроли с оркестром имени Н.П. Осипова в далекий, но интересный край? Там вы еще не были, и неизвестно, удастся ли вам попасть туда в другой раз.
- Что же это все-таки за край? - спросил я.
- Это Австралия и Новая Зеландия.
Мне, конечно, было очень интересно поехать в такие далекие страны, и я с удовольствием принял приглашение. Тем более что с оркестром имени Н.П. Осипова у меня был давний контакт. И вот 25 февраля 1967 года из аэропорта Внуково специальным рейсом на самолете "Ил-18" мы вылетели в Австралию. С нами было два дирижера: Виктор Дубровский и Виталий Гнутов. А из солистов, кроме Лилии и Юрия Мироновых (балетной пары), летели Людмила Зыкина, Валентина Левко и Николай Кондратюк.
Нам дали в полное распоряжение целый лайнер, и мы в нем свободно разместились. В семнадцать часов по московскому времени мы приземлились в Ташкенте, здесь же заночевали, а 26-го рано утром вылетели на остров Цейлон и через четыре часа приземлились на аэродроме Республики Шри-Ланка. Здесь уже ждали автобусы, которые отвезли нас в столицу.
По дороге экзотика привлекала наши взоры. Пальмовые рощи, обилие всевозможных цветов, пышно цветущие деревья. Видели мы по дороге и жилища местных жителей - небольшие домики, построенные на высоких столбах. В открытые двери этих домиков была видна легкая мебель, тут же находились курильни, от которых исходил приятный запах. Солнце палило, воздух обдавал влагой, поэтому на мужчинах, которые встречались на дорогах, были лишь белые набедренные повязки и белые тюрбанчики на голове. А женщины эффектно закутывались в длинные разноцветные холсты. Черноглазые, черноволосые, смуглые, они очаровывали своей красотой.
Нас привезли на окраину Коломбо, где мы заночевали в красивом отеле на берегу океана. Утром оказалось, что этот небольшой двухэтажный отель расположен в живописном месте: среди больших камней, высоченных пальм и массы цветов, а рядом разбивались о скалы огромные океанские волны. Нам, конечно, захотелось искупаться, но вода была такая теплая, что никого ничуть не охладила
На берегу мы увидели рыболовов, и я пошел узнать, что они ловят. Оказалось, что рыба кишела вдоль берега, а мелочь выскакивала чуть ли не на берег, однако никто ничего не мог поймать. И хотя Цейлон производил впечатление райского уголка, было заметно, что многим здесь живется отнюдь не как в раю.
27 февраля, отправившись утром в аэропорт, мы проехали через центр Коломбо и ряд деревень. На их улицах продавались овощи, фрукты, кустарные изделия, металлические украшения, плетеные корзины, керамика. Из окна автобуса мы видели и рабочих слонов. Когда смотришь, как эти гиганты, с легкостью балансируя огромными бревнами, укладывают их, как спички, в штабеля, невольно проникаешься уважением к этим умным и сильным животным.
Далее мы летим в столицу Индонезии Джакарту. Приземлившись через шесть часов в Джакарте, мы снова оказались во власти жары и духоты. Очень хотелось пить, но на аэродроме не было питьевой воды. Правда, какой-то напиток вскоре привезли, он оказался таким приторно-сладким, что пить его было невозможно, и мы только смочили себе губы.
Два часа, проведенные нами в ожидании дальнейшего полета, тянулись томительно долго. В конце концов утром 28 февраля мы приземлились в самом северном городе Австралии - Дарвине. К нам сразу пожаловали чиновники санслужбы. Один из них нажал кнопку баллончика и начал опрыскивать в самолете все вещи, а заодно и всех нас. Он сказал, что это делается для того, чтобы мы не завезли в Австралию никаких болезней. В здании аэропорта нам предложили принять душ, побриться, выпить стакан сока, съесть сандвичи. Мы так и сделали и в ожидании утра расположились на мягких диванах. С рассветом нас пригласили в самолет, и мы совершили последний, довольно большой, в семь часов, перелет до Мельбурна - нам пришлось пересечь всю страну.
На аэродроме нас встретили антрепренер Филипп Эджли, его мать и брат Майкл, и мы отправились в отель "Савой плаза". Это десятиэтажное здание с хорошими номерами. Мы разместились в отеле, и нам захотелось тут же осмотреть город. Оказалось, что Мельбурн по своей площади не уступает Лондону - одному из самых больших городов мира. В центре его находятся высокие дома в двадцать, двадцать пять этажей, банки, всевозможные учреждения, магазины. Улицы прямые и широкие, тогда как во всех остальных районах дома одноэтажные. Это красивые коттеджи с зеленью, цветниками, подстриженными газонами, окруженными маленькими символическими заборчиками. Особенно приятно было погулять по городу, когда заканчивался рабочий день, закрывались магазины, наступала темнота, только цветная реклама освещала город, и он становился почти пустым.
На следующий день с утра мы начали репетировать. Все очень волновались, и прежде всего антрепренер в ожидании того, как нас примут австралийцы. Ведь мы привезли им нашу русскую народную и современную советскую музыку.
3 марта у нас состоялся первый концерт. Театр, в котором мы играли, уютный и красивый, вмещает тысячу пятьсот человек, однако его акустика оставляет желать лучшего. Тем не менее публика приняла нас овациями. По ходу концерта успех нарастал. Я выступал почти в конце второго отделения, и не подумайте, что я хочу похвастаться, но особый успех выпал на мою долю. Конечно, я был очень рад. Вышел за кулисы и говорю: "Ну, дай боже почаще то же".
После концерта Эджли с матерью и братом устроили прием в нашу честь и преподнесли нам небольшие подарки. На приеме присутствовала знать и культурная элита Мельбурна. Все делились своими впечатлениями, очень хвалили нас, и мы, довольные и окрыленные, вернулись в отель, однако долго не могли угомониться и только после трех часов ночи разошлись и заснули. Утром нас ожидал "сюрприз".
Я проснулся от какого-то грома, яркой молнии и красного зарева. Сначала подумал, что это гроза. Было очень душно, и я решил открыть окно. Когда же я это сделал, меня словно кто-то швырнул от окна на пол, такова была сила волны горячего воздуха, который проник через окно. Я с трудом его закрыл и отворил настежь дверь в коридор. Дышать было нечем Я увидел, что по коридору бегало много народу, все что-то кричали. Оказалось - пожар. Быстро побросав свои костюмы и рубашки в чемоданы, я спустился вниз, в вестибюль. Он был заполнен пожарными, которые заливали вспыхнувшие очаги огня. Пахло дымом, и всюду текла вода. Здесь же толпились и фоторепортеры, описавшие на следующий день все случившееся в своих газетах.
Когда потушили пожар (а горела труба, вытяжка из кухни ресторана, которая проходила в метре от моего окна), нам дали другие номера, где не было столько дыма и воды, и мы смогли отдохнуть перед следующим вечерним концертом.
Пошли ежедневные выступления, а иногда и по два концерта в день. И все же мы успевали иногда отдохнуть и развлечься.
Однажды нас пригласили на прогулку. Мы сели в автобусы и долго ехали через весь город, осматривая его достопримечательности. Проехали и мимо животноводческих ферм. Здесь нам рассказали, что в Австралии очень сильно развито овцеводство. Если в то время в стране проживало одиннадцать миллионов человек, то овец насчитывалось около двести сорока миллионов. Подумать только! На каждого человека - по двадцать с лишним овец!
Затем мы подъехали к подножию гор и остановились у входа в заповедную эвкалиптовую рощу. Здесь пели птицы, среди посетителей важно расхаживали страусы эму и кенгуру. Они не боятся людей, а наоборот, попрошайничают и берут угощение прямо из рук. Те, кто приезжает погулять, привозят с собой сандвичи, термосы с едой, воду. Но как только они успевают обосноваться за столиком, к ним подходят страусы и кенгуру и выпрашивают угощение. Мы тоже предлагали им, что у кого было в кармане или в сумочке, и это было очень приятно. Любовались мы и ярко окрашенными птицами: попугаями, журавлями, и, конечно, накупили открыток с изображением редких животных, обитающих в Австралии. Здесь были кенгуру, медвежонок коала, страус эму, ехидна, утконос, собака динго, кокобара - птица, похожая на нашу сороку, только нос у нее очень длинный. На многих открытках изображены и аборигены Австралии Это угольного цвета люди, худые, старики с пепельными волосами.
О жизни австралийцев мы узнали в одном из музеев, где представлена австралийская промышленность, техника, сельское хозяйство, животный мир, быт.
В этом музее есть и картинная галерея. Ее украшают замечательные творения Рембрандта, Мурильо, Ван Дейка, Тьепполо, Пуссена, Эль Греко, Моне, Пизарро, Коро, Сислея, Милле и других выдающихся художников. Как попали на край света эти шедевры?!
Посетили мы и выставку фото и современной живописи. Фотовыставка мне очень понравилась. Она была сделана с большим вкусом и фантазией, а живопись показалась просто бредовой: смотришь на картину и не можешь попять, что на ней изображено.
Позже мы побывали в большом и очень красивом Ботаническом саду, так что с флорой и фауной Австралии я познакомился основательно.
В Мельбурне, который так далеко от России, живет много русских и часто слышна русская речь. На наши концерты приходили большие группы бывших соотечественников. Они с удовольствием слушали нас, аплодировали, возгласами подбадривали во время выступления.
Русские подходили к нам на улице, приглашали в гости, и в одно из воскресений мы побывали на приеме, устроенном в нашу честь, где нас ждал обед, меню которого было составлено из блюд русской кухни. Чего здесь только не было! Селедка, салат, винегрет, огурчики, помидоры, борщ, блины со сметаной, чай, кофе, сладости, арбуз и русская водка, вишневка. Это был обед не только очень вкусный, но и веселый.
Однажды мы с Виталием Дмитриевичем Гнутовым, нашим дирижером, зашли в большой магазин фирмы "Мейер", занимавший шесть или семь этажей. Это очень солидная фирма, магазины которой находятся во всем мире, даже в Скандинавских странах. Здесь можно купить все, что душе угодно - от иголки до автомобиля,- а кроме того, продукты питания. На первом этаже мы хотели купить себе что-нибудь на ужин. И вдруг, услышав наш разговор, к нам подошла светловолосая молодая женщина. "Вы русские?" - спросила она. И когда мы представились, назвала себя. Звали ее Люся. Она схватила четыре большущих пакета и быстро наполнила их всевозможной снедью - от колбасы и сыра до копченого угря и всевозможных фруктов. За все это Люся взяла с нас всего по полтора доллара. В ответ на мое изумление Люся объяснила, что она здесь хозяйка и может себе позволить радость угостить нас. Прощаясь, Люся сказала, что ждет нас завтра здесь же. На следующий день пойти туда мы, конечно, не осмелились, но дня через два или три пришли снова. Люся подбежала к нам с упреком: "Как же вам не стыдно! Я вас ждала и не могла дождаться". Узнав, что у нас будет свободный от концертов день, Люся пригласила к себе в гости. В условленный час она приехала за нами со своим мужем, и мы отправились к ним.
Жили они в небольшом уютном домике на окраине Мельбурна. Выйдя из машины, я увидел массу яблок, валявшихся под деревьями На мой вопрос, почему Люся на собирает плоды, она ответила: "Да нет смысла, у себя в магазине я возьму любые, самого лучшего качества". Такая беспечность по отношению к собственному урожаю для меня, конечно, была удивительна.
Потом Люся со слезами рассказывала, как она, русская женщина, оказалась далеко от родины. Когда ей было четырнадцать лет, она попала в плен к немцам. Ее отправили в Австрию, где девочка была помещена в лагерь для пленных. Однако Люся вместе с юношей, который впоследствии стал ее мужем, бежала и устроилась на австралийский пароход, который доставил их в Мельбурн. За это она должна была в течение двух лет отработать на каком-то производстве, а затем ей предложил место хозяин магазина, где она работает до сих пор.
Муж ее - поляк, инженер, у них взрослый сын. Люся регулярно ездит к своим родным под Курск.
Большое впечатление произвел на меня в Мельбурне красивый национальный праздник Моомба. В этот день по центральным улицам двигался нескончаемый поток людей, одетых в роскошные костюмы. На машинах спортобществ перед нами "проплыли" спортивная лодка с гребцами, держащими знамена, и боксерский ринг с боксерами. Затем появилась огромная австралийская овца, опоясанная национальным флагом с маркой фирмы, производящей шерсть. В празднестве приняли участие и девушки, победительницы конкурсов красоты. Одна красавица сменяла другую. В золотом корабле восседала на троне мисс Индонезия, мисс Австралия располагалась в центре распустившегося цветка. А вдоль тротуаров сплошной стеной стояли зрители. Они высовывались из окон, забирались на фонари и даже на светофоры.
Решили мы познакомиться и с местным рынком. Кроме огромного количества всяких овощей и фруктов, нас поразило изобилие океанской рыбы. Около каждого товара - табличка с ценой. Оказывается, рынок закрывается в двенадцать часов дня. И когда раздается первый звонок, извещающий, что до закрытия остается тридцать минут, на табличках появляется цена, приблизительно в два раза меньше предыдущей. Цены совсем падают, когда за пятнадцать минут до закрытия раздается второй звонок. В двенадцать часов уже никто не имеет права ничего продавать и ничего унести с рынка. Появляются люди в высоких резиновых сапогах и резиновых фартуках с большими, широкими деревянными лопатами в руках. Этими лопатами они сбрасывают всю непроданную рыбу в цементные желоба, в которых быстро мчится мощный водяной поток. Включаются брандспойты, и все столы и прилавки тщательно моются. Жалость страшная, какая замечательная рыба пропадает зря! Но австралийцы относятся к этому спокойно: необходимая гигиена!
В программе наших развлечений было и посещение кабаре "Лидо", куда мы были приглашены. Это кабаре устроено в подражание парижскому с тем же названием, и все же программа австралийских артистов оказалась хуже, чем во французской столице. Запомнился только финал представления. Высокая красивая дама, одетая в роскошное платье, в туфлях на высоких шпильках, которая вела весь концерт, непринужденно и грациозно двигаясь, вдруг сорвала с себя парик, и перед нами оказался молодой мужчина.
В последнее воскресенье нашего пребывания в Австралии мы побывали в обществе "Австралия - СССР". Здесь мы тоже дали концерт. Особенно много пела Зыкина. Она исполняла даже австралийские народные песни, и некоторые из них - на австралийском языке. Но акцент ее оставался русским, и все австралийцы, да и мы, русские, отнеслись к этому с добрым юмором.
Вечером мы отправились в гости к еще одной русской паре - Кире и Федору. Хозяйка рассказала нам, что незадолго до нашего прихода она услышала недовольное ворчание и повизгиванье. Оказалось, что в гамак с дерева упал и запутался в нем медвежонок коала. Это ласковые животные, и их очень любят в Австралии.
Хозяева познакомили нас со своей маленькой дочкой, и она вызвала у всех умиленье. В костюме Снегурочки около "заснеженной" елочки девочка пела и танцевала, а ведь в далекой Австралии даже не знают, что такое снег.
За двадцать дней мы дали двадцать пять концертов, и к концу поездки все немного устали. Жара спала, стал моросить дождь. Подул довольно сильный ветерок, и я даже успел немного простудиться. Мне пришлось дальше оставаться дома, пить теплый чай и глотать стрептоцид.
И все же последние концерты прошли с особенным успехом, и мне на прощание пришлось петь на "бис" четвертую вещь. Кроме "Эй, ухнем!" Кенемана, арии Мельника из "Русалки", Песни Еремки из оперы "Вражья сила", я спел еще романс Гурилева "Колокольчик".
Наконец, мы на аэродроме. Прощаемся со множеством людей, которые пришли нас проводить. Здесь и русские, и австралийцы, но вот самолет поднялся, мы полетели в Новую Зеландию и произвели посадку во втором по величине городе Окленде.
Если уж Австралия далекая страна, то Новая Зеландия кажется расположенной совсем на краю света. Однако по своему гостеприимству и комфортабельности жизни она может поспорить с любым европейским государством. Нас встретили, преподнесли цветы, сувениры, и мы направились к автобусу. Здесь нас ждал ансамбль местных жителей маори. Его артисты босые, одетые в национальные костюмы (тростниковые туники),- исполнили для нас свои песни и танцы, и их музыка очень понравилась нам своей мелодичностью.
Затем нас поместили в прекрасном мотеле "Логан парк отель", в номерах с телевизором, холодильником и даже электроплиткой. На столиках стояли стеклянные кофейники для приготовления кофе. Здесь же лежали пакетики растворимого кофе и чая, сахар и сухие сливки. Мы были благодарны за такое внимание. Ведь, когда поздно вечером приходишь после концерта, так хочется подкрепиться! Позаботились новозеландцы и об отдыхе своих гостей. Внутренний дворик мотеля был украшен цветами, пальмами. Здесь же находился и небольшой бассейн для плавания. Так что можно было искупаться и отдохнуть в тени деревьев.
3 апреля у нас состоялась первая репетиция. Театр, в котором мы должны были выступать, оказался очень симпатичным, но акустика его опять была неважная.
Потом мы бродили по городу. В нем, как и всюду по стране, все было устроено на английский лад. Светлые здания с красной черепицей, очень много зелени, цветов. Чистота - поразительная!
Открытие гастролей состоялось в городском театре, и концерт прошел с большим успехом. Мне казалось, что я подсипываю и пою хуже обычного, но публика принимала меня хорошо.
И все же нас поразили костюмы, в которых местные жители приходили на концерты. Некоторые девушки были в шортах и босиком, Другие в трикотажных брюках, которые смахивали на кальсоны, или в юбках чуть-чуть ниже бедер, обнажающих не всегда красивые ноги. Мужчины же появлялись на концерте и в трусах.
После первого концерта нам устроили прием. Неожиданно среди дам, одетых в изысканные вечерние платья и украшенных сверкающими драгоценностями, и мужчин в смокингах мы узнали тех самых маори, которые встречали нас песнями и танцами на аэродроме.
Концерты пошли своим чередом. У меня уже больше не першило в горле, и я успокоился. Как всегда, выпадало время и для отдыха.
4-го утром с секретарем общества "Новая Зеландия - СССР" мы поехали на прогулку по городу. Поднявшись на высокий холм, где стоит скульптура мужчины маори, мы долго любовались изумительным видом, открывшимся нашим взорам. Этот холм находился в центре города, и с него виден весь бело-красный, утопающий в зелени Окленд. С одной стороны - Тихий океан с группой островов, а с другой - Тасманское море.
Как-то поехали в музей, в котором представлены жилища маори из дерева красно-коричневого цвета, пироги, украшенные резьбой, всевозможное оружие, фигуры из камня и дерева, домашняя утварь. Все это было очень интересно.
В воскресенье отправились на прогулку к морю. Погода была ветреная, поэтому лишь немногие решили искупаться. Наши хозяева захватили солидную провизию с кока-колой и пивом. Мы расположились около пляжа среди раскидистых больших деревьев и устроили здесь ленч. Рядом паслись красивые породистые скакуны. Одна лошадь подошла ко мне. Я люблю животных и с радостью угостил ее булкой, но потом, когда я во время беседы повернулся к соседям, моего завтрака и след простыл - лошадка не растерялась. Я подумал: "Хорошо еще, что она не умеет пить пиво из бутылки".
Потом мы побегали босиком по пляжу, поиграли в футбол, и к вечеру вернулись в отель.
Повели нас и в кино, где показали комедию на тему о том, как русские высаживаются в Америке. Смотреть было противно. Разочаровала нас и картинная галерея. Мы решили пойти в зоопарк, и он оказался замечательным. В просторных клетках находились обезьяны, шесть больших гиппопотамов резвились в светлой воде канала, а львов можно было наблюдать прямо с перекидных мостиков, которые проходят прямо над вольерами. К нам подошел служитель зоопарка с необычной птицей в руках, размером с индюшку, но без крыльев. Она называется киви. Служитель предложил подержать ее. Когда я взял киви на руки, она от страха спрятала голову у меня под мышкой, что, конечно, всех очень позабавило.
И здесь, в Новой Зеландии, нашлись русские, которые приходили на концерты и приглашали нас в гости.
Концерты в Окленде прошли с большим успехом, и мы на поезде отправились в столицу Новой Зеландии - Веллингтон.
Веллингтон так же, как и Окленд, расположен на холмах, поднимающихся над красивой бухтой и морским портом. Он тоже состоит из светлых зданий с красной черепицей. Это сочетание цветов - голубой воды с белыми домами очень красиво. Как-то мы поехали по изрезанному берегу бухты, потом поднялись на самую высокую точку города, где тоже открывается красивейший вид на город и бухту. Здесь же воздвигнут и памятник прославленному английскому фельдмаршалу А. Веллингтону, в честь которого назван город. А рядом с ним стоит медная пушка.
Вообще, вся Новая Зеландия, покрытая горами со снежными вершинами, красивыми реками и множеством зелени, оставляет незабываемое впечатление. Мне понравился и пролив Кука. Он широкий, и огромные зеленовато-синие волны с грохотом разбиваются о гранитные камни. Морской прибой часто выносит на сушу водоросли и раковины, и я собрал несколько больших перламутровых раковин.
Мне, как любителю-рыболову, запомнилось также, как вся наша группа отправилась ловить угрей. Я вынужден был остаться дома, так как плохо себя чувствовал, к тому же погода была холодная и ветреная. Однако рыбацкое счастье выпало на долю Зыкиной и Кондратюка, и они поймали по одному угрю. Но посудите, какого они были размера, если десть человек два раза варили уху и не могли все съесть!
В Новой Зеландии чистейший воздух, так как на ее территории нет ни фабрик, ни заводов, ни крупных предприятий. Прозрачные внутренние водоемы. Поэтому в озерах множество всевозможной рыбы. Однажды наш посол сделал кратковременную остановку около одного из озер, и, достав из багажника спиннинг, поймал, вместе со своим шофером, восемнадцать форелей. Причем каждая форель не менее двух килограммов. Повар из нашего посольства мне рассказал, что по утрам ездит на одно и то же место и вылавливает по четыре-пять рыбин весом по пять-шесть килограммов. Вот это рыбалка!
Узнали мы еще об одной достопримечательности этих мест - теперь уже бывшей. Дело в том, что теплоход, который курсировал через пролив Кука, всегда сопровождал белый дельфин, альбинос. Но какой-то злой человек застрелил это чудо природы.
Нам также рассказали, что в определенное время в город приплывает огромный морской слон. Он облюбовал себе место на городском пляже, ложится там и, не обращая ни на кого внимания, в течение двух недель принимает солнечные ванны и плещется в море. Тут, конечно, собираются толпы людей, особенно ребятишек, и все наблюдают, как он переваливается со спины на бок и на живот, обсыпает себя песком, а потом направляется в море и все смывает.
Во время нашего пребывания в Новой Зеландии погода часто и резко менялась. То солнечная, то пасмурная и дул сильный ветер. И все же в климатическом отношении это чудесная страна. Средняя годовая температура двадцать градусов. Бывает тепло, но не слишком жарко - до тридцати градусов. А самая низкая температура плюс десять. Значит, не нужно зимней одежды и можно обойтись без отопления помещений.
Гастроли наши в Веллингтоне проходили в оперном театре. Они имели успех у публики, и мы выступили в шести концертах.
В последний день пребывания в Веллингтоне мы дали заключительный в этом сезоне - шестидесятый по счету - концерт. Он прошел с особым подъемом. Пришлось даже два раза петь на "бис". На этом мы с Валентиной Левко закончили гастроли в Австралии и Новой Зеландии, но оркестр с другими солистами должен был еще несколько раз выступить в Австралии, и 23 апреля утром мы вылетели в Брисбен. Здесь мы провели всего один день, но успели полюбить этот город - нам очень понравились его широкие улицы, усаженные рядами пальм и ярко цветущих деревьев. Вечером оркестр дал еще один концерт, и мы отправились в Сидней.
Этот город старше Мельбурна. Он стоит на живописных холмах, с которых открывается чудесный вид на изрезанную бухту. Гордость сиднейцев - красивый мост. Мы же интересовались строительством нового оперного театра, которое тогда заканчивалось, бродили по улицам, заглядывали в роскошные витрины, любовались пятидесятиэтажными зданиями. Однако путешествие наше подходило к концу. Нас ждала Москва.
Два месяца вне дома. Столько перелетов! И вот самолет снижается, и идет на посадку. Выбрасываются шасси, легкое касание посадочной полосы, вздох облегчения - и из наших уст вырывается невольное "ура!". Мы дома.
Поездка в Монреаль
В том же 1967 году состоялась очень интересная поездка нашего театра в Монреаль, где в то время была Всемирная выставка ЭКСПО-67. Мы с радостью ожидали этих гастролей, были наэлектризованы и интенсивно репетировали.
Четвертого августа в аэропорту Шереметьево в десять часов утра собралась чуть ли не вся труппа Большого театра - четыреста человек. В одиннадцать тридцать мы на двух огромных лайнерах, вместивших и нас, и весь наш реквизит, вылетели в сторону Мурманска, а затем самолет должен был взять курс на Монреаль. Нам сказали, что полет будет беспосадочным. Однако почему-то самолеты сели в Мурманске (видимо, для дозаправки горючим), и через час мы уже снова летели в сторону Исландии, Гренландии, Лабрадора. Это был не прямой путь, чтобы в случае какой-либо неполадки можно было где-то приземлиться, и весь перелет от Москвы до Монреаля занял двенадцать часов.
Монреаль встретил нас ливнем, однако мы решили, что это хорошая примета. На аэродроме нас уже ждали главный режиссер театра Иосиф Михайлович Туманов, наш молодой дирижер Геннадий Рождественский, главный художник Вадим Федорович Рындин и многие другие работники театра, прилетевшие сюда раньше. Репортеры хотели получить у нас интервью, но мы устали, да и воды было чуть ли не по колено, поэтому мы быстро проскользнули в машины, которые помчали нас по шикарным дорогам в отель.
По московскому времени была половина второго ночи, здесь же только начинался вечер, ведь разница во времени составляла семь часов. Естественно, хотелось спать, но мы побросали чемоданы, чтобы поскорее выйти в город и осмотреть его. Хотя мы видели Монреаль в кино и на снимках, хотелось все увидеть своими глазами. Мы вышли на прогулку, и даже в ночное время город нам очень понравился.
Потом мы вернулись в отель и смогли осмотреться. Наши номера оказались очень комфортабельными. Каждый представлял собой большую просторную комнату с холодильником, телевизором и радиоприемником. В комнату вела маленькая прихожая, а рядом с ней находилась ванная и небольшая кухня с электроприборами. Там было все, что нужно для хорошей хозяйки: кастрюльки, миски, ложки, посуда. Нам сказали: "Если вы хотите, можете себе купить то, что вам понравится в магазинах, которые видны из окон нашего отеля, и сами себе готовьте".
Для нас, артистов, это всегда очень удобно, так как можно перекусить быстро. Кроме того, это и выгодно, так как в ресторанах все слишком дорого.
Освоившись в своих номерах, все поспешили в постели, а я умышленно бодрствовал, так как хотел перебороть сонливость, чтобы постепенно привыкнуть к разнице во времени. Ведь через пять дней - премьера "Бориса"!
Пятого августа в восемь часов утра меня разбудил звонок. Звонил наш тенор Владимир Ивановский. Ему не спалось, и он решил, что мне тоже не спится. Пришлось одеться, и мы помчались на выставку. Мы сели в электропоезд, специально предназначенный для обзора выставки, и вышли у советского павильона, созданного из стекла и ажурных легких колонн, покрытых покатой крышей. Мы увидели очень много интересных экспонатов, касающихся космонавтики, буровые установки, теле- и киномеханику. Остаток же дня провели, гуляя по городу, а шестого уже начались репетиции.
Театр нас поразил. Прежде всего своей формой, напоминающей спереди ротонду с множеством колонн. Сзади же здание было похоже на опрокинутый четырехугольник. Зрители на машинах въезжают в его нижнее подвальное помещение, им уже не страшны ни дождь, ни снег, и сразу попадают в фойе, оформленное очень красиво, в стиле модерн.
Зал театра вмещает более трех тысяч посетителей и похож на Кремлевский Дворец съездов. И хотя за кулисами душно, в зале установлены кондиционеры, и дышится там легко.
Мы, певцы, волновались, как в таком огромном помещении будет звучать голос. Попробовали в пустом зале - всюду слышно хорошо. "А с публикой акустика еще лучше",- традиционно успокоили нас работники театра.
Все же у нас еще оставалось время, чтобы снова посетить выставку. Теперь мы осмотрели еще несколько павильонов, в том числе павильоны Африки, Марокко, Туниса, а также павильон США. Построенный из стекла и стали, шарообразный, огромный, он был виден отовсюду. В нем широко экспонировались достижения космонавтики, киноискусства, но совершенно не было ни автомобилей, ни радио, вообще никакой техники. "Приезжайте к нам в Америку,- сказали нам американцы на наш недоуменный вопрос.- Там эта техника на каждом шагу".
Восьмого весь день с десяти утра до шести часов вечера продолжалась оркестровая репетиция "Бориса Годунова". 10-го утром дул ветер, моросил дождь, было прохладно, и все же мы с Ивановским пошли в парк подышать воздухом, а вечером состоялась премьера.
Премьера - это всегда трудно. Приходят все критики и вся знать - дамы в мехах и драгоценных украшениях, мужчины в смокингах и во фраках - иначе в партер не пускают, так что публика, конечно, тоже представляет весьма красивое зрелище.
Спектакль шел с огромным успехом. После сцены коронации уже начались овации и крики одобрения, все пели удачно, с подъемом, и по окончании спектакля нас провожали долгими овациями. Публика аплодировала стоя. Затем к нам за кулисы пришли со своими женами губернатор города, официальные лица и наш тогдашний министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева.
Мэр города попросил меня оставить запись в книге почетных гостей, что я и сделал. Только в четыре часа ночи мы легли спать. Одиннадцатого появилось много очень хороших рецензий. Мы целый день гуляли и вечером еще раз поехали на выставку. На этот раз нам понравился красивый французский павильон, сделанный, как всегда, с большой выдумкой, очень изящный. Английский павильон напоминал носовую часть корабля в несколько этажей. Павильоны Таиланда и Бирмы носили восточный характер. Их крыши в форме пагод переносили в мир этих стран. Все это было очень интересно.
Вслед за премьерой "Бориса" должна была идти опера Прокофьева "Война и мир". Все участники спектакля очень волновались, так как билеты были проданы только на "Бориса Годунова" и "Князя Игоря" Но вечером мы увидели, что театр заполнен до отказа, и успех "Войны и мира" тоже оказался громадным.
Двенадцатого августа отдыхали. Пошли в парк на высокой горе, откуда открывается замечательный вид на город. В нем много белок, почти ручных. Они просят орехов, и стоит сесть на одну из лавочек, как они вспрыгивают на столик и ждут угощения. Местные жители это уже знают и никогда не приходят с пустыми руками.
В Монреале не слишком высокие небоскребы. Встречаются дома по тридцать-сорок этажей, но нет таких громадин, как в Нью-Йорке, поэтому город кажется более светлым, нарядным. Украшают его и два самых красивых здания - Плайс ду Канада и Рояль Банк. Очень симпатична улица Сант Катарина. Она нарядна и ночью - вся в огнях, расцвеченная движущейся рекламой, и мы любили по ней гулять.
Особенно же красив Монреаль с возвышенности. Взгляду открывается много зелени, широченная река, большое впечатление производит мост "Шапмле".
Второй спектакль "Бориса" тоже прошел с большим успехом. Тринадцатого, в воскресенье, все было закрыто, кроме кафе и ресторанов, город опустел, и мы весь день гуляли.
Неожиданно во время прогулки мы встретили русских жителей Нью-Йорка, которые были на моем концерте и приехали в Монреаль, чтобы снова меня послушать. Они пожаловались нам (я был с Ивановским и Гелевой), что не смогли достать билетов, и мы пообещали им помочь. Тогда мои русские поклонники пригласили нас побывать в том месте, где они остановились, и мы сели в их машину. То, что я увидел, оказалось удивительно разумным. Мы попали на стоянку автомобилей с прицепами, где была маленькая кухонька с газовыми баллончиками. Какой-то предприниматель арендовал землю во фруктовом саду и заранее разбил его на секторы. Места, отведенные для машин, были асфальтированы и размечены. Из низкой асфальтовой впадины сделан бассейн для купания, открыты два магазинчика - продуктовый и галантерейный. По окончании же выставки этот участок возвращался во владение его хозяину.
Так как билетов на оперные спектакли не оказалось, я смог устроить своих новых знакомых только на симфонический концерт. Все мы с волнением ждали, как его воспримет публика, потому что программа концерта была сложной. Она включала в себя произведения Шостаковича: Первую симфонию, Второй концерт для виолончели с оркестром в исполнении Ростроповича и ораторию "Казнь Степана Разина", где я исполнял партию баса. Однако вопреки нашим страхам, все произведения встречали горячий отклик, и концерт прошел с большим успехом.
Сразу же после концерта часть хора и солисты уехали в Торонто, второй по величине город Канады. Здесь пятнадцатого и шестнадцатого августа состоялись концерты в основном балетной труппы. Исполнялись акт из "Лебединого озера", акт из "Жизели", танцы из "Сусанина", сцена "Половецкого стана" из "Князя Игоря". Очень хорошо танцевал Ягудин "Гопак" Соловьева-Седого, и публика восторженно приветствовала всех исполнителей.
От Торонто недалеко до Ниагарского водопада. Это одно из чудес света. Ведь бесконечная масса воды составляет не один, а множество потоков. Здесь предусмотрены и самые разнообразные способы обслуживания туристов. Желающим выдают резиновые сапоги, плащ с капюшоном, и можно спуститься вниз и пройти под самой струёй. Внутри под водопадом есть музей, кафе и ресторан, вверху - смотровые башни. С них открывается вид не только на Ниагару, но и на Америку, которая находится с другой стороны реки.
Семнадцатого мы на поезде вернулись в Монреаль. Всю дорогу любовались замечательными пейзажами, открывавшимися нам из окна и напоминавшими среднерусские - с нежными березками и суровыми елями. На следующий день стали готовиться к отъезду, покупать сувениры и затем, счастливые от стольких впечатлений, отправились домой.
"А голос так дивно звучал..."
В
конце пятидесятых - начале шестидесятых годов в театр пришло новое хорошее пополнение певцов. Среди них прежде всего нужно выделить Владимира Атлантова. Его голос - лирико-драматический тенор - красивый, полный, звучный и в то же время мягкий. Пожалуй, его лучшие партии - Отелло и Канио.
Владислав Пьявко сначала пел маленькие партии. Это меццо-характерный тенор. Со временем он с успехом стал петь и Радамеса, и Хозе, и Канио, но я считаю, что одна из самых его удачных партий - Манрико в опере Верди "Трубадур". Он единственный тенор, который знаменитую стретту Манрико "Нет, не удастся дерзким злодеям" поет в той тональности, как написано у Верди. Другие же тенора ее транспонируют даже на тон ниже. Я считаю, что в академическом Большом театре это недопустимо.
Много лет я пропел и с Зурабом Ивановичем Анджапаридзе. У него был лирико-драматический тенор, крепкий и "хлесткий". Он исполнял одни драматические партии: Радамеса, Канио, Хозе, Германа, был очень хороший Каварадосси. Я помню и нашу совместную работу в "Дон Карлосе". В этой опере Анджапаридзе создал превосходный и убедительный образ Дона Карлоса. А ведь эта роль - одна из труднейших!
К сожалению, Зураб Иванович рано ушел из Большого театра. Среди баритонов красивым по тембру голосом выделялся Юрий Мазурок. Мне кажется, что у него просто-таки "ультралирический" голос, хотя он поет и драматические партии, но я бы на его месте этого не делал. Я считаю, что его партии - это Онегин, Елецкий, Жермон, Роберт в "Иоланте". Они у него прекрасно звучат. У него яркий голос, певец очень интересен внешне, хороший артист, владеющий выразительным словом. Короче говоря, он производит большое впечатление.
Мы любили и Евгения Гавриловича Кибкало, обладавшего красивым баритоном. Это был стройный, обаятельный человек и очень хороший артист. Он пел партии Елецкого, Онегина, Жермона - лирический репертуар. К сожалению, его сценическая судьба оказалась недолгой. Я думаю, что он сильно навредил себе, выступая с исполнением песен под микрофон. Это пагубно для артиста, который поет на оперной сцене.
В басовой группе большой любовью слушателей пользовались Александр Ведерников и Артур Эйзен, которые также внесли свою лепту в развитие оперного искусства Большого театра.
Ведерникову сначала поручали небольшие партии, а затем он очень удачно спел Варлаама, Фарлафа, позже Мельника и Сусанина. Это был думающий и работающий над собой артист.
Артуру Эйзену, наделенному мягким красивым басом, пришлось сначала трудно, потому что, когда он начал работать в театре, на сцене еще выступали певцы с такими огромными голосами, как Рейзен, Пирогов, Михайлов. Но постепенно эти артисты покинули сцену, Эйзен начал исполнять партии первого репертуара и делал это с успехом. Как певец и как актер он производил хорошее впечатление.
Другой молодой бас, Марк Решетин, также имел мягкий, красивый по тембру голос. Он выделился в партиях князя Юрия в "Сказании о граде Китеже", Пимена в "Борисе Годунове". Настоящей творческой удачей певца стала и роль Сусанина. Я помогал ему войти в этот спектакль, показывал, как строятся мизансцены, обращал внимание на особенно ответственные фразы и эпизоды партии. И нужно отдать Решетину должное - он все "наматывал на ус", брал на вооружение, и это помогло ему в создании образа. Кроме того, Марк хорошо пел Гремина, Досифея и даже поехал вместо меня в Италию с исполнением этой партии. Мне, так же как и Архиповой, предложили спеть в "Хованщине" на итальянском языке. Я же считал, что такую исконно русскую оперу на итальянский язык переводить нельзя, и отказался от гастролей. Но Решетин был молод, ему показалось это предложение интересным, и он использовал его с успехом.
Среди еще более молодого поколения отлично себя зарекомендовал Виктор Нечипайло. Он подавал большие надежды, так как обладал красивым голосом. Мы ждали, что из него вырастет большой оперный артист. Но, к сожалению, Виктор Тимофеевич почему-то пел недолго, хотя у него в репертуаре были партии Руслана, князя Игоря, Томского, даже Бориса Годунова.
Среди молодежи яркое впечатление осталось от работ Георгия Андрющенко, Виталия Власова, Антона Григорьева, Алексея Масленникова, Владимира Петрова, Евгения Райкова, Владимира Валайтиса, Георгия Панкова, Вячеслава Романовского, Владимира Филиппова.
Среди певиц мне прежде всего хочется выделить Тамару Милашкину, обладательницу очень красивого лирико-драматического сопрано необычайно теплого тембра. Она прекрасно пела Лизу, Марию, Аиду, Тоску, Елизавету в "Дон Карлосе", Февронию. В этих же партиях с большим успехом выступала и Галина Вишневская.
Молодая Ирина Константиновна Архипова - настоящая, думающая и работающая артистка - очень скоро стала мастером и завоевала самое высокое положение. Ее репертуар был в высшей степени разнообразен: Любаша, Полина, Любовь в "Мазепе", Марина Мнишек, Эболи в "Дон Карлосе", Шарлотта в "Вертере".
Обладательница прекрасного голоса Елена Васильевна Образцова - тоже очень музыкальная, умная, размышляющая актриса, достигшая огромного мастерства. Она создала ряд ролей, в которых раскрылась ее способность к своеобразной трактовке привычных образов. Это Марина Мнишек, Кармен, Кончаковна, Полина, Азучена, Эболи.
Тамара Ильинична Синявская обладала, на мой взгляд, самым лучшим голосом из всех молодых певиц меццо-сопрано. Среди ее ролей - Ваня, Ратмир, Ольга, Любаша, Любава, Кончаковна, Княгиня в "Русалке". Но мне кажется, что Тамара Ильинична сделала не так много, как могла, хотя ее обаяние окрашивало все работы певицы.
Как прекрасная певица и актриса зарекомендовала себя Лариса Авдеева. Она пела Кармен, Леля, Ольгу.
В ролях Ратмира, Вани, Княгини в "Русалке" с успехом выступала Валентина Левко, наделенная очень красивым голосом и большой музыкальностью. Однако Левко рано ушла из театра, и мне кажется, что на концертной эстраде певица достигла большего, чем в опере.
В ролях Татьяны, Микаэлы часто выступала Маргарита Александровна Миглау, также занявшая достойное место среди солисток Большого театра. Хорошо пела Татьяну, Недду, Маженку Дина Ивановна Клягина. Но, к сожалению, она тоже рано от нас ушла. В ролях Иоланты, Мими, Марфы мне запомнилась и Тамара Афанасьевна Сорокина - стройная, привлекательная женщина, обладавшая звонким милым голосом.
Маленькие курьезы Большого театра
Как и во всяком большом деле, в Большом театре порой не обходилось без курьезов. Уверен, что всякие забавные, а порой и трагикомические происшествия, бывают во всех театрах. Не миновали они и наш Большой.
Чаще всего курьезы случались почему-то в опере "Травиата". Один из них произошел во время войны. Вот погасили свет, дирижер встал за пульт, и полились нежные звуки скрипки - симфоническое вступление к опере. Вдруг вся публика первых рядов вскочила и выбежала из зала. Спектакль приостановили, дали свет, и выяснилось, что на спектакль пришли фронтовики, которые, по случаю короткой передышки, были навеселе. Когда они увидели, что впереди сидят обычные горожане, их это возмутило: "Тыловые крысы впереди, а мы сзади!" Выхватили пистолеты и приказали всем "крысам" немедленно удалиться. Пришлось звать военную комендатуру для продолжения оперы.
Другой трагикомический случай произошел с моим хорошим товарищем и прекрасным артистом Павлом Ивановичем Чекиным. Дело в том, что по замыслу художника на третьем плане сцены были сделаны две большие ступени, сзади которых располагалась осветительная аппаратура, эффектно подсвечивавшая декорации. А Чекин был чрезвычайно темпераментным артистом. В сцене ссоры с Виолеттой он, воскликнув, "Все сюда!" - в азарте вскочил на ступени, и, отступив еще шаг лицом к залу, но спиной к краю ступеней, полетел вниз головой да еще локтем попал в осветительный прибор. Раздался страшный треск, напоминавший выстрел из ружья, а затем зрители увидели торчащие из-за ступенек две ноги в лаковых ботинках сорок шестого размера... Чекин упал между осветительными аппаратами и не мог сам подняться. Все, пережив сначала некоторый испуг, захохотали, и пришлось срочно закрыть занавес. За кулисы пришел дирижер и спрашивает:
- С чего начнем?
- Давайте с хоровой реплики.
Снова открыли занавес и хор запел: "Что такое? Что случилось?"
Как только хор пропел эти две фразы, в зале опять раздался гомерический хохот, и этот случай актеры запомнили надолго.
Поучительный эпизод произошел в "Травиате" между Хромченко, который исполнял Альфреда, и Хаповым,- посыльным. Хапов, обладавший неплохим баритоном, учился в консерватории, а потом поступил в Большой театр. Хотя он был очень музыкален, но не обладал яркими актерскими данными, из-за чего мог исполнять только вторые партии. Но он, конечно, мечтал о первых ролях, и когда Лисициан пел на сцене арию Жермона, то он за кулисами тоже пел ее во все горло, и, вжившись в образ Жермона, вышел в роли посыльного с письмом и обращается к Альфреду с вопросом: "Вы ли сеньора Валери?" Хромченко открыл рот от изумления. Человек добрый и смешливый, он расхохотался, но потом сквозь зубы прошептал Хапову:
- Пошел к чертовой матери!
Помню и другой случай, с жестоким смехом. Во время войны Валерия Владимировна Барсова пела Виолетту. Ее голос звучал блестяще, но она была уже в летах и весьма пышной. В третьем акте, умирая тем не менее от чахотки, Виолетта произносит грустно: "Должна писать Альфреду". И вдруг во время соло гобоя, которое звучит на пианиссимо, кто-то с галерки ей крикнул: "Ты жива еще, моя старушка?"
Барсова обомлела. Вся публика в зале ахнула, но потом раздался страшный хохот. Валерия Владимировна нашла в себе силы и мужество, чтобы закончить сцену, а потом разрыдалась. Она решила, что это ее последний спектакль "Травиаты" и больше в этой роли не выступала. И, я думаю, правильно. Каждый актер должен вовремя оценить ситуацию и отказаться от каких-то ролей, а может быть - и уйти со сцены.
Забавная история случилась как-то во время утреннего спектакля "Снегурочки". В заключительном акте Снегурочка сидит на пеньке и поет свою последнюю арию. А за сценой в это время дежурили, как обычно, двое пожарных, которым казалось, что идет обычная репетиция. Один из них спокойно вышел на сцену и стал рядом со Снегурочкой. Публика засмеялась. Прибежал администратор и стал шептать ему: "Уйди со сцены, ты что обалдел, что ли? Ведь спектакль же!"
И тут пожарный понял, что он не на репетиции, а на спектакле, но вместо того, чтобы сделать шаг назад и спрятаться за кулису, рысцой побежал в противоположную сторону, пересек всю сцену, чем вызвал взрыв еще большего веселья публики.
А однажды в "Садко" Сергей Александрович Красовский исполнял партию Морского царя. В сцене у Ильмень-озера, где из морских глубин появляются лебедушки, он вышел из морской пучины, чтобы повелеть всем вернуться назад: "Пора вам в омуты глубокие из-под небесных высот". Он спел эту фразу, но механизм, который поднял его над волнами и должен был опустить обратно, отказал, и Красовский остался на сцене над волнами. Голованов, дирижировавший спектаклем, стал делать ему вопросительные знаки: "Чего не уходишь?" Красовский всячески подмигивал, что он, мол, ни при чем, однако Голованов не понял его мимики и для пущей убедительности показал кулак. Тогда Морской царь - Красовский слез с площадки и по-пластунски пополз за кулисы. В партере этого не было видно, но на всех высоких ярусах публика очень веселилась, наблюдая за его манипуляциями.
И в "Пиковой даме" случались забавные происшествия. Дирижировал ею в филиале Большого театра Самуил Абрамович Самосуд, который приехал из Ленинграда, где постановку оперы осуществил Мейерхольд. Первая картина у Мейерхольда делилась на три части: в саду, в гостиной и снова в саду, перед грозой. В каждой части менялись и декорации. Но случилось так, что однажды, меняя декорацию, один холст не убрали, поэтому в сцене в гостиной, где сидели Томский, Чекалинский и Сурин, между ними оказался угол дома с водосточной трубой, к большому удовольствию публики.
Однажды, тоже в спектакле "Пиковой дамы", Нэлепп пел Германа, а Батурин - Томского. Неэлепп вышел, спел свою первую арию, но оказался не в голосе и вдруг на последней ноте во фразе "Я имени ее не знаю и не хочу узнать" запетушил и, расстроенный, ушел со сцены. Далее следует хор, после которого Нэлепп должен выйти с Батуриным, чтобы тот смог обратиться к нему со словами утешения. Но Батурин вышел один, и так как Нэлепп все не появлялся, пошел прямо на дирижера и, показывая руками за кулисы (что означало, что Герман там), спел, обращаясь к Небольсину: "А ты уверен, что она тебя не замечает? Держу пари, что влюблена и по тебе скучает". Небольсин, не зная, что думать о Батурине, схватился за голову и продолжал дирижировать, вообще не глядя на сцену. Но Нэлепп так и не вышел, и пришлось занавес закрыть.
Как-то раз произошел интересный разговор между Вячеславом Ивановичем Суком (который, как я уже говорил, двадцать пять лет был главным дирижером Большого театра и замечательно вел спектакли "Пиковой дамы"), и Владимиром Ричардовичем Сливинским - прекрасным певцом-баритоном. Сливинский пел Князя Елецкого. Когда эту роль исполнял Мигай, то Сук разрешал ему петь по-своему, и он пел так, как находил нужным. Фразу "Ах, я терзаюсь этой далью, состражду вам я всей душой, печалюсь вашей я печалью и плачу вашею слезой", он пел на одном дыхании, показывая свои огромные возможности и мастерство владения высокими нотами. Это звучало очень красиво и ярко. Однажды Сливинский подошел к Суку и спрашивает:
- Вячеслав Иванович! Почему вы разрешаете Мигаю петь на одном дыхании, а мне нет?
Тогда Сук с нескрываемой иронией отвечает:
- Слушайте, дорогой мой, вот когда вы будете петь, как Мигай, я вам тоже разрешу.
Помню, ставили "Иоланту", дирижировал Самосуд, и тенор Леганцев все просил, чтобы тот дал ему что-нибудь спеть в этой опере. Леганцев был очень высокого роста, и, хотя голос у него звучал хорошо, но партии героев он не мог петь, так как его внешность не соответствовала этим образам.
- Ну что я вам могу дать? Ну нет для вас партии в "Иоланте",- отвечал Самуил Абрамович.
Но Леганцев так приставал к Самосуду, что тот сказал:
- Хорошо, пойдите в оперную канцелярию и скажите, что я вам дал партию Рауля.
Счастливый Леганцев прибежал в канцелярию и говорит ее заведующему:
- Василий Иванович! Самуил Абрамович дал мне в "Иоланте" партию!
- Какую-с? - спросил заведующий.
- Партию Рауля!
- Как-как?
- Партию Рауля!
Тогда Василий Иванович обратился к сотруднице:
- Милочка, дайте, пожалуйста, клавир "Иоланты"... Так, давайте посмотрим.. Где же здесь Рауль? Ага, вот. Что же тут про него говорится? Бертрам: "Узнай, старик, Рауль вчера скончался".
Смешная история случилась в "Иоланте". Я пел короля Рене, а Норцов Роберта. Он хорошо пел, красиво выглядел. И дикция у него всегда была очень четкая. Роберт пришел с отрядом, чтобы спасти Водемона, и, увидев короля Рене, движимый благородным чувством, с жаром воскликнул: "Что вижу? Король Рене! Велите, дочь вашу, перед алтарем я..." И вдруг забыл слова и начал: "Пам-пам, пам-пам, пам, пам-пам-пам". Потом неожиданно на высоком фа-диезе вывел одно слово: "Матильде". Тут уж никто не мог удержаться от смеха. Хохотал мужской хор, да и я тоже не мог петь от смеха.
В опере "Тихий Дон" выступал Михаил Сказин, обладатель хорошего голоса. Он исполнял маленькую партию, в которой должен был спеть несколько фраз, очень трудных по ритму. Сказин не справлялся с этим ритмом, подвирал, но Самосуд, зная это, его ловил и привык в этому. Однажды артист заболел, и его роль поручили исполнить очень музыкальному певцу И. Хапову, который должен был спеть эти фразы в глубине сцены. Хапов, дирижируя себе, все спел абсолютно верно. Самосуд даже встрепенулся. Когда закончилось действие, Хапов пришел в дирижерскую комнату, ожидая, что Самосуд его похвалит, и спрашивает:
- Самуил Абрамович! Как я пел?
Тогда Самосуд с присущим ему юмором неожиданно отвечает:
- Слушайте, дорогой мой, да вы меня чуть не сбили!
Другой забавный случай произошел с артистом Дровянниковым. Он пел партии Спарафучилле, Гремина, Гудала, а в "Тихом Доне" исполнял роль войскового атамана. Постановщикам оперы казалось, что если он просто выйдет на сцену, то это будет неэффектно. Большой театр имел возможность сделать так, чтобы певец выезжал на лошади, о чем ему и объявили. Дровянников не испугался. "Вы знаете, я донской казак и умею обращаться с лошадьми. Не беспокойтесь, все будет в порядке",- заверил он.
Ему показали лошадь, он ее долго кормил сахаром и пряниками и вроде бы подружился. Когда же на спектакле войсковой атаман должен был выехать на площадь, чтобы произнести небольшой монолог, возвестив, что объявлена война с Германией и все должны встать за Отечество, лошадь заволновалась. Она ни за что не хотела идти на сцену. Тогда Дровянников ее пришпорил, и она неожиданно сорвалась с места и галопом пронесла его через всю площадь. Так что донской казак успел только крикнуть. "Казаки, за мной!"
В "Аиде", которой дирижировал Вячеслав Иванович Сук, пели хорошие певцы. Но Вячеслава Ивановича уговаривали, чтобы он взял еще одного исполнителя - тенора Викторова, который обладал феноменальным по силе и мощи голосом. Сук отказывался, говорил, что Викторов не музыкален, его подведет, долго отнекивался, но в конце концов его уговорили. Провели репетицию, и все прозвучало слаженно. Когда же Викторов вышел в первом действии и начал свой романс "Милая Аида", очень трудный, он заволновался, и хотя голос его звучал сильно, все пошло "поперек" с оркестром. Особенная же путаница началась во время сцены с хором и ансамблем. Когда кончился первый акт, многие артисты прибежали к Вячеславу Ивановичу в его директорскую комнату.
- Вячеслав Иванович, ну как? Ведь это же героический тенор!
На что Сук иронически заметил:
- Да, тенор-то он героический, но ведь ему и дирижер нужен героический.
Пикантный случай произошел на опере "Саломея" Рихарда Штрауса. Согласно либретто на сцене поет хор евреев, и Сук долгое время бился над стройностью его звучания. Когда же этот хор был отрепетирован, Сук объявил: "Все евреи свободны". И вдруг оркестр поднялся и собрался уходить. "Да нет, нет! - закричал Сук.- Не эти евреи, а те, которые на сцене!"
...В "Русалке" партию Княгини исполняла Фаина Сергеевна Петрова, очень музыкальная певица, которая хорошо владела фортепиано. Фаина Сергеевна рассказывала мне, что когда она учила партии, то играла подряд весь клавир и пела за всех певцов, поэтому знала оперу наизусть. И вот в самом последнем акте, на берегу Днепра, когда Княгиня появляется, чтобы уличить Князя в измене, он должен спеть ей фразу "Зачем вы здесь?". А она вдруг, зная весь клавир, по инерции прямо в лицо Лапину спела: "Зачем вы здесь?" Князь - Лапин оторопел от изумления, но быстро нашелся и пропел в ответ: "А вы зачем?" Артисты и публика, несмотря на трагическую по либретто ситуацию, расхохотались.
У нас в оркестре работали несколько чешских евреев. Среди них очень хороший тромбонист Яков Штейман - замечательный музыкант. И вот случилось так, что, когда артисты оркестра пришли и сели на свои места, он увидел, что второй тромбонист одет в новую крахмальную манишку со сверкающим бантиком. Однако когда этот второй тромбонист начал играть свою сольную фразу, то неожиданно сделал несколько киксов. Тогда в паузе Штейман выдает ставшую у нас поговоркой фразу: "Крахмальные манишки ноты не берут".
Печально закончилась одна ситуация в утреннем спектакле "Лоэнгрина", которым дирижировал Сук. В перерыве пришел в театр виолончелист Козолупов, который в этот день был свободен. Он поговорил с оркестрантами, сел около арфы и задремал. Этого никто не заметил, но когда начался следующий акт, то на пианиссимо скрипок Козолупов вдруг проснулся, схватил с испугу арфу и начал брать на ней какие-то немыслимые аккорды. Сук схватился за голову и чуть не упал в оркестровую яму. После спектакля разразился такой скандал, что Козолупова уволили из театра.
Шел как-то балет "Ромео и Джульетта". В антракте скрипач Непомнящий выскочил и побежал в ЦУМ. Возвращается обратно и говорит: "Ребята, посмотрите, какая интересная новинка!" И показывает небольшой плоский будильничек, и все восхищаются его мощным звонком. Потом оркестранты сели на свои места, спектакль продолжался. Вдруг в паузе будильник со всей силой зазвонил. Ю. Файер, дирижировавший балетом, открыл глаза шире своих очков. Непомнящий схватил будильник, прижал его к себе, но тот еще долго "под сурдинку" подавал голос.
Очень интересно ставил "Фауста" режиссер Смолич. У Фауста в кабинете стоял большой глобус, метра полтора в диаметре, сделанный из металлических прутьев, обтянутых материей. Перед появлением Мефистофеля внутри глобуса загорались лампочки и получалось, будто шар начинал гореть. Мефистофель представал перед Фаустом, держа этот шар над головой со словами: "Вот и я, чему ты дивишься?"
Но на самом деле Мефистофель не держал шар - он поднимался на тонком невидимом тросе. И вот Евгений Васильевич Иванов мне рассказывает: "Ты знаешь, жду вчера своего выхода, приготовился. "Ко мне, злой дух, ко мне!" - призывает Фауст, а шар ни с места. Из люка его крутят, а он не поднимается. Ну, я его на своем горбу поднял, а он такой тяжелый, да еще вокруг меня на стальном тросе вращается. Публика была довольна, а я еле довел сцену до конца".
Когда мы репетировали Фауста, то была придумана такая мизансцена: Мефистофель подходит к бочонку с вином и приказывает: "Эй ты, божок, вина дай!" Он делает жест в сторону бочки, и оттуда начинает струиться вино. Технически это было сделано так: все участники сцены сидят за столом, а Мефистофель проводит шпагой по столу, где были сделаны соответствующие контакты, и в этот момент вылетали сильные искры и начинал бить фонтанчик с вином. Мефистофель произносил: "Идите все и пейте на здоровье, господа". Но однажды Пирогов - Мефистофель выхватил шпагу, резко провел ею по столу и, видимо, согнул сосочек, из которого должен был бить фонтан с вином. Мощная струя ударила ему прямо в рот. Он стал кашлять и отплевываться, потому что попало в рот не вино, а вода и, может быть, не очень чистая. Пирогов не выдержал, начал хохотать, и присутствующие тоже развеселились.
А как-то после сцены в темнице мы с Фаустом появляемся на том месте, где происходит вакханалия, и я пою: "Взгляни, одно лишь мановение и тотчас все приходит в движенье".
Тут вырубается на несколько секунд свет, чтобы со сцены убирать все лишнее и начать сцену Вальпургиевой ночи, очень красиво оформленную. Однажды, произнеся свою фразу, я сделал два шага назад (но уже во тьме) и почувствовал, что еду прямо в суфлерскую будку. Она тогда в филиале Большого театра была покрыта плетеным материалом, из которого обычно плетут корзины. Я приземлился на эту крышку, она страшно заскрипела, слегка оглушив суфлера, который, в испуге, закричав "Ой, боже мой!", мгновенно исчез - его как ветром сдуло. Он даже не понял, что произошло. Все же я успел вовремя выскочить из будки и встать в позу, за мгновение до света. Однако участники Вальпургиевой ночи не могли сдержать смех.
В балете "Барышня-крестьянка" главного героя танцевал Владимир Преображенский, очень красивый артист. В этом балете есть такая сцена, где он с девушками играет в жмурки. Но они перестарались и завязали ему глаза так, что он, как ни старался приподнять повязку, не смог этого сделать. Ничего не видя, он побежал за ними и рыбкой полетел в оркестр. Оркестранты даже уронили из рук инструменты. Но не успели еще прийти в себя от испуга, как Преображенский вскочил обратно на сцену и продолжал танцевать как ни в чем не бывало. Публика оценила его выдержку и акробатическую находчивость.
В Большом театре был замечательный певец, высокий бас Анатолий Садомов. Правда, при мне он уже не пел, но до войны я слушал его в спектаклях. Он сильно заикался, однако в пении это совсем не проявлялось. Однажды Самосуд решил попробовать Садомова в "Севильском цирюльнике" в партии Дона Базилио. Ему пришла идея попросить Садомова заикаться в речитативах, а арию петь без заикания. Попробовали - все получилось замечательно. На всех речитативах Садомов здорово заикался, это было очень смешно. И вот на премьере Садомов вышел и в волнении все речитативы воспроизвел без единого заикания. Никакого комического эффекта не получилось. Самосуд пришел к нему огорченный и спрашивает:
- Слушайте, дорогой мой, что вы сделали?
- Са-са-муил А-а-брамович, ну н-ни-никак н-не мог! - отвечает Садомов.
А вот какой разговор произошел у Садомова и Голованова. Обычно в "Пиковой даме" Томского пели такие певцы, как Григорий Пирогов, Савранский, Политковский. Но случилось так, что все они заболели, и Голованову предложили: "Возьмите Садомова, он может спеть. И баллада "Три карты" звучит у него замечательно".
Голованов согласился.
Попробовали - все нормально. Но попробовали под рояль. На сцене Садомов стал, не торопясь, все проникновенно выпевать, а Голованов взял свой темп и начал его подгонять. Садомов же за ним не успевал. Так он пел в своем темпе, а Голованов дирижировал в своем. После этого Голованов прибежал, разъяренный, за кулисы и набросился на Садомова:
- Анатолий, черт бы тебя побрал, что ты спел?!
Садомов посмотрел на Голованова и серьезно ответил:
- Что успел, то и спел.
Голованов был прекрасный дирижер и очень серьезный музыкант. Настоящий труженик. Ведь он приходил на репетицию минимум за полчаса. Садился за пульт. Просматривал все ноты, все штрихи, все сверял. И когда минут за десять до репетиции видел, что кто-то с прохладцей идет к своему месту, то не мог вытерпеть и иногда набрасывался:
- Почему опаздываете?
Объект внимания оправдывался:
- Николай Семенович, еще шесть минут до репетиции.
- Что шесть минут? Вам дойти до места надо? Достать инструмент надо? Сесть вам нужно? Канифолью направить смычок нужно? Разыграться хоть немного нужно? Ноты раскрыть нужно? И вы все хотите за шесть минут?!
Был у нас бас Сердюков, обладавший зычным голосом. Он пел такие характерные партии, как Малюту в "Царской невесте". Но часто путал слова, и путал так, что все актеры и публика не могли сдержать смех. Однажды он вышел и спел: "Григорий, где же крестница тво... моя?" Потом, обращаясь к опричникам, объяснял: "Любовница Грязного. Мы из Каширы увезли ее. Коса, как искры, и глаза до пяток"
Я думаю, что артисты, участники этих забавных историй, а также их друзья, родственники и поклонники не обидятся на меня. Со мной тоже случались курьезы.
Вспоминаю концерт солистов Большого театра в санатории "Архангельское". Когда я закончил первый куплет романса Глинки "Сомнение" словами "Я стражду, я плачу, не выплакать горя в слезах", то понял, к своему ужасу, что забыл слова второго куплета. И так как из-за беспрерывного течения музыки я не мог остановиться, чтобы вспомнить, то стал варьировать предыдущую фразу: "Я стражду, я плачу, я плачу, я стражду" и т. д. В конце концов не без помощи концертмейстера я кое-как вспомнил текст и довел романс до конца. За кулисами меня встретили дружным хохотом мои коллеги, а заместитель директора Большого театра Сергей Владимирович Шашкин спросил меня, лукаво улыбнувшись: "Иван Иванович! Кто это для вас написал такой текст "Сомнения"?"
Прекрасный исполнитель всех теноровых партий Соломон Маркович Хромченко, бывало, тоже забывал слова. Тогда он начинал по ходу действия сочинять свой текст. В "Травиате", во время ссоры Альфреда с Виолеттой, после слов Жермона "Кто мог решиться на оскорбленье несчастной, бедной? Позор! Презренье!" Альфред должен был спеть: "О, что я сделал? Верх преступленья! Не смог сдержать я души волненье, зажглася ревность как пламень ада. О, тут пощада уж далека". Но так как певец забыл слова, то дальнейший текст выглядел так: "О, что я сделал! Зачем приехал? Зачем приехал? Зачем уехал!? Зачем приехал? Зачем уехал? О, тут пощада уж далека".
Другой случай произошел с Хромченко, когда он пел графа Альмавиву в "Севильском цирюльнике". Переодетый в монаха, ученик Дона Базилио, граф Альмавива проникает в дом Бартоло. Он объявляет, что послан своим заболевшим учителем, чтобы провести урок с Розиной. И вдруг появляется сам Дон Базилио. В этой сцене "мнимый ученик" старается не дать вставить слово своему больному учителю и должен спеть такую фразу: "Дон Базилио, извините. Миг один, я объясню! Миг один, я, миг один, я, миг один - все объясню!" Но и здесь, забыв нужный текст, артист предложил свой вариант: "Дон Базилио, должен, должен, должен, должен, должен, должен..." и так далее Тогда артист Стефан Сократович Николау, исполнявший роль Дона Базилио, сначала с удивлением на него посмотрел, а затем в паузу довольно громко сказал: "Ну, если должен, так давай!"
Но на этом злоключения Хромченко не кончились. В "Евгении Онегине", в сцене дуэли, когда Ленский поет свою популярную и любимую слушателями арию "Куда, куда вы удалились", вдруг в середине арии артист вместо фразы "Паду ли я стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?" спел: "Ах, Ольга, я тебя любил, иль мимо пролетит она?" Нетрудно представить себе реакцию зрительного зала.
В конце тридцатых годов в Большом театре начинал свой творческий путь очень хороший тенор Петр Белинник, который затем стал солистом киевской оперы. В Москве молодому певцу предложили партию Овлура в опере "Князь Игорь". Эта партия небольшая и не очень сложная в музыкальном отношении, и Белинник, быстро выучив ее и прорепетировав с режиссером, стал петь в опере. Крещеный половчанин Овлур тайно пробирается в шатер к пленному Игорю и уговаривает его бежать на родину. Однако Белинник от волнения позабыл весь текст, и вместо фразы "Дозволь мне, княже, слово молвить. Давно хотелось мне сказать тебе..." - пропел "Ля, ля, ля, ля, ля, ля". Изумленный Игорь, которого пел замечательный артист Л. Ф. Савранский, ответил своей фразой: "Что тебе?" Но, несмотря на зычный шепот суфлера "Дозволь мне, княже", который уже слышал весь театр, Овлур-Белинник продолжал: "Ля-а-а-а, ля-а-а". Еле сдерживая смех, Игорь спрашивает: "Что?! Мне, князю, бежать из плена потайно? Мне? Мне? Подумай, что ты говоришь?" Но Белинник не мог выйти из колеи своего "ля" (самое смешное, что после такого убедительного диалога Игорь должен был произнести следующую заключительную фразу: "Овлур, быть может, прав. Спасти свой край я должен").
Однако были и случаи находчивости наших певцов. Например, в опере "Риголетто" заглавную партию исполнял Д. Н. Головин, а его выступления всегда вызывали большой интерес не только у публики, но и у самих артистов. Многие из тех, кто даже не участвовал в спектакле, устраивались где-нибудь в зрительном зале или за кулисами, чтобы послушать его пение. Один из ведущих басов театра Б. Н. Бугайский тоже пришел однажды послушать Головина и перед вторым действием оперы спокойно стоял в кулисе, ожидая дуэта Спарафучилле и Риголетто. Но, когда открылся занавес и зазвучало виолончельное вступление к дуэту, на плечи Бугайскому вдруг кто-то накинул широченный плащ, а на голову - черную широкополую шляпу и со словами: "Иди! Иди! Ради бога иди!", вытолкнул на сцену. Сначала Бугайский ничего не понял, но, оказавшись на сцене и услышав музыку, не растерялся и запел. А так как он был в обыкновенном гражданском костюме, без грима, парика, бороды и усов, то завернулся в плащ по самые глаза, закончил дуэт с Риголетто и ушел за кулисы. И ни публика, ни актеры, присутствовавшие в зале, ничего не заметили. Потом выяснилось, что исполнитель партии Спарафучилле не пришел на свой выход. Ведущий режиссер спектакля, обнаружив это, выхватил плащ и шляпу у стоящего рядом артиста хора, накинул их на Бугайского, а затем вытолкнул его на сцену. Можно себе представить, с каким замиранием сердца он следил за исполнением дуэта!
Когда я спел весь ведущий басовый репертуар в Большом театре, мне как-то захотелось спеть еще что-то новое. Побывав на спектакле "Царская невеста", который шел у нас в филиале, я решил, что мог бы исполнить партию Собакина. Она очень певучая, довольно большая, а в конце оперы даже есть выразительная красивая ария. Вскоре я вошел в спектакль. И вот однажды в сцене помолвки Марфы и Лыкова я должен был выйти в кафтане, поверх которого накинута еще легкая шубка без рукавов, отороченная мехом. Но, когда режиссер пригласил меня на сцену, я забыл эту шубку надеть. Во время действия я заметил какое-то оживление в зале, а затем и в директорской ложе, и за кулисами, откуда мне непрерывно делали какие-то знаки. Наконец, в паузе я вышел за кулису, тут меня уже ждал костюмер, который быстро накинул недостающую шубку. Оказывается, передняя часть моего кафтана была сделана из настоящего дорогого материала и расшита парчой, а заднюю (ведь ее из-за шубки не видно) сшили просто из дерюги. Да еще жирным шрифтом, словно углем написали: "Царская невеста". Собакин. Петров" - что я и демонстрировал публике.
Чреватый серьезными последствиями инцидент произошел со мной перед "Фаустом", который шел в филиале Большого театра. Одетый и загримированный, я вышел из гримировальной комнаты и должен был спуститься по двум лестничным маршам, чтобы попасть на сцену. Ступени лестницы были хотя и гранитные, но, видимо, уже от времени сильно потертые, и, когда я ступил на первую ступеньку, моя нога скользнула вперед, я упал на спину и стремглав полетел вниз. Я понимал, что если не уцеплюсь за что-нибудь, то вылечу со второго этажа через окно прямо на улицу. Уже будучи на площадке, я успел схватиться за перила лестницы и затормозил. Придя в себя, я подумал, какой бы я произвел эффект на прохожих, если бы в костюме и гриме Мефистофеля под треск разбитого стекла приземлился со второго этажа на землю.
Этот полет вывел меня из равновесия, и когда я вышел на сцену и запел, то стал чуть ли не в каждой фразе ошибаться. Из-за пульта я увидел удивленный взгляд Мелик-Пашаева, который ничего не мог понять. Правда, после пролога я, видимо, успокоился, и все пошло нормально. Когда же в антракте ко мне за кулисы подошел Мелик-Пашаев, я ему все рассказал. Он очень мне сочувствовал, даже расстроился, но в конце концов лукаво, дружески улыбаясь, произнес: "Ваня, вы теперь по совместительству можете работать в цирке".
Вот такие были маленькие курьезы в Большом театре.
Конкурсы и фестивали
Важную роль в моей жизни сыграло участие в конкурсах певцов. Впервые я выступил на Всесоюзном конкурсе вокалистов в конце сороковых годов. Председателем жюри была Барсова, а членами - Катульская, Литвиненко-Вольгемут, Паторжинский, Александровская, Лемешев, Пирогов и многие другие певцы. На второй тур, который состоялся в зале Дома актера, я прошел легко. Публика на этом втором этапе соревнования принимала меня очень тепло, после каждой вещи долго аплодировала, и по окончании выступления ко мне подходили "болельщики" и говорили: "Вы, конечно, лауреат, у вас даже нет конкурентов".
Я ушел, довольный, появляюсь на следующий день в театре и встречаю Александра Степановича Пирогова. Он возмущается:
- Иван Иванович! Это разве жюри?! Я с ними переругался и больше туда не пойду. На черное говорят - белое, на белое - красное. Когда вы спели, мне говорят: "У него нет верхов". Я им отвечаю: "Как же он может без верхов петь Руслана?" - "У него нет низов".- "Но он поет в театре партию Рене, где нужно брать фа! Партию Гремина, где нужно брать соль-бемоль!" В общем, я с ними переругался и ушел,- опять повторил Александр Степанович.
И то же самое я потом услышал от Лемешева:
- Вы знаете, Ванечка, это было настолько возмутительно, что я подошел к Барсовой и сказал: "Валерия Владимировна, ну для чего же вы так делаете? Ведь певца нужно поддерживать за то, что он так спел". А на это она и Катульская ответили: "Он еще молод. Придет на следующий конкурс и будет лауреатом". На что Лемешев заметил: "Да плевал он на ваш конкурс и больше ни на какие конкурсы не пойдет".
Действительно, я дал себе зарок, и больше в наших Всесоюзных конкурсах не участвовал. Но случилось так, что через несколько месяцев состоялся конкурс вокалистов в Праге. Здесь я стал лауреатом без всяких обсуждений, в то время как все остальные кандидатуры вызывали большие споры. Когда я вернулся в Москву и увидел Барсову, то не удержался и сказал ей: "Валерия Владимировна, вот там жюри было более честное, чем у нас здесь".
Позднее меня приглашали на многие конкурсы уже в качестве члена жюри. Нужно сказать правду, некоторые их участники относятся к своим обязанностям недобросовестно. Они стараются протащить своих протеже, а то и просто исходят из такого правила: я помогу твоему ученику, а ты - моему. Но ведь это же нечестно! Некрасиво! И я потому об этом рассказываю, что считаю,такие вещи не должны допускаться!
В 1961 году я был приглашен и как член жюри, и как почетный гость (я должен был спеть в спектакле "Борис Годунов") на Второй международный фестиваль имени Джордже Энеску, основоположника румынской классической музыки.
Конкурс в Румынии был весьма престижным. Обычно на нем выступали одаренные певцы, которые в дальнейшем становились ведущими артистами оперных театров. В тот год, о котором я пишу, коллектив состязавшихся был очень сильный. Несмотря на это, наши певицы Эмма Саркисян, солистка Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, и Людмила Симонова, тогда солистка Радиокомитета, заняли первое и второе места и стали лауреатами конкурса. Это было их большой удачей, так как наряду с ними выступало много талантливых певиц.
Юрий Мазурок занял третье место среди мужчин, а Сергей Яковенко четвертое. И это оказалось не случайным. Ведь в Румынии очень сильна именно баритоновая группа. Большой известностью пользовались тогда Николай Херля, Михаил Арнеуте, Штефан Гонга. А молодыми, впервые заявившими о себе певцами были Ладислав Кония и Дан Ярдохеску, поделившие первое место. Они являлись опасными соперниками для наших певцов, но и Мазурок, и Яковенко очень хорошо показали себя на этом конкурсе.
В дальнейшем Эмма Саркисян прекрасно спела Кармен в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а Людмила Симонова получила признание как тонкая и вдумчивая камерная певица. Сергей Яковенко также добился известности как камерный певец, а Юрий Мазурок стал ведущим солистом Большого театра.
Каждый из участников жюри фестиваля должен был продемонстрировать свое личное мастерство и выступал перед публикой, так что я получил огромное удовлетворение. Ведь среди членов жюри были замечательные скрипачи: Леонид Коган, Генрик Шеринг, Штефан Руха, а среди пианистов - наш потрясающий Рихтер, Анни Фишер, Альдо Чекаллини из Италии. Мне надолго запомнился и сэр Джон Барбиролли - дирижер из Великобритании. Он был уже немолод, выходил в мягких туфлях, напоминающих тапочки, но, правда, во фраке, крахмальной рубашке и с бабочкой, и около пульта ему ставили загородочку, чтобы он не упал со своего возвышения. Дирижировал он прекрасно, и оркестр под его управлением играл так, что можно было заслушаться.
Выступали там также дирижеры Александр Васильевич Гаук, Джордже Джорджеску, Лорин Маазель, тогда совсем молодой.
Первый раз мы встретились с Маазелем в Дании, и он несколько слов произнес по-русски. Он сказал, что только изучает русский язык, а по приезде в Россию будет говорить по-русски свободно. И действительно, когда он приехал на гастроли в Москву, мы изъяснялись с ним на моем родном языке. Маазель знал шесть или семь языков. Вообще, его феноменальная память поражала. Ведь он все дирижировал наизусть, без партитуры. И не только на концерте, но и на репетиции.
Оркестр радио и телевидения Румынии, которым Маазель дирижировал, встретил его вначале в штыки. И, как это часто бывает, музыканты стали фальшивить. Но он тут же останавливал оркестр и говорил, что на такой-то странице в такой-то цифре была взята другая нота. Все, конечно, были поражены его памятью и в конце концов покорены его талантом.
Мне очень понравился и прелестный пианист Альдо Чекаллини. Он играл все необыкновенно ажурно, и пассажи под его пальцами рассыпались, как серебро.
Мое выступление в роли Бориса Годунова прошло удачно. Эта опера очень хорошо поставлена в Румынии, как и вообще все спектакли, которые идут там на высоком профессиональном уровне. Декорации, режиссура, костюмы - все выдержано в прекрасном стиле. И дирижер Эжицио Массини (главный дирижер оперы в Бухаресте) провел спектакль с подъемом и в традициях русских опер. Замечательны были и все исполнители этой оперы, певшие с большим вдохновением. Роль Шуйского с мастерством провел Михал Штербей, обладающий хорошим голосом с прекрасным верхним регистром. Лжедмитрия - Константин Илиеску. Роль Марины Мнишек была поручена Елене Черней, много раз приезжавшей в Советский Союз, где ее с восторгом принимала наша публика. Высокая, красивая брюнетка, с большими выразительными глазами и очень красивым голосом, она завораживала слушателей.
В конце фестиваля состоялся большой гала-концерт. В его программе были оперные арии в сопровождении оркестра, которым управлял опытный оперный дирижер Эммануил Эленеску. В концерте выступили Арта Флореску, Николай Херля, Ладислав Мраз - ведущий баритон из Чехословакии, Зинаида Палли - прекрасная певица, много раз выступавшая в Советском Союзе и покорившая нас всех своим мощным голосом и необыкновенным темпераментом. Бурными аплодисментами были встречены и обладавший столь же красивым голосом и захватывающим темпераментом Дмитрий Узунов из Болгарии и прелестная нежная певица Теодора Лукачи. Я заканчивал первое отделение арией Варяжского гостя, но публика так аплодировала, что пришлось спеть на "бис" песню Галицкого. И хотя по программе все исполнители должны были выступить только с одной арией, все пели на "бис" по второй.
Во втором отделении ажиотаж публики еще больше возрос. Я спел две арии: Дона Базилио и Серенаду Мефистофеля, а на "бис" - куплеты Мефистофеля.
Этот фестиваль и яркие выступления замечательных музыкантов остались у меня в памяти на всю жизнь.
Второй международный конкурс, где я был членом жюри - конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, состоявшийся в 1974 году. Он выявил молодых одаренных певцов. Среди мужчин -обладателя прекрасного лирико-драматического баритона, сильного и сочного, Ивана Пономаренко. Он спел много арий, и члены жюри единодушно отдали ему предпочтение. Пономаренко занял первое место. После конкурса певец возглавил баритональную группу в Киевском оперном театре.
Второе место занял Колаш Ковач из Венгрии, третье - Анатолий Пономаренко - солист Куйбышевского оперного театра, обладатель мягкого лирико-драматического баритона. Он выказал и хорошие драматические способности. Удачно выступили Владимир Мальченко и Юрий Статник из Кишинева, который со временем занял ведущее положение в Большом театре.
...Среди женщин яркое впечатление произвели Сильвия Шаш из Венгрии и наша Людмила Сергиенко. Обе они заняли второе место. Пели мягко, выразительно, обладали большим темпераментом. Прекрасными голосами владели Стефка Евстафьева из Болгарии и наша Галина Калинина. Хорошо себя показала Татьяна Ерастова, обладательница редкого тембра меццо-сопрано. Сейчас она одна из лучших певиц Большого театра.
Все певцы, ставшие лауреатами конкурса, и сейчас выступают с большим успехом, что свидетельствует о правильности оценок жюри и о талантливости соревновавшейся молодежи. Всем участникам конкурса - в том числе и его болельщикам и слушателям - он запомнился как яркое, праздничное событие.
В семидесятых годах я был членом жюри международных конкурсов в Афинах и в Женеве. Однако, мне кажется, они оказались низкими по уровню. Гораздо большее удовольствие доставил мне конкурс вокалистов, который проходил с 19 по 26 июня 1980 года в "Опера Комик". В проспекте его было объявлено, что конкурс проводится при поддержке видных деятелей республики: Жискара д'Эстена, Жака Ширака и многих других.
В этом конкурсе принимали участие два наших певца: Владимир Панкратов из ленинградского Малого оперного театра и Виктор Скоробогатов из оперного театра Минска.
Зал Фавар, в котором проходил конкурс, славится хорошей акустикой, красотой и торжественностью, и наши певцы, вдохновившись, на первом туре спели хорошо. Всем особенно понравился Панкратов, а к Скоробогатову стали придираться. Христов негодовал. Я снова услышал знакомые слова: "Вы подумайте, какая гадость, на черное сказать, что это белое и наоборот! Ведь Скоробогатов, который пел Фигаро, может поспорить с лучшими исполнителями!"
На втором туре Скоробогатов пел арию Роберта из "Иоланты". Когда обсуждали каждого певца, то комиссия отозвалась о нем хорошо, а при тайном голосовании неожиданно поставили ему низкие баллы, и Христов опять негодовал.
В третьем туре Панкратов пел немного хуже, чем в полуфинале и занял второе место.
Прогуливаясь между концертами, я, к своему удовольствию, увидел в маленьком магааинчике недалеко от гостиницы свои пластинки, тогда как в Москве их почти никогда не бывает. Говорят: "Раскупают быстро. Вы должны радоваться". А что мне радоваться, когда я не могу купить свою пластинку! И друзья тоже мне на это жалуются. Мои пластинки ("Борис Годунов", романсы и русские песни) продавались и в фойе театра "Гранд-Опера", куда нас пригласили на оперу "Свадьба Фигаро".
Опера была поставлена хорошо, но меня поразила публика. Той торжественной атмосферы, какая создавалась в прежние годы, уже не было. Мужчины ходили в лысых с заплатками джинсах и в кедах, и это на меня произвело удручающее впечатление. Когда я вижу такую публику у нас в Москве, то тоже очень огорчаюсь. В Италии, в "Ла Скала", этого нет.
В один из свободных дней комитет конкурса пригласил членов жюри на прогулку по Сене на теплоходе. Палуба теплохода была закрыта прозрачным колпаком из пластика, так что никакая погода не могла помешать отдыхающим и в то же время создавалась полная иллюзия открытой палубы. На возвышении стояла арфа, и арфистка в длинном красивом платье играла нежные пьесы. Мы любовались видами Парижа, как вдруг, когда река сузилась, мы услышали, что нас окликает группа мальчишек лет тринадцати-пятнадцати. Теплоход приблизился, и они вдруг встали в шеренгу вдоль берега, повернулись, сняли брюки и показали голые зады всем путешественникам. Мы хохотали очень долго. Это было чисто по-парижски, с его легкостью взаимоотношений между людьми, массой всевозможных развлечений.
За короткое время, что я был тогда в Париже, я очень подружился с замечательным болгарским певцом Борисом Кирилловичем Христовым, который все последние годы пел в основном в Милане, а также в других городах Европы, и всюду пользовался громадным успехом. Мы знаем об искусстве Христова главным образом по пластинкам, например, по его исполнению арии Филиппа, Бориса Годунова, Князя Игоря, но он записал и циклы песен Мусоргского. Вообще Христов замечательный пропагандист русской классической музыки. Мы с ним часто о многом искренне и сердечно беседовали. Мне говорили о том, что характер Христова сложный и общаться с ним нелегко, поэтому однажды я решился и спросил:
- Борис Кириллович, вы не обижайтесь, но многие говорят, что вы высокомерный, жесткий, можете обидеть человека. Однако у меня создалось впечатление после знакомства с вами, что это наговор.
- Иван Иванович,- ответил он,- это действительно наговор, не верьте. К хорошим людям я всегда отношусь с уважением. Вот вы прелестный человек, замечательный артист, и мне так приятно с вами общаться. Но если я человека не люблю, то действительно могу ему сказать и что-то грубое.
Тогда же Христов пригласил меня в гости во Флоренцию, где он жил в то время "как помещик", как он выразился.
- У меня там свои виноградники и вино, овечки и куры,- добавил он.
На память Борис Христов подарил мне свою большую фотографию и написал на ней: "Дорогому другу Ивану Ивановичу Петрову с наилучшими чувствами и на добрую память".
После окончания конкурса состоялось награждение победителей. Члены жюри расположились в глубине сцены полукругом, в центре которого председатель вручал дипломы. И тут произошло неожиданное. Когда было объявлено, что вторая премия предназначается советскому певцу, и Панкратов вышел на сцену, вдруг из зала раздались выкрики, свист, так что певец даже растерялся, и мне тоже, конечно, стало не по себе. Все это было связано тогда с событиями в Афганистане. Вдруг в зале встала какая-то дама и подняла руку, призвав всех к вниманию. Увидев, что все успокоились, она пламенно воскликнула:
- Как же вам не стыдно так себя вести?! Все эти дни мы слушали музыку, и теперь, когда отмечают молодых людей за их творческие успехи, вы вдруг допускаете такую бестактность! Это позор!
В зале воцарилась тишина. Я, конечно, спросил, кто эта дама, и мне ответили, что это - одна из видных певиц, которая в свое время пела в Париже и пользовалась большой популярностью.
Затем вручение наград продолжалось, и тринадцатый конкурс вокалистов в Париже закончился.
Как член жюри я принимал участие не только в международных конкурсах, но и во всевозможных фестивалях и показах творческой молодежи в Советском Союзе. Вспоминаю фестиваль молодых оперных певцов в Минске, состоявшийся в 1979 году. Я был почетным гостем фестиваля, членом жюри и консультантом, который должен был после спектакля высказать свое мнение о выступавших певцах, и разобрать их исполнение. У рояля мы разбирали отдельные фрагменты, вызывавшие затруднения, я обращал внимание на некоторые эпизоды, делился с молодежью своим опытом, давал советы, и они смотрели на меня с "открытыми ртами". Я понимал, что это очень нужное для них общение.
Многие молодые исполнители выступили тогда в "Травиате". Эта опера была очень хорошо оформлена и поставлена. В ней обратила на себя внимание в партии Виолетты молодая певица из Риги - Эльга Брехман - изящная, как статуэтка, обаятельная и выразительная артистка. Несмотря на свою молодость, она умело пользовалась различными оттенками от пиано до форте и обратила на себя внимание жюри.
В традиционной манере хорошо был поставлен "Князь Игорь". Достоверны декорации, изображавшие Путивль,- каменные дома, храмы, терема Ярославны и Галицкого, половецкий стан. В этой опере выделился молодой певец из Свердловска Навроцкий, исполнивший партию Галицкого. Ему удалось раскрыть удаль, хитрость, лукавство и властолюбие своего героя.
В "Евгении Онегине", тоже поставленном в классических традициях, мне очень понравилась Лия Грейдене из Рижского театра, создавшая волнующий образ Татьяны. Кроме того, Игорь Морозов из Большого театра поразил всю комиссию и оргкомитет свободой владения и красотой голоса. Для него, как и для всех остальных певцов, этот фестиваль стал одной из ступенек в высокое искусство.
В "Иоланте" замечательно спел партию Водемона Александр Хомерики, впоследствии солист Тбилисского театра. Блестяще выступил в этой опере и лауреат конкурса имени П. И. Чайковского Иван Пономаренко, а также певец из Харькова Василий Монолов, прекрасно справившийся с партией короля Рене. Монолов пел очень мягко, не подчеркивая жестких королевских интонаций. Сейчас он - ведущий солист Киевского оперного театра.
В "Доне Карлосе" мне очень понравились исполнитель заглавной партии Александр Дедик и бас Вячеслав Петров, певший короля Филиппа. Дедик обладал крепким и звонким драматическим тенором, и такие партии, как Дон Карлос, Радамес и Отелло, звучали у него прекрасно.
Дирижировал операми главный дирижер минского театра Ярослав Антонович Ярощак. Превосходный музыкант, он прекрасно чувствовал стиль произведения, замечательно владел оркестром и использовал все его краски. В театре работало много ярких солистов, режиссеров, художников, стройностью отличалось звучание хора, так что спектакли доставляли слушателям большое удовольствие.
После конкурса оргкомитет обратился ко мне с просьбой добиться аудиенции у министра культуры СССР. Нам казалось очень важным обсудить вопрос, как работать дальше с молодежью и как стимулировать ее профессиональный рост. Однако, хотя секретарь министра несколько раз обещал мне, что мы будем приняты, встреча так и не состоялась.
Я же хочу повторить, что фестивали, которые проводились,- это очень нужное и чрезвычайно полезное дело. Они заставляют молодежь тщательно работать над своими партиями, много заниматься и повышать мастерство.
Каждые пять лет в Таллине проводятся фестивали, посвященные памяти Георга Отса. Ставятся спектакли, в которых он пел, ему посвящаются выставки, и, кроме того, проходит конкурс вокалистов.
Я неоднократно встречался с Георгом Отсом - мы вместе выступали на концертах. Он был внешне очень интересным мужчиной: стройный, подтянутый, с выразительным лицом, умными глазами. В нем было столько обаяния! Даже если Отс пел не совсем подходящие для него партии - Демона, Эскамильо (это не его амплуа, потому что он обладал мягким лирическим баритоном),- они звучали ярко благодаря выразительности слова, умения построить фразу. Он всегда нес правдивый образ, поэтому надолго запоминался. А как он пел Онегина, Жермона, Фигаро, как пел песни, опереточные арии! С каким шармом! Достаточно вспомнить мистера Икса.
В тот год (кажется, это была середина восьмидесятых) конкурс имени Георга Отса оказался не слишком представительным - почему-то не все театры откликнулись. Но все же приехали хорошие певцы, которые были заслуженно награждены дипломами лауреатов.
Вообще, я не равнодушен к эстонскому оперному театру. Его всегда отличала большая музыкальная культура, интересный репертуар. В нем ставятся оперы, которые не идут в наших театрах. Например, только в Таллине шла опера Верди "Атилла" - интересный драматический спектакль. Постановщиками были дирижер Эрик Класс и режиссер Арне Мик. Они сделали спектакль очень просто, в высшей степени выразительно и удобно для исполнителей. Заглавную роль Атиллы исполнял Мати Пальм. Это труднейшая партия, охватывающая большой диапазон, но певец спокойно с ней справился. Блеснул своим мастерством и старейшина коллектива Тийт Куузик, которому тогда уже исполнилось семьдесят лет.
В программе театра много редких произведений. На гастролях в Москве он показал чудесное произведение Доницетти "Дочь полка". Поставили и "Луизу Миллер". Был я приглашен в Таллин на премьеру "Хованщины", которую поставил Борис Покровский в оркестровке Шостаковича. В Большом театре эта опера идет в редакции и оркестровке Римского-Корсакова, поэтому я шел на этот спектакль с большим интересом. Из исполнителей оперы особенно запомнился Тео Майсте в роли Хованского, да и весь спектакль заслуживает похвалы. Мне кажется, что в оркестровке Шостаковича опера проигрывает.
Вообще, моя дружба с эстонским театром доставляла мне радость и вносила в мою жизнь много тепла. Его руководители всегда приглашали меня на свои юбилеи, новые постановки, стремились, чтобы я разделил с ними их радость, и я всегда приезжал на премьеры в Таллин, посещал гастроли театра в Москве и, если нужно, что-то советовал.
Гастроли по родной стране
Трудную, интересную и чрезвычайно интенсивную работу в Большом театре и поездки за рубеж я сочетал с гастролями во многих городах России и, как теперь говорят, ближнего зарубежья. С особым удовольствием пел в обоих оперных театрах Ленинграда. У театра имени С.М Кирова и Малого оперного не только прекрасные труппы певцов, хоры и оркестры, но и замечательные музыкальные традиции. Разнообразен и очень интересен их репертуар. Я с удовольствием выступал в ролях Руслана, Мефистофеля, Кочубея, Короля Рене и Дона Базилио.
С большой теплотой вспоминаю моих товарищей-певцов, которые выступали со мной, например, прелестную певицу и актрису Софью Преображенскую. У нее был прекрасный голос - яркое, сочное меццо-сопрано. Пела Преображенская с внутренним трепетом, и без волнения ее слушать было невозможно. Мне запомнилось наше партнерство в "Мазепе", где она исполняла роль Любови, жены Кочубея, и особенно ее причитание "Где ты, мое дитятко".
Разнообразным басовым репертуаром владел мой товарищ Иван Яшугин. Он пел Сусанина, Мефистофеля, Грозного. Константин Лаптев обладал прекрасным звучным баритоном. Во многих спектаклях мы пели вместе с Ваней Бугаевым. Он выступал в партии Фауста, а я - Мефистофеля. Хороший лирический баритон был у Вани Алексеева.
Много раз я бывал на Украине: в Киеве, Харькове, Одессе. Там оперные театры также имеют традиции, а публика любит оперное искусство. На Украине много выдающихся мастеров. Когда я пел в Киеве, моей партнершей была замечательная певица Елизавета Чавдар. Она великолепно пела Людмилу и Розину. В "Севильском цирюльнике" моим партнером был прекрасный певец и артист Дмитрий Гнатюк. Он к тому же необычайно красив и создавал прелестные образы в спектаклях.
Приезжал я и в белорусский оперный театр в Минске. В нем также работал высокопрофессиональный коллектив актеров, и их постановка опер "Борис Годунов" и "Фауст", в которых я пел, произвела на меня самое благоприятное впечатление. Хороши были мои партнеры по спектаклям Лариса Александровская, Светлана Данилюк, Михаил Зюванов, Павел Болотин, Николай Ворвулев. Я храню чудесные воспоминания о них.
На всю жизнь мне запомнился трагикомический эпизод, который случился со мной в спектакле "Борис Годунов" в сцене у храма Василия Блаженного. Торжественно выходя из храма, я почувствовал, что крестом на шапке зацепился за что-то и не могу двинуться с места.
Тихонько спрашиваю у охранников:
- За что это я там зацепился?
- За сетку, на которой держатся листики дерева,- отвечают.
- Быстро меня освободите,- шепчу.
В конце концов они меня как-то отцепили, и я смог продолжить свое шествие
Выезжал я на гастроли и в республики Закавказья. Пел в оперных театрах Тбилиси, Еревана, Баку. Пел в ташкентском оперном театре, в рижской опере и, конечно, во многих театрах Российской Федерации.
Мои гастроли во всех городах проходили в переполненных залах, публика проявляла большой интерес, и это было для меня очень важно.
Но, к сожалению, не во всех городах имеются оперные театры. Поэтому множество поездок по Союзу я совершал с концертными программами. Более четверти века я пропел на концертной эстраде вместе с замечательным пианистом-концертмейстером, исключительно талантливым музыкантом Семеном Климентьевичем Стучевским. И несмотря на то, что он был старше меня на двадцать пять лет, он всегда был подтянут, собран, всегда в блестящей пианистической форме. Семен Климентьевич работал с певцами наивысшей квалификации. Как-то он воскликнул: "Знаете, Иван Иванович, ведь если я скажу, с кем я работал, так вы глаза откроете от изумления!"
И действительно, я изумлялся, когда он мне начинал перечислять; оказалось, что он работал с Леонидом Витальевичем Собиновым, с Григорием Степановичем Пироговым, с Платоном Ивановичем Цесевичем, с Сергеем Яковлевичем Лемешевым, с Наталией Дмитриевной Шпиллер, с Деборой Яковлевной Пантофель-Нечецкой и со многими, многими другими. "Мне, конечно,- вспоминал он,- было приятно, что я аккомпанировал таким большим мастерам. Но я ведь у них многому и научился. А вот сейчас я свой опыт и умение стараюсь передать вам, молодежи".
И действительно, Семен Климентьевич всегда делал это с большим желанием и открытой душой.
Внешне Стучевский производил очень забавное впечатление. Когда он выходил на сцену в черном фраке, крахмальной белой рубашке с белым бантиком (а был он среднего роста, довольно упитанный, с шевелюрой седых волос, с мясистым носом и припухлыми губами), то вид у него был такой, как будто он чем-то недоволен. И мне он напоминал почему-то породистого бобра. Но вот этот "бобер" садился за рояль и начинал играть - волшебные звуки заполняли зал, и все понимали, что перед ними огромный музыкант.
Со своим замечательным аккомпаниатором и большим другом я проработал более четверти века. Но случалось, когда он почему-либо не мог принять участие в моем концерте, я обращался к другим пианистам. Например, к Абраму Давидовичу Макарову. Он аккомпанировал мне на фестивалях в Праге и Будапеште и делал это замечательно, поскольку он был прекрасным музыкантом, хорошо знавшим всю вокальную литературу. Абрам Давидович вел свою партию очень мягко, тонко следуя за певцом во всех нюансах, и петь с ним было легко и радостно. Очень опытным концертмейстером был и работавший много лет на радио Наум Геннадиевич Вальтер. Выступления с ним доставляли мне всегда большое удовольствие. Благодарен я и Александру Павловичу Ерохину, который сопровождал меня во время моей первой поездки в Париж.
В последние годы, когда Семен Климентьевич уже плохо себя чувствовал, я выступал с прекрасным пианистом Борисом Александровичем Абрамовичем. Изредка мне аккомпанировал и концертмейстер Киевской филармонии Лев Ефимович Острин, великолепный пианист, тонкий музыкант.
С годами я начал получать все больше приглашений выступить в разных городах нашей страны, и поэтому должен был расширять свой камерный репертуар. Я выучил множество произведений русских и советских композиторов, иностранную классику: Бетховена, Моцарта, Гуго Вольфа, Грига, Шуберта, Шумана, и у меня сложился большой концертный репертуар. В нем было более двухсот пятидесяти произведений.
Очень часто мы выступали с программными концертами. Например, исполняли лишь произведения Чайковского или Бетховена. А иногда уделяли какому-то автору лишь одно отделение, и тогда я пел произведения Глинки и Рахманинова, Даргомыжского и Римского-Корсакова, а также Шуберта и Шумана. С такими концертами мы были во всех больших и малых городах, где есть концертные залы, и во многих городах, где их нет, но есть клубы, музыкальные училища.
Конечно, с большой охотой и радостью я вспоминаю о своих выступлениях в московских залах, прежде всего - в Большом зале консерватории, в Зале имени П.И.Чайковского, в Доме ученых, а также в блестящих ленинградских залах - в зале Ленинградской филармонии, в зале имени М.И.Глинки, в зале Ленинградской капеллы. Эти залы всегда способствовали творческому вдохновению, так же, как и зал Киевской государственной филармонии.
Кроме программ, посвященных одному или двум композиторам, обычно мои программы строились так: в первом отделении я пел романсы русских и советских композиторов, во втором - произведения зарубежных авторов. После этого на "бис" исполнял еще пять-семь романсов или арий русских и зарубежных композиторов и народные песни.
В моем репертуаре было очень много романсов советских композиторов. Я пел романсы Прокофьева и арию Кутузова из его оперы "Война и мир" замечательную, торжественную. Пел романсы Мясковского, Глиэра, Свиридова, Ракова, Коваля, пел очень интересное произведение В. Белого "Баллада о капитане Гастелло". Она появилась в дни войны с гитлеровской Германией, и ее первым исполнителем был Пирогов (видимо, в расчете на его возможности эта баллада и была создана). Она написана в высоком регистре, требует мощного голоса, поэтому я пел ее с удовольствием. Пел и произведения Е.Стихина, М.Блантера, Г.Брука, Т.Попатенко, В.Соловьева-Седого. С Соловьевым-Седым мы как-то выступали на стадионе в Ленинграде. Он дирижировал оркестром, а я пел его песню "Если бы парни всей земли". Пел я цикл "Песни о человечестве" Е. Жарковского. И на нотах этого цикла он сделал незабываемую для меня надпись: "Дорогому Ивану Ивановичу Петрову от благодарного автора в память о первом исполнении этого произведения. Е.Э. Жарковский. 15.XI.1961 года".
Кроме того, я исполнял произведения О.Фельцмана, Л.Лядовой. Записал ее песню "Расти до звезд", и она тоже подарила свои ноты с трогательной надписью "Любимому народному артисту И.Петрову. Лядова".
Таким образом, если появлялись песни, которые мне подходили по амплуа, я охотно включал их в репертуар и старался как можно лучше донести до слушателя.
С большой радостью вспоминаю свои выступления и перед совсем неподготовленной аудиторией в колхозах или ПТУ, в заводских цехах, в солдатских аудиториях. Я всегда возвращался после таких концертов с чувством творческого удовлетворения.
Очень запомнилось мне одно из выступлений в Краснодаре. Сначала я пел в концертном зале, где собралась публика, которая меня замечательно принимала. Но потом мне вдруг предложили выступить на одном из заводов, прямо в цехе. Между станков поставили пианино, и я должен был исполнить во время обеденного перерыва большую программу. Готовясь к этому выступлению, я подумал, что слушать меня будут рабочие, и поэтому решил подобрать для начала концерта более простые и доходчивые произведения, так как боялся, что серьезная музыка окажется непонятной. Но каковы же были мои удивление и радость, когда в паузе между романсами один из рабочих попросил меня спеть "Сомнение" Глинки. Я тут же его спел, а затем еще несколько: "Октаву", "Не пой, красавица, при мне". Слушали меня превосходно. Я с удовольствием спел много раз на "бис" - не меньше, чем в концертном зале.
Очень благодарная, даже восторженная аудитория - солдатская и матросская. Мне часто приходилось выступать перед военнослужащими. С каким вниманием и затаенностью они слушают и как искренне, горячо благодарят за каждый спетый романс, за каждую песню!
Часто мне приходилось выступать в ПТУ. Особенно мне запомнился один концерт во Владимире. Когда мы со Стучевским приехали в училище, то директриса ПТУ спросила меня, что я буду петь. Я ей ответил, что буду исполнять романсы, арии из опер, песни, и сразу увидел кислую мину.
- Что случилось? - спрашиваю.
- Наши ребята боятся самих слов "романс" или "ария". Не знаю, как они это воспримут.
Тогда, подумав, я сказал:
- Мне не нужно ведущего. Концерт я буду вести сам. Давайте начинать.
Я вышел на сцену, а Семен Климентьевич сел за рояль. Поздоровался с ребятами, и они нас дружно приветствовали. Тогда я решил рассказать им о своем детстве и пути в искусство.
- Ребята! - начал я.- Смотрю на вас и вспоминаю свои юные годы. Ведь разве я думал тогда о пении, разве я знал, что такое романс или ария? Конечно, нет!
И рассказал о том, как увлекался спортом, играл в футбол, баскетбол, волейбол.
- Я думал посвятить свою судьбу спорту, но она распорядилась иначе я стал певцом. Артистом Большого театра. Объехал с гастролями весь мир, всю нашу Родину. Разве плохо? А может быть, кто-нибудь из вас станет певцом, артистом или музыкантом? Чем черт не шутит?
Они засмеялись, заговорили о чем-то между собой.
Тогда я продолжал:
- Ребята, мне сказали, что вы боитесь слов "романс" или "ария". А вы подумайте, кто авторы этих романсов и арии, которые вы сегодня услышите? Ведь это наши русские гениальные композиторы, гордость не только нашей страны, но и всего культурного мира.
И я рассказал ребятам, что русские композиторы писали свою музыку на сюжеты гениальных писателей и поэтов. К примеру, Глинка сочинил оперу "Руслан и Людмила" на пушкинские стихи. Мусоргский создал "Бориса Годунова" на пушкинский текст. Бородин для своей оперы "Князь Игорь" использовал "Слово о полку Игореве". Римский-Корсаков также положил в основу своих опер пушкинские произведения: "Сказку о царе Салтане", "Сказку о золотом петушке", "Моцарта и Сальери". Я напомнил, что в основу "Снегурочки" легло произведение Островского, на гоголевские сюжеты Римским-Корсаковым написаны оперы "Майская ночь" и "Ночь перед Рождеством". Сказал, что либретто лучших опер Чайковского - "Пиковая дама", "Евгений Онегин" и "Мазепа" - созданы по произведениям Пушкина. А оперу "Черевички" Чайковский написал на гоголевский сюжет. Рахманиновские оперы "Алеко" и "Скупой рыцарь" также написаны на пушкинские сюжеты.
- Так неужели,- продолжал я,- арии из этих опер, написанные величайшими композиторами на такие изумительные по красоте и силе тексты, вы не хотите слушать или не понимаете? Мне это просто обидно и непонятно. Ведь и большинство романсов написаны на тексты наших лучших поэтов, не говоря уже о Пушкине, Лермонтове, Некрасове. Многие романсы созданы на тексты Алексея Толстого, Кольцова, Фета, Есенина, Ротгауза, Голенищева-Кутузова, Маяковского. Вы только подумайте, какая поэзия и какая музыка! Сейчас во всем мире,- закончил я,- проявляется необыкновенный интерес к русской музыке и особенно к русской опере. Поэтому у меня возникает вопрос, как же мы, русские люди, не воспринимаем такого богатства, такого щедрого наследия, какое оставили нам наши великие деятели культуры!
Потом я сказал своим юным слушателям, что перед исполнением каждого произведения буду о нем рассказывать. И моя аудитория слушала меня, затаив дыхание, бурно реагируя на каждую спетую вещь. А когда закончился концерт, то буквально весь зал пришел ко мне за кулисы. Тут не было конца благодарностям. И больше всего мне было приятно, что все единодушно решили - такие концерты с рассказами о произведениях и с пояснениями могут по-настоящему привить любовь к серьезной классической музыке.
А однажды мы с Семеном Климентьевичем выступали в колхозном клубе. Когда мы приехали в колхоз и вышли из машины, то очутились перед старой, почерневшей от времени избой. Она вмещала, может быть, сорок или пятьдесят человек. Но никого еще не было, за исключением нескольких девчонок и мальчишек. Нам сказали, что сейчас, прямо с прополки, придут колхозницы. И через несколько минут мы увидели группу женщин, которые шли, волоча за собой по земле большущие корзины. Когда они подошли к клубу, я услышал такой разговор:
- Дусь, а Дусь, а куда денем корзины-то; ведь внести их в клуб неудобно.
- Да не бойся, никто их не тронет, оставим здесь, под окошком.
Они сложили корзины, и под окном образовалась целая гора. Прежде чем начать концерт, мы спросили у наших слушательниц, что им исполнить, и получили ответ:
- Пойте, что сами хотите, нам интересно все.
Однако мы решили провести концерт так же, как это делали с учащимися ПТУ. И мы вместе со Стучевским стали давать пояснения к исполняемым произведениям, а после концерта спросили наших слушательниц, понравился ли им концерт. "Концерт очень интересный,- ответили они.- Не все, может быть, мы поняли так, как полагается, но слушали с большим удовольствием".
А пел я программу разнообразную. Тут были и романсы, и арии из опер, и русские народные песни, и песни советских композиторов. От этого концерта у нас тоже осталось чудесное воспоминание. Ведь мы внесли свою лепту в дело воспитания хорошего вкуса у людей, занятых тяжелым трудом.
Концерты, которые мы давали в музыкальных школах, училищах, а подчас и консерваториях, для нас были тоже очень интересны и ответственны. Ведь на этих вечерах присутствовали молодые люди, профессионально занимающиеся музыкой и пением. Поэтому мы более придирчиво строили программы своих выступлений: такая публика - наиболее требовательная и строгая. Как правило, концерты проходили хорошо, с подъемом, а после них почти всегда возникали беседы. Нам приходилось очень долго отвечать на вопросы, чаще всего связанные с интерпретацией произведений. Говорили мы и о технике вокала, бывало обсуждали житейские темы.
Я любил петь сольные концерты. Это необыкновенно интересно, но и необыкновенно трудно. Ведь певец стоит на сцене без костюма и грима, без всяких атрибутов и один на один разговаривает с аудиторией. Причем нужно спеть два отделения да еще несколько произведений на "бис" - то есть более двадцати вещей. Конечно, каждому певцу приятно, когда публика награждает его горячей овацией, но у меня был и такой случай оценки моего творчества.
Я закончил концерт и уже принимал поздравления от публики, подписывая за кулисами программки и раздавая автографы, как вдруг ко мне подошел довольно уже не молодой человек и сказал:
- Иван Иванович, знаете, за что я вас хочу особо поблагодарить?"
- Нет, не знаю, но очень интересно.
- Ведь вы сегодня в этот вечер своим голосом, своей дикцией, нюансировкой нарисовали нам, зрителям и слушателям, более двадцати прекрасных картин.
И такая оценка была для меня дороже всех шквальных аплодисментов. Ведь в ней было подчеркнуто то, к чему я всегда стремился: в каждом произведении как можно глубже проникнуть в его стиль, замысел, образ и донести этот сложный мир до слушателя.
"Всадник без головы"
Однажды я отправился с очередными гастролями в город на Неве. Подхожу на вокзале к "стреле" и замечаю, что рядом со мной идет невысокого роста щупленький человек в сером плаще и кепке. Он неожиданно мне улыбнулся и поздоровался. Я, конечно, ему ответил, а он говорит:
- Вы учились с моей женой, Надеждой Салахитдиновой. Помните такую?
- Конечно,- отвечаю,- я даже с ней на одной парте сидел
- Вот видите, а мы часто вас вспоминаем. Моя фамилия Вайншток. Я кинорежиссер. Еду в Ленинград на Ленфильм. А вы?
- А у меня концерт в Зале имени М. И. Глинки.
Разошлись мы по вагонам и поехали по своим делам.
Возвращаюсь в Москву, вдруг раздается звонок. Звонит Надя Салахитдинова.
- Ваня, здравствуй. Володя мне рассказал, что встретил тебя на перроне, и ты ему очень понравился. Он хочет тебе что то сказать. Что-то приятное. Можешь поговорить с ним?
Берет трубку Вайншток и начинает рассказывать:
- Я снимаю фильм по роману Майн Рида "Всадник без головы". Уже сценарий готов, и труппа набрана, но у нас нет одного персонажа. Ищем актера на роль охотника Зеба Стампа. Помните такого?
- Конечно.
- И вот, вы знаете, когда я с вами поговорил на перроне, у меня возникла мысль, а не попробовать ли вас на эту роль? Уж очень вы подходите.
- Владимир Петрович,- отвечаю,- я никогда не снимался в кино. Только однажды в фильме "Евгений Онегин" я играл и пел Гремина, но ведь это опера.
- Это ничего. Мы вам пришлем приглашение с "Ленфильма", приезжайте на пробу.
И они мне прислали приглашение. Я приехал. Приспособили мне какой-то невероятный костюм (ведь мой размер так трудно найти!), дали выучить кусочек текста из разговора Зеба Стампа с Луизой Пойндекстер, и этот эпизод сняли. Я чувствовал себя неуверенно, потому что кругом суетилась масса народу: и осветители, и декораторы, и гримеры, и актеры, и неизвестно откуда взявшиеся посторонние. Поэтому я ужасно стеснялся, хотя и привык к сцене, кулисам. После пробы я решил, что ничего не вышло, и уехал. Вдруг раздается звонок.
- Иван Иванович, вы очень понравились. Ваша кандидатура прошла на художественном совете. Будете сниматься.
- И что же дальше? - спрашиваю.
- Дальше вы должны приехать в Ленинград на примерку костюмов и заключить договор.
Назначили число, я приехал, сделали примерку костюмов, обуви и заключили договор с "Ленфильмом".
- А теперь,- сказали мне,- ждите. Когда для всех персонажей будут сшиты костюмы и все будет готово, мы начнем съемки. База - в Ялте, а сниматься будем в Алуштинском заповеднике и в городе Белогорске недалеко от Симферополя.
Вскоре я вылетел в Симферополь, а из Симферополя на вертолете - в Ялту, где меня поместили в гостинице "Украина", очень комфортабельной, тихой, окруженной парком. По плану за пятнадцать дней я должен был сняться раз семь, так что у меня оставались свободные дни. Я мог пойти на море, позагорать и искупаться. В общем, совместить полезное с приятным.
Начались съемки. После первых двух дней работы я еще не был уверен, что роль у меня получается, но вдруг ко мне подошли самые строгие критики осветители и декораторы.
- Иван Иванович, вы не обижайтесь, мы вам скажем правду. Когда вы прошли пробу, мы не очень-то в вас поверили, но сейчас вы так провели сцены, просто как драматический актер. Очень рады за вас!
Эти слова вдохнули в меня энергию и уверенность, и я с новыми силами взялся за свою роль.
Сначала мы снимались в Алуштинском заповеднике, в горах. Там было прохладно, веял ветерок, дышалось легко. Но когда мы переехали в Белогорск, там жара буквально валила с ног. В городе нет зелени, только пирамидальные тополя, которые не дают тени, и какая-то жалкая выжженная растительность у подножия меловых гор. В эту пятидесятиградусную жару нужно было гримироваться и надевать громоздкий ковбойский костюм. На мне были штаны с бахромой из плотной ткани, замшевая куртка, черная шляпа, как у Дона Базилио, с загнутыми полями, широкий пояс, к которому прикреплялся большой кинжал и огромное охотничье ружье. А грим! Он ведь не имеет никакого сравнения с театральным! Для оперного спектакля на ватку прикрепляешь слегка целую бороду, и с большого расстояния она смотрится. Здесь же мне гример наклеивал каждую прядку бороды отдельно. Так что гримирование занимало иногда по два с половиной часа. Нужно было набраться мужества, чтобы все это вытерпеть, но зато потом казалось, что борода как будто твоя.
Еще одна сложность заключалась в том, что я должен был уметь обходиться с моей лошадкой. У всех других персонажей были лошади с московского конного завода и с ними конюхи с того же завода, которые за лошадьми ухаживали и чистили, а также наездники, обучавшие, как с ними обращаться.
А моего мерина взяли в каком-то соседнем колхозе - он подходил по масти: рыжий с белым, очень колоритный конь и необыкновенный флегматик. Его невозможно было стронуть с места! Но когда его из Ялты повезли вечером в горы, в Алуштинский заповедник (а везли на машине с высокими бортами, у которых с двух сторон стояли лошади с завода), то после ночлега служители обнаружили, что заводские лошади стоят, а моего флегматика нет в машине. Оказывается, он выпрыгнул из машины и ушел на пятнадцать километров вниз. Как только ноги себе не переломал?!
Все мне стали тогда советовать, чтобы я приучал к себе мерина.
- Да я его уже и сахаром, и пряниками угощаю,- отвечаю,- он с удовольствием ест, а иногда за мной идет.
- А вы попробовали на него садиться? - спрашивает Вайншток.
- Нет, еще не пробовал,- говорю.
И один раз я попробовал. Взобраться мне помогли, но поехал я уже самостоятельно, лошадь меня слушалась - я ведь в детстве на лошадке пробовал кататься.
- Все в порядке! - рапортую.
И вот однажды, когда во время съемки я должен был въехать в сад к Луизе Пойндекстер и поговорить с негром, то как только подошел к лошади в одежде, на которой развевались все лоскутки, она очень испугалась. Вижу, смотрят на меня два безумных глаза. "Ой,- думаю,- сейчас что-то произойдет". И действительно, мой мерин никак не позволял на него сесть. Наконец я взобрался.
- Ну, теперь,- говорят,- поезжайте.
А он - ни с места. Меня ждут с камерой, а он не идет. В конце концов как-то я его уговорил, и мы двинулись. Эти кадры отсняли. Но нужен был эпизод: я выезжаю со двора и еду рысцой. Сел я на него, мы двинулись, но рысцой - ни в какую не идет. Плетется медленно, флегматично, еле-еле переставляет ноги. Тогда мне один из конюхов советует: "Да вы его пришпорьте как следует!" Пришпорил его, и вдруг он как взвился, как понес меня галопом! Потом на полном ходу неожиданно остановился и повернулся. Я, как пробка из бутылки шампанского, вылетел из седла, пролетел несколько метров и упал на спину. Больно не было, но я просто был потрясен случившимся. Когда же встал, то у меня похолодело сердце: кругом были огромные песчаные камни. И как я упал между камней на мягкую траву непонятно. Вайншток мне говорит:
- Ну, давайте дубль.
- Нет уж,- отвечаю,- садитесь и снимайтесь сами.
И дубль снимал каскадер. Однако никто даже не заметил, что это не я. Пока снимали дубль, один из конюхов конного завода мне говорит:
- Иван Иванович, вы просто неопытный человек. Нужно было позаниматься с лошадью, порепетировать. Я бы, конечно, сразу сладил.
- Ну, покажите.
А как раз снимались скачки Стампа на высоком плато, кончающемся обрывом. Конюх сел на моего мерина, пришпорил его, а тот вдруг опять сорвался и остановился в метре обрыва. Мы в ужасе закрыли лица руками. Бледный конюх слез с коня, и, заикаясь, пробормотал:
- Чтобы я еще к этому гаду подошел - да убей меня бог!
- Вот что значит дикая, необученная лошадь,- утешил я его.
Партнерами по съемке были Людмила Савельева в главной роли Луизы Пойндекстер, Олег Видов (Морис Джеральд), Арне Юкскуле (Кассий Колхаун). Прекрасно играли кубинцы Эслинда Нунис и Александро Луга (отец Луизы).
В книжке "Четыре больших приключения", посвященной творчеству В. П. Вайнштока и рассказу о выпущенных им картинах, один из авторов написал, что певец Петров не взял ни одной фальшивой ноты, а напротив - был неизменно органичен и естественен. "Теперь, Иван Иванович, вам не дадут покоя,пророчили мне.- Будете сниматься во всех фильмах! Такая фигура, такой типаж!"
Но прошло много лет, и больше меня никто не приглашал на съемки. А жаль.
"Всюду со мной, мою жизнь наполняя..."
Преданной помощницей во всех делах была моя жена Людмила Петровна, артистка балета Большого театра. Мы жили дружно. Она родила мне двух дочерей - Галину и Елену. Когда они подросли, жена настояла на том, чтобы дочки занялись музыкой. К нам стала приходить педагог по фортепиано. Я думал, что если даже дочери не добьются больших результатов, то хотя бы познакомятся с хорошей музыкой. Я не мечтал, чтобы они пошли по пути моему или матери, но считал, что приобщение к искусству полезно уже в детстве. Они играли легкие произведения Глинки, Бетховена, даже первую часть "Лунной сонаты", легкие вальсы Шуберта, и это было очень приятно.
Когда я ездил на гастроли, жена часто отправлялась со мной. Она сопровождала меня и в поездках по Союзу, и за границей, бывала на всех моих спектаклях в Большом театре, часто записывала в своем блокнотике, как я пел, и была моим заинтересованным критиком. И так как иногда трудно оценить себя со стороны, то я всегда прислушивался к ее критическим замечаниям. Вначале, правда, обижался, когда ей казалось, что у меня что-то не получается, но потом понимал, что она права.
Позже у меня появились внуки. У Гали родилась дочка, которую в честь бабушки назвали Людмилой, и эта маленькая девочка, как только научилась ходить и бегать, стала проявлять хореографические способности. Она плавно двигалась, любила танцевать и даже вставала на пальчики, будто на пуанты. Сначала ее отдали в школу художественной гимнастики, затем Людочка поступила в ансамбль Локтева, а потом прошла конкурс, и ее приняли в Московское хореографическое училище. После окончания которого была принята в балетную труппу Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Проработав артисткой балета два года, поступила на дневное педагогическое отделение балетмейстерского факультета Российской Академии театрального искусства (мастерская народной артистки СССР, академика, солистки Большого театра России Р.С. Стручковой). Окончив учебу с отличием, Людмила работает в Центре танца Татьяны Тимофеевой педагогом-репетитором.
Наша семья очень признательна Раисе Степановне Стручковой за оказанное внимание Людмиле в период учебы и передачу ей своего богатого опыта в области хореографии и педагогики. Из всей семьи лишь одна Людмила продолжила наши традиции. Много тепла и заботы уделяет ей мать, что безусловно сказалось на ее воспитание и формировании как личности.
У дочери Елены родился сын Андрей. Она и ее муж Николай, которого я очень люблю, очень заботливые и внимательные родители. Когда Андрей был еще маленький, то как все дети, любил слушать сказки и их пересказывать, а также читать стихи. Повзрослев, он увлекся спортом (особенно футболом и волейболом), рыбной ловлей и компьютерной техникой. Учится он в Московском автодорожном институте.
К счастью, дочери унаследовали от Людмилы Петровны чувство преданности семье и любовь к детям.
В 1979 году моя жена умерла. Прошло больше года, и у меня встал вопрос, как жить дальше. Мне, честно говоря, не захотелось замыкаться в узком кругу своих детей и внуков. Я еще много работал на радио, в фирме "Мелодия", в Центральном управлении художественной самодеятельности, в Доме ученых. В общем, я решил жениться вторично, о чем объявил своим дочерям. Моей женой стала Елизавета Федоровна Данилина, которая была ближайшей подругой Людмилы Петровны в течение многих-многих лет, начиная еще с работы в Большом театре. Она училась с моей женой в балетной школе, потом танцевала в Большом театре, а затем ушла из театра, закончила строительный институт и работала по специальности сначала в Госстрое, а потом в Олимпийском комитете. После окончания Олимпиады в 1980 году я предложил ей свою руку и сердце и сказал: "Теперь, Лизочка, закругляйся, бросай работу, будем спокойно с тобой жить, пришла пора подумать и об отдыхе".
Так все и произошло. Мы живем с Елизаветой Федоровной почти четверть века в дружбе и согласии. Мой семейный круг значительно расширился. У супруги - двое детей (сын Константин и дочь Елена), внучка, трое внуков и даже две правнучки. Я с большой теплотой по-родственному отношусь к ним, так же как жена относится к моим детям и внукам. Особую симпатию питаю к ее сыну, который с большим уважением относится ко мне и проявляет постоянную заботу о нас с матерью.
Ближе всех к нам из ее внуков Иван - студент Московского гуманитарного университета. Он много времени с детства проводит у нас, а летом с моим внуком Андреем живет на даче. Ребята дружат с малых лет, очень любят дачу и являются нашими верными помощниками. В связи с упоминанием о даче, хочу немного рассказать об этом любимом месте моего отдыха. Она находится в поселке Монихино недалеко от города и реки Истра. Это райский уголок с лесным массивом из дубов, берез, елей, сосен и других деревьев, кустарников и цветов. После отдыха на даче приезжаю в Москву обновленным. Правда, с возрастом стало труднее обрабатывать участок, поддерживать порядок, заниматься ремонтом, но у нас теперь есть молодая смена - это Андрюша и Ваня.
К этому времени я уже не пел в Большом. В 1970 году мне пришлось оставить сцену. Причиной тому была моя сладкая болезнь, как я называю диабет. Голос у меня сохранился и сейчас, хотя мне 83 года. Распознал я свою болезнь не сразу, а на сцене начал испытывать непонятные недомогания. Обнаружилось все, когда нас, нескольких ведущих солистов, прикрепили к кремлевской поликлинике и я стал проходить диспансеризацию. "Какой у вас сахар-то!" - ужаснулись врачи. И я понял, что со мной. Ведь удивительно, сколько басов страдало этой болезнью! У Шаляпина появился диабет, когда он был еще в расцвете творческих сил. Это заставило его отказаться от самых сложных партий - Мефистофеля, Бориса... Или вот замечательный наш артист Алексей Филиппович Кривченя. В театре он все подтрунивал надо мной: мол, что ты все жалуешься на какой-то диабет? Но потом и самого его постигла та же участь.
А Максим Дормидонтович Михайлов - скала, глыба, мощь! Когда он выходил на сцену и открывал рот - такие звуки разносились! Бог мой, откуда брались! Сейчас это просто невозможно представить. Какой Сусанин был - от земли... А пел Кончака: "Ужас смерти сеял мой булат..." - брал внизу такую ноту, будто в зал въехал танк. Вот ведь как! А потом пропала широта, голос стал "усыхать". Болезнь протекала у него в страшной форме. Он сам себя колол. Говорил: "Если где нельзя раздеться, я прямо через штанину хлоп!.." Потом ему ампутировали ногу. Он жил в соседнем подъезде, и я его навещал. Уходил я домой подавленным. "Ваня,- сетовал Максим Дормидонтович,посмотри, что со мной сделала судьба. Лет пять назад я плюнул бы в лицо тому, кто мне сказал бы, что со мной будет такое". Он почти совсем ослеп, вторая нога уже не двигалась...
Вот и я вынужден был уйти со сцены, хотя еще был полон сил. Плохо я петь не хотел, а хорошо - уже не мог. Концерты давал еще долго, лет десять, но уже репертуар подбирал по силам.
Передо мной встал вопрос, чем я буду заниматься дальше. Директор консерватории А. В. Свешников и министр культуры Е. А. Фурцева предлагали мне возглавить дело воспитания вокалистов в консерватории. Однако и врачи, и близкие отговорили меня от этого предложения, не советуя окунаться в столь напряженную сферу деятельности. И тут мне предложили работу в Доме ученых. Его вокальным коллективом до меня руководил С. Я. Лемешев, а затем П. Г. Лисициан. Однако Лисициан начал затем заниматься с вокалистами филармонии и Большого театра. Он просил заменить его, но, честно говоря, я отнесся к этому предложению с сомнением. Меня стали уговаривать прийти хотя бы познакомиться с коллективом, рассказали, что он включает в себя тридцать человек, занятия проходят два раза в неделю по вечерам. Я согласился, мало-помалу втянулся в эту работу, и она стала доставлять мне большое удовольствие.
Мои любимые дети - вокально-оперная студия
Дома ученых
С первых же дней пребывания в Доме ученых у меня сложились необычайно теплые отношения с дирекцией, администрацией и всеми его сотрудниками. Приветливая улыбка, с которой меня встречают в Доме ученых, уже вызывает желание общаться. Очень милый симпатичный человек, тогдашний директор Дома ученых Майя Александровна Цветкова. Она всегда откликалась на все просьбы и посещала концерты. Ее заместитель тогда - чуткая и добрая Александра Михайловна Нагиба - тоже излучала тепло и внимание. Они мне говорили иногда: "Иван Иванович, Вы у нас появились как солнышко. Под Вашим руководством все делают такие успехи!" Эти традиции поддержки ученых воспринял нынешний директор В. С. Шкаровский, приложивший немало усилий для ремонта и реставрации дома, оставшегося на плаву в мятежное перестроечное время. Эта энергия вызывает уважение.
В вокально-оперном классе я просто продолжаю то, что начали Лемешев и Лисициан. Разучивая ту или иную арию или романс, мы стараемся проникнуть в его эмоциональную глубину, донести до слушателей все музыкальные и психологические нюансы. Наши замечательные концертмейстеры - к сожалению, недавно ушедшая из жизни Майя Водовозова, наш бессменный многолетний фортепьянный мотор, а ранее - Наталия Богелава, а также концертмейстеры Большого театра Наталия Рассудова, Константин Костырев - вносили свою лепту в развитие коллектива, помогая певцам проникнуть в стиль исполняемого произведения.
Каждый третий четверг месяца мы устраиваем отчетный концерт (шутливо названный поэтами ученого Дома "Иван да Майи четверги"), а иногда выступаем с исполнением опер. Наши концерты бывают посвящены какой-то календарной дате, связанной обычно с именем известного композитора или художника.
В коллективе, как я уже сказал, более тридцати певцов. Это люди науки, имеющие ученые степени. Более десяти из них - сопрано. Начну с Киры Цыбиной - нашей ведущей певицы. Это - обаятельная женщина, которая эффектно выглядит на эстраде, кандидат исторических наук. У нее мягкий лирический звонкий голос, она очень музыкальна. В юности Кира окончила Московскую консерваторию и была артисткой "Москонцерта", но перетянула наука. Она работает в Институте мировой экономики и международных отношений РАН: специалист по вопросам внешней политики Франции и политической интеграции Европы. В конце восьмидесятых годов вышла ее книга "Советско-французские отношения и разрядка международной напряженности". Кира прекрасно знает французский язык, читает на этом языке лекции за рубежом. Например, была в Канаде, где наряду с другими политологами снималась в фильме "Холодная война: от Берлина до Потсдама". А у нас она поет, и поет очень успешно. У нее огромный репертуар - как оперный, так и камерный, который она исполняет на языке подлинника.
Много лет с успехом пела в нашем коллективе Рада Короткина кандидат медицинских наук, ведет лабораторные исследования. Она - ветеран нашего коллектива. У Рады очень большой, разносторонний и сложный репертуар. Она пела арии из опер "Макбет", "Навуходоносор", "Сила судьбы", а также в симфонических концертах.
Очень симпатичный лирический голосок у Марины Медведевой. Она и сама хорошо сложена, обаятельна. Марина работает в Научно-исследовательском институте дошкольного воспитания Академии педагогических наук.
Я был на защите ее диссертации, посвященной музыкальному воспитанию самых маленьких наших граждан. Это было очень интересно. Защитив диссертацию, Марина стала кандидатом педагогических наук.
Марина с большой охотой исполняет свои партии, такие, как Недда в "Паяцах", Маргарита в "Фаусте". Она поет много романсов, песен, опереточные арии, и все это прелестно у нее звучит.
Ветеран нашего коллектива Валентина Яковлевна Коваленко по профессии врач. У певицы крепкое лирико-драматическое сопрано, которое позволяло ей петь довольно трудный репертуар.
Людмила Сапожкова - кандидат медицинских наук. Свою работу она совмещает с пением в нашем коллективе. У нее лирическое сопрано, которым она хорошо владеет. Репертуар у Людмилы - сногсшибательный. Когда она мне поставила впервые на рояль ноты с арией Нормы Беллини и Леоноры из "Трубадура", с ариями Чио-Чио-сан и Адриенны Лекуврер - необыкновенно трудными, я удивился, но она прекрасно с ними справляется. Людмила очень музыкальна и работоспособна. Она всегда внимательно выслушивает все мои замечания и делает большие успехи.
Сравнительно недавно пришла в наш коллектив Людмила Гапочка кандидат биологических наук. Она - старший научный сотрудник биофака МГУ. У нее небольшой теплый лирический голос, сопрано. Раньше Людмила пела в хоре, и, может быть, именно поэтому поет особенно чисто.
Повышает свое мастерство тоже относительно недавно (лет десять) пришедшая к нам Галина Анатольевна Афанасьева, долгое время певшая в самодеятельных кружках и наработавшая большой репертуар. Она с успехом выступает в наших концертах, а ее исполнение партии Земфиры весьма впечатляет слушателей.
Людмила Вельчинская - кандидат философских наук, доцент Московского автомеханического института. У неё очень красивый голос, настоящее контральтовое меццо-сопрано, когда низкие ноты звучат особенно красиво. Она и занимается с большим увлечением, делает успехи и пользуется любовью публики.
Ирина Сухушина - кандидат химических наук. Она не новичок в вокальном искусстве и до нас долгие годы занималась в Доме культуры МГУ. У Ирины высокое меццо-сопрано полного диапазона, очень звонкое, которым она прекрасно владеет. Ее выступления проходят всегда с большим успехом.
Киру Тарасову, доктора психологических наук, я отношу к разряду людей, одержимых вокалом. Она всегда с удовольствием и охотой занимается, и мы обсуждаем проблемы формирования звука, дыхания, окраски той или иной фразы. Кира очень музыкальна и артистична, всегда старается проникнуть в глубину исполняемого произведения. Репертуар ее широк и разнообразен.
Больших успехов добилась кандидат технических наук Любовь Гордина, когда-то зав. физико-химической лабораторией в одном из НИИ, а теперь генеральный директор Центра независимых экологических исследований, неоднократный победитель конкурсов народных вокалистов, в свое время лауреат самой престижной премии для молодых ученых. У нее очень красивое высокое меццо-сопрано. Она стала одной из ведущих певиц нашего коллектива.
И наконец, кандидат технических наук, доцент, металловед, Антонина Валериевна Семичастная, обладательница красивого по тембру меццо-сопрано, закончившая Народную певческую школу при ЦДРИ. Она - ветеран нашего коллектива, поет в нем с 1963 года, и с 1966-го - председатель организационного бюро вокально-оперной студии, член совета Дома ученых и его художественного совета. Все планы, программы, афиши, концерты держатся во многом на ее энтузиазме.
Вокально-оперную студию всегда украшали тенора. Один из них - уже, к сожалению, светлой памяти - кандидат технических наук Вячеслав Пономарев, работавший в Институте геологии и разработок горючих ископаемых, обладал очень плотным звучным голосом необычайной красоты тембра. Он пел и в сборных концертах, и в операх и вызывал всегда большой отклик у аудитории.
Один из наших солистов - прекрасный тенор Альберт Романов, инженер-строитель, начальник технического отдела спорткомплекса "Олимпийский". Он окончил музыкальное училище в Ташкенте и некоторое время работал солистом сначала в ташкентской, а потом в калужской филармониях. Голос у Альберта мягкий, большого диапазона. Он поет и Рудольфа, где спокойно берет до, и Фауста, в котором тоже до, обычно являющееся предметом забот каждого тенора. В "Алеко" Альберт выступает в роли Молодого цыгана. В этой партии тоже много высоких нот, с которыми он легко справляется.
Еще один наш замечательный певец - кандидат технических наук Александр Штырлин. Несмотря на свою большую занятость, он много времени проводит в коллективе и является его страстным приверженцем. У певца очень симпатичный по тембру голос, и он всегда пользуется успехом у публики. Делает большие успехи и кандидат технических наук Олег Зарубин, обладатель лирико-драматического тенора.
Несколько лет назад в нашем коллективе с большим успехом начал выступать Анатолий Клеймеков - обладатель звучного лирико-драматического тенора. Его выступления пользуются неизменным успехом у публики.
Среди баритонов я должен отметить Эдуарда Гашникова - обладателя красивого и мощного баса-баритона и всегда выступавшего с большим успехом, но, увы его тоже нет в живых.
Другой баритон Петр Лягин - до недавнего времени ведущий конструктор Института космических исследований и одновременно - заслуженный работник культуры России. У него приятный лирический голос, певец очень работоспособен, вдумчив, он всегда старается проникнуть в глубину каждого произведения и быстро осваивает новый репертуар. Ему помогает в этом его музыкальность, а сценичность и обаяние способствуют успеху у публики. Петр любимый партнер многих профессиональных певиц Москвы.
Владимир Гольцман - кандидат технических наук, металлург. Его деятельность связана с плавкой чугуна, и Владимир часто работает в литейных цехах. Он жил в Донецке и там занимался вокалом, и все же тяга к наукам победила. Помимо Дома ученых он еще солирует в народной опере Чкаловского Дома культуры и в ДК МЭЛЗа. Здесь он исполнял Роберта в "Иоланте", Сильвио в "Паяцах", Монтероне в "Риголетто" и Грязнова в "Царской невесте". В нашей студии он неплохо поет Алеко в концертном исполнении.
Басовая группа у нас маленькая. По-настоящему хороший, мягкий, звучный голос у Владимира Гребняка. Он тоже заслуженный работник культуры России, когда-то - действующий летчик, а ныне ведущий специалист Федеральной авиационной службы России. Гребняк поет очень музыкально. Выступает часто, с удовольствием и всегда с неизменным успехом. Два сезона он пел в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (в качестве солиста), но теперь вокал стал только его высоким хобби.
Таков состав нашего коллектива. Большую роль в его деятельности и направленности играют пианисты-концертмейстеры, которые занимаются с певцами. Это прежде всего Майя Водовозова, которая работала много лет на радио и телевидении, где аккомпанировала и Лемешеву, и Козловскому, и Соловьяненко, и Нарейко, и Мати Пальму. Но сейчас ее уже нет среди нас.
Великолепные пианистки Наталия Рассудова и Наталья Богелева были концертмейстерами консерватории, но эту работу они совмещали с занятиями в нашей студии. Прекрасный музыкант Константин Костырев, концертмейстер Большого, также вносил свой посильный вклад в развитие нашего коллектива. В настоящее время у нас в студии прекрасно работают Наталья Кузмич и Марина Максимова.
Как я уже сказал, каждый третий четверг мы даем отчетный концерт, а кроме того, ставим иногда оперы в концертном исполнении. Несколько лет тому назад мы успешно представили на суд публики "Русалку" Даргомыжского в сопровождении оркестра. Партию Мельника пел Юра Эдельман, очень хороший бас, теперь - профессионал, работающий в Москонцерте. Затем мы поставили "Моцарта и Сальери" в гриме и костюмах, также в сопровождении оркестра. Вячеслав Пономарев пел Моцарта, а Сальери - Юрий Эдельман. Публика очень тепло их принимала.
В январе 1988 года мы исполнили с оркестром "Алеко". Но из-за ремонта Большого зала Дома ученых опера шла без декораций и сценического действия, мы давали ее в Зеленой гостиной. Чтобы слушателям была понятна связь событий, я решил создать литературно-музыкальную композицию, в которой стихи Пушкина вводились в музыкальные номера оперы. Эта идея всем понравилась, а я себе очень понравился в роли чтеца.
Кроме того, мы ставили сцены из "Лоэнгрина" Вагнера, из "Макбета" Верди, из "Любовного напитка" Доницетти, из "Укрощения строптивой" Шебалина, из "Мазепы" Чайковского, из других опер, и все эти постановки вызывали сердечный отклик у нашей публики.
Помимо Дома ученых, мы выступаем и в других творческих домах, где встречаем горячий прием. Мне всегда очень приятно, когда отмечают, что якобы самодеятельные артисты-ученые (с высшим музыкальным образованием) поют высокопрофессионально. Конечно, в этом не только моя заслуга, как руководителя студии, но, во всяком случае, я всегда стремлюсь к тому, чтобы хороший вкус исполнения был на первом месте.
Грустные размышления
Я
вновь возвращаюсь к своим первым годам работы в Большом театре. В то время в нем было шестнадцать басов, которые исполняли ведущие партии, поэтому ко мне подходили некоторые артисты и сочувственно спрашивали:
- Ну что вы здесь сможете спеть? Посмотрите, какая басовая группа! А басы-то какие!
На что я отвечал:
- Уехать в провинцию, в какой-нибудь другой театр я всегда успею. А здесь поучусь у больших мастеров, да и время все само определит.
Когда же я спел несколько ответственных, хотя, быть может, и не первого плана партий, обо мне стали говорить совсем по-другому. Посыпались комплименты и предсказания большой карьеры. Впрочем, были и завистники, но это всегда естественно. Дальнейшие мои успехи, выступления на международных фестивалях демократической молодежи в Праге в 1947 году и в Будапеште в 1949-м, заметное пополнение репертуара такими партиями, как Рене, Галицкий, Еремка, Руслан, Мефистофель, вызвали еще большую волну похвал.
Пятидесятые и первая половина шестидесятых годов оказались самыми плодотворными в моей театральной деятельности. Успешные выступления сначала в "Мазепе", затем в "Хованщине", принесшие мне звание и медали лауреата Государственной премии СССР, дебют в "Борисе Годунове" и неоднократные гастроли по многим странам, присвоение в Париже звания "Почетного члена "Гранд-Опера" и сделанный мне дочерью Шаляпина подарок - перстень Федора Ивановича - ярко комментировалось в печати, на радио и по телевидению. Мне были присуждены почетные звания народного артиста РСФСР (1955), а потом народного артиста СССР (1959). Меня наградили также орденом Ленина (1967) и орденом Дружбы народов (1976).
В Министерстве культуры СССР, не говоря уже о Большом театре, меня тогда встречали с распростертыми объятиями, и я часто слышал данное мне кем-то определение: "золотой фонд". Однажды я спросил у тогдашнего министра культуры Екатерины Алексеевны Фурцевой, почему меня так называют. Она ответила: "Вы действительно наш "золотой фонд", артист, достойно представляющий наше вокально-оперное искусство не только в Большом театре и во всем Союзе, но и далеко за его пределами. Вы наш "золотой фонд" еще и потому, что пополняете нашу казну "золотыми рублями" - долларами, фунтами, франками, марками и так далее".
Не скрою, было очень приятно услышать из уст министра такую оценку своей деятельности, и я подумал, что теперь уж ничто не омрачит мою дальнейшую творческую судьбу. Но есть хорошая русская пословица: "Человек предполагает, а Бог располагает".
Пропев на сцене Большого театра более двадцати семи лет, я был вынужден оставить сцену. И с тех пор все реже и реже слышно обо мне на радио, тем более - на телевидении, не говоря уже о печати.
Но разве в радиокомитете нет моих записей или мало их? Огромное количество. Более пятнадцати опер с моим участием, несколько произведений крупных форм - кантаты, оратории, симфонии, множество романсов русских и западноевропейских авторов, а также русских народных песен. И почти все это лежит мертвым грузом. К сожалению, это относится не только ко мне, но и ко всем певцами недалекого прошлого.
Но если на радио, хотя и редко, звучит мой голос, то телевидение уже совсем меня забыло. Хотя нет! В 1985 году, приблизительно за два месяца до моего шестидесятипятилетия, я позвонил главному редактору музыкальной редакции телевидения Людмиле Эрнестовне Кренкель, напомнив ей, что был в Большом театре артист Иван Иванович Петров. Я спросил, как она относится к тому, чтобы в связи с приближающейся датой дать по телевидению небольшую передачу обо мне. В ответ услышал много теплых приятных слов, а также критические высказывания в адрес телевидения, которое забывает о таких артистах Было обещано, что эта передача обязательно состоится. И действительно, был дан концерт, в котором я исполнял несколько романсов Чайковского, но эта двадцатиминутная программа прозвучала в дневные часы, когда почти все телезрители находятся на работе.
И я возвращаюсь к тому же вопросу. Разве на телевидении нет моих съемок или мало их? За годы интенсивной работы в Большом театре было снято:
1. Сцены и арии из опер "Руслан и Людмила", "Иван Сусанин", "Вражья сила", "Иоланта", "Князь Игорь", "Мазепа", "Борис Годунов", "Дон Карлос", "Фауст", "Севильский цирюльник".
2. Концертные программы: а) романсы Чайковского, б) арии из опер русских и западноевропейских композиторов.
3. Кинофильм "Когда в Милане пели по-русски", снятый кинорежиссером Хавчиным.
4. Двухчастный кинофильм "Иван Петров", снятый киностудией документальных фильмов.
5. Фильм-опера "Евгений Онегин", где я исполняю роль Гремина.
Где же эти пленки? Как выяснилось, под замками, в архиве, и без санкции самой высокой инстанции Гостелерадио никто их не может взять для работы. Я повторюсь, но скажу еще раз, что это касается всех ведущих певцов недалекого прошлого. Если обратиться в музыкальную редакцию Центрального телевидения с вопросом, почему так происходит, то ответ можно предугадать. Пленки старые, с браком. Чтобы сохранить их, нужен особый атмосферный и температурный режим.
Может быть, это и правильно, но все же эти пленки нужно время от времени использовать в музыкальных передачах о мастерах Большого театра, внесших свой вклад в развитие оперного искусства нашей страны.
В дни юбилея М. Мусоргского (стопятидесятилетие со дня рождения великого композитора) по радио и телевидению прошел ряд передач, посвященных этому событию, но ни в одной из них ни разу не прозвучал мой голос и даже не было упомянуто мое имя. Факт очень печальный и обидный.
К этому еще нужно добавить, что у меня мало осталось друзей - их точно ветром сдуло. Ну кому нужен бывший, хоть и именитый, артист Большого театра, а ныне пенсионер? Вот тут-то я и вспомнил стихотворение Ратгауза.
Где звуки слов, звучавших нам когда то?
Где свет зари, нас озарявших дней?
Правда, очень поддерживают меня тесные дружеские и деловые отношения с Международным союзом музыкальных деятелей, которым руководит Ирина Константиновна Архипова. Союз музыкальных деятелей организует и проводит международные конкурсы Глинки, Чайковского, Рахманинова, Шаляпина - и все это благодаря усилиям и заботам Ирины Константиновны держится на ее плечах, за что мы должны быть ей благодарны.
Однажды И.К. Архипова предложила мне принять участие в работе этого союза. Я с радостью принял предложение и вскоре стал участником многих международных конкурсов вокалистов в качестве члена жюри, иногда и заместителем председателя, а в конкурсе имени Ф. И. Шаляпина председателем жюри.
Творческий и дружеский контакт с И.К. Архиповой принес мне много радости и теплого расположения.
Мое отношение к оперному жанру
На мой взгляд, опера - это музыкально-вокальное искусство, и прежде всего - искусство пения. Певец-актер всегда был и остается центральной фигурой в опере. Сколько бы ни проявляли мастерства, изобретательности композиторы, возлагая центр тяжести на оркестровые звучания, как бы ни изощрялись режиссеры и сценографы в постановочных новациях, если опера не поется - это не опера.
Сказанное отнюдь не означает, что я за то, чтобы функция певца ограничивалась лишь вокальной стороной. Вовсе нет! Зрители приходят в оперный театр на театральное зрелище, они хотят видеть действо, хотят, чтобы на сцене происходили события, чтобы был сюжет с завязкой, кульминацией и развязкой. Поющего артиста они услышат в концерте, насладятся его голосом в записи на пластинке, а на театральных подмостках должна быть жизнь - исторически отдаленная или сегодняшняя, но жизнь со всеми ее конфликтами, столкновениями, борьбой. Значит, на сцене слушатели хотят видеть певца-актера, о каком мечтал еще Чайковский, который писал: "Оперы мои нуждаются в хороших певцах и опытных артистах". Ему будто вторил К. С. Станиславский: "Публике не нужны вокальные, звукоиспускательные машины, а нужны живые люди, поющие артисты". Да, высокая драматическая культура, профессионализм исполнителя, сценическое обаяние и настоящий художественный темперамент - вот что требуется в опере.
Моя мысль о неразрывной связи вокального и оперного искусства подтверждается всей историей русского оперного театра. В двадцатые годы XIX века, с рождением опер Верстовского "Пан Твардовский", "Вадим", "Аскольдова могила" в историю русского вокального исполнительского искусства входят и знаменитые певцы, бас Николай Лавров, тенора Булахов и Бантышев (последнего, кстати, прозвали "московским соловьем"). Женские роли в операх Верстовского и Кавоса исполняли Репина, Шарпантье, Леонова, Семенова.
В следующий период становления русской классической оперы единомышленниками Глинки становятся замечательный бас Осип Афанасьевич Петров (превосходный Сусанин и Фарлаф) и его жена Анна Яковлевна Петрова-Воробьева. Вместе с именами Чайковского, Рубинштейна и Мусоргского в историю русской культуры входят имена Хохлова - лирико-драматического баритона, лучшего Демона и Онегина, и Корсова - Бориса в "Борисе Годунове" и Князя в "Чародейке". В это же время на сцене поют такие великолепные певцы, как Клементова, Дейша-Сионицкая, Кадмина, Лавровская; баритоны Борисов и Гончаров, басы Бутенко, Майборода, Трезвинский, Власов. Среди них хочется выделить гениального предшественника Шаляпина Федора Стравинского, певшего в Петербурге
Во второй половине XIX века, с возникновением оперы Мамонтова, наметилось стремление к тому, чтобы все компоненты музыкально-сценического зрелища были слиты воедино. Появляются первые выдающиеся оперные дирижеры и художники: Рахманинов и Ипполитов-Иванов, Головин, Коровин, Васнецов, Врубель. В опере Мамонтова начал свою карьеру и реформатор вокального исполнительского искусства Шаляпин.
Пример Саввы Мамонтова повлиял и на стиль работы Большого театра, который пережил свой расцвет после Великой Октябрьской социалистической революции. Мне кажется, что его классическим периодом стали тридцатые пятидесятые годы. Все постановки этого времени осуществлялись в реалистическом плане, отвечали замыслу композитора, эпохе, месту действия. Декорации, костюмы, грим также соответствовали указаниям композитора и исторической правде.
Однако со временем из театра ушли его лучшие дирижеры: Самосуд, Пазовский, Голованов, и главным дирижером был назначен прекрасный музыкант, которого мы все очень уважали и любили,- Мелик-Пашаев. Когда он становился за пульт, начинался праздник для всех исполнителей оперы и ее слушателей. И все же Мелик-Пашаеву не хватало характера, хозяйского отношения к делу, организаторских способностей, отличавших всех предыдущих руководителей театра. Поэтому очень скоро бразды правления взял в свои руки Борис Александрович Покровский.
В спектаклях Бориса Александровича Покровского я участвовал очень редко и, откровенно говоря, не жалел об этом. И вот почему.
Покровский был полновластным хозяином, диктатором каждой постановки. И если в начале его деятельности это не слишком ощущалось, то с каждым годом властный тон становился все сильнее. Дело дошло до того, что в спектаклях, которыми дирижировал Мелик-Пашаев, состав исполнителей назначал Покровский.
Конечно, Покровский - талантливейший режиссер, и, на мой взгляд, первое десятилетие его деятельности в театре ознаменовалось удачными и интересными постановками. Я помню нашу совместную работу в спектакле "Вражья сила" Серова, где я исполнял роль кузнеца Еремки. Спектакль получился очень сочный, впечатляющий. Хороша была постановка оперы Монюшко "Галька", а также "Проданная невеста" Сметаны. Я с удовольствием пел Рамфиса в "Аиде" Верди, где проявились большой вкус и мастерство Покровского.
Пожалуй, один из лучших спектаклей у Бориса Александровича - "Садко" Римского-Корсакова. В этом спектакле также сказали свое веское слово и Голованов, и Федоровский, а также прекрасные солисты: Ханаев, Нэлепп, Шумская, Шпиллер, Давыдова, Козловский, Лемешев, Михайлов, Рейзен, Иванов, Лисициан.
Мне кажется, в своих исканиях, как это часто бывает у больших мастеров, Покровский повернул, на мой взгляд, в неправильную сторону. Покровский считал, что при постановке оперы главным лицом является режиссер. Большое влияние на него оказал Вальтер Фельзенштейн, знаменитый режиссер театра "Комише Опер" в Берлине. Но то, что возможно в маленьком коллективе, ставившем в основном комические оперы, неприемлемо для Большого театра. Я видел многие спектакли "Комише Опер" в то время, когда театр приезжал к нам на гастроли. Особенно мне понравились "Сказки Гофмана". Здесь все меня поразило - и певцы, и декорации, и режиссура. Потом я посмотрел оперу Бриттена "Альберт Херринг" и тоже получил большое удовольствие. Однако когда я услышал "Волшебную флейту" Моцарта, то был глубоко разочарован и задал себе вопрос: зачем театр обратился к этой постановке? Ведь в ней ведущую роль должны играть певцы, а так как они были в этой труппе второстепенными, то настоящего звучания музыка была лишена, хотя все мизансцены выполнялись правильно. А уж что говорить об "Отелло" Верди! "Как же они будут это петь?" - думал я. И действительно, после спектакля мне казалось, что я не услышал ни одной арии, ни одного монолога.
Театр должен придерживаться своего репертуара. Однако ошибки "Комише Опер" отразились и на репертуаре Большого театра.
Ведь подмена красивого пения в опере заманчивыми, на взгляд режиссера, мизансценами не привлекает публику к опере, а, наоборот, отпугивает от нее. И если Герман начинает прыгать, ползать, падать, вести себя экстравагантно, то этим он не создает трагедийного образа, а только вызывает к себе жалость.
И такие мизансцены несовместимы с оперными спектаклями. Поэтому я считаю, что главное ответственное лицо при постановке спектакля - дирижер. Именно он, стоя за пультом, должен управлять огромным оркестром, огромным хором, всеми солистами, добиваться стройности звучания. Именно он должен чувствовать стиль произведения и выразить то, что наметил автор в партитуре.
Несет ответственность за спектакль и хормейстер, особенно в наших русских операх, где хор - одно из главных действующих лиц.
В такой же мере, как хормейстер и дирижер, несут ответственность за спектакль и солисты. Ведь часто бывает так, что в центре произведения яркий образ, на котором оно держится. Например, Грозный в "Псковитянке". Или Борис в "Борисе Годунове". Без яркого Германа не будет "Пиковой дамы".
Конечно, и работа режиссера очень важна, но он не должен становиться единоличным распорядителем.
К сожалению, в Большом перестали звучать "Демон", которого публика всегда любила за прекрасную музыку Рубинштейна, "Дубровский". Исчезли с афиш "Риголетто", "Фауст", "Ромео и Джульетта", "Черевички", "Русалка", "Проданная невеста" и "Галька" (две последние очень хорошо поставленные самим Покровским). Не идут и другие оперы - "Майская ночь", "Лакме", "Аида". Канули в Лету произведения советских композиторов - "Декабристы" Шапорина и "Укрощение строптивой" Шебалина. И это очень жаль.
Вспомним о "Гранд-Опера", "Ла Скала", о лондонском театре "Ковент-Гарден" или о нью-йоркской опере. Что они ставят? Например, к нам приезжала "Ла Скала". Они привезли свою классику: "Лючия ди Ламмермур", "Аида", "Севильский цирюльник", "Турандот", "Норма", "Золушка". Публика принимала их с энтузиазмом. Но так ли уж хорошо они играли и так ли уж сложно были поставлены в режиссерском плане эти спектакли? Нет, режиссура там очень проста, но певцы пели так, что у публики вызывали восхищение.
Я уверен, что каждый театр должен иметь свое репертуарное лицо, а у ведущих театров страны должны быть свои большие оперные полотна.
Теперь, когда я уже не пою в театре, я часто слышу нарекания на наш театр, да и на Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Я слышу, что постановщики очень вольно обращаются с материалом, с музыкой наших классиков. Артисты хора жалуются, что стало мало репетиций, оперы часто идут без спевок. Но разве так можно?
Когда я работал в театре с теми большими дирижерами, о которых говорил, спевки были обязательны. Да и не только спевки, но и занятия с дирижером. Когда мы ставили "Руслана", то Александр Шамильевич просил, чтобы перед каждым спектаклем мы приходили к нему в дирижерскую комнату и два-три раза повторили ансамбль-канон. Я как-то спросил:
- Александр Шамильевич, почему вы каждый раз вызываете нас на этот ансамбль?
- Ваня, этот ансамбль очень сложный,- ответил он.- И от него зависит, как дальше пойдет вся картина и даже вся опера. Если я не уверен, что все будет хорошо, я очень нервничаю, и это меня раздражает. Я должен быть уверен, что все пройдет хорошо.
Вот какой подход к делу был у настоящего мастера. А сейчас и режиссеры, и дирижеры допускают искажения в постановках опер, делают необоснованные купюры.
Однажды я слушал в Эстонии оперу "Хованщина". В целом спектакль получился интересным, но в нем совершенно не выведен образ Досифея. Мы увидели безвольного монаха, и артист, исполнивший эту роль, пел без всякого настроения, без всякой страсти. Где же Досифей - князь Мышецкий - огромная сила, которая противостояла Петру?! А ведь очень способный певец, исполнявший Досифея, обладал хорошим голосом.
Хороший артист играл и роль Ивана Хованского, но почему-то в сцене в тереме он валялся на полу перед своей челядью. Ну, может быть, Хованский был самодур и грубый человек, но на полу перед челядью он кататься не мог. И, конечно, всякое прыганье, беганье, лазанье по деревьям несовместимо с оперным искусством.
В Литве "Князь Игорь" был поставлен без увертюры. Что же, выходит, мы всегда зря восхищались увертюрой к этой опере? Ведь она вводит нас в эпический богатырский строй всей музыки и построена на темах оперы. Я думаю, что не случайно друзья Бородина восстановили эту замечательную музыку.
А в Уфе, например, в "Царской невесте" режиссер выбросил многие хоры, так как, по его мнению, они задерживают развитие действия.
Сейчас опера, да и вся классическая музыка, переживает, на мой взгляд, тяжелое время. Об этом я не боюсь сказать, и об этом нужно трубить во все трубы! "Все мы (может быть, и я в том числе, хотя я и старался делать все, чтобы приобщить молодежь к настоящей музыке) виноваты в том, как воспитали новое молодое поколение. Ведь не секрет, что большая часть его потеряна для классической музыки. Концертные залы сегодня далеко не полны, а молодежи в них совсем немного. Какого огромного нравственного заряда лишаются наши юноши и девушки! Музыка наших русских и многих зарубежных композиторов сама льется в души, а часто она к тому же сочетается с текстами поэтов классиков: Алексея Толстого, Некрасова, Тютчева, Есенина, Маяковского. Эту музыку нужно вывести из подполья. Мы должны пропагандировать классику и приобщать молодежь к ее облагораживающему влиянию.
"Хотел бы в единое слово..."
мои советы молодым
Постановка вопроса, каким должен быть современный оперный артист, наводит на многие размышления, и в первую очередь: чем отличается современный оперный артист от своих предшественников? В этом плане действительно есть над чем задуматься.
В оперном театре певец всегда был и остается центральной фигурой. Именно с помощью его искусства приходящий в зал зритель-слушатель воспринимает замысел композитора, дирижера, режиссера, и если сегодня ограничить роль певца чисто вокальной стороной, то сведется на нет необходимость приобщения к опере как к искусству театральному: можно слушать записи опер в исполнении любимых вокалистов, не покидая собственной квартиры. А зритель приходит в театр именно благодаря театральной природе оперного искусства, и игнорировать этот факт никак нельзя.
Таковы самые общие предпосылки, которые выдвигают конкретные задачи, стоящие перед артистом оперного театра: обладать певческим голосом, быть профессионалом-певцом, профессионалом-актером. Но если с певческим голосом можно родиться, то родиться профессионалом нельзя. Профессионализм возникает в процессе работы, в процессе обучения. Поэтому в этой главе мне хотелось бы поделиться с молодежью своими соображениями и дать ей несколько добрых советов.
Вот один из них. Если молодой человек или девушка стали на путь искусства, нужно посвятить ему себя всецело, быть одержимым этим искусством. Идешь, например, по улице. Кругом масса народа, а ты никого не видишь и думаешь, как тебе сделать то или иное движение, правильно спеть ту или иную фразу, чтобы донести главную мысль наиболее выразительно. И ловишь на себе взгляд прохожих, которые думают: "Ну, идет сумасшедший". А это не сумасшедший, а одержимый своим любимым делом артист, который весь в своем искусстве. И так - ни одной минуты впустую. Только такой артист добьется высокого мастерства. Это - закон, касающийся не только искусства, но и всех сфер человеческой деятельности.
Как же молодой человек должен работать? Прежде всего, необходимо выработать ровное, свободное дыхание. Крепкое и вместе с тем легкое. Потому что звук ни в коем случае нельзя извлекать за счет мышечной силы. Для этого нужно много заниматься: петь гаммы, трезвучия, арпеджио, разные упражнения, вокализы. Я старался петь длинные упражнения, рассчитанные на большое дыхание.
Кроме того, следует научиться управлять своим дыханием. Чтобы звук независимо от оттенка - пиано, меццо-форте или форте - был собранным, подпертым. Это тоже требует ежедневной, ежечасной работы, и только благодаря ей можно добиться результатов.
Звук должен быть всегда окрашен, а его окраска идет от содержания произведения, от слов, фразы. Грустное или даже трагическое произведение связано с темной окраской звука, или, наоборот, радостное, торжественное произведение требует яркой окраски.
Во время пения полезно думать также о подготовке голосовой позиции. Как я уже говорил, звук всегда должен быть собранным, особенно когда голос идет к кульминации. Ведь она строится часто на верхнем регистре. Например, когда я готовил партию короля Рене, то особенно много работал над ариозо, очень трудным, насыщенным большими пассажами от до до верхнего ми-бемоль на длинном дыхании. В конце же после больших взлетов нужно спеть высокую фразу с нотой фа, которая заключает ариозо. Эту ноту нужно подготовить и особенно собрать свой голос. Иначе, если голос не будет поставлен в правильную позицию, нота не получится или получится очень, некрасивой, "распяленной" или "зажатой". У меня эта фраза вначале не получалась, и я не мог понять, почему. А потом подумал: "Ведь во фразе "Готов и жизнь свою отдать" я перекрывал ноту ми-бемоль, и поэтому перекрывался ход и на другую фразу "Но только дай мне не видать" с движением к фа. Тогда я решил взять предыдущую фразу более ярко. И когда я так делал, то и вторая фраза получалась совершенно свободно. Затем я уже перестал думать об этом приеме, и все ноты оказались у меня на месте.
Разные голоса осуществляют взятие отдельного звука разными приемами. Некоторые басы "кроют" ноты с до-диез или с ре, а другие начинают "крыть" с ре или ми-бемоль. Это зависит от природы голоса. Например, Шаляпин и Пирогов, у которых были высокие голоса, начинали "крыть" с высоких нот ре и ми-бемоль.
Но даже и приоткрытый звук должен быть круглый, красивый, "тембристый". Белая же нота звучит слишком открыто и некрасиво.
На разных концертных площадках нужно пользоваться различными приемами. Так, в опере нужен собранный, плотный звук и посыл его должен быть такой, чтобы звук шел через оркестр в зал и проникал во все уголки театра. А в концертах нужно пользоваться мягкими лирическими полутонами, а подчас необходимо что-то спеть просто шепотом, и это произведет на слушателей огромное впечатление.
Как в опере, так и в концертах важна яркая дикция. Но не просто произнесенное яркое слово - дикция должна определяться содержанием данного произведения, внутренним состоянием персонажа. И если певец будет идти от этого состояния, ему не нужно думать о дикции, она станет ясной и выразительной. Важно еще обращать внимание на красоту слова, особенно в поэтических произведениях. Ведь множество романсов написано на стихи Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Алексея Толстого, Тютчева и Кольцова. Какие замечательные стихи! Каждое слово - золото! Но эти красивые слова нужно и красиво произнести. От образности фразы зависит и вся дикция.
Овладев всеми исполнительскими приемами, певец может думать о репертуаре, о степени его трудности.
Обычно молодым певцам, даже с большими голосами, в театре сразу не дают первых ролей. Они начинают со вторых партий. Вот, например, Марк Осипович Рейзен. Уж какой изумительный голос был у певца, а сколько он спел вторых партий! И ничего! В книге воспоминаний он пишет о том, что это было очень полезно. Между прочим, и я пел те же вторые партии и не жалею об этом. Это были ступеньки, которые ведут к вершине мастерства. Так что чураться вторых партий никогда не нужно.
Репертуар следует выбирать не только по голосу, но и по своим вокальным и физическим возможностям, чтобы не нанести себе непоправимый вред. Ведь голос бывает лирический, драматический, с характерным уклоном. И из этого нужно исходить. Помню, замечательный артист, обладавший очень красивым баритоном, Владимир Михайлович Политковский, который вел весь драматический, а иногда и лирический репертуар в нашем театре, как-то мне сказал:
- Иван Иванович, вы знаете, хочу вас кое о чем предупредить. Вот вы сейчас многое поете, у вас большой репертуар, но заклинаю вас: пойте только свои партии. У вас высокий бас-кантанте, с ним можно сделать много ролей, но придерживайтесь только своей линии! Говорю так потому, что сам чуть не лишился голоса. Я его надломил. Стал петь басовые партии - Руслана, Бориса, Мефистофеля, и, хоть голос мне как будто это позволял, вдруг во мне что-то раз - и сломалось. Голос мне перестал подчиняться. Я два сезона кувыркался и не мог войти в прежнее русло. Потом стал опять петь только партии драматического баритона, но не так, как раньше, а хуже.
Однако я как-то ослушался Политковского и пел в "Князе Игоре" и Галицкого, и Кончака. Но это было нужно для гастролей в Италии.
На моей памяти случалось, что певцы с очень хорошими голосами поплатились потом за то, что пели не свой репертуар. Я думаю, не обидится на меня Женя Райков, если я расскажу о его ошибках.
Он пел в Большом театре, спел очень хорошо несколько больших партий и вдруг стал готовить роль Радамеса. Я сначала даже испугался немного за него. Это ведь очень трудная партия! Но звуковедение у Верди, итальянского композитора, в высшей степени вокальное, и, если певец подходит к высокой ноте, она всегда подготовлена. На спектакле Райков хорошо спел Радамеса, все сцены провел удачно, голос у него звучал замечательно. Я был приятно поражен, поздравил его от всего сердца и сказал, что он сделал большие успехи, но тут же предупредил:
- Ты только не спеши. Ты совсем молодой человек.
Но молодым хочется спешить, скорей спеть свой репертуар, да еще кое-что к этому добавить. И как-то Женя мне заявляет:
- Иван Иванович, я уже приготовил Германа и скоро буду петь в "Пиковой даме".
Я сначала даже растерялся, когда это услышал, и не знал, что ответить. Ведь у Чайковского, при изумительной, глубоко психологической музыке, вокальная линия часто трудна для певца, и ему нужно быть очень осторожным. Поэтому я сказал:
- Женя, прежде всего ты тенор, а я бас, мы с тобой не соперники и я должен тебя предупредить: мне очень страшно, что ты взялся за эту партию.
- Да нет, у меня все звучит. Звучит!
- Но ведь если ты пел Радамеса, очень вокальную партию, то в "Пиковой даме" она намного сложнее, в ней очень напряженный психологический настрой. Поэтому смотри, я боюсь за тебя. Я бы тебе не советовал.
Однако он приготовил эту партию, стал петь оркестровую репетицию, и в сцене "Грозы" голос ему не подчинился, он не смог взять си, сорвался, и на этом его Герман закончился. После этого случая он не мог уже петь и Радамеса. Голос певца надтреснул.
Другой пример - Дмитрий Узунов, мой приятель, который тоже пел в Большом театре. Он был прекрасным Радамесом, Германом, Водемоном, Хозе - в общем, пел весь драматический и даже лирико-драматический репертуар. Когда же Узунов уехал в Австрию, то там стал вести сугубо драматический репертуар и очень часто пел партию Отелло. Хотя это тоже музыка Верди и написана вокально как будто удобно, но она сугубо драматична, требует подчас необычайно широкого, просто-таки героического звучания голоса. А у Узунова был лирико-драматический тенор. И, когда оркестр, вся музыкальная ситуация потянули его на форсировку звука, вдруг в самый расцвет его творчества он сорвался и перестал петь. Такой крах его блистательной карьеры был просто ужасен.
Придя в театр, артист, даже прошедший практику в оперной студии или учебном театре (если таковой имелся при вузе, где он учился), во многом должен пересмотреть свои вокально-сценические позиции. И дело не только в разнице требований, предъявляемых к студенту и артисту. Начинающий артист должен освоиться с непривычно большим зрительным залом, огромным оркестром и постараться, чтобы голос его летел в зал. Нужно добиться контакта с партнерами, хором, мимансом. В этот период начинающему певцу мало владения только лишь вокальной технологией, необходимо чувство ансамбля, без которого нет артиста оперного театра.
Но и этого мало. Сегодня в оперном спектакле нужна высокая драматическая культура, сценический профессионализм и то, что мы называем сценическим обаянием и внутренним темпераментом. Причем, если умению петь может научить педагог, а режиссер покажет мизансцены, то внутренний темперамент, так же как сценическое обаяние: или есть - или нет. Научить этому нельзя. Но сценический профессионализм, драматическую культуру воспитать можно - воспитать в себе самому, воспитать с помощью педагогов-режиссеров. Я подчеркиваю - педагогов, потому что не каждый режиссер-постановщик является педагогом.
Тут очень многое зависит от самого артиста. Если его работа, к примеру, над образом Мефистофеля в "Фаусте" Гуно, ограничится разучиванием музыкально-вокального материала данной партии, мы будем иметь один образ. Если же артист прочтет поэму Гёте, послушает другие оперы Гуно, "Мефистофеля" Бойто, "Осуждение Фауста" Берлиоза, будет работать над пластикой, заниматься фехтованием, изучит различный иконографический материал - результат будет совсем иной.
Работа певца-артиста, как я уже сказал, не должна ограничиваться временем его пребывания в театре. Все черновые, подготовительные занятия проводятся дома - над партией, образом. На уроках с концертмейстером певец не имеет права разучивать партию. Он обязан приходить на урок, чтобы работать над ней. А петь на спевке с клавиром - это неуважение не только к дирижеру, концертмейстеру и другим участникам спевки, но и к самому себе. Это признак профессиональной недобросовестности. Если же артист не готов к спевке, он не должен приступать к репетициям, потому что о каких сценических задачах можно думать, не овладев вокально и музыкально своей партией?! А отсюда - и сценическая скованность на спектакле, являющаяся следствием музыкальной неуверенности, отсутствия вокальной свободы. Артист-профессионал никогда себе этого не позволит. Или он готов к спектаклю, или не готов, и тогда профессиональная честность не позволит ему выйти на сцену.
Хочу предостеречь еще вот от чего. Очень часто молодые певцы начинают копировать манеру исполнения знаменитых мастеров. Этого ни в коем случае делать нельзя! Правда, я тоже не избежал такого соблазна. Когда я был студентом, то, как уже говорилось, очень любил Александра Степановича Пирогова и старался ему подражать. Но, помню, подошел кто-то из моих старших товарищей и говорит: "Ваня, зачем вы копируете Александра Степановича? То, что он делает, подходит для его индивидуальности. А вы должны вырабатывать свой стиль".
Я подумал и затем старался идти своим собственным путем.
Однако определенный вокальный и даже артистический прием можно позаимствовать у какого-то певца. Причем не обязательно, чтобы бас заимствовал у баса. Он может заимствовать у тенора, даже у женщины, если она делает это красиво.
Работа певца, как известно, заключается не только в том, чтобы хорошо выучить свою партию, прорепетировать ее на спевке. Нужно приносить на каждую репетицию и на каждый спектакль что-то новое, продуманное дома, подсказанное интуицией, искать в вокале, в актерском поведении правильные пути.
Прежде всего нужно идти от музыки, не забывать о стиле, эпохе, месте действия, но в то же время помнить и о внешнем образе, накапливать по черточке правдивые детали. И когда все это соединяется, рождается сильный, неповторимый образ. В этом плане молодые певцы должны следовать лучшим традициям Шаляпина. Когда я еще только учился и пришел в Большой театр, его имя было у всех на устах, все помнили этого гениального певца. Мой педагог Минеев, который пел с Федором Ивановичем в одних спектаклях ("Севильский цирюльник", "Дон Карлос"), много рассказывал об этой легендарной личности, и все это интересовало меня безумно. Минеев рассказывал, как Шаляпин пел, одевался, гримировался.
Он говорил: "Вы только не думайте, Ваня, что у Шаляпина был огромный голос. Иногда рассказывают, что когда он пел, то гасли свечи и качались люстры. Это неправда. У него не было такого сильного голоса. Но был голос очень собранный, красивого тембра, звучный, ровный, и им он умел пользоваться, как никто другой. Вот какой произошел интересный случай. Однажды Василий Родионович Петров, исполнявший в "Дон Карлосе" роль Инквизитора, пел в этом спектакле с Шаляпиным - королем Филиппом. Перед выходом на сцену Петров очень тихо сказал стоящим в кулисах артистам, что он сейчас Федора Ивановича убьет своим голосом. Шаляпин, однако, услышал это и в начале сцены стал петь очень тихо, но так выразительно, что дух захватывало. И лишь в кульминации, во фразе "Пред святой церковью король свой дух смиряет" взял ноту фа такой силы, что зал взорвался от оваций. Когда закрылся занавес, Шаляпин спросил Петрова: "Ну, Василий Родионович, кого же ты убил?"
Мой аккомпаниатор Стучевский рассказывал, что он много лет аккомпанировал Григорию Степановичу Пирогову, замечательному певцу, у которого был блестящий, очень большой, мощный голос. В одном из концертов Григорий Степанович в антракте задумался и сказал:
- Семен Климентьевич! Понимаете, в чем мое несчастье?
- Нет, не понимаю,- удивился Стучевский.- В чем же оно заключается?
- Мое несчастье в том, что я пою в то же время, когда поет Федор Иванович Шаляпин.
- Ну и что? Шаляпин есть Шаляпин, у него свои достоинства, у вас свои.
-- Нет, Шаляпину удается все, а у меня многое не получается так, как получается у него. Вот я сейчас сделал партию Грозного в "Псковитянке". Когда Грозный появляется в тереме у Токмакова, он открывает низкую дверь, нагнувшись, переступает порог, пристально смотрит на Токмакова и произносит только два слова: "Войти аль нет?" Но от этих слов зависит судьба города Пскова, и их нужно так сказать, чтобы дать это почувствовать всем, особенно Токмакову. А я, как ни стараюсь, ничего у меня не получается. Послушал я Шаляпина. Он как вышел, как произнес эти два слова - у меня мороз по коже! Это что-то феноменальное! Как этому человеку так все удается!?
У меня часто спрашивают, как я отношусь к имени Шаляпина. Я никогда не видел Федора Ивановича, и хотя записанные им когда-то пластинки сильно шипят, я могу сказать: "Конечно, Шаляпин - великий певец!" Он не просто пел, а доносил образ героя, в которого перевоплощался. Это были совершенно разные образы: трагический царь Борис, забулдыга Еремка, мистический Демон, и окраска звука в его пении была именно демоническая. А как он исполнял песню "Как во городе было во Казани", которую поет монах-пропойца! Все эти образы воссоздавались с помощью огромного шаляпинского искусства.
В тех фильмах с участием Шаляпина, что я видел - "Дочь царя Ивана Грозного" (по "Псковитянке") и "Дон Кихот" - его пластика, мимика, грим потрясают. Но главное, Шаляпин был не только великий певец и актер - он был и гениальный художник на сцене. Он использовал все элементы, необходимые для оснащения актера.
Память о Шаляпине сконцентрирована в том числе в доме-музее его имени, директор которого Н. Н. Соколов - автор нескольких книг о Федоре Ивановиче. Естественно, что подаренный в Париже мне дочерью Федора Ивановича перстень великого артиста я передал именно в этот музей на всенародное обозрение. Он сейчас находится в экспозиции этого музея, и приезжавшие дочь и внучка Федора Ивановича не упрекнули меня, что "дареное не дарят", а наоборот, одобрили.
Овладеть мастерством вокала очень трудно, поэтому нужно много и вдумчиво работать. И когда певец приходит в театр и ему дают маленькую роль, он ни в коем случае не должен от нее отказываться, но и не должен на этом успокаиваться. Нужно исподволь готовить большие партии, те, что отвечают возможностям и голосу певца. Это всегда пригодится. Как я рассказывал, и в моей жизни случалось, что часто из-за болезни актеров я пел самостоятельно приготовленные партии. Я советую так поступать и молодежи.
И еще: нужно держать контакт со своими старшими товарищами и без стеснения советоваться с ними, как лучше спеть ту или иную арию, трудный фрагмент; как лучше построить ту или иную мизансцену; вообще, советоваться по всем возникающим проблемам.
У меня было много товарищей по театру, которые были старше меня на пятнадцать, двадцать и более лет, и они мне всегда помогали, потому что видели, что я иду к ним с открытой душой, и они с такой же душой встречали меня.
И нужно всегда помнить о великом наследии, которое досталось нам от русских композиторов, писателей, художников, и свято его чтить. Мы должны беречь русскую классику, как и достижения всей мировой культуры, бережно относиться к русской народной песне. Что греха таить, в последнее время наша классика стала реже звучать на концертной эстраде и с экранов телевизоров, а русская народная песня почти затерялась. Возродить ее, нести слушателю лучшие произведения русской музыки - святой долг.
И еще несколько слов в заключение. Эта книга должна была дойти до читателя в год моего семидесятилетия, в 1990-м году - но, по ряду причин, появилась только сейчас.
За эти годы многое изменилось в стране, в том числе в культуре и искусстве. И в моей жизни тоже. Например, когда-то я имел хороший контакт с телевидением, где выступал как автор и ведущий музыкальных циклов, был членом художественного совета Всесоюзного радио и там же автором многих музыкальных передач. Но - увы! - все прошло...
Когда-то я с удовольствием возглавлял вокальную секцию Центрального Дома художественной самодеятельности. Там мы проводили смотры, фестивали, конкурсы самодеятельных коллективов - и все это проходило на довольно высоком уровне, создавая радостное настроение не только у организаторов этих акций, но и у всех участников. А ведь участниками были рабочие и служащие самых разных профессий. Это было приятно и замечательно! Но увы! - все кануло в Лету, и многие самодеятельные коллективы прекратили свое существование...
И вот сейчас, положа руку на сердце, могу сказать, что лично для меня в Москве существуют три очага культуры, которые греют душу.
Во-первых, Центральный Дом ученых, где я работаю художественным руководителем вокально-оперной студии уже 26 лет и где благодаря спонсорам студия еще живет.
Во-вторых, Дом-музей Ф.И. Шаляпина. Это чрезвычайно привлекательный, уютный уголок культуры, куда я прихожу всегда с большой радостью. С директором музея, Николаем Николаевичем Соколовым, у меня сложились творческие, дружеские отношения. Много концертов, конференций, посвященных жизни и творчеству Ф.И. Шаляпина проводил я в этом Доме. Также здесь проводились встречи, на которых я рассказывал о спектаклях Большого театра, о русском романсе, о русской народной песне и своем творчестве. Такие встречи сопровождались моими записями.
И, наконец, третий очаг - Московская Государственная консерватория, где я в течение последних нескольких лет являюсь Председателем государственной комиссии по приему выпускных экзаменов у студентов вокальной и концертмейстерской кафедр. Эта деятельность для меня представляет интерес, потому что приходится слушать и судить молодых, талантливых певцов и пианистов, оценивать их успехи и давать полезные советы.
Пофессора и педагоги вокальной кафедры - мои друзья, товарищи по искусству, с которыми я пел, дружил и имел контакт в Большом театре и на концертной эстраде. Назову некоторых из них: И. К. Архипова, И. И. Масленникова, Л. А. Никитина, К. Г. Кадинская, Е. Г. Кибкало, Петр Глубокий, Юрий Григорьев, Галина Писаренко, Анатолий Лошак и другие. Руководит кафедрой П. И. Скусниченко - прекрасный вокалист и педагог. С ним у меня полный творческий и дружеский контакт.
Как-то, несколько лет назад, у меня в квартире раздался телефонный звонок. Приятный голос Смирнова Мстислава Анатольевича тепло приветствовал меня. В то время он заведовал концертмейстерской кафедрой: "Иван Иванович! Мы просим вас возглавить госкомиссию по приему выпускных экзаменов". Я немного растерялся: "Но ведь я же певец, а не пианист-аккомпаниатор". Но он быстро убедил меня, сказав, что я работал в театре и на концертной эстраде с великими дирижерами, концертмейстерами и я столько знаю в этой области. Мы нашли общий язык и работали успешно. Но вскоре он ушел из жизни и заведующим кафедрой стал В. Н. Чачава. С этим замечательным музыкантом, прекрасным пианистом-аккомпаниатором у нас сложились теплые дружеские, творческие отношения.
В феврале 2000 года мне исполнилось восемьдесят лет. Я не хотел официального чествования в Большом театре, вспоминая, как отмечались мои 75 лет. Тогда просто шла опера "Мазепа". В антракте спектакля осветили ложу дирекции, где я сидел, и под аплодисменты зала артисты преподнесли мне цветы, полученные ими от публики. Ни одного слова в свой адрес я не услышал.
В мое 80-летие Совет ветеранов Большого предложил отметить мой юбилей в театре, но я категорически отказался, памятуя прошлое. Неожиданно мне позвонил Владимир Викторович Васильев (в то время Генеральный директор театра) и попросил разрешения приехать ко мне домой. Он, его заместитель В.Н. Тихонов и Ю.А. Григорьев, зав. оперной труппой, тепло поздравили меня, вручили подарки. Жена накрыла стол, и мы немного посидели.
Владимир Викторович уговорил меня отметить юбилей в театре, заверив, что теперь это будет сделано более достойно и значимо. Решили, что на моем юбилейном вечере будет звучать со сцены опера "Борис Годунов", учитывая, что партия Бориса была моей любимой.
И вот наступил этот вечер. Перед началом спектакля, выйдя на сцену, к публике обратился В.В. Васильев и, горячо приветствуя меня, сказал много теплых слов в мой адрес. Публика наградила меня бурей аплодисментов. Все это было очень приятно и глубоко взволновало меня. Не выходя из ложи, я встал во весь рост, освещенный мощными лучами прожекторов, обратился к В.В. Васильеву, ко всем работникам театра, к публике со словами благодарности, сказав, что в Большом театре я проработал более четверти века и это были не только "златые дни моей весны" - это были златые дни всей моей жизни. В фойе театра была устроена фотовыстовка, посвященная моему творчеству. В антракте Васильев пригласил меня с супругой и моими родными к себе в кабинет, где был накрыт стол. Во время беседы я сказал, что после ухода на пенсию обо мне театр почти не вспоминал и мне непонятно: почему мой опыт, мои знания не были востребованы в Большом. Тогда Владимир Викторович пригласил в кабинет одного из своих заместителей и поручил выписать мне постоянный пропуск в театр, а через два дня я получил приглашение работать консультантом со стажерами и молодыми певцами. Два года я работал с молодежью. И я теперь в недоумении: что же произошло? Договор закончился, а из театра никаких предложений не поступает. Ну что же - спасибо и за то, что театр терпел меня два года.
Заканчивая свой рассказ о жизни и творчестве, должен сказать, что я счастливый человек. И счастье мое в том, что я родился в великой стране, в России, где получил образование, в том числе и театрально-музыкальное.
Более 27 лет я был солистом Большого театра, исполняя весь басовый репертуар, репертуар Ф.И. Шаляпина. И где бы я ни пел в России или за ее рубежами - Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии,- я всегда ощущал чрезвычайно теплый прием публики. И везде - в газетах, по телевидению, на радио обо мне говорили как о продолжателе великих шаляпинских традиций. А это для меня самая высокая оценка и огромное счастье.

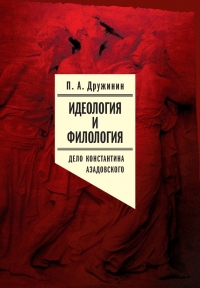

![Криминальные рассказы [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/589996/primary-medium.jpg)
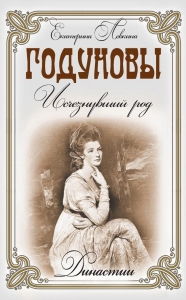

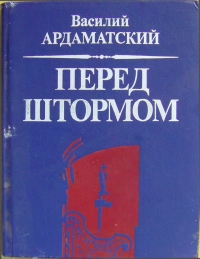
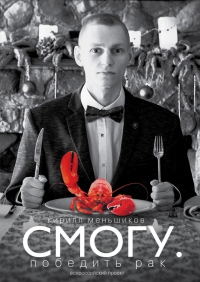

Комментарии к книге «Четверть века в Большом (Жизнь, Творчество, Размышления)», Иван Иванович Петров
Всего 0 комментариев