Марк Алданов Азеф
I
В марте 1893 г. Департамент полиции получил по почте из Германии коротенькое заказное письмо.[1] Неизвестный человек, подписавшийся «готовый к услугам покорный Ваш слуга», предлагал департаменту давать сведения о кружке учащейся молодежи в Карлсруэ и о намечавшейся в этом кружке посылке в Россию нелегальной литературы. Адрес для ответа был указан за литерами В. Ш., poste restante.[2]
Письмо не вызвало большого интереса в Департаменте полиции. Кружок учащейся молодежи в Карлсруэ, по-видимому, не слишком его беспокоил. Ответ, довольно краткий, был дан только через пять недель. Департамент небрежно сообщал, что о существовании и деятельности кружка в Карлсруэ ему известно. Впрочем, не отказывался от услуг корреспондента, но предлагал ему предварительно назвать свое имя и сообщить, может ли он давать точные сведения о транспортах литературы «с указанием, когда, куда, каким путем, по какому адресу и через кого именно они пересылаются». Департамент обещал «солидное вознаграждение» и гарантировал полную тайну.
Письма такого рода, вероятно, довольно обычны в практике всех полиций мира. По форме они немного напоминают брачные объявления, которые ежедневно можно найти в лучших немецких газетах: одна сторона заявляет о своем интересе к другой, но просит сначала сообщить точные данные о приданом и заодно прислать фотографическую карточку.
Обязательная добавка «Diskretion verlangt und garantiert».[3] Или же, еще благороднее, «Diskretion Ehrensache».[4]
Неизвестный корреспондент, однако, не спешил прислать свою фотографическую карточку Департаменту полиции. Он тоже немного подождал, а затем, снова без подписи, ответил весьма деловитым письмом, где объяснял, что именно он намерен сообщать. Размер требуемого приданого, довольно скромный, он указывал точно: «ежемесячное вознаграждение не меньше 50 рублей». Кроме того, корреспондент просил оторвать и прислать ему кусок его первого письма в доказательство того, что ответ исходит действительно от Департамента полиции (письма ведь иногда и пропадают, даже заказные). Буквы указывал новые: И. С.
Не буду останавливаться на подробностях переписки. Скажу только, что победа осталась на стороне департамента. Как искатели приданого печатают объявления сразу в нескольких газетах, так и готовый к услугам корреспондент обратился, кроме Департамента полиции, еще и в жандармское управление своего родного города, Ростова-на-Дону. Пишущих машин в то время не было и Донское жандармское управление по почерку выяснило, что письмо из Карлсруэ написано мещанином Е. Азефом, сыном очень бедных людей, недавно учившимся в ростовской гимназии. Этот молодой человек занимался на юге «рабочей пропагандой» и уже пользовался у розыскных властей некоторой известностью, о характере которой, однако, нелегко судить. По сообщению начальника Донского жандармского управления Страхова, товарищи Азефа, «выманив у него чужие деньги, поставили его в необходимость бежать за границу». Нашлись и другие сведения; Азеф будто бы покинул Россию, «продав предварительно по поручению какого-то мариупольского купца масла на 800 рублей и присвоив эти деньги себе». В психологическом отношении разница между двумя версиями существенная. Но практического значения она, конечно, не имела.
Получив из Ростова сведения о том, кто автор писем из Карлсруэ, Семякин, заведовавший политическим розыском Департамента полиции, написал молодому человеку интересное письмо. Департамент соглашался платить 50 рублей в месяц, принимал «программу, изложенную в Вашем письме от 25 мая», внося кое-какие дополнения от себя, посылал требуемый из предосторожности отрывок письма и давал точную инструкцию. Эта инструкция была и деловита («многословия и теоретических рассуждений не требуется»), и в агентурном смысле честна («всяких преувеличений и недостаточно обоснованных выводов следует избегать»). Под самый же конец приберегался оглушительный эффект. Семякин кончал свое письмо так: «Я думаю, что не ошибусь, называя Вас, г. Азеф, Вашим именем, и прошу Вас уведомить, следует ли Вам писать по Вашему адресу: Шютценштрассе 22.11, или иначе».
Скрываться больше не приходилось. Азеф ответил за подписью. Соглашение состоялось.
В течение шести лет Азеф оставался заграничным корреспондентом Департамента полиции. По его донесениям можно проследить, как быстро он совершенствовался в качестве секретного сотрудника. На одном из первых его писем есть раздраженная пометка, принадлежащая кому-то из руководителей департамента: «В следующем письме я попрошу Азефа писать немного толковее, особенно адреса и фамилии, чтобы можно было понять, кто мужчина, кто женщина и к кому относятся адреса». Но уже а 1896 г. мы находим совершенно другую пометку: «Сообщения Азефа поражают своей точностью, при полном отсутствии рассуждений». А еще через несколько лет известный Ратаев писал Азефу: «Больше всего на свете я боюсь Вас скомпрометировать и лишиться Ваших услуг».
И, действительно, донесения Азефа, даже в раннюю пору его работы, были очень важны. Он открыл департаменту глаза на молодых революционеров, только впоследствии получивших громкую известность: «Следует особое внимание обратить Вам на г-на Карповича»… «Особое внимание Вам нужно будет обратить на Зензинова»… Григория Гершуни, опаснейшего из террористов, Азеф оценил с первой же своей с ним встречи и тотчас с большой тревогой в тоне сообщил об «этом господине» Департаменту полиции. Донесения свои Азеф писал с видимым удовольствием, — даже, кажется, не без чувства спортивного соревнования с революционерами. Например, советуя департаменту захватить какой-то транспорт литературы, он вдруг добавляет: «А то уж больно хвалится Гершуни, что замечательный путь он устроил».
От департамента Азеф требовал полного доверия к своим словам. В 1901 г., задетый недоверчивым замечанием Ратаева, Азеф отвечает (15 января) в глубоко оскорбленном тоне: «Мне кажется, что у Вас нет ни одного факта, который бы мог Вас заставить думать, что я способен вам солгать. Кажется, ни разу не лгал, это не лежит в моей натуре… Ваше недоверие для меня оскорбительно и страшно обидно».
По форме переписка порою очень курьезна. Так, позднее, желая выследить и схватить Гершуни, департамент (17 апреля 1902 г.) по-немецки телеграфирует Азефу в Берлин: «Очень беспокоюсь о положении Гриши в Петербурге. Хотел бы получить какие-либо сведения, чтобы иметь возможность с ним повидаться. Дмитрий». Или же Азеф начинает свое сообщение департаменту (17 июня 1902 г.) словами: «Дорогая Генриетта», а заканчивает его «Целую тебя. Твой Иван».[5]
Письма, сходные с этими по стилю, попадались мне во Французском Национальном архиве: так любили писать разведчики наполеоновских времен.
II
По возвращении в Россию Азеф был откомандирован к Зубатову для изучения техники полицейского дела. По-видимому, он изучил ее в совершенстве. Старые революционеры рассказывают, что, обладая огромной зрительной памятью, он знал все улицы и все проходные дворы Петербурга, мог, при обсуждении разных террористических проектов, по памяти нарисовать подробнейший план любого места в столице. Для разных «явок» ему нужно было знать множество адресов и телефонных номеров: Азеф «из предосторожности» никогда их не записывал, однако помнил все безошибочно. В практику террористической слежки он ввел несколько новых приемов (заимствованных, впрочем, у Зубатова). Вероятно, это профессиональное искусство и было одним из оснований его огромного престижа в Боевой организации: террористы того времени читали ведь не только политическую литературу: как мы все, они читали, вероятно, в свободное время и «Шерлока Холмса».
По изучении полицейского дела Азеф примкнул к партии социалистов-революционеров. Вернее, он был одним из ее создателей. Специализировался он на терроре и стал сначала ближайшим помощником Гершуни, а затем общепризнанным вождем, душою и хозяином Боевой организации. 4-го июня 1902 г. Азеф многозначительно писал департаменту, сообщая о 500 рублях, пожертвованных им на террористические предприятия: «Мне необходимо было это сделать для того, чтобы узнать, что такое эта Боевая организация и каковы ее планы в ближайшем будущем, и мне это удалось… Я занял активную роль в партии социалистов-революционеров. Отступать теперь уже невыгодно для нашего дела, но действовать тоже необходимо весьма и весьма осмотрительно».
Параллельно с этим все росло и положение Азефа в Департаменте полиции. В 1899 г. он получает 100 рублей в месяц жалованья и 50 рублей наградных к Новому году. В 1900 г. его жалованье повышается до 150 рублей, в 1901 г. сразу до 500 рублей. Под конец своей карьеры он получал 1000 рублей в месяц и столько же, если не больше, прогонных, суточных, «премиальных» и «наградных». Его «наградные» в 1904-5 гг. составляют несколько тысяч. Именно в это время им были организованы убийства В. К. Плеве и вел. кн. Сергея Александровича!
Получал он жалованье и от партии, но более скромное, — кажется, 125 рублей в месяц. В. С. Гоц рассказывает, как однажды на вокзале друзья убеждали Азефа нанять носильщика для чемодана. Он аскетически отказывался: нельзя без крайней нужды расточать партийные деньги. Члены ЦК партии с умиленьем говорили о жизни Азефа: «сидит на хлебе и селедке». Расставаясь с революционерами, он жил не столь аскетически. В записке Л. Н. Менщикова, например, сообщается: «5-го января 1905 года Азеф приезжает в первом классе курьерского поезда из Петербурга в Москву… Ночь проводит в самом дорогом доме терпимости Стоецкого…»
Послужной список Азефа по двойной его деятельности еще трудно установить во всей полноте; да и одно перечисление его дел заняло бы несколько страниц. Он сам говорил, что принимал ближайшее участие в организации всех террористических актов партии, за исключением убийства Сипягина. Савинков, человек достаточно осведомленный, в своей речи в защиту Азефа дает список крупнейших террористических дел, организованных при его (Азефа) участии, содействии или попустительстве В этот список входят двадцать пять убийств и покушений, а заканчивается он буквами «и т. д.». Называю только главные: убийства Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, ген. Богдановича, Гапона, Татарова; три покушения на царя, покушения на великих князей Владимира Александровича и Николая Николаевича, покушения на Столыпина, на Дурново, на Трепова, на адмиралов Дубасова и Чухнина. Азеф же принимал участие «в обсуждении всех без исключения планов, в том числе планов московского, свеаборгского и кронштадтского восстаний».
Этому списку соответствует другой, более длинный, — список революционеров, выданных им департаменту. Их исчисляют десятками, если не сотнями. Сколько из них было казнено, не берусь сказать.[6]
Метод действий Азефа в схематическом изложении был приблизительно таков. Он «ставил» несколько террористических актов. Некоторые из них он вел в глубокой тайне от Департамента полиции с расчетом, чтобы они непременно удались. Эти организованные им и удавшиеся убийства страховали его от подозрений революционеров; до самой последней минуты вожди партии смеялись над такими подозрениями: «как можно обвинять в провокации человека, который на глазах некоторых из нас чуть только не собственными руками убил Плеве и великого князя». Другую часть задуманных террористических актов Азеф своевременно раскрывал Департаменту полиции, чтобы никаких подозрений не могло быть и там. При этих условиях истинная роль Азефа была в течение долгого времени тайной и для революционеров и для деятелей департамента. Каждая сторона была убеждена, что он ей предан всей душой.
III
По внешности Азеф был грузный, толстый, очень некрасивый человек с тяжелым, набухшим лицом, с оттопыренной нижней губой. Об его безобразной наружности говорят все встречавшиеся с Азефом люди. Но и в этом разобраться не так легко. Некоторые свидетели утверждают, что «глаза у него всегда бегали, и он никогда не смотрел в лицо собеседнику», — примета слишком принятая в изображении преступников для того, чтобы быть верной. Ю. Делевский пишет о «змеином взгляде» Азефа.
Однако другие революционеры находили у него «хороший, приятный взгляд», «прелестную улыбку» — и до сих пор твердо на этом стоят. В. М. Чернов в своей речи на суде над Бурцевым говорил: «Надо только хорошо всмотреться в его (Азефа) лицо и в его чистых, чисто детских глазах нельзя не увидеть бесконечную доброту.»[7]
С. Басов-Верхоянцев отмечает «двойное лицо»: накладное, каменное, и скрытое, «с печальными глазами». По фотографиям судить трудно, — Азеф, кстати, не любил сниматься. Но общее впечатление, конечно: «не дай Бог встретиться в лесу ночью».
Писал он свои донесения не очень литературно, не очень даже и грамотно, но всегда ясно и толково. Редакторы, повторяющие молодым сотрудникам: «фактов побольше, фактов», были бы им довольны: фактов у него всегда много. Революционеры (за редкими исключениями) в ту пору были особенно падки на цветы красноречия. Один (в частном письме!) пишет о «гидре самодержавия», о «когтях деспотизма», о «пошлом периоде мещанского довольства, охватившего мертвящей петлей европейские страны». Другой описывает, как «русские Лекоки разглядывали мозолистую руку, сразившую царского опричника». Третий еще красноречивее: «Девятьсот пятый год умирал, распластавшись на кривых улицах Москвы, залитых рабочей кровью». Азеф не любил цветов красноречия. Тон его писем простой и деловой. Недоброжелатели считали его человеком мало образованным. Однако на партийном следствии, после разоблачений, один из свидетелей рассказал, как однажды в Москве Азеф выступил на заседании марксистского кружка: «Спор шел вокруг имени Михайловского. Новый гость (Азеф) молчал. Но вот он поднялся и взволнованным голосом начал защищать Михайловского, упирая, в особенности, на теорию борьбы за индивидуальность. Речь продолжалась довольно долго и произвела на окружающих впечатление своей искренностью и знанием предмета».[8]
Мы все учились понемногу, впечатление в ученом споре можно было в крайнем случае произвести и одной «искренностью», — а уж искренности у этого человека было достаточно.
Под конец его карьеры положение Азефа стало очень трудным. Он должен был убивать и выдавать, убивать и выдавать; напрягая все силы для соблюдения наименее опасной пропорции выданных и убитых людей…
В одном из французских монастырей есть картина «Наказание дьявола». Дьявол обречен держать в руках светильник, похищенный им у св. Доминика; Светильник догорает, жжет пальцы дьявола, но освободиться от него дьявол не имеет силы: он может только, корчась, перебрасывать светильник из одной руки в другую, — жжется то правая, то левая рука. Приблизительно в таком положении был Азеф к моменту его разоблачения.
IV
Кто разоблачил Азефа?
Известно, говорят, имена пяти женщин, «на руках которых скончался Шопен». Я не хочу сказать, что разоблачение великого предателя дало повод к сходному спору. Шутка совершенно не соответствовала бы трагическому характеру события (как, впрочем, и в вопросе о кончине Шопена). Но когда будущий историк займется выяснением того, кому именно принадлежит здесь авторское право, он должен будет перебрать не менее десяти имен.
У нас есть сведения, что один из профессоров Азефа по политехникуму выразился о молодом студенте так: «Ах, этот шпион!» К сожалению, не дошло до меня имя немецкого профессора, далеко превзошедшего проницательностью и революционеров, и Департамент полиции.
Летом 1905 г. один из видных петербургских социалистов-революционеров Ростковский получил на службе письмо без подписи, в котором его извещали, что в партии есть «серьезные шпионы», «бывший ссыльный некий Т. и какой-то инженер Азиев, еврей». Когда Ростковский вернулся со службы домой, у него в гостях сидел известный ему под кличкой «Иван Николаевич» важный нелегальный гость — Азеф. Не долго думая, Ростковский показал гостю письмо. «Иван Николаевич» прочел и заявил: «Т. это Татаров, а Азиев — это я, Азеф».
И Ростковский, и вожди партии не придали значения анонимному письму. Но какое самообладание, какие нервы нужны были, чтобы ничем себя не выдать при такой неожиданности и ограничиться саркастическими словами: «Азиев — это я, Азеф»! Вот и суди о тех «сюрпризцах», которыми, вслед за Порфирием Петровичем, хитрые следователи оглушают подозреваемых в преступлении людей.
Сходный случай произошел, по рассказу П. О. Ивановской, в Женеве на встрече Нового (1905) года. Русская колония революционеров была в полном сборе. «Говорились пламенные, дерзкие речи, с вдохновенными лицами, молодежь пела и кружилась в обширном зале. Азеф гулял по залу и любовался молодежью. Когда речи, пение и танцы надоели, сели играть в почту. Азеф не прочь был поиграть и в почту. Ему принесли письмо. Он раскрыл и «самоуверенно-снисходительно» прочел вслух; в письме называли его подлецом, негодяем и предателем.
Подозрения против Азефа высказывали в разное время Крестьянинов, Мельников, Мортимер, Делевский, Агафонов, Тютчев, Трауберг. Вожди партии, от Гершуни и Гоца до Чернова и Савинкова, относились, повторяю, пренебрежительно к таким обвинениям; за это впоследствии их самих всячески поносили в разных революционных и нереволюционных кругах. «Хороша же партия, где подобные субъекты могут вращаться шестнадцать лет», — сказал защитник Лопухина А. Я. Пассовер. Теперь к этому можно отнестись вполне объективно. Неосторожность и легковерие были, но преувеличивать их не надо, — столь же неосторожен был ведь и Департамент полиции, учреждение далеко не легковерное. Чужая душа — потемки, и никто не обязан уметь в чужой душе читать. Громить Савинкова за то, что он не распознал провокатора в Азефе, так же странно, как, например, обвинять В. В. Шульгина за его памятную поездку в Россию. В настоящее время мы все, конечно, окружены тайными большевистскими агентами. Об иных знакомых и нам когда-нибудь будет неловко вспоминать.
Что и говорить, Ю. Делевский в свое время собрал немало улик против Азефа. Но давно известно, и психология палка о двух концах, и улики, даже самые серьезные, часто могут быть истолкованы различно. Темные слухи в ту пору распускались, со злостной целью или по легкомыслию, о самых известных людях. Михаил Гоц однажды сообщил Плеханову, что в партию поступило донесение о провокации Азефа. Плеханов равнодушно ответил: «Обо мне, о Лаврове говорили то же самое». Азеф был несравненным героем, вождем огромного престижа, чуть только не святыней, для его товарищей по партии. Теперь, в его изображении (назову хотя бы интересный роман Гуля) выдвигают на первое место черты грубости, невежества, хамства, которые, казалось бы, должны были всем бросаться в глаза. Это ошибка перспективы. Азеф умел показывать товар лицом, — товар и революционно-технический, и духовный. Такие умные, опытные и чуткие люди, как Н. В. Чайковский, И. И. Бунаков, В. М. Зензинов, изображали Азефа совершенно иначе. «Я любил его глубокой, нежной любовью», — говорил мне Зензинов. Савинков за три месяца до разоблачения сказал О. С. Минору: «Если бы против моего родного брата было столько улик, сколько их есть против Азефа, я застрелил бы его немедленно. Но в провокацию Ивана я не поверю никогда!»
V
Разоблачил Азефа, конечно, В. Л. Бурцев. Ему на суде чести никто из социалистов-революционеров не подавал руки, «как клеветнику». После 17-го заседания суда, то есть почти перед самым его концом (всего было 18 заседаний), Вера Фигнер, выходя, сказала Бурцеву: «Вы ужасный человек, вы оклеветали героя, вам остается только застрелиться!» Бурцев ответил: «Я и застрелюсь, если окажется, что Азеф не провокатор!..»
В мае 1906 г. к Бурцеву, издававшему тогда в Петербурге «Былое», тайно явился неизвестный молодой человек и отрекомендовался довольно неожиданно: «По своим убеждениям я — эсер, а служу в Департаменте полиции». Рекомендация, собственно, не так уж располагала в пользу молодого человека. Назвался он «Михайловским» — псевдоним тоже неожиданный.[9]
Другой наверное попросил бы «Михайловского» уйти. Редактор «Былого» поступил так, как ему подсказывала интуитивная мудрость. Он с открытой душой подошел к служащему департамента. Человек Бурцев принял человека Михайловского, — и хорошо сделал: социалист-революционер из Департамента полиции оказался правдивым и драгоценным осведомителем. Сообщил он немало интересных сведений. Из них, без всякого сомнения, наиболее интересным было то, что в партии социалистов-революционеров есть чрезвычайно важный провокатор, известный в департаменте под кличкой «Раскин». Больше о нем «Михайловский» почти ничего не слышал.
Разумеется, В. Л. Бурцев прекрасно знал главарей партии социалистов-революционеров. Он начал примерять: кто из них мог быть «Раскиным»? Никто решительно не подходил.
Время было грозное: 1906 год. За Бурцевым следили филеры. Он замечал слежку, но не придавал ей значения: сколько-нибудь серьезных грехов за ним не значилось. Однажды летом В. Л. Бурцев вышел из редакции погулять. «В этот раз я забыл даже посмотреть, есть ли за мной слежка или нет». Вдруг на Английской набережной ему бросились в глаза знакомые лица: навстречу, на извозчике, ехал Азеф со своей женой.
Бурцеву было известно, что Азеф — глава Боевой организации, следовательно, самый опасный революционер в России. Жена его, рядовая социалистка, имела очень скромные познания в конспиративном деле. Знакомство с вождем террористов могло в 1906 г. повлечь за собой весьма неприятные последствия. За Бурцевым, по всей вероятности, шли сыщики. «С женой Азефа я был хорошо знаком, и я пришел в ужас от мысли, как бы она не вздумала со мной поздороваться».
Все, однако, сошло гладко: жена Азефа не поздоровалась с Бурцевым. «Я продолжал гулять по улицам, я радовался, что этот инцидент, который мог дорого обойтись, прошел благополучно».
И вдруг случилось то, что в психологии называется интуицией, в искусстве озарением. В сущности, без всякого основания, без всякой разумной причины, скользнула странная мысль, какая-то еще неясная связь между важным провокатором Раскиным и вождем Боевой организации партии социалистов-революционеров!..
Вот где уместно было бы говорить о подсознательном. Настоящая мысль была настолько дика и невозможна, что даже не определилась в сознании Бурцева. Внешняя логическая схема была приблизительно такова: если за кабинетным человеком, редактором «Былого», Бурцевым ходят по пятам сыщики, то как же решается ездить по улице на извозчике, без всякого грима, опаснейший террорист в России?
Собственно, логическая схема стоила недорого: революционеры проделывали и гораздо более рискованные дела. Так, за несколько лет до того, Гершуни, которого по всей стране днем и ночью искали сотни агентов, безнаказанно провел три дня в Петербурге, прописавшись в участке под своей настоящей фамилией. Герман Лопатин в свое время ходил в Александрийский театр, имея при себе множество адресов народовольцев. Схема ничего не доказывала. У Бурцева возникло сложное к ней дополнение: полиция не арестовывает Азефа; значит, это ей пока невыгодно; значит, около него вертится какой-то провокатор (Раскин?), получающий от него ценные сведения; значит, нужно предупредить Азефа о грозящей ему опасности. Бурцев так и сделал: просил передать Азефу свое полезное предостережение.
То, что произошло дальше, Фрейд называет «превращением латентного в сознательное».
«Как-то неожиданно для самого себя, я задал себе вопрос: да не он ли сам этот Раскин? Но это предположение мне тогда показалось столь чудовищно нелепым, что я только ужаснулся от этой мысли. Я хорошо знал, что Азеф — глава Боевой организации и организатор убийств Плеве, великого князя Сергея и т. д., и я старался даже не останавливаться на этом предположении. Тем не менее с тех пор я никак не мог отделаться от этой мысли, и она, как какая-то навязчивая идея, всюду меня преследовала…»
Азеф был настороже — отчасти и в результате «предостережения». Затем для него положение выяснилось. Он сделал то, что должен был бы сделать по Достоевскому: Азеф пришел к Бурцеву в гости, якобы по делу. Сцена поистине поразительная: Бурцев знал, что Азеф — предатель, Азеф знал, что Бурцев это знает. Пожалуй, у Достоевского такой сцены не найти. Пошел Азеф, вероятно, на разведку. А, может быть, и «для ощущений». Ощущений у него в жизни было вполне достаточно. Но такого, вероятно, не было.
«Азеф вплотную подошел ко мне уверенной походкой, весь сияющий, и, по-видимому, хотел обнять меня и расцеловаться. Но я, как бы нечаянно, уронил бывшие в моих руках бумаги и, нагнувшись, левой рукой стал их поднимать, а правой поздоровался с Азефом и затем усадил его на кресло прямо против себя».
Разговор был мирный и, по существу, незначительный. Говорили обо всем, кроме предательства. У Бурцева настоящих доказательств не было, — Азефу это было отлично известно. Я рассказываю об его визите потому, что он чрезвычайно характерен: наглость Азефа так же граничила с чудесным, как и его самообладание. Вдобавок, страшная карьера приучила его к риску. Он был игрок и по характеру, и по необходимости.
Для выяснения той же его черты расскажу другой эпизод, кажется, никогда не сообщавшийся в печати. В пору организации покушения на Дурново, Азеф совершенно неожиданно явился с визитом — к П. Н. Милюкову (они до того встретились раз в жизни на Парижской международной конференции, в которой П. Н. Милюков участвовал вместе с П. Б. Струве и кн. П. Д. Долгоруким). Азеф пришел с делом: он просил раздобыть для него фотографию Дурново. В этом посещении все удивительно, от цели до нелепого предлога: портрет министра можно было найти в любом журнале. Но такова была манера Азефа. Сто раз он так заманивал в сети двадцатилетних юношей, — вдруг удастся «взять нахрапом» и Милюкова. Наглость старого шулера: на что тут можно было рассчитывать? Человек Милюков прогнал человека Азефа и, разумеется, тоже прекрасно сделал: случай на случай не приходится. Как интуитивный, так и аналитический методы имеют свои достоинства и недостатки.
VI
Я не стану рассказывать, как понемногу обрастала зловещими доказательствами навязчивая идея В. Л. Бурцева. Скажу только, что вся система косвенных и прямых улик против Азефа, вероятно, ни к чему не привела бы; очень может быть, при некоторой удаче, при своевременном уничтожении неприятных бумаг, хранившихся на Фонтанке и на Мытнинской набережной, Азеф был бы после революции видным министром, — если бы в дело не вмешался, почти вопреки своей воле, еще другой человек, очень сложный и интересный.
Многое непонятно в карьере и в характере А. А. Лопухина. Две черты бросались в глаза при самом поверхностном с ним знакомстве. По взглядам, по самому складу ума, по окружению он был либералом; по происхождению, по внешности, по привычкам он был аристократом. И обе эти черты не вязались с большой и значительной полосой в его сложной биографии. Русские либералы слышать не могли о Департаменте полиции; русские аристократы относились к этому учреждению с некоторой осторожностью, предоставляя службу в нем людям незнатного рода. А. А. Лопухин, человек передовых взглядов, носитель одной из самых громких фамилий в России, был директором Департамента полиции в самую реакционную пору — при Плеве. Чем это объясняется, не понимаю. Я думаю, что он ценил ум знаменитого министра и был ему лично признателен; Плеве первый на верхах власти заметил выдающиеся способности Лопухина. Но это, конечно, не объяснение. Добавлю, что они расходились не только во взглядах, но и в оценке политического положения страны. Лопухин считал очень серьезными шансы русской революции на победу. Плеве — кажется, единственный из крупных людей старого строя — плохо верил в то, что в России при твердой власти может произойти революция.
Впрочем, у этого странного человека бывали и минуты просветления. По-видимому, в одну из таких минут он и предложил Лопухину должность директора Департамента полиции. Лопухин в ту пору занимал видный пост по министерству юстиции. Его карьера была блестящей: 38 лет от роду он был прокурором судебной палаты в Харькове. Там, во время служебной поездки, с ним встретился В. К. Плеве, вызвавший его для беседы на политические темы. «Выслушав меня, — показывал в 1917 г. Лопухин, — Плеве свое мнение об описанных мною событиях передал словами, высказанными им Государю при назначении министром внутренних дел: «если бы, — сказал Плеве, — двадцать лет тому назад, когда я был директором Департамента полиции, мне сказали, что в России возможна революция, я засмеялся бы; а теперь мы накануне революции».[10]
По словам Лопухина, Плеве тогда подумывал о лорис-меликовской конституции. Встретив недоверие и подозрение, он «под влиянием этой неудачи, а также надвинувшегося революционного террора, повернул политику на путь репрессий». Добавлю, что до последних своих дней Лопухин считал Плеве непонятым человеком. «С ним можно было работать, — говорил он. — С умными людьми хорошо иметь дело и тогда, когда расходишься с ними во взглядах».
Лопухин по должности знал революционеров. Знал, конечно, и секретных сотрудников. Среди них у него были «особенно прочные антипатии» (эти слова я от него слышал). И наиболее прочной был Азеф, самый вид которого вызывал в нем отвращение. Догадывался ли он о настоящей роли Азефа? Конечно, не догадывался, как не догадывался тогда никто другой. Но мог ли человек, столь осведомленный и опытный, твердо верить в то, что все свои сведения Азеф получает как-то стороной, «через жену», «по дружбе с Гершуни», или состоя в Боевой организации так, только «чуть-чуть», больше для вида, — этого я не знаю. Вероятно, Лопухин просто старался об этом не думать. Психология его была психологией высшего офицера, ведающего в военное время контрразведкой. С революционерами велась война, — начальнику контрразведки некогда думать о побуждениях и методах своих и чужих агентов. Это не мешает признавать пределы, из которых выходить нельзя. Так, как Лопухин, действительно и поступали офицеры, ведавшие контрразведкой во время великой войны. Некоторые из них написали воспоминания, — очень интересны эти люди.
В пору первой революции Лопухин навсегда оставил государственную службу. По-видимому, он уже тогда чувствовал большую душевную усталость, — у него и внешний вид свидетельствовал о taedium vitae.[11]
На последней своей должности (эстляндского губернатора) он проявил либерализм. Граф Витте, который его недолюбливал, не прощая ему близости с Плеве, считал Лопухина кадетом. Известна его роль в разоблачении погромных прокламаций. Начиная с 1905 года, Лопухин без особого успеха старался установить добрые отношения с либеральной общественностью (в этом смысле он не изменился до последних своих эмигрантских дней). Бывший директор Департамента полиции, близкий сотрудник Плеве, был русский интеллигент, с большим, чем обычно, жизненным опытом, с меньшим, чем обычно, запасом веры, с умом проницательным, разочарованным и холодным, с навсегда надломленной душою.
VII
«Разговор в поезде» надо считать высшим достижением Бурцева. Желая разоблачить и уничтожить самого важного из всех секретных агентов, он обратился за справкой к человеку, который еще недавно занимал первый пост в политической полиции государства, — мысль необыкновенная в своей смелости и простоте. Лопухин больше не служил, но все же для В. Л. Бурцева он был человеком совершенно другого, враждебного мира: достаточно сказать, что долголетняя личная дружба его связывала с П. А. Столыпиным (они были на «ты»). Тот сложный процесс, который назревал в душе Лопухина, не мог быть известен Бурцеву. Повторяю, нам и теперь этот процесс не вполне понятен.
Здесь опять — случайность, отмечающая всю историю, которой посвящена настоящая статья. Лето в 1908 г. Лопухин с семьей провел в Нейенаре. Ни о каких разоблачениях он, конечно, не думал, как не думал о политике вообще; он собирался ехать в Италию. Встреча с Бурцевым оказалась для него роковою: вместо Италии Лопухин попал в Сибирь. И для многих других людей этот разговор в поезде имел трагические последствия (вплоть до самоубийства). Он же вскоре повлек за собою всемирную сенсацию и один из самых громких судебных процессов нашего века.
Узнав, тоже случайно, от общего знакомого, что А. А. Лопухин в начале сентября проедет через Кельн в Берлин, В. Л. Бурцев выехал в Кельн и стал ждать на вокзале. Здесь элемент случайности обрывается: если б это понадобилось, Бурцев был бы, наверное, способен прожить на Кельнском вокзале неделю, месяц или полгода. Это не понадобилось. 5-го сентября, в 1 час дня, Лопухин вышел из нейенарского поезда и сел в поезд берлинский. Бурцев последовал за ним и, чуть только поезд тронулся, вошел в купе Лопухина.
Их разговор продолжался шесть часов! Я не хочу сказать, что редактор «Былого» избрал систему западноевропейских следственных властей. Взять измором б. директора Департамента полиции Бурцев, конечно, не мог, — от Лопухина зависело в любой момент положить конец разговору. Почему Лопухин этого не сделал? Или он не чувствовал, какая бездна раскрывается у него под ногами? Подробности разговора в поезде выяснить теперь нелегко. Печатный рассказ Бурцева далеко не во всем совпадает с показаниями, которые Лопухин дал следователю по особо важным делам.[12] Не во всем совпадает и рассказ, слышанный мною от обоих участников разговора. Но общая картина ясна.
В течение нескольких часов Бурцев, вероятно, задыхаясь от волнения, выяснял Лопухину истинную роль «Раскина». «После каждого нового доказательства, я обращался к Лопухину и говорил: «Если позволите, я вам назову настоящую фамилию этого агента. Вы скажете только одно: да или нет». Лопухин молчал, молчал час, два часа, пять часов. По словам Бурцева, он был «потрясен».
Я охотно этому верю: конечно, он не знал сотой доли той ужасной правды, которая развертывалась перед ним в рассказе Бурцева. Обстановка их встречи характерна: в купе были другие пассажиры, они часто сменялись[13] и, вероятно, не без недоумения смотрели на странных соседей.
Конспирация была не Бог весть какая: в поезде между Кельном и Берлином, в разгар курортного сезона не так трудно было напасть на русских. По-видимому, пассажиры были немцы. Но едва ли Лопухин, и независимо от случайных соседей, серьезно рассчитывал на соблюдение тайны. Бурцев весьма неожиданно пишет: «Какое особенное значение мог он (Лопухин) придавать этому разговору? Ну мог ли он считать, что рассказывает какую-то правительственную тайну… когда прежде, чем произнести имя Азефа, он выслушал подробнейший рассказ об его деятельности». Если б Лопухин не придавал значения разговору, то он, очевидно, не мог бы быть «потрясенным». Как мог он не понимать, чего стоит им произнесенное имя Азефа!
Не останавливаюсь подробнее на психологической стороне этого дела. Думаю, что решающее значение для Лопухина имели слова В. Л. Бурцева о цареубийстве, которое подготовлял «Раскин», и об ответственности за ту кровь, которая еще будет им пролита в будущем. Как бы то ни было, после шести часов разговора, уже перед самым Берлином, А. А. Лопухин разбил свою жизнь, сказав Бурцеву, что инженер Азеф — тайный агент Департамента полиции.
Не стоит останавливаться и на том, как, через сколько времени, по чьей вине, весь разговор в поезде стал известен Азефу. По 102 статье Уголовного Уложения бывший директор Департамента полиции был присужден к каторжным работам, замененным ссылкой на поселение в Сибирь. Хорошо известно и все остальное: суд над Бурцевым по обвинению в оклеветании Азефа, сенсационный рассказ обвиняемого об его встрече в поезде с Лопухиным, новое следствие социалистов-революционеров, проверка алиби Азефа, объяснение с ним представителей партии, и, наконец, бегство разоблаченного провокатора.
VIII
Для партии социалистов-революционеров, после разоблачения Азефа, наступили худые времена.[14] На посту главы Боевой организации его заменил было Б. В. Савинков, но из этого ничего не вышло. Евг. Колосов говорит, что Савинков был по природе имитатором: в литературе он подражал то З. Н. Гиппиус, то Л. Н. Толстому; как террорист он мог быть лишь исполнителем предначертаний Азефа. Замечание интересное, но, если даже оно и верно (в чем я сомневаюсь), то им, конечно, нельзя объяснить сущность дела.
Разоблачение Бурцевым «азефщины» вызвало во всем мире сенсацию, которую хорошо помнят люди моего поколения. В ту пору еще думали, что могут существовать боевые противоправительственные партии без «внутреннего освещения» и без провокации. История всех революционных движений тесно переплетается с повестью предательства и измены. В России политическая борьба имела кровавый характер, поэтому и азефщина была истинно трагическим явлением. Она дорого стоила партии социалистов-революционеров. В бурной истории этой партии два раза на ее долю выпадал период чрезвычайной непопулярности: в 1909 г., затем десятью годами позднее, в пору разбитого корыта и первых поисков: кто же корыто разбил?
Л. Мартов писал А. Н. Потресову 29 января 1909 г.:
«Здесь сейчас все полно делом Азефа. То, что по сему случаю опубликовано, главным образом самим с.-р. Центром, уничтожает в корне всю с.-р. — щину. Дело с этой публикой оказалось даже хуже, чем предполагали вы в статье о процессе Гершуни: если вы в ней писали, что Боевая организация равна Гершуни, то они сами теперь признали печатно, что не только «Б. О.», но и «Ц. К.» и вообще вся верхушка партии была равна Гершуни плюс Азеф… Они — и Азеф больше, чем Гершуни — кооптировали в свою среду Гарденина (Чернова) и Гоца, они сделали «Революционную Россию» центральным органом и объявили существующей партию…» По-видимому, азефщина у социал-демократов вызывала не одни только горестные чувства. Быть может, капиталистическому строю везде пришлось бы плохо, если бы революционеры ненавидели «буржуазию» так, как они ненавидят друг друга.
Весьма резким нападкам подвергались главари социалистов-революционеров в их собственной партии. Одни обвиняли Центральный Комитет, другие Боевую организацию: одни говорили о чрезмерном увлечении террором, другие о недостаточном внимании к террору; одни писали о генеральстве, другие писали о лакействе. Особенное негодование вызывало то, что Азефа тут же «не убили, как собаку». В этом обвиняли преимущественно Савинкова (Тютчев, Герман Лопатин). Некоторые объясняли удачу бегства Азефа тем, что «Савинков испугался». Это, конечно, неверно. В недостатке смелости очень трудно обвинять Савинкова; да и при том настроении, которое тогда было в Европе, убийце Азефа был вполне обеспечен оправдательный приговор присяжных. Сам Савинков говорил, что у него не поднялась рука на его бывшего товарища и вождя: «в этот момент я его любил еще, как брата». — Одно объяснение лучше другого. В действительности Азефа не убили потому, что все совершенно растерялись. И то сказать: было от чего.
В связи с разоблачением азефщины, некоторые социалисты-революционеры «перенесли самое страшное моральное потрясение всей своей жизни»[15], другие отошли от партии, кое-кто покончил с собой. И почти в то же время в противоположном лагере Л. Н. Ратаев писал директору Департамента полиции Зуеву: «Ты один, может быть, поймешь, как тяжело было для меня прийти к убеждению в предательстве Азефа… Он дал мне столько осязательных доказательств своей усердной службы, сведенья его отличались всегда такой безукоризненной точностью, что мне казалось чудовищным, чтобы при таких условиях человек мог быть злодеем и дважды предателем». Другие просто не верили. Мысли о двойном предательстве Азефа не допускал председатель Совета министров Столыпин, защищавший его с трибуны Государственной Думы. А известный революционер Карпович, уже после разоблачений, грозил перестрелять своих товарищей по партии, осмелившихся заподозрить главу Боевой организации в службе Департаменту полиции.
IX
О судьбе знаменитого провокатора ходили в те времена самые разные слухи. Газетные корреспонденты одновременно находили его следы во всех странах Европы. Несколько человек едва не подверглись большим неприятностям вследствие сходства с Азефом.
На самом деле найти Азефа в европейских столицах было трудно: он совершал свадебное путешествие!
Азеф в конце 1907 года в петербургском «Аквариуме» познакомился с кафешантанной певицей — немкой К.[16] Знакомство превратилось в прочную связь, продолжавшуюся до конца жизни Азефа.[17] Дама эта выехала вслед за ним за границу. В ту пору, когда начался революционный суд над Бурцевым, Азеф с немкой находились в Биаррице и превосходно проводили время: удили рыбу, ездили в Сан-Себастиан, в Мадрид.
Азеф знал, разумеется, о предстоящем суде над Бурцевым. Этот суд беспокоил его, однако, не слишком, в меру. Он даже связывал с процессом некоторые надежды. В самом деле, если б судьи, три знаменитейших революционера России (кн. Кропоткин, Герман Лопатин, Вера Фигнер) заклеймили Бурцева, как клеветника, положение Азефа в партии упрочилось бы надолго. Весь материал обвинения (кроме убийственного свидетельства Лопухина) был ему хорошо известен,[18] и, по-видимому, Азеф считал этот материал не очень опасным. Уже после разоблачения он писал генералу Герасимову: «Все это могло кончиться не так плохо, а может и хорошо, если бы удалось установить свое алиби.» Но это не удалось.[19] Последней причиной провала было именно неудачное алиби, да и самый визит Азефа к Лопухину. В том же самом письме к Герасимову Азеф пишет: «Словом, было роковой ошибкой мое и Ваше посещение к Л. Когда Бог хочет наказать кого, то отнимает у него разум». Это свое письмо к генералу Герасимову, начинающееся словами: «Дело дрянь», Азеф написал на следующий день после бегства. Он просил выдать ему «жалованье за декабрь», если можно, и пособие, а заодно запрашивал, нельзя ли получить место, «лучше всего по инженерной части… Инженер я не скверный». Азеф оставлял также распоряжение на случай «если бы мерзавцам (то есть революционерам — М. А.) удалось меня разыскать и покончить со мною».
В тот же самый день он писал письмо и Центральному Комитету партии, — но в совершенно ином, глубоко возмущенном тоне: «Оскорбление такое, как оно нанесено мне вами, знайте, не прощается и не забывается. Будет время, когда вы дадите за меня отчет партии и моим близким. В этом я уверен. В настоящее время я счастлив, что чувствую силы с вами, господа, не считаться. Моя работа в прошлом дает мне эти силы и подымает меня над смрадом и грязью, которой вы окружены теперь и забросали меня». — Азеф очень любил выражаться с достоинством.
Оставив Париж с его неприятными воспоминаниями, Азеф с немкой отправились путешествовать. Они побывали в Италии, в Греции, в Египте, долго прожили в Люксоре, затем вернулись в Германию. У Азефа было несколько русских паспортов, он пользовался то одним, то другим. Но, по-видимому, Азеф не так уж опасался преследований со стороны партии. К боевой технике революционеров Азеф всегда относился с совершенным презрением.[20] В том же письме к Герасимову он говорит: «Если они (социалисты-революционеры — М. А.) догадаются обратиться к частным детективам, то те, пожалуй, и попадут на (мой) след». В его словах собственно заключалась злая насмешка: Боевая организация, обращающаяся к частным детективам для того, чтобы выследить своего бывшего вождя!
Как бы то ни было, Азеф не прибегал к гриму. Я видел его фотографию, снятую после разоблачения, в Остенде: Азеф, в полосатом купальном костюме, выходит из воды, под руку с немкой. На его лице блаженная, сияющая улыбка. Тут же рядом улыбаются фотографу другие купальщики. Они наверное никак не предполагали, что так благодушно и весело снимаются в обществе одного из самых страшных людей в истории.
В 1910 году Азеф окончательно поселился в Берлине, снял квартиру на Luitpoldstrasse, 21 и обзавелся мебелью. По подсчетам Б. И. Николаевского, на подарки своей сожительнице и на устройство квартиры Азеф истратил около 100 тысяч марок. Тот же исследователь определяет приблизительно его состояние в 150 — 180 тысяч марок (около миллиона франков). Однако при таком сравнительно скромном достатке люди в то время, особенно в Германии, не тратили на обстановку и бриллианты 100 тысяч марок. Вероятно, Азеф был значительно богаче.
Происхождение его богатства никаких сомнений вызывать не может. Жалованье, которое платил Азефу Департамент полиции, было очень велико для агента, но из него скопить состояние было все-таки трудно.[21] Крупных сумм Департамент полиции не давал ему никогда. Мы имеем даже основание думать, что Азеф мог бы выторговать больше, чем получал в действительности: «Если бы надо было, ему не только тысячу (в месяц), но и пять тысяч заплатили бы», — показывал А. В. Герасимов Следственной комиссии Временного правительства.[22] Департамент вообще не любил выдавать крупные суммы агентам. Кажется, только Гапон получил сразу много денег, — это в самом деле было очень опасной игрою.[23] Но Азеф, прежде часто просивший о прибавке, после первой революции уже не мог по-настоящему интересоваться своим агентским окладом (вероятно, поэтому и продешевил). У него оказался гораздо лучший источник дохода: касса Боевой организации партии социалистов-революционеров.
«Денег было много, — пишет А. А. Аргунов в своих воспоминаниях об этом периоде в истории партии. — Кроме специальных «боевых» сумм, оставшихся в особом фонде Боевой организации от прежних лет и находившихся в распоряжении и на отчете Азефа (отчета он никому не давал и в том числе и ЦК), были изысканы новые источники пожертвований на боевое дело… Насколько богата была касса ЦК, можно судить по тому, что в 1906 г. (с весны по зиму) расход доходил до 1000 рублей в день, не считая трат на боевые дела… Отношение к боевому делу всегда было такое: сколько просит Боевая организация, столько и давать надо». Впоследствии партийная судебно-следственная комиссия по делу Азефа заинтересовалась вопросом о расходовании сумм Боевой организации. «Крал ли Азеф?» — спрашивает тов. Ц. и отвечает: «я убежден, что он крал». Тов. Ц. «так полагает не только потому, что вся постановка дела давала для этого возможность, но и потому, что теперь ему припоминаются некоторые черты из поведения Азефа, на которые он своевременно не обратил надлежащего внимания».[24] — Под литерой Ц. в отчете комиссии значился не кто иной, как Б. В. Савинков, еще незадолго до того «любивший Азефа, как брата».
X
Азеф зажил в Берлине тихой, покойной жизнью примиренного с миром человека. Прописался он под именем Александра Неймайера. Интересно то, что если не все, то многие из псевдонимов, которыми Азеф пользовался в последние годы своей жизни («Неймайер», «Черкас»), были у него в ходу и в пору его террористической деятельности. Это тоже как будто показывает, что он не слишком боялся слежки.
Александр Неймайер занялся коммерческими делами. Он играл на бирже, — порою с немалым успехом, — обзавелся немецкими приятелями. У него часто собирались гости, играли в карты и пили «настоящий русский чай»; Азеф вывез из Петербурга самовар. В Вильмерсдорфе, который тогда был кварталом обеспеченных, солидных, почтенных немцев, Неймайер с супругой имели репутацию хлебосольных гостеприимных хозяев. Азеф жил в свое удовольствие, посещал увеселительные места, оперетту, осматривал разные достопримечательности. Часто уезжал на курорты, притом на хорошие, в Нейенар, на Ривьеру, даже в Трувилль, бывший в ту пору самым модным летним «пляжем» в Европе. На курортах он вел большую игру, — так, например, в 1911 г. проиграл 75 тысяч зол. франков. Свою сожительницу он очень любил. Б. И. Николаевский, читавший его немецкие письма к ней, говорит, что написаны они чрезвычайно нежно. Азеф называл немку «Муши», а сам подписывался «Твой единственный Муши-Пуши», «твой единственный бедный зайчик», и т. д. О себе он обычно писал в третьем лице, нежно называя себя «папочка». Бывали и ласковые диссонансы. Иногда Азеф вставлял в письма русские выражения, именуемые у нас трехэтажными, причем выписывал их латинскими буквами: Муши очевидно кое-чему научилась в петербургских и киевских кафешантанах; но читать по-русски она не умела.
На курортах, да и в Берлине, Азеф очень легко мог наткнуться на неприятных знакомых. В Нейенаре, где он лечился, он просматривал списки вновь прибывших русских, но никаких мер предосторожности не принимал. Думаю, он совершенно не верил в то, что партия его убьет. И в самом деле, партия в те годы (в значительной мере благодаря ему) находилась в полном упадке. Одни социалисты-революционеры погибли; другие сидели в тюрьмах; Савинков занимался литературой; большинство эмигрантов «ушло в личную жизнь». Об убийстве Азефа очень думал А. А. Аргунов: он даже ездил (с браунингом) в Берлин разыскивать своего старого приятеля, — не нашел. При случае социалисты-революционеры убили бы Азефа (попытки выследить изменника предпринимались); но «задачей текущего момента» его убийство не было.
Летом 1912 г. Азефа однако постигла неприятность. В Нейенарском парке, у вод, на него случайно наткнулись люди, когда-то его знавшие. Им удалось заметить номер стакана, которым пил воду Азеф. Эти номера в Нейенаре соответствуют номерам курортной карты. Оказалось, что под таким номером значится в книгах купец Неймайер из Берлина, живущий в отеле Вестенд. О встрече было немедленно сообщено В. Л. Бурцеву.
Бурцев поступил по-своему, то есть так, как, вероятно, не поступил бы никто другой. Он написал Азефу письмо, в котором просил его о свидании. «Нам необходимо видеться с Вами, — писал Бурцев, — и переговорить о вопросах чрезвычайной важности. Разумеется, не может быть никакой мысли о «засаде» с моей стороны. Если Вы читали мое «Будущее», то Вы знаете, что переговоры с Вами для меня важнее всех засад, так как они прольют верный свет на важнейшие исторические вопросы». Мне неизвестно, читал ли Азеф «Будущее», но, очевидно, выяснение важнейших исторических вопросов не могло особенно его интересовать: он историком не был; вдобавок и «верный свет» не так уж был для него выгоден. Однако в письме Бурцева была и следующая фраза: «Если Вы не откликнетесь… я перенесу все нынешние сведения (то есть адрес Азефа — М. А.) в печать и в то же время их отдам партии эсеров».[25]
Азеф встрепенулся. Он немедленно сдал свою берлинскую квартиру, отослал Муши к ее матушке в провинцию, затем, — затем он написал Бурцеву, что согласен на свиданье! «Предложение Ваше принято. Оно совпадает с моим давнишним желанием установить правду в моем деле. Я раз писал жене об этом моем желании, но я не получил ответа».
Встреча произошла 15 августа 1912 г. во Франкфурте, в кафе Бристоль. В. Л. Бурцев в час дня вошел в кофейню. «И вот в глубине зала, около одного столика, поднялась грузная фигура… Азеф обеими руками опирался о стол… Он как будто даже растерялся, когда я протянул ему руку. Некоторое время я стоял перед Азефом с протянутой рукой, пока он, наконец, не понял, что я, действительно, хочу с ним поздороваться, и только тогда он протянул мне руку…» — Как будто даже растерялся? Может быть, и в самом деле, «как будто». По-видимому, старый провокатор решил выступить в непривычной для него роли, — в роли кающегося грешника, пораженного великодушием врага. Он объявил Бурцеву, что требует «суда над собою своих бывших товарищей» и, в случае смертного приговора, покончит жизнь самоубийством После этого ценного сообщения Азеф стал проливать свет на прошлое, иными словами, стал врать самым беззастенчивым образом. Он уверял, например, Бурцева, что нечаянно выдал Департаменту полиции группу «семи повешенных»! Так буквально и сказал: нечаянно проговорился в беседе с Герасимовым.
Разговор в кофейне продолжался несколько часов. Бурцев заказал себе бифштекс. Азеф скромно спросил порцию картошки и пояснил: «Я — вегетарианец». Душа Азефа не мирилась с пролитием крови животных. Он ел картошку — и говорил, говорил…
Надо отдать должное таланту несравненного актера. Азеф почти убедил Бурцева в том, что жаждет суда! «Проговоривши с Азефом в три приема, всего 10 — 12 часов, — пишет Бурцев, — я пришел к убеждению, что он в то время действительно хотел над собою суда своих бывших товарищей». Впрочем, полной уверенности у В. Л. Бурцева не было. «Общее впечатление, которое я мог вынести из свиданий с Азефом, таково, что он мог и был способен и дальше жить без суда над ним. На это у него, по-видимому, хватало силы воли». Я тоже думаю: мог и был способен, и хватало силы воли. Думаю даже, что разговоры о суде, разные «предсмертные распоряжения» доставляли Азефу некоторое удовольствие. По крайней мере, после встречи во Франкфурте, он прислал Бурцеву длинное письмо, в котором подробно, в пяти параграфах излагал условия «суда». В параграфе втором говорилось: «Суд должен мне свой приговор объявить и я его приведу сам в исполнение в 24 часа, время, которое мне нужно для предсмертных писем», и т. д. В. Л. Бурцев не сообщает точно, когда и откуда Азеф прислал ему это письмо в древнеримском духе. Но по бумагам Азефа мы теперь знаем, что прямо из Франкфурта он поехал в Трувилль и — верно с отчаяния — повел игру в довилльском казино. Свидание с Бурцевым было 15 августа, а 23 августа Азеф жаловался «Муши» в письме, явно не носившем предсмертного характера: «У других бывает счастье — только у папочки никогда. Удивительно! Когда я сегодня держал банк, то его сорвали на втором круге!» Кажется, папочка был настроен не так уж трагически.
Зачем нужна была Азефу встреча с Бурцевым, все это иудушкино пустословие о суде? Б. И. Николаевский высказывает предположение, что письма, которые Азеф писал через жену своим бывшим товарищам, заявление о готовности предстать перед судом партии, «были для Азефа лишь военной хитростью. Он к ним прибегал, желая показать революционерам, что у него больше нет желания им вредить». Могло быть, конечно, и такое побуждение, но собственно вредить Азеф больше не мог. Надо принять во внимание и то, что встреча с Бурцевым была все же очень рискованной игрою. Бурцев и сам в 1909 г. просил Савинкова «отдать» ему Азефа.[26] Он мог, умышленно или случайно, сообщить о предполагавшейся встрече и социалистам-революционерам (как сообщил им о нейенарском письме). Мы знаем, что, отправляясь во Франкфурт, Азеф составил завещание. Знаем и то, что именно после встречи с Бурцевым он стал принимать меры предосторожности, которых не принимал прежде: зимой 1912 — 13 годов он все заметал свои следы, ездил, менял гостиницы и паспорта. Возможно, что психология встречи с Бурцевым была гораздо более сложной. Люди, прошедшие школу смерти, иногда совершают поступки непостижимые. Когда Гершуни был арестован, Плеве без всякой надобности появился в тюрьме: на мгновение вошел в камеру, взглянул на знаменитого террориста и вышел… Зачем?..
Во франкфуртской поездке Азефа сказались две его основные черты: инстинкт отчаянного игрока и непреодолимая потребность в актерстве. Свидание с Бурцевым было одним из тех острых, жгучих ощущений, к которым вся жизнь приучила Азефа и которых он был лишен в последние три года: карточная игра, даже очень крупная, их заменить не могла. Старый игрок почувствовал желание вновь прикоснуться на мгновение к навсегда ушедшему от него миру. Актер опять попробовал свои силы, — новая роль сошла очень недурно.
XI
Кара все же пришла, правда, не слишком жестокая. Азефа погубила война. Все его состояние было вложено в русские бумаги. С минуты объявления войны они утратили ценность в Германии. Положение семьи Неймайеров стало критическим. С горя они открыли в Берлине корсетную мастерскую. Муши изготовляла корсеты, Азеф взял на себя руководство коммерческой стороной дела. Он оказался на должной высоте и вел корсетное дело так же предусмотрительно, как, в свое время, дела террористические. Здравый смысл заменял гений Азефу. Когда-то он толково объяснял членам Боевой организации, что «динадмитные жилеты» никуда не годятся, так как можно убить человека и не взрываясь с ним вместе на воздух. Теперь он столь же толково учил Муши, что корсеты надо изготовлять мелких размеров, ибо «война, по-видимому, затянется, и дамы, сидя на тощей диете, будут продолжать худеть». В Азефе лавочник отлично совмещался с убийцей.
Первый год войны прошел еще сравнительно сносно. Но летом 1915 года Азеф был неожиданно арестован на улице агентом немецкой уголовной полиции. Причина ареста была Азефу непонятна; не очень понятна она и нам.
По словам Николаевского, «Неймайер» в кофейне на Фридрихштрассе наткнулся на какого-то человека, который узнал в нем Азефа. Однако можно с большой вероятностью утверждать, что германская полиция и до этой случайной встречи прекрасно знала, какое лицо под именем Неимайера пользуется пять лет гостеприимством города Берлина. Сам Азеф сначала предположил, что его подозревают в «сношениях с русским правительством». Он подал из тюрьмы оправдательную записку, в которой клялся, что с 1910 года никаких сношений с русскими властями не поддерживает. Позднее, однако, выяснилось, что арестовали Неймайера отнюдь не как секретного сотрудника русского Департамента полиции, а как опаснейшего анархиста. Пораженный Азеф подал новую записку. В ней он божился, что никогда анархистом не был, а всегда верой и правдой служил Департаменту полиции. Да и эта служба, — пояснял он, — дело далекого прошлого: теперь он просто мирный купец, желающий честно зарабатывать свой хлеб. Записки Азефа, однако, не произвели должного впечатления на берлинского «полицей-президента». Едва ли фон Ягов мог не знать того, что после нашумевших разоблачений Бурцева знал каждый мальчишка в Европе. Повторяю, не все ясно в этом аресте. Вероятно, берлинская полиция просто рассудила, что в военное время лучше такому человеку, как Азеф, находиться в Моабитской тюрьме, чем заниматься на свободе делами, хотя бы и корсетными.
Несмотря на все протесты и ходатайства, Азеф пробыл в заключении два с половиной года. Содержался он в условиях довольно сносных, однако был ими очень недоволен. В ответ на жалобы Азефа немецкая администрация любезно предложила ему перейти из тюрьмы в лагерь для гражданских пленных русской национальности. Это предложение Азеф отклонил.
Б. И. Николаевский напечатал выдержки из тюремных писем Азефа. Они изумительны по бесстыдству. Их тон — тон дневника, который Альфред Дрейфус вел на Чертовом острове. С Дрейфусом, впрочем, Азеф сравнивает себя и сам: «Меня постигло, — пишет он, — величайшее несчастье, которое может постигнуть невинного человека и которое можно сравнить только с несчастьем Дрейфуса». Заодно, Азеф скорбит и обо всем страждущем человечестве. Его чрезвычайно угнетает «Молох войны», — как это в самом деле люди так жестоки друг к другу! «Слабый луч надежды» приносит ему, правда, русская революция: обстановка изменилась, и о «мерзавцах» писать больше незачем. Азефа радует поездка Ленина из Швейцарии в Петербург, — «почтительное отношение Германии к едущей в Россию группе социал-демократов пацифистского направления». Он и сам с удовольствием принял бы участие в строительстве новой России: «я хотел бы помочь в работах по окончанию этого здания, если я не принимал участия в их начале». Максим Горький сказал как-то венгерскому военнопленному, что «людям не хватает любви друг к другу и что будущий интернационализм будет не социализмом, а любовью к людям». Азеф приветствует эти трогательные слова, отмечая (быть может, не без свойственного ему почти незаметного, зловещего юмора), что Горький, «хотя и поэт, но в то же время и весьма реальный политик». В общем, Азеф, по-видимому, был вполне доволен ходом русской революции. «Россия принесет мир человечеству. Ex oriente lux!»[27] — в порыве бодрости пишет он Муши, одновременно давая указания и насчет изготовления корсетов.
Впрочем, Азеф искал утешения не только в радостных политических событиях. Он искал утешения также в нравственном самоусовершенствовании: «После молитвы, — пишет он, — я обычно бываю радостен и чувствую себя хорошо и сильным душою. Даже страдания порою укрепляют меня. Да, и в страданиях бывает счастье, — близость к Богу». Ко дню рождения Муши он составил для нее в тюрьме таблицу морально-философских правил, — так 17-летний Николенька Иртенев писал «Правила жизни». Привожу некоторые из наставлений старого Азефа: «Пиши лишь то, что можешь подписать…» «Делай лишь то, о чем можешь сказать…» «Наперед прощай всех…» «Не презирай людей, не ненавидь их, не высмеивай их чрезмерно, — жалей их…»
Б. И. Николаевский высказывает предположение, что в своих письмах Азеф задавался целью угодить берлинскому «полицей-президиуму». Думаю, что фон Ягов этих писем в глаза не видел, — он был и без того достаточно занят. Да и тюремные цензоры (от которых совершенно не зависела участь Азефа), вероятно, читали его мысли не слишком внимательно, — отношение Неймайера к Богу, к миру и к людям им было, наверное, вполне безразлично. К тому же, берлинской полиции отнюдь не должно было бы понравиться, например, то обстоятельство, что посаженный ею в тюрьму человек сравнивает себя с Дрейфусом. Насколько я могу судить, у Азефа, как у многих закоренелых разбойников, на старости лет развилась страсть к слезливому многословию. Он теперь действительно «писал лишь то, что мог подписать», — но это писал с удовольствием и в неограниченном количестве.
После октябрьской революции Азефа выпустили на свободу — в сущности, так же непонятно, как и в свое время арестовали. Его сожительница рассказывала Николаевскому, что для заработка Неймайер поступил на службу — в германское министерство иностранных дел. От себя замечу: указание чрезвычайно интересное. В дипломаты Азеф очевидно не годился. Не мог он быть приглашен и сверхштатным служащим: в министерства иностранных дел на должности явные иностранцев нигде не принимают; Азеф вдобавок и по-немецки писал безграмотно. Остается предположить, что германское правительство хотело его использовать для каких-либо темных дел военного времени. Там, в 1918 году, испытанные таланты Азефа бесспорно могли пригодиться. Быть может, поэтому его и выпустили из тюрьмы. Быть может, поэтому он после освобождения уверял Муши, что мечтает о скорейшем отъезде в Швейцарию из страны, где с ним обошлись так плохо. Швейцария была в 1918 году главным центром мирового шпионажа. Но все это лишь мое предположение. Азеф наверное унес с собой в могилу не одну тайну, и мы не можем утверждать, что он собирался начать новую жизнь — в качестве германского шпиона. Дни короля предателей уже приближались к концу.
XII
В книге Литтона Стрэчи «Елизавета и Эссекс» есть незабываемая страница: смерть страшного короля Филиппа II. Король-инквизитор, покрытый гниющими язвами, умирал в нечеловеческих страданиях, «в экстазе и в муке, в нелепости и в величии, жалкий и счастливый, праведный и ужасный». — «Совесть его была спокойна, — говорит Стрэчи. — Он всегда исполнял свой долг. Он всю жизнь трудился в крайнюю меру сил. Только одна мысль угнетала Филиппа II: был ли он достаточно усерден в деле казни еретиков? Конечно, он сжег их много. Но, может быть, надо было их сжечь еще больше?..»
Я не могу привести целиком эту страницу знаменитого английского писателя. Ему вполне удался образ трагического злодея. Теперь, пожалуй, трагических злодеев не бывает. Азеф был злодей совершенно будничный. Одни изображают его демоном, другие мещанином-коммерсантом. Думаю, что истина лежит приблизительно посредине. Азеф мог так же хорошо торговать селедкой, как торговал человеческой жизнью. Но все же по призванию (совершенно добровольно) он избрал для торговли не селедку, а человеческую жизнь.
Психология секретной агентуры, должно быть, сложнее, чем обычно думают, — здесь бывают поистине непостижимые явления. История русской революции знает случаи, когда террорист отсидел двадцать лет в крепости, а затем, выйдя на свободу, предложил свои услуги Департаменту полиции, — вот, можно сказать, устроил человек свою жизнь в полном соответствии с требованиями здравого смысла и личной выгоды!..
Я не знаю, можно ли говорить о нормальном типе секретного агента. Но обычно во всем мире бывало так: революционер попадался, ему грозила тяжкая участь, он давал откровенные показания, — дальше все следовало, как по рельсам. Карьера Азефа с самого начала пошла не по этим рельсам агентуры. Он предложил свои услуги департаменту добровольно. В причинах его поступка далеко не все так просто, как кажется. Пятьдесят рублей в месяц были очень небольшие деньги (будущих благ Азеф в 1893 году никак предвидеть не мог). В среде русской учащейся молодежи умереть с голоду было трудно: студенты помогали друг другу.[28] Существовали и благотворительные организации; богатые люди в России и за границей содержали множество стипендиатов. Но если и предположить, что материальная нужда была единственным побуждением Азефа, то это побуждение могло действовать только до окончания им политехнической школы. Перед инженером-электротехником открывалась нормальная и выгодная карьера; никто не мешал молодому инженеру Азефу оставить ремесло осведомителя. Секретный агент (не зашедший чересчур далеко) почти всегда мог безопасно отделаться от службы: когда его сообщения переставали быть интересными, Департамент полиции прекращал уплату жалованья — и только. Говорю это и на основании свидетельств видных деятелей департамента, и по простым логическим соображениям: насильно, путем угроз, нельзя заставить людей исполнять эту службу как следует.
В воспоминаниях революционеров об Азефе его действия часто объясняются трусостью. «Нам, вместе работавшим с Азефом, — пишет, например, П. Ивановская, — кажется не без основания, что самым сильным дьяволом в его душе была подлая его трусость». Объяснение это ровно ничего не объясняет. Оно, прежде всего, оставляет непонятным, зачем стал секретным агентом человек, находившийся в полной безопасности. Да и трудно вообще говорить серьезно о трусости Азефа. Его карьера была страшной и в переносном и в прямом смысле слова. За любое из своих террористических дел он непременно был бы повешен, если бы правительство своевременно узнало об его настоящей роли. За выдачу террористов его убили бы революционеры, если бы им стала известна правда, А ведь и то, и другое могло случиться каждую минуту. Не говорю уже о косвенной (далеко не шуточной) опасности, беспрестанно грозившей Азефу в процессе его технической работы. «Он сто раз мог быть разорван взрывом», — говорит В. М. Зензинов, описывая их снаряды, «динамитные жилеты», которые они в свое время изготовляли и на себе примеряли. Нервы у Азефа были, конечно, нечеловеческой крепости.
Очень трудно понять и те объяснения, которые давались измене Азефа деятелями Департамента полиции. «Я склонен думать, — писал Ратаев, — что… истинной причиной было знакомство и сближение с Гершуни. Оно сыграло роковую роль в карьере Азефа и послужило вероятно побудительным толчком к предательству. Надо помнить, что ведь Азеф до поступления на службу не был революционером, и весьма возможно, что, не отдавая себе сразу отчета, исподволь и постепенно подчинился влиянию и обаянию личности Гершуни. Этот человек, как известно, производил сильное впечатление на всех, с кем сходился. Был ли то известный гипноз, или результат необычайно развитой силы воли, или же воздействие глубокого искреннего убеждения, не знаю…» Наивность этого объяснения бросается в глаза. Азеф — поддался чарам глубокого искреннего убеждения! И, поддавшись чарам убеждения, начал подводить не только революционеров под виселицу, но и министров под бомбу! Показания из революционного лагеря (который, конечно, мог знать это гораздо лучше) не дают никакого материала для вывода о влиянии Гершуни на Азефа. Глубоко убежденных революционеров Азеф немало видел на своем веку. В своем письме к ген. Герасимову он называл террористов мерзавцами, пожалуй, довольно «искренно». Можно с большой вероятностью сказать, что Азеф приблизительно так же любил революционеров, начиная с Гершуни, как деятелей старого строя, во главе с Плеве.[29]
Главной страстью Азефа была игра, — игра во всех смыслах слова. Эта страсть сочеталась с полным отсутствием каких бы то ни было задерживающих начал, кроме соображений личной выгоды. Своеобразная профессия укрепляла своеобразную психологию. Едва ли Азеф был «садически-жесток», но, вероятно, ему нравилась стихия, в которой роль его была так велика.
Чрезвычайно интересное сообщение мы находим в письме Ратаева к Зуеву от 20 октября 1910 г.: «Азеф, — пишет Ратаев, — работал не только на русскую революцию, но обучал и иностранных революционеров. В начале 1905 г. мне пришлось натолкнуться на серьезную организацию армян-дрошакистов и македонских революционеров, которые, вступив в союз с русскими террористами, водворяли через Черное море, преимущественно на Кавказ, оружие и взрывчатые вещества. Не довольствуясь личной поездкой в Болгарию и Константинополь, я командировал туда Азефа, который, ознакомившись детально с организацией, сообщил мне весьма важные и интересные сведения… Вскоре после отъезда Азефа с Балканского полуострова, кажется, 11 или 12 июля 1906 г., в Константинополе, в пределах Ильдиз-Киоска, во время селямлика[1] совершено было покушение на жизнь ныне низложенного султана Абдул-Гамида и именно тем способом, который Азеф пожелал применить против В. К. Плеве, то есть посредством автомобиля, начиненного динамитом, на котором прибыли на парад два знаменитых иностранца. Очевидно, Азеф исполнял служебное поручение в силу своего принципа «делу время, потехе час», придумал и проделал вместе с армянами покушение на султана, а затем, по своему обыкновению, уехал благополучно домой». — Я пытался навести справки об этом деле у армянских политических деятелей. Они решительно отрицают участие Азефа в покушении на Абдул-Гамида. Но участие могло быть косвенным и незаметным, — я не сказал бы с уверенностью, что Ратаев ошибся. Во всяком случае его замечание «делу время, потехе час» свидетельствует о тонком понимании психологии Азефа. Для дела надо было убивать русских министров и революционеров. А для потехи не мешало отправить на тот свет и турецкого султана с несколькими армянами, тем более, что при случае и это могло оказаться небезвыгодным. Подобный подвиг должен был даже особенно соблазнять Азефа. Быть может, и ему не удалось в жизни самое высокое.
В развинченной душе Азефа по необходимости существовали два мира: мир социалистов-революционеров и мир Департамента полиции. Ни один из этих миров не был его собственным миром. И в обоих он, конечно, должен был всегда чувствовать себя дома. Его тренировка в этом смысле граничит с чудесным. Азефа выдали другие; сам он ничем себя ни разу за долгие годы не выдал. В каждом из миров своей двойной жизни он позволял себе и роскошь оттенков.
Надо прочесть его письма в департамент: Азеф говорит с Ратаевым не так, как с Зубатовым, а с Зубатовым опять не так, как с Герасимовым. Такие же различия он делал в лагере революционеров. Во Франкфурте он говорил Бурцеву, что презирал Савинкова и чрезвычайно чтил Сазонова. Дело, конечно, не в оценке, — и уважению, и презрению Азефа цена одна и та же. Но он, как немногие другие, чувствовал все виды различия между деятелями революционного лагеря.
Величайший знаток людей, мимоходом взглянувший на революционеров, сказал: «Это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими их считали другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, и дурные, и средние люди… Те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его и представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его» (Л. Толстой). По свойственному ему уму и умению разбираться в людях, Азеф при Савинкове, например, не стал бы из ригоризма отказываться на вокзале от услуг носильщика. Но в присутствии того же Савинкова, в ответ на предложение А. Гоца взорвать дом Дурново, Азеф прочувствованно сказал: «Я согласен только в том случае, если я пойду впереди… В таких делах, в открытых нападениях необходимо, чтобы руководитель шел впереди. Я должен идти». Савинков и Гоц горячо умоляли его поберечь свою драгоценную жизнь: «Организация не может жертвовать Азефом…» Азеф задумался, потом он сказал: «Ну, хорошо…»
Повторяю, у этого человека было чувство юмора. «Иронический» был человек — в том смысле, какой давал слову Достоевский. В пору Лондонской партийной конференции он попросил одного из ее видных участников зайти с ним на почту и в его присутствии сдал чиновнику толстый заказной пакет. Товарищ Азефа удивился, куда это и о чем Иван Николаевич шлет такие длинные письма? Разумеется, пакет заключал в себе подробный отчет о конференции и посылался в Департамент полиции. Едва ли было благоразумно сдавать пакет в присутствии товарища. Столь неосторожный поступок мог позволить себе лишь большой мастер, притом юмористически настроенный. «Делу время, потехе час». Притом, где же кончается дело, где начинается потеха?
Перед судом над Бурцевым Азеф написал Савинкову длинное письмо, в котором незаметно подсказывал ему, для его речи на суде, все доводы в свою защиту. По тонкости диалектики это письмо сделало бы честь лучшему адвокату. Начиналось оно словами: «Дорогой мой. Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотой и любовью. Спасибо, дорогой мой». Есть и такая фраза: «Противно все это писать. Но вместе с тем меня и смех разбирает. Уж больно смешон Бурцев…» Очень может быть, что Азефа и в самом деле разбирал смех, — когда он себе представлял, с каким волнением Савинков будет читать это письмо.
Настоящего внутреннего мира у Азефа, быть может, вовсе и не было. Было что-то довольно бесформенное, включавшее в себя любовь к риску, любовь к деньгам, любовь к ролям, в особенности к ролям трогательным. Человек, очень хорошо его знавший, говорил мне, что Азеф всегда был «слаб на слезы». Я думаю, он не только в отношениях с Муши, но и в своей ужасной двойной жизни чувствовал себя порою «единственным бедным зайчиком». Все это было окрашено цинизмом, — впрочем, очень легким. Могла быть и мания величия, тоже очень легкая. В тюрьме он читал Штирнера[2] «Единственный и его достояние»: вероятно, он себе казался единственным и в штирнеровском смысле. По-своему, он «единственным» и был: очень трудно себе представить более совершенный образец морального идиотизма, при немалом житейском уме, при огромной выдержке. Никакие сомнения его не тревожили: он и без борьбы обрел право свое.
Говорили мне, что этот человек, — переходная ступень к удаву, — очень любил музыку, музыку кабаков и кафе-концертов: слушал будто бы с умилением и восторгом. Может быть, немного и дурел, как змеи от флейты?
Здоровье Азефа сдало в годы войны и тюремного заключения. Вероятно, на нем отразилось недоедание тех лет, весьма серьезное в Германии. У него развилась болезнь почек, осложнившаяся болезнью сердца. В апреле 1918 г. он слег в больницу (Krankenhaus Westens). Через несколько дней, 24 апреля, в 4 часа пополудни, Азеф умер.
Верная немка похоронила его, по второму разряду, на Вильмерсдорфском кладбище. Надписи на могиле нет никакой, во избежание неприятностей («вот рядом тоже русские лежат»). Есть только номер места: 446.
Примечания
1
Письмо это было найдено в 1917 г. в архиве Департамента полиции Б. И. Николаевским, одним из лучших знатоков истории русской революции, и им впервые напечатано с превосходным выяснением подробностей. Письма Азефа, еще не появлявшиеся в печати, взяты мною в архиве, любезно предоставленном в мое распоряжение В. К. Агафоновым, который в свое время разбирал дела департамента и охранных отделений. — Автор.
2
До востребования (франц).
3
«Тайна гарантируется» (нем.).
4
«Соблюдение тайны — дело чести» (нем.).
5
Это донесение было написано химическими чернилами. Настоящий текст его заключает в себе сведения о готовящемся покушении на Плеве (неизданный архив В. К. Агафонова, папка № 1. — Автор.
6
Одна из выданных Азефом революционных групп, как известно, изображена Леонидом Андреевым в его «Рассказе о семи повешенных». — Автор.
7
В. Б. Бурцев. Как я разоблачил Азефа, гл. XIII. — Автор.
8
Заключение судебно-следственной комиссии по делу Азефа, стр. 17. — Автор.
9
Много позднее выяснилось, что это был М. Е. Бакай. — Автор.
10
Неизданный архив В. К. Агафонова, папка № 13. — Автор.
11
Отвращение к жизни (лат.).
12
Протоколы ном. 6 и 8 «Предварительного Следствиям по делу об отставном действительном статском советнике Алексее Александровиче Лопухине, стр. 108 — 110, 120 — 124 (из архива В. К. Агафонова). — Автор.
13
Протокол № 10 того же «Предварительного Следствия», стр. 132. — Автор.
14
А. И. Гучков сказал, смеясь, В. Л. Бурцеву, встретившись с ним в Петербурге, в декабре 1915 г, на квартире М. А. Стаховича: «Я знаю, что вы стоили нашему правительству крупнейшее состояние… Все эти деньги были выброшены на улицу, ибо вы никогда не состояли в партии, а ваши разоблачения Азефа принесли только пользу, ибо деморализовали революционные круги» (Секретный рапорт Департаменту полиции Манасевича-Мануйлова об его разговоре с Бурцевым, от 21 декабря 1915 года. Из неизданного архива В. К. Агафонова, папка № 5). — Автор.
15
После разоблачения в Париже, в январе 1909 года состоялось собрание виднейших социалистов-революционеров, на котором В. М. Чернов рассказал об измене главы Боевой организации. Подробнейший отчет об этом заседании был немедленно, по телеграфу, передан в Петербург Гартингом-Ландейзеном директору Департамента полиции. В донесении мы читаем: «Когда Чернов окончил свою речь, председательствовавший Фундаминский (Бунаков) и многие из присутствовавших плакали; другие сидели с опущенными головами, не произнося ни слова…» Гартинг, обладавший чувствительной душой, немного сгустил краски: мне рассказывали об этом заседании не совсем так. Но потрясение в кругах социалистов-революционеров было, конечно, ужасное. Три участника собрания категорически потребовали немедленного убийства Азефа. «В течение года, — говорил В. М. Зензинов, — не было у меня дня и ночи, когда я не думал бы о нем…» — Автор.
16
Немку эту разыскал не так давно Б. И. Николаевский, написавший на основании ее рассказов и бумаг интереснейшую работу «Конец Азефа». — Автор.
17
Первая жена Азефа, не подозревавшая об его истинной роли, навсегда порвала с ним после разоблачения. — Автор.
18
А. А. Аргунов. Азеф — социалист-революционер.
19
Письмо Азефа к ген. Герасимову от 25 декабря (старого стиля) 1909 г. Архив В. К. Агафонова. — Речь идет о берлинском алиби Азефа. Как известно, узнав о том, что Лопухин назвал его имя Бурцеву, Азеф полетел в Петербург и, явившись к Лопухину, добивался его отказа от сказанных им слов. Лопухин сообщил о неожиданном визите А. А. Аргунову. Это и погубило Азефа. Товарищам по партии он объяснил, что ездил в Берлин. Для установления его алиби ген. Герасимов послал в Берлин, с соответственными бумагами, одного из своих агентов. Агент, однако, оказался неопытным человеком, прописался не там, где следовало (в подозрительных номерах «Керчь»), и вдобавок (вероятно, для увеличения своих «суточных»), указал в счете гостиницы больше дней, чем было нужно. Благодаря ряду более или менее случайных удач, В. О. Фабрикант, посланный партией в Берлин с целью проверки алиби Азефа и остановившийся в той же гостинице, неопровержимо выяснил, что в номерах «Керчь» жил не Азеф. — Автор.
20
Руководящие указания Азефа порою (особенно в делах о покушении на Столыпина и об изготовлении аэроплана для террористических актов) имели характер совершенного издевательства над террористами.
21
В упомянутом выше последнем его письме, сейчас после разоблачения, он просил Герасимова о деньгах (и о службе), наверное для того, чтобы разжалобить своей судьбою Департамент полиции: «Я ушел без всего, очень мало денег у меня и без платья». Азеф собственно даже и не так настойчиво просил: «Не может быть речи о каком-нибудь постоянном вознаграждении. Думаю, что за декабрь полагается, а дальше решайте сами». За декабрь ему действительно «полагалось», — он был разоблачен только 23 декабря (ст. ст.), — что ж дарить свой заработок? Но, конечно, ни пособие, ни служба не были нужны Азефу. Какую службу он мог принять в России, где только о нем и говорили, везде со скрежетом зубовным! В действительности ему были, вероятно, нужны паспорта Департамента полиции и, быть может, его протекции для свободного жительства в Германии. — Автор.
22
«Материалы», т. III, стр. 15. — Автор.
23
Гапон щедро раздавал деньги направо и налево. О. С. Минор рассказывал мне следующую сцену, личным свидетелем которой он был в Женеве. Они сидели вдвоем на балконе квартиры Гапона против кафе Ландольта. В дверь постучали; в комнату вошел Ленин. Он отозвал Гапона в глубь комнаты и пошептался с ним; затем Гапон на глазах О. С. Минора вынул из бумажника пачку ассигнаций и передал ее Ленину, который тотчас удалился, очень довольный. Эти деньги не принадлежали Департаменту полиции, но и позднее Гапон, вероятно, давал деньгам департамента самое неожиданное назначение. — Автор.
24
Заключение судебно-следственной комиссии, стр. 54. — Автор.
25
В действительности В. Л. Бурцев начал с того, что сообщил партии сведения своих нейенарских корреспондентов. Социалисты-революционеры послали в Нейенар членов Боевой организации. Однако, вследствие случайной ошибки, те Азефа не нашли. При очень большой настойчивости его, вероятно, можно было найти на курорте, даже с ошибочным адресом (Азеф 2-го августа переехал из Нейенара в Баден-Баден, оставив свой адрес на почте). — Автор.
26
Преданные Бурцеву люди еще до разоблачения предлагали ему без всякого суда покончить с Азефом. — Автор.
27
Свет с востока! (лат.)
28
Это подтвердил мне инженер С. И. Лихтенштейн, учившийся с Азефом в Карлсруэ. — Автор.
29
Зубатов рассказывает, что Азеф «трясся от ярости и с ненавистью говорил о В. К. Плеве». — Автор.
Примечания
1
Селямлик - торжественное шествие султана в мечеть.
(обратно)2
Штирнер Макс (1806 - 1856) - немецкий философ-младогегельянец. В главном сочинении "Единственный и его достояние" проводил идеи последовательного эгоцентризма.
(обратно)





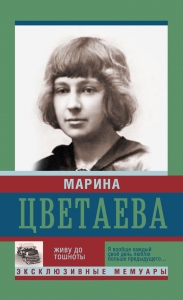
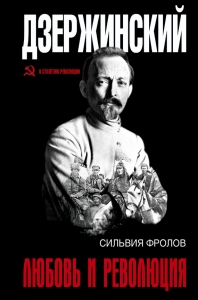
Комментарии к книге «Азеф», Марк Александрович Алданов
Всего 0 комментариев