Алексиевич Светлана Зачарованные смертью
От автора, или o бессилии слова и о той прежней жизни, которая называлась социализмом
Я пишу это предисловие, когда на столе уже лежит готовая рукопись. Кричит, вопит, плачет… Я различаю голоса… Не хор, как это было раньше, а одинокий человеческий голос… Они все звучат по-разному… У каждого — своя тайна…
Я ее боюсь. Да, я боюсь своей книги. Я не хотела бы знать обо всех нас того, что в ней собралось воедино и обнаружилось. Говорят, что точный диагноз — уже половина лечения, но не всегда есть мужество его услышать, обманываться все же легче. Мне теперь часто кажется, гораздо чаще, чем прежде, что среди нас больше тех, кто не хочет знать точный диагноз. И сама смерть порой не так неумолима, как правда. Но я не врач и тем более не судья.
Был ли у меня выбор? Я спрашивала себя, не раз в течение двух лет, когда писала книгу, я задавала себе этот вопрос: зачем снова о смерти?
Когда человек всю жизнь сидит в тюрьме и говорит только о тюрьме, никто не удивляется: почему он не подберет другой темы для разговора? О чем я? Да все о том же. О своих сомнениях: надо ли было писать эту книгу? Страшную и беззащитную…
Что есть наша история? Оглянемся — и попадем в знакомое царство смерти. Торжественный и мрачный пантеон.
Кто же мы? — А мы — люди войны. Мы или воевали, или готовились к войне. Мы никогда не жили иначе.
У меня не было выбора.
Но у Варлама Шаламова вдруг встречаю такую мысль, что лагерный опыт никому не нужен. Лагерный опыт нужен только в лагере.
И все же…
Если жизнь становится понятной, когда получает завершение, — после смерти, — то, наверное, так и с идеями. Живой миф не поддается анатомированию, он постоянно где-то прорастает. Мертвый миф — застывшая фотография родивших его поколений. Первые, наиболее простые, доступные стадии — отречения и надругательства над мифом социализма — мы прошли. Настало время его пока еще пристрастного (слишком рядом!), но уже исследования. Каждый задает себе этот вопрос, спрашиваем друг у друга: что же с нами было? И разве об этом мечтали все утописты мира?
У коммунизма был безумный план — переделать нас. Переделать человеческую природу, изменить «старого» человека, ветхого Адама. «Гомо советикус» — человек, которого вывели в лаборатории марксизма-ленинизма, на одной шестой части суши. Признаемся — это мы. Слово «русский» привычно соединяли со словом «советский». Хотя это не всегда было так как. Но советскими были украинцы и грузины, армяне и таджики, белорусы и туркмены… Что-то нас объединяло, несмотря на разницу культур и религий. В общем-то все мы были опытным полем для коммунистической идеи. Теперь нам известно, что мы принадлежали к особому типу человеческой генерации, единожды возможному, неповторимому. Но этот тип скоро исчезнет, растворится в мировой цивилизации, в которую мы возвращаемся. Одни утверждают, что это трагический и прекрасный человек, другие с холодным отчуждением нарекли его «совком». Как будто к неизвестным незнакомцам, все к себе приглядываемся. Кто же мы на самом деле в свете истории и в свете не такой уж длинной человеческой жизни, однажды дарованной? Кто?! Дети великой иллюзии или жертвы массового психического заболевания?
Там, где еще совсем недавно в металле, в бронзе и бетоне возвышались полувоенные, полурелигиозные памятники большевистским богам, — битый камень, матерщина на вздыбленных постаментах. Иначе не умеем. У ежедневных газет военный запах даже тогда, когда они пишут о мире: ошалевшая толпа у винного отдела растоптала милиционера; безногий фронтовик, кавалер орденов Славы, расстрелял из обреза мирно обедавших в частном кафе; старая большевичка вскрыла вены: рухнул мир ее нерушимых представлений; бывший воин-«афганец» пытался сжечь себя на площади — протест против надвигающейся другой жизни, с другой социальной иерархией и другой системой ценностей… Одни выходят на улицы с красными знаменами, другие кричат им в спину проклятия… Красный цвет обречен быть кровавым… Симптомы социальной истерии, или, на языке медиков, «проникающий невроз». Музыка распада…
И я услышала их, именно их, разочаровавшихся и бессильных приспособиться. Что у них было? Лишь вера в светлое будущее, а сейчас и ее нет. Они все способны отдать, они уже привыкли к тому, что у них все время что-то забирают. Но вот же трепетная загадка: последний кусок хлеба отдадут, жизнь отдадут — а веру им верни! Они снова готовы вернуться в иллюзию, но в реальность возвращаться не хотят. Соблазн утопии… Черная непостижимая магия великих обманов…
Как бы нам защититься от нее? Кто знает, каких чудовищ способен еще породить человеческий разум, гонимый мечтой о земном рае?
Мы мало думали о социализме, мы в нем просто жили. И меня он интересует, обыкновенный социализм, внутренний, домашний. Какой он был на улице и дома, в театре и на площади, в школе и на фронте, в родильном доме и на кладбище. В крике и в шепоте. В искреннем доносе и стихах. Я торопилась запечатлеть, казалось бы, знакомые лица: какими они были — поколения революций, репрессий, оттепелей, застоев. «Лицом к лицу лица не увидать» писал поэт. Но в историческом отдалении есть свои опасности: исчезнут подробности, детали, портреты, в которые уже нынче, когда все еще рядом, невозможно поверить, так они невероятны. И кто поручится, то через десять двадцать лет мы не начнем придумывать, ретушировать, забывать прошлое, устыдившись себя сегодняшних. Автопортреты всегда версии, а не фотографии…
Почему в этой книге собраны рассказы самоубийц? А не рассказы обыкновенных советских людей с обыкновенной советской биографией? В конце концов, кончают с собой и просто от любви, одиночества. Но все равно во всем присутствует время… Тем более что мы — соборные люди, до сих пор мы никогда не жили каждый со своим одиночеством. Мы жили с идеей, с государством, со временем. Государство было нашей вселенной, космосом, религией. Оно делало нас соучастниками всего, что с ним было — и страшного, и великого.
Теперь нам надо самим добывать смысл своей жизни. И мы учимся одиночеству, порой вот такой немыслимой ценой…
«Самоубийство, как явление индивидуальное, — писал в эссе „О самоубийстве“, изданном в 1931 году в Париже, Н. Бердяев, — существовало во все времена, но иногда оно становилось явлением социальным». Добавим политическим. Это и был предмет моего исследования — люди идеи, выросшие в этом воздухе, в этой культуре, и не перенесшие ее крушения.
На глазах тех, кто его обустраивал и заселял, исчезает гигантский социалистический материк. Остаются мертвые, застывшие кратеры, бестелесная зола охладевших страстей и предрассудков. Все это вместилось в одну человеческую жизнь. И тот укрываемый дымкой путь, не просто пятьдесят семьдесят лет, а чья-то молодость и «усыпанный товарищами берег». Они остались там: кто на гражданской в 22-м, кто в ГУЛАГе — в 37-м, кто под Смоленском — в 41-м.
Идеям не бывает больно. Жаль людей.
Но мы слишком сплелись, соединились со своими мифами. Так слитно, что не отодрать.
Если мифы чего-нибудь боятся, то только не времени. Время действует на них, как вода на цемент, оно придает им даже некий исторический аромат, самые страшные из них делает и привлекательными. Мифы боятся одного — живых человеческих голосов. Свидетельств. Даже самых робких…
Если сейчас не хватает мужества их выслушать, то хотя бы соберем в запасники. Чтобы не исчезло, не выпало из истории наше звено…
Потому что мы, люди из социализма, похожи и не похожи на всех остальных. У нас свой язык, свои представления о добре и зле, о грехах и мучениках. Мы похожи и не похожи на людей вообще, точно так же, как человек, выпущенный из тюрьмы, но просидевший там много лет, похож и не похож на остальных в толпе. В тюрьме у него имелась кровать, всегда был обед, пускай перловая каша с килькой, но обед был, и детали, которые он точил, или доски и столярный инструмент. Он знал, что в пложенный срок ему выдадут новую фуфайку, новую шапку, новую рубашку и новые трусы. Принесут зубную щетку, ложку… Все до самых интимных мелочей, до абсурда было продумано, отлажено без его участия. А на свободе надо думать и отвечать за все самому. Неуютно. Растерянно. Это состояние Э. Фромм определил как «бегство от свободы».
Мне кажется, что я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я вместе с ним живу, бок о бок. В тех же домах, очередях, на концертах. Он — это я. Мы вместе. Мы все — свидетели. Свидетели и участники, палачи и жертвы в одном лице — на обломках того, что еще недавно слыло гигантской социалистической империей, называлось социализмом, социалистическим выбором. И это еще была просто жизнь, которой мы жили. Это еще было и нашим временем. И будем искренни. Попытаемся. Хотя это и дается нам труднее всего. Мы хотим сейчас казаться или лучше, чем мы есть, или хуже, чем мы есть на самом деле. Мы боимся быть самими собой. Или не умеем. Нам почему-то страшно, то стыдно, то неловко. Каждый кричит о своем, и никто не слышит друг друга. Даже прошлое мы не признаем неприкосновенной, неизменной реальностью. Посягаем и на него. То нам кажется, что нас обмануло будущее, то нам кажется, что нас обмануло прошлое. Потеряли и никак себя не найдем, наивно шарим в потемках истории.
И надо признать, хотя страшно, зачеркивается верование нескольких поколений, что долго, слишком долго нами владела идея, которую иначе, как танатологией, наукой о смерти, не назовешь. Нас учили умирать. Мы хорошо научились умирать. Гораздо лучше, чем жить. И разучились отличать войну от мира, быт от бытия, жизнь от смерти. Боль от крика. Свободу от рабства.
Это слова, а слова нынче бессильны. Пусть говорят судьбы…
Я безнадежно влюблена в реальность. Но это самое страшное — собраться с духом и броситься в пропасть бесконечного страдания другого человека. Я не успеваю набрасывать портреты. Слишком быстро ни меняются, слишком подвижны и неустойчивы черты нашей новой истории. Я делаю простые снимки. Моментальные снимки. И всегда помню, что в одной фотографии отражается всего лишь одна сотая секунды, тороплюсь. Но все-таки надеюсь, что это не только фотографии и документ, но и образ моего времени, каким я его вижу.
Вы не задумывались, почему так волнуют бесхитростные семейные альбомы? Они невинно просты и бессмертны. Наверное, впаду в грех, но все-таки осмелюсь: искусство мне напоминает, свидетельствует о Боге, а семейные альбомы рассказывают о маленькой бесконечной человеческой жизни… Взглянуть бы сейчас на обычную фотографию обычной девочки, например, Древней Греции или Рима… Вот она — с бабушкой… Или — вот она — невеста… О чем и какими словами признавались ей в любви? О чем болтала с подружками? Воскресло бы время. Живое время, когда простое становится великим.
И чем больше слушаю и записываю, тем больше убеждаюсь, что искусство о многом в человеке и не подозревает. Не все говорят слова, не все могут краски, не все дано звукам, не все спрятано в молитвах…
Зачем-то каждому из нас дана своя жизнь. И свой путь.
Уходит время… Время великих обманов… Послушаем его свидетелей. Честных свидетелей. Пристрастных. Они убивали себя, чтобы жили призраки…
Дьяволу надо показывать зеркало. Чтобы он не думал, что невидим…
Вот и ответ на вопрос: зачем эта книга. Все дело в призраках. Если мы не убьем их, они убьют нас…
История с обмотками, красными звездочками и четвертым сном Веры Павловны
Василия Петрович Н. - член коммунистической партии с 1920 года, 87 лет
«Я подумал: хороший день для смерти. Чисто. Снег. Кто-то начнет все сначала. Жизнь — театр, у каждого — своя роль. Мой театр исчез. Люди, которые были когда-то моими друзьями, с которыми у меня была она память, одно время, уже обратились в воспоминания, в туман, я не могу их отличить от сна. От ночного бреда. Одно время заканчивается, начинается другое. Мне далеко за восемьдесят. Я ужасно старый. Впасть бы в старческий маразм — вот где спасение. Становишься свободным, как ребенок, нет памяти ни о чем… Нет, вижу все отчетливо, как на рассвете…
Эти ужасные боли в суставах… Но они помогают, они примиряют со смертью, потому что делают равнодушным. Остается одно желание: скорее бы все кончилось, особенно после бессонницы, после мучительной и хладнокровной пытки бессонницей…
Я пытался уйти… Сам… Ремень на шею… Завязываешь, как галстук… Правда, я уже давно не носил галстук. Он мне они к чему дома, на кухне. Среди людей я бываю редко, а теперь и совсем не хочется, я никого не знаю ни в своем доме, ни на своей улице. Последний знакомый старик из соседнего подъезда умер лет пять назад. Я потерял столько близких, что у меня там их больше, чем здесь Смотрю на улицу, на жизнь из окна, наблюдаю. У меня третий этаж, даже лица могу разглядеть, прически. Что я заметил: женщины снова стали носить длинные волосы и кожаные куртки. Женщин с длинными волосами я встречал только в детстве и в кино. Моя первая и моя вторая жена носили короткие стрижки, тогда все носили короткие стрижки. Их уже давно нет. Где они? Да, к старости я стал ненадежным атеистом. Я хотел… Тогда мне не дали уйти… Открыл глаза и понял, что опять живу, моя грудная клетка поднималась, как испорченный насос, но я дышал. Возле меня стояли врачи. Что они могут сказать человеку, когда возвращают его оттуда? Будто они знают, откуда они его возвращают. Они могут поставить капельницу, нащупать пульс. И ты слышишь, как в тебя вливается жизнь, в то время как ты хочешь умереть. Но я живой только среди мертвых… Среди живых у меня странное ощущение, будто я уже не с ними, а смотрю на них и на себя откуда-то из другого измерения… Удивительно, что вы меня о чем-то спрашиваете, словно я живой, а не мумия. Как будто одними и теми же словами пользуемся, а смысл из них извлекаем разный. Как через стенку, из одной в другую камеру переговариваемся… Вот как мне вам объяснить, что я всю жизнь любил партию?! Да, партию, самое дорогое для меня. Это была моя страсть, моя любовь. С такой страстью я смог полюбить только мысль о смерти. Одиноко умирать от болезни, от ужасной боли в суставах, от бессонницы, когда разговариваешь с собой. Или с мертвыми. Они отличные собеседники, потому что всегда молчат, только слушают. Среди живых у меня почти не осталось знакомых. Мысль о смерти опять присоединила меня к чему-то высшему, как раньше к партии. Я семьдесят лет в партии. Зачем? Кому это сегодня интересно?
Я хочу удержать мысль, очень важно, чтобы вы поняли. Для этого мне надо идти прямо, не сворачивать и не возвращаться. Идти прямо к той точке… Когда я накинул на себя ремень…
Сын у меня родился в двадцать седьмом году. Назвали Октябрем. В честь десятой годовщины Великого Октября. Ведь какие идеалы были? Чистейшие идеалы! Светлые. И люди были светлые. Таких людей больше никогда не будет. Я недавно прочитал в одной газете, что мы, мое поколение, выпали из истории, нас как бы не было. Дыра во времени. А мы были! Были! Были! Почему-то вдруг вспомнил, как на свадьбу жена сшила белое платье из марли… Я был ранен и тоже перевязан весь марлей, бинтами. Вокруг — голод, эпидемии, тиф. Возвратный тиф, головной тиф… Идешь по улице — лежит мертвая мать, возле нее сидит маленький ребенок и просит: „Мамка, дай поесть…“ Город Орск Оренбургской области… Двадцать первый год… А мы все равно счастливые: живем в великое время, служим революции! Это не выкачать из моего сердца, из моего мозга.
Шла гражданская война… Я даже помню, какие обмотки нам выдали, красные звездочки для шапок. Шапок не было, но красные звездочки нам вручили. Что за Красная Армия без красных звездочек? Дали винтовки. И мы себя чувствовали защитниками революции. Помню наших убитых товарищей… На лбу и на груди у каждого вырезаны звезды… Две красные звезды… Это же наша вера, это же наша библия! Тридцать лет назад, двадцать лет назад, десять лет назад. Пять лет назад, еще год тому назад… Я бы вам этого не рассказал. Мне кажется, что я этого не помнил… Необъяснимая вещь: я это действительно не помнил… Как лежал белый офицер… Мальчишка… Голый… Живот распорот, а из него погоны торчат… Живот набит погонами… Но я бы вам раньше этого не рассказал… Что-то и с моей памятью произошло… Щелкает там, щелкает… Как в фотоаппарате… Я уже перед уходом… Когда смотришь прощальным взглядом, обмануться уже нельзя… Некогда…
Нет! Наша жизнь — это бы полет. Первые годы революции… Мои лучшие годы, мои хорошие, красивые годы. Еще живой Ленин. Ленина я никому не отдам, с Лениным в сердце умру. Все верили в скорую мировую революцию, любимая песня: „И на горе всем буржуям мировой пожар раздуем“. Конечно, было много наивного, смешного. Танцы, например, мы считали мещанством, устраивали суды над танцами, наказывали тех комсомольцев, что ходили на вечеринки, вальсировали. Я одно время даже председателем суда был… над танцами… Из-за этого своего марксистского убеждения не научился танцевать, потом очень каялся. Никогда не мог потанцевать с красивой женщиной. О чем мы спорили? О коммунистическом будущем, каким оно будет и как скоро. Через сто лет точно, но нам это казалось далеко, слишком далеко. Хотелось побыстрее. И о любви спорили, особенно о книге Александры Коллонтай „Любовь пчел трудовых“. Автор защищала свободную любовь, то есть любовь без любви, без пушкинского „Я помню чудное мгновенье…“. Мы тоже отрицали любовь как буржуазный предрассудок, биологический инстинкт, который настоящий революционер должен победить в себе. Любить можно было только революцию. Я помню (через столько лет!), что взгляды делились одни — за свободную любовь, но с „черемухой“, то есть с чувством, другие — без всякой „черемухи“. Я был за то, чтобы с „черемухой“, чтобы целовать. До чего же смешно, черт возьми, сегодня об этом вспоминать…
Вот вы говорите, что мы служили утопии. Но мы искренне верили в эту утопию, мы были ею загипнотизированы, как молнией, как северным сиянием… Не могу найти равновеликого сравнения… Жаль, что так стар… Взглядом отсюда, с конца, все не так, как тогда, и слова как будто незнакомые: „Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем: мы свой, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем…“ Разрушим! Сейчас вдруг вспоминаю, вижу: из разбитой помещичьей усадьбы кто-то выбросил пианино… Деревенские пацаны пасут кров и играют палками на этом пианино… Горит усадьба… Белый высокий дом… Старики крестятся, а мы смеемся… С церкви желтый купол упал, его стащили веревками, катится… Мы смеемся… „Мы свой, мы новый мир построим…“ Полуграмотные, полуголодные. Молодые! Из нас легко получались идеалисты, мечтатели. Мы мечтали среди крови — своей и чужой. Любимые стихи: „То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть“, „… дело прочно, когда под ним струится кровь…“ Каким-то непостижимым образом кровь и мечта уживались. Человека просто не было — был капиталист, кулак, бедняк, пролетарий, империалист, буржуй. Убитого жалели, если он пролетарий, но как-то мимоходом жалели, на ходу, на марше. Как писал поэт: „… отряд не заметил потери бойца и „Яблочко“-песню допел до конца“. Ни капли, ни грамма сострадания, если — кулак, буржуй. Необъяснимая вещь! У Эсхила или Еврипида недавно нашел: „Люди не могли бы жить, если бы боги не дали им дара забвения“. Меня этот дар покинул. Вдруг задаю себе вопрос (а ведь раньше никогда не задавал): почему я не жалел того мальчишку с распоротым животом, набитым золочеными погонами? Ну, беляк, ну, буржуйский сынок… И все же такой же, как ты… Мальчишка… Нет, по законам логики, по законам науки нас судить нельзя. Нас можно судить только по законам религии. А я не верующий…
Я еще вчера хотел спросить: неужели вам на самом деле интересен этот сумасшедший старик, которому даже хлеб уже не пахнет? Всегда волновал запах свежего хлеба, а теперь и он без запаха. Как вода. Я всех пережил… Я пережил своего сына… Меня мучает бессонница… И щелкает, щелкает в мозгу… Но я должен идти прямо к той точке… Не сворачивать, не возвращаться…
Немного раньше, когда я еще выходил на улицу. Год назад… Выбрался, конечно, с палочкой. Когда-то это было так близко, всего два квартала, а тут час тащился. В трамвай залезть побоялся, там люди, много людей, а здесь я один, чуть что — к стенке дома можно прислониться, будто ты задумался, постоять, отдохнуть. Не люблю, когда мне напоминают о моей старости. А я ужасно старый. Я хотел убедиться, что Ленин стоит там, на площади, где он стоял всегда. Увидел его еще издали, сначала — поднятую руку, потом — всю фигуру. Трибуны рядом уже не было, а раньше она стояла сразу за памятником, в праздники сюда приносили цветы, развешивали красные банты. Возле Ленина цветы лежали всегда. Цветов я не нашел, даже засохших. Если бы у меня имелось побольше сил, я принес бы Ленину цветы. Но я не знаю, где сейчас находятся цветочные магазины, мне непременно понадобились бы красные гвоздики. Сегодня так не любят красный цвет, все красное, что я не уверен: выращивают ли красные гвоздики?
У меня ничего, кроме Ленина, нет. Если вы отнимете у меня веру в Ленина, что у меня останется? Что останется от моей жизни, от моей юности? Все мое богатство — железная эта кровать, которую я лет сорок тому назад купил, по-моему, сразу после войны, письменный стол и книги. Посмотрите: они так же изношены, как и я. Я не копил вещей, мне ничего подобного в голову не приходило. Сначала воевал за светлое будущее, потом его строил. Кто обзаводится лишними вещами в военной землянке или на строительной площадке? То была совсем другая жизнь. Наша жизнь. Я понимаю, что у меня нет никаких доказательств, кроме воспоминаний. Но они не материальны… Они из области заклинаний…
…Мы все полуголодные, полураздетые. Но субботники у нас — круглый год, и зимой тоже, в двадцатиградусный мороз. На моей жене осеннее пальтишко. Мы грузим уголь, таскаем тачками, мешками на себе. Она беременная. Незнакомая девушка, которая вместе с нами работала, спрашивает у жены:
— У тебя такое пальтишко легкое. А потеплее нет?
— Нет.
— Знаешь что, а у меня два. Было еще хорошее пальто, и от Красного Креста получила новое. Ты скажи мне свой адрес, я вечером одно принесу.
И вечером она принесла нам пальто, не старое, а новое. Она нас не знала, она первый раз нас видела. Достаточно было: мы — члены партии, и на член партии. Мы были как братья и сестры. В нашем доме жила слепая девушка, с детства слепая, и она плакала, если мы не брали ее на субботник. Все умерли… Большевистское поколение лежит под мраморными плитами… И на плитах выбито: член партии большевиков с такого-то года… Пойдите на старое кладбище у нас в Ленинграде (для меня мой город останется городом Ленина, а не царя Петра), в Москве… С какого ты года в партии? Это было очень важно даже после смерти: какой ты веры?
Анекдот вдруг вспомнил. Тех лет анекдот… Железнодорожный вокзал. Толпы людей. Человек в кожаной куртке отчаянно ищет кого-то. Нашел! Подходит к другому человеку в кожаной куртке:
— Товарищ, ты партийный или беспартийный?
— Партийный.
Шепотом:
— Тогда скажи: где здесь сортир?
Кажется, я сошел с ума… Что я рассказываю? Я устал… (Долго молчит.)
…Первого большевика я услышал в своей деревне. Молодой студент в солдатской шинели. Он выступал возле церкви, на площади:
— Сейчас одни ходят в сапогах, другие — в лаптях, а когда будет советская власть, все будут одинаковые.
— А что такое советская власть? — кричат мужики.
— А это будет такое прекрасное время, когда ваши жены будут носить шелковые платья и туфельки на каблуках. Не будет богатых и бедных. Все будут одинаковые. Всем будет хорошо.
Моя мама наденет шелковое платье… Моя сестра будет ходить в туфельках на каблуках… Разве можно не полюбить эту мечту? За большевиками пошли бедные люди, неимущие. Их было больше.
Вам это интересно? Тогда слушайте дальше.
Первого красноармейца увидел через год. В восемнадцатом. В нашу деревню приехал продотряд, забирать хлеб у кулаков. Кулаки хлеб не отдавали, прятали и жгли. Я уже был комсомольцем. Мне сказали: Красная Армия голодает, советская власть голодает, Ленин голодает, ты должен помочь. Мне пятнадцать лет. Я уверовал! Ночью мы следили за теми, кто побогаче, сторожили. Ну, и я выследил, что наш сосед, дядька Семен, сжег хлеб в лесу. Утром нашли то место, еще земля теплая… Зерном жареным пахнет… Привели дядьку Семена… Командир говорит:
— Под трибунал!
Никто не знал этого слова. Объяснили: скорый суд. Продовольственный трибунал — суд за злостное укрывательство хлеба в тяжелое для советской власти время. Приговор один — расстрел. Вечером дядьку Семена привезли на телеге в лес и расстреляли. На том самом месте, где еще хлебом пахло.
Мне было страшно. До этого я не видел, как расстреливают людей… Но Красная Армия голодает, Ленин голодает… Я был мальчишка…
Отряд уехал, и отец выгнал меня из дома:
— Уходи! Чтобы я тебя никогда не видел. Уходи из своей деревни. А то убьют! И нас всех из-за тебя убьют.
Я уходил из деревни мимо кладбища, где лежал дядька Семен… Свою первую жертву, которую я принес во имя революции, я оплакивал детскими слезами. Но моя мама наденет шелковое платье… Моя сестра будет ходить в туфельках на каблуках… Не только они, все будут счастливы…
Щелкает… Щелкает… Иногда мне кажется, что мой мозг взрывается. Или там лента порвалась. Вдруг ничего не помню. Или начинаю вспоминать то, что никогда не вспоминал. Не помнил. Тогда кадры крутятся-крутятся, как на старой пленке. Немой кинематограф. Без голоса. Одни человеческие глаза и лица. Чаще всего кони скачут… Так скачут, что вот-вот лопнет сердце… Пока глаза не открою… Когда умерла моя вторая жена, я понял, что у меня никого не осталось, кроме меня самого. Я сам себе друг, я сам себе судья, я сам себе враг.
Ну верил я! Верил! Уверовал! Мы были фанатиками революции — мое поколение. Мое восхитительное поколение! Только вот бессонница по ночам… Нет, я восхищен своим поколением, восхищен его фанатизмом. Кто может умереть? Только тот, кто готов умереть. И не будь нашего фанатизма, выдержали бы мы? Стоп! Иногда я ловлю себя на мысли, что не разговариваю с самим собой, а все время перед кем-то выступаю, тогда тихо себе шепчу: „А ну-ка, слезь с трибуны!“. Наверное, сейчас мне тоже надо слезть с трибуны? Да?!
Не требуйте от меня логики. Я любил революцию. Какая красивая идея: все будут братья, все будут равны. Будем вместе работать, все поровну поделим. Вечная идея! Бессмертная! Лучшего ничего в мире не придумано с того времени, как человек вылез из шкуры. То, что сейчас ругают как социализм, никакого отношения к социалистической идее не имеет Но люди к ней не готовы, они еще не совершенны. А мы были идеалистами. Моя бессонница… Заснул под утро… Сон… Ребенок уже большой, тяжелый… Я несу его на руках… И мне хорошо… Смотрю ему в лицо близко-близко, как богоматери смотрят на иконах в глаза своим младенцам: я дядьку Семена несу… Кажется, закричал… Во сне всегда кричишь без звука, как в бою… Перед боем… Сам себя не слышишь… Я еще шашкой воевал, у казака мертвого забрал. А сегодня — космический век, о „звездных войнах“ пишут. И вы хотите меня понять? Когда-то Лев Николаевич Толстой задумал написать роман об эпохе Петра I. Но бросил. И объяснил это тем, что души людей того времени ему не понятны.
Может быть, моя жизнь получит смысл после смерти? Когда портрет будет завершен?!
Вы думаете, что я так сразу — ремень на шею… В петлю… Нет, я пробовал жить. Я уходил в „Дом ветеранов партии“, как говорится, бежал в свое время. Там и вправду время остановилось, там все живут прошлым, другого ничего ни у кого нет. У меня выросли внуки, а у многих там их нет. Особенно там много женщин. Меня женить хотели… (Смеется.) Если бы в доме снова запахло пирогами, кто-то сидел бы у телевизора и вязал, я мог бы жениться. Но там (это грустно) нет ни одной женщины, которая любила бы печь пироги. Они служили революции, стране, им некогда было рожать детей, варить борщ, печь пироги. Почему мне смешно? Я и сам такой. Мне трудно в старости, я ничего не люблю, ничем не увлекаюсь. Сходил пару раз на рыбалку — бросил. Шахматы с юности любил, потому что Ленин любил играть в шахматы. Мне не с кем играть в шахматы. Может, надо было остаться там, там все играли в шахматы. Я бежал… Хотел умереть дома… Могу я себе позволить за всю жизнь одну-единственную роскошь — умереть дома?!
Сначала я был ленинец, потом сталинец. До тридцать седьмого я был сталинец. Я Сталину верил, верил всему, что говорил и делал Сталин. Да, величайший, гениальный… Вождь всех времен и народов… Сейчас и сам не понимаю — почему я в это верил? Сталин — необъяснимая вещь, еще никто его не понял. Ни вы, ни мы. Сталин приказал бы: иди, стреляй! И я пошел бы. Сказал: иди, арестовывай! И я пошел бы. Тогда, в то время, я сделал бы все, что бы он ни сказал. Пытал, убивал, доносил… Это необъяснимая вещь — Сталин. Шаман! Колдун! Я и сам сейчас в недоумении: неужели бы арестовывал, доносил?! Выходит, что палачи и жертвы получались из одних и тех же людей. Кто-то нас выбирал, тасовал… Где-то там, наверху…
Я перестал верить Сталину, когда врагами народа объявили Тухачевского и Бухарина. Я видел этих людей. Я запомнил их лица. У врагов такие лица не могли быть. Так я тогда думал. Это были лица людей, которых не требовалось сортировать, улучшать, от которых не надо было освобождаться, чтобы остался чистый человеческий материал, как отборное зерно для невероятно прекрасного будущего. Ночью, когда мы оставались одни, моя жена, она была инженер, говорила:
— Что-то непонятное творится. У нас на заводе не осталось никого из старых спецов. Всех посадили. Это какая-то измена.
— Вот мы с тобой не виноваты, и нас не берут, — отвечал я.
Потом арестовали мою жену. Ушла в театр и домой не вернулась. Прихожу: сын вместе с котом спит на коврике в прихожей. Ждал-ждал маму и уснул…
Через несколько дней арестовали меня. Три месяца просидел в одиночке, такой каменный мешок — два шага в длину и полтора в ширину. Ворона к своему окошку приучил, перловкой из похлебки кормил. С тех пор ворон — моя любимая птица. На войне, помню, бой окончен… Другой птицы нет, а ворон летает… Не верьте, если вам говорят, что можно было выдержать пытки. Ножку венского стула в задний проход?! Любую бумажку принесут, и вы ее подпишете. Ножку венского стула в задний проход или шилом в мошонку… Никого не судите… Николай Верховцев, я его встретил там, мой друг с гражданской, член партии с тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Умница! Образованнейший человек, до революции в университете учился. И вот — все знакомые. В близком кругу… Кто-то читал вслух газету, и там сообщение, что на Бюро ЦК решался вопрос об оплодотворении кобылиц. Он возьми и пошути: мол, у ЦК дел других нет, как оплодотворением кобылиц заниматься… Днем он это сказал, а вечером его уже взяли. Он возвращался с допросов с искалеченными руками. Пальцы загоняли в проем между дверей и двери закрывали. Все пальцы ему, как карандаши, сломали. Меня били головой о стенку…
Через полгода — новый следователь. Мое дело отдали на пересмотр. И меня отпускают. Как в лотерее: сто проиграл, один выиграл, и все дальше играют. Но я тогда думал иначе: вот я же невиновен, и меня освободили…
— А я отсюда не выйду, — прощался со мной Николай Верховцев, — даже если меня оправдают. Кто меня выпустит такого? Без пальцев… Как я свои руки спрячу?
Его оправдали и расстреляли. Будто по ошибке.
Сына я нашел у чужих людей, он заикался, боялся темноты. Мы стали жить вдвоем. Я пытался узнать что-нибудь о жене и добивался восстановления в партии. То, что со мной случилось, я считал ошибкой. И то, что с Верховцевым случилось, я считал ошибкой, и с моей женой. Партия в этом не виновата. Это же наша вера, это же наша библия! Бог не может быть виноват. Бог мудр. Я искал смысл в происходящем, в этом море крови. У верующего умирает ребенок… Он ищет смысл своего страдания… И находит… Он уже не клянет Бога?..
Началась война… В действующую армию меня поначалу не брали, потому что жена враг народа, где-то в лагере. Я не имел права защищать Родину, мне не доверяли. Это унижение тоже надо было пережить. Но я добился — уехал на фронт. Честь мне вернули в сорок пятом, когда я вернулся с войны, дойдя до Берлина. С орденами, раненый. Меня вызвали в райком партии и вручили мой партбилет со словами:
— К сожалению, жену мы вам вернуть не можем. Жена погибла. Но честь мы вам возвращаем…
И представьте: я был счастлив! Наверное, сегодня нельзя в этом признаваться, но это были самые счастливые минуты в моей жизни. Партия для нас была выше всего — выше нашей любви, наших жизней. Считалось счастьем принести себя в жертву, каждый был к ней готов. Будущее, которое должно стать прекрасным, всегда жило под знаком смерти, жертвы, которая от любого из нас могла потребовать в любую минуту. Вокруг все время погибали люди, много людей. Мы к этому привыкли. Погибла моя жена. Я мог погибнуть…
Да, моя жена… Она тоже была членом партии… Мог бы я жениться не на большевичке? Догадываюсь, почему вы об этом спрашиваете. Должен вас разочаровать: я любил свою жену, моя первая жена была красивая. Но если бы она верила в Бога, не вступила в комсомол? Конечно, я не мог бы ее полюбить. Как я мог быть счастлив, когда она погибла? Не надо извиняться, меня не обижают ваши вопросы. Они лишь еще одно доказательство тому, что я из другой жизни, с другой планеты, если хотите, ее уже нет. Там правили свои законы. То, что вы считаете ненормальным, там было нормальным. А то, что для вас нормально, тогда мог сказать и даже подумать только сумасшедший.
Когда я недавно уходил… Нет, я не трус, я просто устал… Я рвал старые фотографии… Только фотографии своей первой жены порвать не смог… Мы там вдвоем — молодые, смеемся… Я вспомнил солнце… Какая-то лесная поляна, моя голова лежит на коленях у жены… у нее на руках… Я вспомнил солнце.
Партию предали, идею предали. Исчезло все, чему я отдал себя, свою жизнь. На площади правит новая религия — рынок: „Деньги! Деньги! Деньги!“. Ну, станете богато, сыто жить, но как бы не позабыли — для чего? Неужели человеку жизнь дана ради самой жизни, как дереву, как рыбе? Нет, она дается для чего-то большего, чем просто жизнь. Сосиски и „мерседес“ никогда не станут высшей целью, сияющей с неба мечтой. Наверное, поэтому мы любили смерть. Да, мы ее любили! Я это недавно понял. В одну из бессонных ночей…
Что же вы молчите? Примите мой вызов… (Молчим долго вдвоем.)
…Где моя жизнь? Неужели она осталась лишь в моей слабеющей голове? Какой ужас! Моя голова — единственный склад моих воспоминаний… Музей! Но я никогда не жил один… Я всю жизнь вместе со всеми строил, воевал. Сидел в тюрьме. У меня не было никакой специальности, кроме веры. Моя специальность — верить самому и учить вере других. Мне не хватало времени учиться — три класса приходской школы и партшкола… И я руководил большими заводами… У меня всегда — одна-две рубашки, пара носков, брюки, а остальное — зачем? Я жил от плана к плану, от пятилетки к пятилетке. Вот первый корпус завода возведем… Второй… Первую линию пустим… Вторую… Это десятки лет… Они летели, сгорали… Лето, зима, очень… Как сады цветут… Я это только в старости увидел… Мне кажется, что я больше полувека не уходил со строительной площадки… Помните, у Маяковского: „Мне наплевать на бронзы многопудье. Мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм…“? Это же наша вера, это же наша библия!
У меня остались только эти ценности, ценности пережитого. Их отняли…
Когда-то у меня был сын. Он давно умер, мой сын Октябрь. У нас с ним был любимый фильм „Чапаев“. „Эх, Петька, — вздыхал Чапаев, — счастливый ты человек. Вот я скоро умру, а вы с Анкой при коммунизме жить будете. Умирать не надо“. Сына нет. Внуки, правнуки… Другие люди… Родные, но незнакомые… Они меня не замечают, как старую вещь, совсем старую, непригодную к употреблению. Мне некуда уйти. Я стар. Мне нечем защититься. Мое время кончилось. Время — судьба, как говорили древние греки…
…Дома из стекла и металла, великолепнее дворцов. Лимонные и апельсиновые сады посреди городов. Стариков почти нет, люди очень поздно стареют, потому что жизнь прекрасна. Все делают машины, люди только ездят и управляют машинами. Нивы густые и изобильные. Цветы как деревья. Все счастливые. Радостные. Ходят в красивых одеждах — мужчины и женщины. Ведут вольную жизнь труда и наслаждения. Неужели это мы? Неужели это наша земля? И все так будут жить?..
Четвертый сон Веры Павловны из „Что делать?“ Николая Чернышевского. Учебник революции… Мы наизусть учили в кружках политграмоты. Как стихи. Нашей религией было будущее, которое никогда не наступит. Я остался его заложником…
Десятки лет не видел. Не помнил. Как их гонят прикладами, палками. Гонят в холодные эшелоны. Зима. Мороз. Открываю на станции вагон: в углу висит на ремне мужчина. Мать качает на руках маленького. Тот, что побольше, сидит и ест свое дерьмо… Как кашу…
— Закрывай! — кричит командир. — Кулаков на Колыму везут. Место очищают. Они для будущего не годятся. Закрывай!
Будто сон… Будто знакомая станция… Помнил! Помнил, как называется… Забыл…
Под утро стало совсем невмоготу… Эти ужасные боли в суставах… Не мог вспомнить, как все-таки называлась та станция… Это продолжалось бы бесконечно. Как же все-таки она называлась? Я не мог перестать об этом думать. Мне надо было освободиться… Представляю, как это выглядело: дедушка болтается на ремне в одежном шкафу… Это уже обо мне… Нехорошо, что ребенок это видел… Он спас меня… Закричал… Но он это видел… Теперь я приготовлю пачку снотворного, чтобы умереть во сне. Очень похоже на инфаркт. Правда, преследует мысль о грехе самоубийства, но я пусть теперь и сомневающийся, но все-таки атеист. Я мечтал о рае — о небе на земле, забыв, что есть ад. Но если Бог существует, он меня простит. Я был искренен… Я мучился…
Не надо моего имени… Я не могу вынести, что он меня там видел… В шкафу… На ремне… Новый маленький мальчик из моего рода… Из моего семени… Но я хочу умереть… Он меня любит, пока маленький. Когда вырастет, будет ненавидеть. Когда я висел в шкафу, я был страшный, а так буду смешной. Я не хочу болтаться смешным и нелепым в этой жизни. Пусть останется то, что обо мне в энциклопедии написано. Моя душа никому здесь уже не понятна…»
От автора.
Из записки, оставленной перед второй попыткой самоубийства, которая закончилась, как он того хотел, небытием:
«…Я был солдатом, я не раз убивал. Я убивал, как я верил, ради будущего. Никогда не думал, что мне придется защищать прошлое. Я закрываю его своим старым сердцем…»
История с мальчиком, который писал стихи через сто лет после четвертого сна Веры Павловны
Игорь Поглазов — ученик восьмого класса, 14 лет
Из рассказа мамы Веры Борисовны Поглазовой
«Меня не покидает страх, что я хочу об этом рассказать, буду пытаться передать словами — неназываемое. Слышу слова, выбираю их, а то, что силюсь произнести, — дальше слов, в другом измерении. Нужны какие-то неведомые звуки. Какие? Я их не знаю. Помню: на рынке стояла женщина, не старая, покупала яблоки и рассказывала, как она сына похоронила… Тогда я себе поклялась: „Со мной этого никогда не случится…“
Я расскажу вам о своей первой жизни — о нашей жизни с Игорем. Потому что у меня было их две — с Игорем и после него. В той жизни… С Игорем… Я была счастливая, я была любимая… За неделю до того воскресенья я стояла перед зеркалом, расчесывала волосы. Он подошел ко мне, обнял за плечи: мы стояли вдвоем, смотрели в зеркало и улыбались.
— Игорек, — прижалась я к нему, — какой ты у меня красивый. А красивый ты потому, что я любимая. Когда-нибудь я расскажу тебе о себе, но рассказывать буду так, чтобы ты думал, что все, о чем я говорю, было не со мной, а с другой женщиной.
Он еще сильнее обнял меня:
— Мама, ты, как всегда, неподражаема.
Как радостно мы смеялись.
А через неделю моей этой жизни уже не было…
Как током, бьет догадка: когда мы стояли у зеркала, он уже носил в себе эту мысль о смерти! До сих пор беспокойство, внутренний озноб, что можно побежать за ним, остановить…
…Мы с мужем познакомились в десятом классе. Мальчики из соседней школы пришли к нам на танцы. Наш первый вечер я не помню, потому что Валика, так зовут моего мужа, я не видела, а он меня заметил, но не подошел. Он даже моего лица не увидел, только силуэт… И что-то ему подсказало, голос откуда-то: „Это твоя будущая жена“. Так он мне потом признавался. Вот это чудо, оно всегда было с нами, оно носило меня по земле. Я была веселая, по-сумасшедшему веселая, неудержимая. Я любила своего мужа, и мне нравилось кокетничать с другими мужчинами, это как игра: ты идешь, а на тебя смотрят, и тебе нравится, что смотрят, и пусть чуть-чуть влюбленно. „И зачем так много мне одной?“ — часто напевала я вслед за своей любимой Майей Кристалинской.
Я мчалась по жизни и не все запомнила, теперь выкапываю из памяти, собираю осколки…
…Игорьку три-четыре года. Я его выкупала, он лег, пижамка на нем:
— Мама, я люблю тебя, как царевну прекрасную.
Работы было много. Сначала преподавала литературу в школе, затем — в институте. Обычная домашняя картина: я — за книгами, он — в кухонном шкафчике… Пока выгребает из него кастрюли, сковородки, ложки, вилки, я и подготовлюсь к завтрашним занятиям.
Тут я должна остановиться на одном моменте… На моем отношении к литературе, к поэзии. Что бы кто ни сказал, из меня тут же выскакивала готовая строка, строфа или целое стихотворение. Как у актрисы, которая и дома разговаривает чужими репликами, готовым текстом сыгранных пьес. Я хотела, чтобы он рос мужественным, сильным, и подбирала ему стихи о героях, о войне, о Родине. И однажды мне моя мама говорит:
— Вера, прекрати ему читать военные стихи. Он играет только „в войну“.
— Все мальчики любят играть „в войну“.
— Да, но Игорь любит, чтобы в него стреляли, а он падал. Умирал! Он с таким желанием, упоением падает, что мне бывает страшно. Всегда кричит другим мальчикам: „Вы стреляете, а я падаю“. Никогда — наоборот.
Послушала ли я маму?
И снова, как током… Этот немой вопрос… Как же он переступил через нашу любовь к нему? Через свою любовь к нам? Куда ушел? К кому?
…После работы с двумя сумками еле добираюсь домой. Вхожу. Оба на диване: один — с газетой, другой — с книжкой. В квартире кавардак, черт те что! Гора немытой посуды! Меня встречают с восторгом! Я — за веник. Баррикадируются стульями.
— Выходите!
— Никогда!
— Бросьте на пальцах — кто. Мне все равно кому всыпать!
— Мамочка-девочка, не сердись, — вылезает первым Игорек, он уже ростом с отца.
„Мамочка-девочка“ — мое второе домашнее имя. „Мамочка-девочка“ кажется, слышу его голос… То ласково, то сердито меня зовет…
Летом мы обычно ездили на юг, „к пальмам, которые живут ближе всех к солнцу“. Наши слова ко мне возвращаются, а я думала, что забыла… Грели его гайморитный нос. До марта потом не вылезали из долгов, экономили: на первое — пельмени, на второе — пельмени и к чаю — пельмени.
Вспоминается какая-то яркая афиша… Раскаленный Гурзуф…
Один раз поехали без него. Вернулись с полдороги.
— Игорек! — врываемся в дом. — Ты едешь с нами. Мы без тебя не можем!
С криком „Ур-ра!!!“ он повисает у меня на шее.
Кто его позвал? Кто мог дать ему большую любовь, чем я!
Его уже не было… Я долго находилась в состоянии столбняка. Сердце замерло, душа замерла.
— Вера, — зовет муж. Я не слышу. — Вера, — подходит он ближе.
А звук ко мне не пробивается… И вдруг истерика! Я как заорала, как затопала ногами — на свою маму, мою любимую маму:
— Ты уродина, уродина-толстовка! Таких же уродов, себе подобных, ты и народила! Твои дети всю жизнь были уродами и выродками, потому что ты не учила нас жить для себя, для своей жизни. И Игорька я воспитала таким же. Чему ты нас учила? Отдай! Всю, всю себя Родине, великой идее! Уроды! Ты же видишь, то делается вокруг! Ты же не слепая. Это ты виновата во всем! Ты!..
Мама съежилась и стала вдруг — маленькая-премаленькая. У меня закололо сердце. Впервые за много дней я почувствовала боль. До этого в троллейбусе поставили на ноги тяжелый чемодан, а я ничего не слышала. Ночью распухли все пальцы, и только тогда я вспомнила о чемодане.
Тут надо еще раз остановиться и рассказать о моей маме.
Моя мама из того поколения наших людей, у которых блестели слезы на глазах, когда играли „Интернационал“. Они пережили войну и всегда помнили, что они победили. Если речь заходила о каких-то трудностях, мама всех убеждала: „Мы такую войну пережили!“ Стоило на что-то пожаловаться, мы опять слышали: „Наша страна такую войну выиграла!“ Через десять — двадцать лет она продолжала жить с теми же мерками и понятиями, какими жила тогда: локоть к локтю, как в одном окопе, в одной землянке. Льва Толстого она любила за „Войну и мир“, а еще за то, что граф хотел все раздать бедным, чтобы спасти душу. Такой была не только моя мама, но и ее друзья, послереволюционные интеллигенты, выросшие на Чернышевском, Добролюбове, Некрасове…
А вдруг?.. Вдруг у него не было уверенности, что смерть — это конец? Прекращение? Я, еще работая в школе, заметила, что в юности очень тревожит, возбуждает мысль о смерти. Девочки не любят разговоров о ней, но у мальчиков смерть вызывает любопытство, притягивает. Это я все потом анализировала, когда пришла в себя…
В центре города у нас — старое „военное“ кладбище. Туда ходят, как в сквер, чаще всего молодые, смеются, целуются.
Играют на гитарах, магнитофон включат.
Возвращается он как-то поздно:
— Где был?
— Гулял… Зашел на кладбище…
— С чего это ты забрел на кладбище?
— Там красиво…
В другой раз, открываю дверь в его комнату — и как только не закричала от ужаса — тихо-тихо закрываю ее. Во весь рост он стоял на карнизе окна, карниз у нас непрочный, неровный. Шестой этаж! Замерла. Невозможно крикнуть, как в детстве, когда он залезал на самую тонкую верхушку дерева или на высокую старую стену разрушенной церкви: „Если почувствуешь, что не удержишься, рассчитывай свое падение на меня“. Заталкиваю в себя крик, чтобы не испугался. Через несколько минут открываю дверь — он уже в комнате. Тут я набросилась: и целовала, и колотила, и трясла:
— Зачем? Скажи мне, зачем?
— Не знаю… Так…
Ничего не боялся. Его тянул край, чтобы пройти у самой кромки… Над обрывом…
Мне нравится вспоминать его детство. Словно я ему рассказываю, он же любил. Уткнется в колени:
— Мама, верни мне мое детство…
И я начинаю… Как, когда он был маленький, перепутывал жизнь и сказку: ждал деда Мороза, спрашивал, на каком автобусе можно поехать в тридевятое царство, в тридесятое государство, увидел в деревне русскую печь, всю ночь ждал, когда она пойдет-поедет…
Первый класс… Иду за ним, чтобы забрать после школы. Слышу крик:
— Обезьяна, шимпанзе! Настоящая обезьяна!
Сердце упало: Игорь. Да, это он, прыгнул со школьного крыльца и с разбега вскарабкался на дерево. Я молчала, слушала, как учительница отчитывала нас обоих, а про себя думала: „не обезьяна, а белочка“.
Пятый класс… Начало зимы. Уже вечер на дворе. Прибегает:
— Мама! Я сегодня целовался!
— Целовался?!
— Да. У меня сегодня было свидание. Девочка мне прислала записку, пригласила на свидание.
— И ты мне ничего не сказал?
— Не успел. Сказал Димке и Андрею, и мы отправились втроем.
— Разве на свидание ходят втроем?
— Ай, я один как-то не решился.
— Ну, и как вы втроем были на свидании?
— Очень хорошо. Мы с ней ходили вокруг горки под ручку и целовались. А Димка и Андрей стояли на страже.
О Боже! Еще недавно он у меня выпытывал:
— Мама, а может второклассник жениться на девятикласснице? Когда вырастет, конечно.
…Любимый наш месяц — август. Едем в лес: я бегу между деревьев и ныряю в паутину, она закутывает мою голову невесомой чалмой. Потом я найду себя в его стихах… Как девочка летит, качается на паутине… Мамочкадевочка…
Как он мог полюбить смерть? За что он ее полюбил? Бегу по нашим следам…
Лишь на веточке обшарпанной Капли звездные накапаны…Жарю-парю на кухне. Окно открыто, слышу, как они с отцом разговаривают.
Игорь:
— Папа, ты только послушай… Жили были дед и баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Дед бил, бил — не разбил. Баба била, била — не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба…
Отец:
— С точки зрения логики — абсолютный абсурд. Били, били — не разбили, а потом вдруг — в плач! Но сколько лет, да что там лет, столетий сказку эту дети слушают, как стихи.
Игорь:
— Я сначала думал, что это можно решить, как задачу. А тут чудо тайное…
На столе, в его карманах, под диваном я находила листочки со стихами. Он их терял, бросал, забывал. Я даже не всегда верила, что они его:
— Неужели это ты написал?
— А что там?
Ходят в гости друг к другу люди, Ходят в гости друг к другу звери…— Ну, это старое. Я уже забыл.
— А эти строки?
— Какие?
Кто-то умер. Мне музыка слышится. Под окном не меня ли несут? Не моя ль голова колышется По дороге на Страшный суд?Молчит.
— Сынок, ты такой радостный, такой красивый. Почему ты о смерти пишешь?
Пожимает плечами. Он сам не мог объяснить, откуда у него эти слова. Эта тоска.
Потом нашла у Пастернака… Как он предостерегал молодого поэта, что надо избегать писать о своей смерти. Каждая написанная строка впоследствии реализуется…
Я не ваш, облака серебристые, Я не ваш, голубые снега…Но я ничего не подозревала, я, которая всю жизнь преподавала литературу, не слышала никакой опасности. Стихи в нашем доме звучали постоянно, как речь: Есенин, Пастернак, Лорка, Мандельштам… Вы никогда не замечали, что искусство любит смерть? Я тоже этот раньше не обнаруживала… Искусство любит смерть, но существует французская комедия. Верно? Почему же у нас почти нет комедий? Потому что нам не интересно, скучно просто жить, радоваться жизни. Мы любим боль, любим зрить смерть. Со сладострастием, с какой-то генетической готовностью мы идем на жертвы, на лишения. Смерть героя, мученика — вот наш идеал. Христианский, русский, советский… Нам внушали, что гитара с бантом на стене — мещанство, если огонь, то не у камина, а у костра — пионерского или в чистом поле, где „я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть“. Смерть в бою, в полете… Смерть, которая всегда выше жизни…
И вот однажды… Начинается мистика, но все было так. Поздний вечер, я уже в постели, перечитываю роман „Мастер и Маргарита“ Михаила Булгакова (моя любимая книга). Дохожу до последних страниц… Помните, Маргарита просит отпустить Мастера, а Воланд, дух Сатаны, говорит: „Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже просил тот, с кем он так стремился разговаривать…“.
Какая-то непонятная сила бросила меня к дивану, где спал сын. Я стала на колени и шептала, как молитву:
— Игорек, не надо. Миленький мой, не надо. — Начала делать то, что мне уже было запрещено, как только он вырос: целовать его руки, ноги. Он открыл глаза:
— Мама, ты чего?
Совершенно спокойным голосом я ему ответила:
— С тебя сползло одеяло. Я поправила.
Он тут же заснул. Я ушла в другую комнату и тоже заснула, рано утром надо было бежать в институт. Что произошло со мной, я просто не поняла. Веселый, он дразнил меня „огневушка-поскакушка“. Как легко я бежала по жизни… С каким легким сердцем…
Мы с тобой повенчаны Голубой водою…Откуда он это знал? В четырнадцать лет… Приближался его день рождения и Новый год. Я пообещала купить бутылку шампанского…
Нет, я не хочу кончать свой рассказ так быстро. У нас было целых четырнадцать лет счастья… Четырнадцать лет без десяти дней…
А вот еще. Тоже оттуда, из той первой моей жизни. Когда я была с ним. Как-то чистила антресоли и нашла там папку с письмами. Когда я лежала в роддоме, ждала Игорька (ну, тогда мы еще не знали — мальчик или девочка родится), мы с мужем каждый день писали друг другу письма, записочки, а то и несколько раз на день. Читала, смеялась, а Игорь слушал и был невпопад серьезен. Как это его не было, а мы с отцом были? То есть он как бы был, мы в письмах говорили о нем: вот он повернулся, вот он меня толкнул, вот он шевелится… И он и не он… Раз он только улыбнулся, когда я в сценах показывала, как мы „ссорились“ — я настаивала на имени „Глеб“, а имя „Игорь“ — это фантазия отца.
— Конечно, Глеб — лучше, — сказал он сердито.
— Но ты у меня не женишься ни на первой любви, ни на продавщице! — грозила я.
У меня два страшных сна… Один, как мы с ним тонем… Он ведь хорошо плавал, однажды я рискнула поплыть вместе с ним далеко в море. Повернула обратно, чувствую, сил не хватает — ухватилась за него, да мертвой хваткой. Он кричит: „Отпусти!“ Я кричу: „Не могу!“ Вцепилась, на дно его тяну. Он все-таки оторвался и стал меня подталкивать к берегу… Поддерживает и подталкивает… Так мы с ним выплыли.
А во сне я его не отпускаю… Мы и не тонем, и не выплываем… Идет такая схватка в воде…
Второй сон… Начинает идти дождь, но я чувствую, что это не дождь, а земля сыплется. Песок. Начинает идти снег, но я уже по шороху слышу, что это не снег, а земля… Песок. Лопата стучит, как сердце шох-шох, шох-шох…
Опять меня к концу тянет… К краю. Не хочу! Не хочу!
О, мне со дна дано увидеть больше, Чем с высоты. Я вижу звезды днем. И запах трав слышней на дне колодца, И звуки все куда нежнее в нем.Я много думаю о смерти, но я не хочу себя убить. А как он там? Что там?
Он любил море, речку, колодцы. Он любил все, где жила вода, она его завораживала: „Смотришь в воду, а там темнота“. Или: „Только тихая звезда побелела, как вода. Темнота“. Еще: „И вода течет одна… Тишина“.
И здесь я подхожу к самому страшному месту… Как только я на него наталкиваюсь — быстро отхожу, отбегаю в сторону или иду-иду, а перед этим моментом останавливаюсь как вкопанная. Нет, я не права, а может быть, и права. Нет, конечно, я не права. Это самая страшная мысль, которая у меня была. Все-таки осмелюсь… Произнесу… Впервые произношу ее вслух, вдруг я от нее таким образом освобожусь. У меня нет другого способа выкинуть ее из души, кроме как решиться вымолвить… Вытащить из себя…
Каждый год я писала новый реферат, который потом должна была защищать на кафедре в институте. Как всегда, дома обсуждали его вместе. Я читала за ужином свои выписки, стихи, полюбившиеся цитаты. „Поэты, жизнь отдавшие народу, в народе остаются навсегда“, — так обозначалась моя тема. Кто есть поэт? Какая у него неизбежная судьба в России! Судьба умереть… В связи с этим мы много дома говорили о смерти, о Родине. Из меня, как из рождественского мешка, сыпалось, сыпалось… Цитаты о нищей дорогой Родине, о том, что мать-нищенка дороже всего… Мой любимый эпиграф ко всему в нашей истории: „Люблю Отчизну я, но странною любовью…“ Повторяла, как Блок в письме матери после приезда из-за границы писал, что родина сразу показала ему и свиное, и божественное лицо. Упор, конечно, делался на божественное.
Что еще происходило в этот последний год? Игорь ездил в Москву на могилу Высоцкого. Влюбился в девочку Наташу, после что-то у них разломилось, он перестал говорить о ней стихами. Взял и постригся наголо, стал очень похож на Маяковского.
Последнее лето… Загорелый. Большой, сильный. Ему давали на вид восемнадцать лет. Поехали на каникулах с ним в Таллин. Он был там второй раз, водил меня всюду, по разным закоулкам. За три дня мы жахнули кучу денег. Ночевали в каком-то общежитии. Возвращаемся с ночного похода по городу — он обнял меня за плечи, смеемся, открываем дверь. Подошли к вахтерше, она не пускает:
— Женщина, после одиннадцати входить с мужчиной нельзя.
И тут я Игорю на ухо:
— Поднимайся, я — сейчас.
Он пошел, а я шепотом:
— Как вы можете! Как вам не стыдно! Это же мой сын!
…И не дано вам видеть… Как я скрываюсь в белой пелене, И одеваюсь в сумерки скупые, И исчезаю в темно-синем сне.Я хотела, чтобы он стал врачом… Еще ничего не случилось, никакого намека, а на меня внезапно накатывали приступы немого отчаяния: „Не хочу, чтобы он был поэтом! Не хочу!“. А он писал и писал стихи…
И ночь зеленая таинственно отходит, И место сада занимает день.Последний месяц… У меня умер брат. Если бы можно было повернуть время назад, я не брала бы в эти дни с собой сына. Но у нас в роду мало мужчин, и он мне помогал, поневоле выходило, что общался со смертью. Смотрел на нее, привыкал. В поэзии, в кино — смерть красивая: на ходу, на лету… Трупа нет, труп мы не видим… Как его моют, одевают… Как на второй день уже появляется запах… Ничего этого в искусстве нет. После того, как уже было поздно бояться, у меня возник страх, что он подглядывал за смертью, слишком долго возле нее находился: „Игорь, переставь цветы… Принеси стулья… Сходи за хлебом…“. Вот эта обыкновенность происходящих рядом со смертью вещей могла подействовать на него неожиданным образом. Тут все могло сомкнуться — и желание пережить то, о чем хотел написать, и непосильно безумные для его лет вопросы — зачем, куда?
Приехал автобус. Все родственники сели, моего сына нет.
— Игорь, где ты? Иди сюда.
Он входит, все места заняты.
То ли от толчка, то ли… Автобус тронулся, и брат на мгновение открыл глаза. Плохая примета — в семье будет еще одна смерть. Я думала: моя мама, боялась за ее сердце… Стали опускать гроб в яму, что-то упало туда, я прыгаю в глину, достаю. Никто в яму не прыгает… Плохая примета… На поминках все сели, всем стульев хватило, и снова за этим столом Игорю места нет…
Если бы можно было повернуть назад… Я не дала бы ему смотреть на смерть… Вглядываться…
…А теперь по часам… Четырнадцатого декабря… Утром… Я умываюсь, чувствую: стоит в проеме дверей, держась обеими руками за дверной косяк, и пристальным взглядом обводит ванную, потом мои руки, лицо…
— Что с тобой? Садись за уроки. Я скоро вернусь.
Молча повернулся и ушел в свою комнату.
Я встретилась с подругой. Она связала для него модный пуловер. Мне хотелось сделать ему красивый подарок на день рождения. Принесла домой, муж поругал:
— Неужели ты не понимаешь, что пока нельзя, чтобы он носил такие дорогие вещи.
На обед подала его любимые пельмени. Обычно тарелку с добавкой просит, а тут поклевал и оставил.
— Что-нибудь в школе случилось?
Молчит. Здесь я заплакала, у меня что-то градом покатились слезы. Сама испугалась, я плакала так громко впервые за много лет. На похоронах брата со мной такого не было. И он испугался насколько, что я даже начала его утешать.
— Померяй пуловер.
Надел.
— Нравится?
— Очень.
Заглянула через некоторое время к нему в комнату: он читал Пушкина. В другой комнате отец печатал на машинке. У меня болела голова, и я уснула. Когда пожар, люди спят крепче обычного… Когда беда… Я оставила его за столом… Тимка, наша собачка, лежала в прихожей. Не залаяла, не заскулила…
Не помню, сколько времени прошло, открываю глаза: возле меня сидит муж.
— А Игорь где?
— В туалете заперся. Наверное, стихи, бормочет, уже около часа.
Дикий, немой страх подбросил меня вверх. Подбегаю, стучу, колочу дверь. Бью руками, ногами. Тишина. Зову, кричу, умоляю. Тишина. Муж ищет молоток, топор. Взламывает дверь… В стареньких брюках, свитере, домашних тапочках… На каком-то ремне… Схватила, понесла… Мягкий, теплый… Стали делать искусственное дыхание… Вызвали „скорую помощь“…
Как же я спала? Почему Тимка не почувствовал? Собаки такие чуткие… Я сидела и смотрела в одну точку… Как сумасшедшая… Мне дали укол, и я куда-то провалилась… Утром разбудили:
— Вера, вставай. Потом себе не простишь.
„Ну, сейчас я тебе всыплю, ты у меня получишь“, — подумала я, и тут до меня доходит, что всыпать некому.
Он лежал… На нем тот пуловер, который я ему ко дню рождения приготовила… Все знакомое, родное — лицо, губы, руки… Я дотрагиваюсь до него… И он касается меня… Еще один день мы были вместе…
Я прощаю тебя, поле, Я прощаю тебя, озеро, Я прощаю тебя, Родина…Не удержать… Не остановить… Не подтолкнуть к берегу… Может, я его слишком сильно любила? Как нельзя любить?..
Я не знала, куда мне бежать. В церкви молилась, но боялась признаться, что он покончил самоубийством. Ходишь и на небо смотришь… На небо… На небо… На небо… Кричать начала не сразу, через несколько месяцев. Но слез не было. Кричать кричала, а не плакала. И только когда один раз выпила стакан водки — заплакала. Стала пить, чтобы плакать… Стала цепляться за людей. У одних наших друзей мы просидели, не выходя из квартиры, два дня. Теперь понимаю, как им было тяжело, как мы их мучили. Мы убегали из своего дома… Когда оставались, я открывала дверь в туалет, стояла и смотрела: на ту трубу от вытяжки, на те стены… Пока муж не оттащит… Два раза хотели поменять квартиру, уже документы подготовим, людей обнадежим, упакуем вещи… И не могу из квартиры выйти, что-нибудь вынести… Не для меня этот выход — начать новую жизнь… Я бродила по магазинам, подбирала ему вещи: вот этот свитер — его цвет, и эта рубашка…
Какая-то по счету весна… Какая — не помню. Прихожу домой, говорю мужу:
— Знаешь, сегодня я понравилась одному мужчине. Он хотел назначить мне свидание.
И мой муж отвечает:
— Как я рад за тебя, Верочка. Ты возвращаешься…
Безмерно я была ему благодарна за эти слова.
Тут я хочу рассказать о своем муже. Он — физик, сошлись вода и пламень. (Помолчав.) Нет, о любви, как и о смерти, невозможно рассказать. Я любила… Почему любила, а не люблю? Потому что той меня нет… А себя новую, выжившую, я не знаю… Не понимаю…
Ночью лежу с открытыми глазами. Звонок. Ясно слышу звонок в дверь.
Утром рассказываю мужу. Он:
— А я ничего не слышал.
Последний раз — звонок. Я не сплю, поворачиваю глаза на мужа: он тоже проснулся.
— Ты слышал?
— Слышал.
И Тимка кругами возле кровати бегает, кругами, как по следу за кем-то… Я куда-то падаю, в какое-то тепло… И вижу такой сон…
Непонятно где, выходит ко мне Игорь в той одежде, в какой мы его похоронили.
— Мама, ты меня зовешь и не понимаешь, как мне тяжело к тебе прийти. Перестань плакать.
Дотрагиваюсь до него, он мягкий.
— Тебе было хорошо дома?
— Очень.
— А там?
Он не успевает ответить, исчезает.
С той ночи я прекратила плакать, стала говорить ему только ласковые слова: „Ты — самый хороший. Самый красивый. Самый добрый“.
И он стал сниться мне маленьким, только маленьким. А я жду его большого, чтобы поговорить с ним, понять его…
Это был не сон… Я только закрыла глаза… Дверь в комнату распахнулась… Взрослым, каким я его никогда не видела, он вошел на мгновенье… У него было такое лицо, что я поняла: ему уже безразлично все, что здесь происходит. Наши разговоры о нем, воспоминания. Он уже совсем далеко от нас…
Тогда я захотела родить… Сильно болела, я не должна была родить, но родила. Девочку… Мы к ней относимся, как будто она не наша девочка, в дочка Игоря… Я боюсь ее так любить, как любила его, я не могу ее так любить… Хочу уйти из института… Во мне нет света и радости… Я читаю стихи, и мне кажется, что все они о смерти…
У Беллы Ахмадулиной есть такие строки:
Как все хотела, и поила медом, Поила медом, а вспоила ядом…А может, он только хотел заглянуть за край? Не верил, что не вернется?
„Закрываю двери, которые не открыл…“ — так потом назвали книгу его стихов.
Есть у меня еще одна страшная мысль: а вдруг бы он сам рассказал совсем другую историю?..»
История о том, как невозможно разлюбить марши, Сталина и кубинскую революцию
Маргарита Пагребицкая — врач, 52 года
«Мне кажется: я знала, что вы придете. Все время кого-то ждала, кто бы меня выслушал. С чего начать? Я немного растерялась… Но это хорошо, что вы моложе меня, иначе что бы я могла вам рассказать…
…Недавно мы с мужем поехали в Москву и первый раз не пошли на Красную площадь. Такого раньше никогда не случалось. Пусть у нас был только один день и мы с ног валились от усталости, но, хотя бы ночью или на рассвете перед самым поездом, мы должны побывать на Красной площади. А сейчас не пошли. Не хотелось.
Я всегда ждала эти первые минуты, когда поезд подходил к Белорусскому вокзалу, звучал марш, и сердце прыгало от слов:
— Товарищи пассажиры, наш поезд прибыл в столицу нашей Родины город-герой — Москву!
Кипучая, могучая, никем непобедимая, Москва моя, страна моя, ты самая любимая…Где это? Куда исчезла жизнь, которой мы жили раньше? Нас встретил чужой, незнакомый город… На Арбате, моем любимом Арбате продавали разукрашенные матрешки, самовары, старые иконы и тут же — комсомольские билеты. Вы представляете? Фронтовые награды — от ордена Славы до медали „За Победу“! Красные знамена с Лениным, советскую военную форму — от прапорщика до маршала… Цены в долларах… Муж чуть в драку не полез:
— Это же бандиты!
Я позвала милиционера, и он нам, провинциалам, скороговоркой, видно не впервые, разъяснил:
— Предметы эпохи тоталитаризма… Разрешено торговать… Привлекаем к ответственности только за наркотики и порнографию…
А партбилет за пять долларов — не порнография?! Невозможно было отделаться о чувства, что это какие-то декорации, кино снимают… Жуткий фантастический фильм… Как и этот второй фильм — что я здесь, в больнице. Вот эта женщина, что сейчас мимо нас прошла в столовую (скоро обед), вешалась. Инженер. Тридцать лет жила в общежитии, потому что одиночка, и наконец получила однокомнатную квартиру. Пол вымыла. Окна отскоблила от краски. А потом на каком-то шпагате… Хорошо, что двери не закрыла на ключ по привычке, как в общежитии… Тут у каждого своя история…
Мне кажется, что я проснусь — и пойму, что меня просто разыграли. Я лягу спать, встану, и все будет, как прежде.
…Впервые я увидела Москву в семьдесят третьем году. Я уже была замужем, родила дочь. Помню, что шел дождь, холодный, осенний дождь. У меня не оказалось с собой зонтика, но я выстояла шестичасовую очередь к мавзолею. Я шла к Ленину, как идут в храм. Полумрак, цветы… Шепот:
— Проходите. Не задерживайтесь. Осторожно — ступени…
Это был бог. Я плакала, за слезами ничего не разглядела. Единственное место, куда меня тянет сейчас, — церковь. Но я хотела бы пойти в церковь без людей, и стать на колени, и говорить, не знаю с кем…
О чем? О том, как мы были потрясающе счастливы! Сейчас я в этом абсолютно убеждена. Мы росли нищие, ничего не имели и никому не завидовали. Летом наденешь парусиновые тапочки, начистишь их зубным порошком. Красиво! Зимой — в резиновых ботиках, мороз — подошвы жжет. Весело! Хорошо вспоминать! Верили, что завтра будет лучше, чем сегодня, а послезавтра лучше, чем вчера. Любили, безгранично любили Родину — самую великую, самую лучшую! Первый советский автомобиль — ура! Неграмотный рабочий изобрел секрет советской нержавеющей стали — победа! А то, что этот секрет уже давно известен всему миру, мы потом узнали. А тогда: мы первыми полетим через полюс в Америку! Научимся управлять северным сиянием, повернем вспять гигантские реки, построим в непроходимых лесах самую длинную железную дорогу… Вера! Вера! Вера!
Без конца работало на улице радио. Утром играли гимн, затем марши, песни Дунаевского, Лебедева-Кумача. Я и Родина — это было одно и то же, неразделимо. Мне пятьдесят два года, а я и сейчас могу запеть. Хотите? (Поет.)
Отцы о свободе и счастье мечтали, За это сражались не раз. В борьбе создавали и Ленин, и Сталин Отечество наше для нас.Мама рассказывала, что на следующий день, как меня приняли в пионеры, утром заиграл гимн, я вскочила и стояла на кровати, пока гимн не кончится. Дома был праздник, пахло пирогами в мою честь. Я не расставалась с красным галстуком, он у меня до сих пор хранится. Мечтала подарить его дочери… Комсомольский билет берегла… Для кого?
Раньше откроешь окно — льется музыка, и такая музыка, что встанешь и шагаешь по квартире, как в строю. Пусть это была тюрьма, как теперь считают, но нам было теплее в этой тюрьме. Мы чувствовали единение и привыкли быть в толпе, вместе. Вы посмотрите, как мы стоим в очередях, друг на друге, тесно — это все, что осталось у нас от той жизни.
Вспомнила еще:
Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет, С песнями, борясь и побеждая, Наш народ за Сталиным идет.Когда шла колонна солдат, сердце замирало. После войны солдат был необыкновенный человек, герой. В первом классе я прочла „Молодую гвардию“ Александра Фадеева, „Повесть о настоящем человеке“ Бориса Полевого. Самая большая мечта — умереть! Отдать жизнь за Родину. Моя комсомольская клятва, я ее до сих пор помню: „Готова отдать свою жизнь, если она понадобится моему народу“. И это были не слова, нас так воспитали на самом деле. Вступая в партию, я повторила, своей рукой написала: „С Программой и Уставом ознакомлена и признаю. Готова отдать все силы, а если потребуется, и жизнь своей Родине“. Сохранился мой школьный дневник, я его от всех прячу, потому что он сегодня наивный, глупый. С моей любовью к Сталину, с нестерпимым желанием умереть только за то, чтобы его увидеть. Боюсь сама его открыть… И книги любимые боюсь перечитывать… Сегодня мне страшно прикасаться к прошлому, будто к чему-то мертвому дотрагиваешься…
Вы хотите знать, как это сочеталось: наше счастье и то, что за кем-то приходили ночью, кого-то забирали? Как легкая тень пробегала… Кто-то исчезал, кто-то рыдал за дверью… Не запомнилось… Осталось в памяти другое: деревянные тротуары, пахнущие теплом, ослепительные парады физкультурников и слова, сплетенные из живых человеческих тел и цветов, „Ленин“, „Сталин“… На стадионах, на площадях… Был же Берия, подвалы Лубянки… А я помню, как цвела сирень… Массовые гуляния… И то, как хотелось всем выразить свои чувства, свою любовь… Сталин — это было что-то радостное, что-то счастливое. Потом стали говорить, что он рыжий, маленький. Развенчали. Выбросили из мавзолея. А я продолжала его любить. Я перестала любить Сталина три-четыре года назад, когда прочла документы…
— Мама, — выпытывала у меня дочь, — неужели ты и вправду верила, что Павлик Морозов, который донес на своего отца, — герой?
— Да! Тогда была другая мораль.
— Как ты можешь это произнести?! — У нее испуг в глазах.
Зачем мне врать? Клянусь, если бы я убедилась, что мой отец враг, а бы пошла в НКВД. Это правда. Я была сталинская девочка. После смерти Сталина родились совсем другие люди, у нас границы поколений сдвинуты: мы делимся на людей, которые жили при Сталине, и на тех, кто родился после его смерти. Если вы сидели, прижавшись ухом к репродуктору, и слушали, как каждый час передавали бюллетень о здоровье товарища Сталина, а в день его похорон бежали, сливаясь с безумной толпой, на площадь имени Сталина, чтобы застичь тот момент когда раздадутся траурные гудки, вы — один человек. Когда всего этого с вами не было, вы этого не знали, не чувствовали, вы — другой человек. Я очень гордилась нашим соседом, дядей Ваней, он вернулся с войны без обеих ног, ездил на деревянной самодельной коляске. Звал меня „Маргаритка“, чинил всем валенки, сапоги.
— Ну что, Маргаритка, сдох этот…
Это он о моем Сталине? Я выхватила у него потертые валенки.
— Как вы смеете! Вы — герой… У вас орден…
Два дня серьезно размышляла: пойти мне в НКВД и рассказать о дяде Ване или не пойти? На второй день возвращаюсь домой: дядя Ваня свалился со своей коляски и не может встать. Подняться. Пьяненький. Мне стало его жалко. Не случись с ним такого, может, из меня тоже получился бы Павлик Морозов…
Нет, вы меня выслушайте… Уверяю вас — это личная история, очень личная…
Моя мама — дворянка, из богатой семьи. Перед самой революцией, в семнадцатом году, она вышла замуж за офицера, впоследствии он воевал в белой гвардии. В Одессе они расстались… Он эмигрировал с остатками разбитых деникинских частей, а она не могла бросить парализованную мать. Ее взяли в ЧК как жену белогвардейца, но не расстреляли. Следователь, который ее допрашивал, заставил выйти за него замуж. Мама у меня очень красивая. Она только один раз проговорилась, что он был матрос, возвращался домой из ЧК пьяный и бил ее револьвером по голове… Потом куда-то исчез…
И вот эта моя мама, красавица, балерина, обожавшая музыку, столько пережившая, до беспамятства любила Сталина. Она грозила моему мужу, когда он высказывал недовольство чем-нибудь:
— Я пойду в райком и скажу, какие вы коммунисты.
Мой отец (мама потом вышла замуж еще раз) участвовал в революции, в тридцать седьмом был репрессирован. Через несколько лет его освободили, но в партии не восстановили. Это был удар, который он не пережил. Так вот, он работал агрономом, если видел непорядки, писал письма товарищу Сталину. А в тюрьме ему выбили все зубы, проломили голову…
Как это объяснить? Они что, все были глупы или безумны?! Мама знала несколько языков, читала Шекспира и Гете в подлиннике. Отец окончил Тимирязевскую академию. Ну, а Блок, Есенин, Маяковский? Александра Коллонтай, Инесса Арманд? Мои кумиры, мои идеалы — я росла с ними. Я им верила. Справедливость — вот был смысл нашей жизни. (Пауза.) А сейчас снова — богатые, бедные. Кто-то уже купил магазин, а кому-то на молоко и хлеб не хватает. Я никогда такого не приму, не впишусь в эту жизнь… Вы посмотрите, кто торгует в коммерческих магазинах, на биржах? Мальчишки… Какие-то новые, совершенно незнакомые мне люди. Иногда мне кажется, что я живу среди сумасшедших… Все сошли с ума…
Я — врач, я шла лечить людей, а в сумочке у меня лежали приготовленные для себя таблетки… Два месяца изо дня в день я носила свою смерть… Что меня удерживало? Неожиданно пугает мысль, что смерть безобразна. Начинаешь представлять, как будешь лежать, как изуродует твое тело, лицо судорога… Будешь разлагаться… Я видела повесившихся… В последние минуты у них наступает оргазм… Или они все в моче, в кале… Одна эта мысль для женщины ужасна. Я очень профессионально все представляла. У меня, как у врача, не могло оставаться никаких иллюзий о красивой смерти. Смерть не бывает прекрасной, труп героя и труп труса пахнут одинаково…
Вы хотели бы понять причину? Как это произошло? Никто не верит… Здесь со мной беседовал психиатр, профессор.
— Муж пьет?
— Что вы!
— Разлюбил? Бросил?
— Нет.
— Конфликт с детьми?
— У меня дочь и сын, двое внуков. Мы ладим.
— С работы увольняют?
— Нет.
— Так как же вы себя до такого довели?
Я молчала. Потому что, начни я ему рассказывать, он решил бы, что это я сошла с ума, а не все вокруг. Прошлое могло стать моим диагнозом…
Чего мне жалко в той жизни? Как вы говорите, этой бедности? Этого страха? Мне жалко своей веры и того большого, сильного государства, в котором мы больше не живем. Моя жизнь потеряла смысл… Я не умею жить только для себя… Я никогда так не жила…
Где все то, что мы любили?
…Полетел Гагарин… Люди вышли на улицы, смеялись, обнимались, плакали… Рабочие в спецовках прямо с заводов… Медики в белых шапочках… Швыряли их в небо: „Мы — первые! Наш человек в космосе!“. Это нельзя забыть!
Кубинская революция! Молодой Кастро! Как мы за них переживали. Я кричала: „Мама, папа! Они победили!“. Любимая наша песня: „Гренада“. Помню, как еще в школу приходили ветераны боев в Испании, это называлось интернациональным долгом. Мы им завидовали. Дома над своей кроватью я повесила вырезанную из журнала фотографию Долорес Ибаррури. Потом все мальчики мечтали о Кубе. Через несколько десятков лет другие мальчики точно так же бредили Афганистаном. Нас легко было обмануть…
Помню, как уходил на целину весь наш десятый класс. Они шли по улице колонной, с рюкзаками, с развевающимся знаменем… „Вот это — герои!“ — думала я. Многие из них потом вернулись больными: на целину они не попали, строили в тайге железную дорогу, таскали на себе рельсы по пояс в ледяной воде. Не хватало техники… Ели гнилую картошку, у всех цинга… Но они были, эти ребята! И была девочка, провожавшая их с восторгом. Это — я!
Эту память я никому не отдам: ни коммунистам, ни демократам, ни брокерам… Она — моя! Только моя! Я могу прожить без денег, без мяса, без печенья и конфет, и мне не так много надо. Но верните мне радость жизни, веру! Когда-то мы с мужем объездили весь Кавказ, Крым, Россию. Наши родители нам не оставили богатства — ни дачи, ни квартиры, ни денег. У меня была раскладушка и две табуретки, муж принес одеяло, — с этого мы начинали. Залезли в долги (пять лет отдавали), чтобы купить машину и путешествовать. Сегодня — везде границы… Война… А родина там, где больше платят… Как в кошмарном сне… Никак не проснуться, а проснуться надо…
И все-таки, как это случилось? Тот момент… Последний… Я знаю, что чаще это делают ночью… В одиночестве… В тишине… Вечерний человек ближе к темноте, в которую погружаешься… Сон очень похож на смерть… Мне тоже всегда казалось, что утренний человек больше любит жизнь, чем вечерний, ночной… Но я это сделала утром…
Позвонила Карина, сестра мужа, беженка из Баку (муж у меня армянин). Они недавно приехали к нам в Минск, когда там все началось… Купили дом в пригороде.
— У нас в Баку уже цветет миндаль, — и я услышала, как Карина заплакала. — А здесь еще снег в апрельских лужах. В прошлом году я ни один свой сарафан не надела. По привычке сшила три — розовый, с цветами и белый, но все лето шел дождь.
— Карина, здесь падает снег, а у вас стреляют… Теперь ты будешь жить здесь… Родишь еще одного сынишку…
— Я себе это тоже каждый день говорю. Но мне пахнет миндаль…
У Карины в Баку погиб сын Андроник. Десятилетнего мальчика на ходу выбросили из автобуса… А тете Рузане, она была на шестом месяце беременности, вспороли ножом живот… Это происходит сейчас, в наше время: в Баку убивают армян, а в Ереване азербайджанцев, когда вы радуетесь весеннему солнцу, подснежникам, покупаете торт к ужину. Одно дело — видеть это по телевизору: стреляют, жгут, хоронят… Плачут, крестятся… И совсем другое, когда это твоя кровь пролита, твоих близких. Ты с ними смеялась, писала им письма, сидела вместе за праздничным столом, пела одни песни. Задыхаешься от ужаса… Цепенеешь… Не кричишь, а воешь в душе, внутри. Заталкиваешь-заталкиваешь в себе этот крик… Но однажды не выдерживаешь… Как я в то утро… Берешь горсть таблеток… Чтобы ничего не знать, не слышать… Уснуть… И не думать о том, кого родит женщина, которая видела, как пещерным способом четвертуют людей в городе, где пахнет миндаль… Как на дверях хлебного магазина повесили старую армянку. И в ногах у нее стояла сумка с хлебом…
Я думала, что своей смертью их остановлю… Задержу, спасу… Мужа спасу… Сына… Они хотят поехать туда… Мстить… Убивать… Как мне их удержать? Чем?
Чужая страна… Чужой город… Чужие люди… Я ничего не понимаю и не узнаю… Узнаю только животных. Птиц. Может, поэтому люди стали так часто заводить щенков? На выставках собак очереди длиннее, чем в мавзолей и в музеи. Я вырвусь из больницы, уеду на дачу. Буду копать землю, смотреть на деревья, на траву… Я не хочу видеть людей…
В чем моя вина? Почему я должна каяться? Я никого не расстреливала, не предавала… А они кричат на площади, что всех коммунистов надо судить, сажать в тюрьмы. За что? Меня — за что? Моего мужа — за что? Мы верили, любили… Никому сейчас не верю! Никому!!!
Я всех боюсь… Я боюсь, потому что не могу разлюбить то, что со мной было…»
История, рассказанная молодым человеком, который понял, что жизнь больше Феллини, чем Бергман
Александр Ласкович — солдат, 21 год
«Выбирал не я, выбирал кто-то другой: либо умру, либо не буду знать, что живу. До сих пор в этом не уверен… Я не был в Америке, но мне часто кажется: я там жил… Смотрю на чужие картинки, как на что-то знакомое… Я не знаю: кто сейчас сидит с вами за столом, разговаривает? Может быть, это я? А может, и нет? Иногда я все о себе забываю… Потом вдруг наткнешься: вроде бы это я? Мне никогда не нравилось быть мальчиком… Все выбрали без меня: имя, место, время… Нос, форму ушей, цвет волос… Мама мечтала о девочке, папа, как всегда, хотел аборт. Там, еще в утробе матери, я чувствовал, это впитывалось в мою подкорку, что я никому не нужен, могу не обнаруживаться, не появляться…
Первый раз я хотел повеситься в семь лет. Из-за китайского тазика… Мама сварила варенье в китайском тазике и поставила на табуретку, а мы с братом ловили нашу кошку Муську. Наша Муська тенью пролетела над тазиком, а мы нет… Мама молодая, папа на военных учениях… На полу лужа варенья… Мама проклинает судьбу офицерской жены, которой надо жить у черта на куличках, на Сахалине, где зимой снега насыпает до двенадцати метров, а летом — лопухи одного роста с ней. Она хватает отцовский ремень и выгоняет нас на улицу.
— Мама, на дворе дождь, а в сарае муравьи кусаются…
— Пошли! Пошли! Вон!!
Вечером брат побежал к соседям, а я совершенно серьезно решил повеситься. Залез в сарай, нашарил в корзине веревку. Придут утром, а я вишу… Вот суки, вам! Тут в дверь втискивается Муська, ее зеленые глаза вспыхнули в темноте, как бенгальские огни… Мяу-мяу… Милая Муська! Ты пришла меня пожалеть… Я обнял ее, и так мы с ней просидели до утра…
Что такое был папа? Папа — замполит авиаполка. Мы перемещались из одного военного городка в другой, все они пахли гуталином и дешевым одеколоном „Шипр“. Так всегда пахло и от моего папы. Мне — восемь лет, брату — девять, папа возвращается со службы. Скрипит портупея, скрипят хромовые сапоги. В эту минуту нам с братом превратиться бы в невидимок, исчезнуть с его глаз! Папа берет с этажерки „Повесть о настоящем человеке“ Бориса Полевого, в нашем доме — это „Отче наш“.
— Что было дальше? — начинает он с брата.
— Ну, самолет упал. А Алексей Мересьев пополз… Раненый… Съел ежа… Завалился в канаву…
— Какую еще канаву?
— В воронку от пятитонной бомбы, — подсказываю я.
— Что? Это было вчера. — Мы оба вздрагиваем от командирского голоса папы. — Сегодня, значит, не читали?
Вращаемся вокруг стола, как три Чаплина — один большой, два маленьких: мы со спущенными штанами, папа — с ремнем. Все-таки у нас у всех киношное воспитание, да? Не из книг, а из фильмов мы выросли… Книги, которые приносил в дом папа, у меня до сих пор вызывают аллергию. У меня температура поднимается, когда я вижу у кого-нибудь на полке „Повесть о настоящем человеке“. О! Папа мечтал бросить нас под танк… Он хотел, чтобы я попросился в Афганистан… А если бы мне там отсекли ноги, как Алексею Мересьеву, вот тогда его жизнь не зря. Он был бы счастлив! Он мог бы меня расстрелять, случись война и нарушь я присягу. Комплекс Тараса Бульбы… Папа принадлежал идее, он не человек. Но меня никак не удавалось запрограммировать на войну… Или на щенячью готовность заткнуть собой дырку в плотине, лечь пузом на мину… Я давил божьих коровок, на Сахалине летом божьих коровок как песка. Давил их, как все, пока однажды не испугался: чего это я столько маленьких красных трупиков наделал? Муська родила недоношенных котят… Я их поил, выхаживал. Появилась мама: „Они что — мертвые?“. И они умерли после ее слов. Папа дарил мне военные фуражки… Но я никогда не хотел быть мальчиком… Детский страх: мальчики все становятся военными и их убивают… О! Как я хотел молочными зубами вгрызться в папины хромовые сапоги, биться и кусаться. За что он меня — по голой заднице перед соседским Витькой?!
Я не рожден для танца смерти… У меня классический ахилл, мне бы танцевать в балете. Но папа служил великой идее, он был часть этой идеи. Как будто трепанация черепа произошла… Все без штанов, но с винтовкой… Пора сменить жанр… Там, где играли оптимистическую трагедию, сейчас разыграют комедию и боевик. Ползет-ползет, шишки грызет… Угадайте, кто это — Алексей Мересьев… Все, что осталось от папиной идеи, которая в страшной крови. Не люди убивали друг друга, идея убивала. Идея-убийца… А папа? Он беспомощный человек, совсем не готовый к старости, потому что в старости надо просто жить. А он себя без той великой идеи не представляет… Ну, пусть бы кактусы выращивал или спичечные коробки собирал? Сидит у телевизора: заседание парламента — левые, правые, митинги, демонстрации… Папе нужен враг, притаенный, замаскированный, нужна борьба, иначе жизнь утрачивает смысл, бесцельна. Безжертвенна! Такая жизнь папе неизвестна и непонятна. Вот мы смотрим с ним вдвоем телевизор: японский робот ощупывает старый карьер вынимает из песка ржавую мину, увозит взрывать. Папа в бесконечном удивлении:
— Гробить технику? У нас что, личного состава не хватает?
У него свои отношения со смертью. Она для него всегда чему-то равна: спасенному самолету, выхваченному из пламени колхозному трактору, досрочному выполнению задания партии и правительства… Отдельно от этого жизнь и смерть для него не существуют…
На Сахалине мы жили возле кладбища. Почти каждый день я слышал похоронную музыку: желтый гроб — умер кто-то в поселке, обитый красным кумачом — летчик погиб. Красных гробов было больше. После каждого красного гроба папа приносил в дом магнитофонную кассету… Приходили летчики… На столе дымились пожеванные папиросные „бычки“, блестели запотевшие стаканы с водкой… Крутилась кассета:
— Я — борт такой-то… Движок стал…
— Идите на втором.
— И этот отказал…
— Попытайтесь запустить левый двигатель.
— Не запускается…
— Правый…
— Молчит…
— Катапультируйтесь!
— Фонарь кабины не сбрасывается!.. Твою мать!!! Э-э-э… Ы-ы-ы…
Я долго представлял смерть как падение… С немыслимой высоты… Без слов… Э-э-э… Ы-ы-ы… На языке ветра… Стихии… Материи…
Кто-то из молодых летчиков один раз спросил у меня:
— Что ты, малыш, знаешь о смерти?
Я удивился. Мне казалось, что я это знал всегда. Притяжение. Страх и любопытство. Хоронили мальчика из нашего класса — нарыл в песке окопов патроны и бросил в костер… Вместо глаз — два пятачка… Я это знал всегда, я родился уже с этим знанием. Может, я уже когда-то умирал… Или мама, когда еще помещался в ней, сидела у окна и смотрела, как везли на кладбище: красный гроб, желтый гроб… Я загипнотизирован проблемой смерти, в течение дня я думаю о ней десятки раз. Наверное, потому, что я в детстве жил возле кладбища. Смерть пахла папиросными „бычками“, недоеденными шпротами и водкой. Это не обязательно беззубая старуха с косой, а может, это красивая девушка? И я ее увижу…
…Восемнадцать лет. Всего хочется: женщин, вина, путешествовать… Загадок, тайн… Я придумывал себе разную жизнь, представлял. И в этот момент тебя подлавливают… Мне до сих пор хочется раствориться, исчезнуть, чтобы ничего обо мне не знали, не оставить никаких следов. Уйти лесником, беспаспортным бомжем… Постоянно наваливается один и тот же сон: меня опять забирают в армию… Перепутали документы, и снова надо идти служить. Кричу, отбиваюсь:
— Я уже служил, скоты! Отпустите меня!!
Схожу с ума! Жуткий сон… А моему другу, он воевал в Афганистане, снится, что автомат не стреляет…
Я не хотел быть мальчиком… Я не хотел быть военным… Папа сказал:
— Ты должен стать мужчиной. А то девочки подумают, что импотент.
В армии меня будут убивать… Это я знал… Или меня убьют, или я убью. Брат вернулся после службы сломленным человеком. Каждое утро его били ногой в лицо… Он лежал на нижних нарах, старослужащий — наверху… Когда тебя целый год пяткой в морду!.. Попробуй остаться тем, кем ты был. Есть тип людей, которые не могут быть мясом, а есть другой тип, готовый быть только мясом. Человеческие лепешки… Я учился бить… В лицо, между ног… Как позвоночник переломить… Хатха-йога, каратэ…
Расскажу анекдот… Сменим жанр…
Гуляет по лесу дракон. Встретил медведя:
— Медведь, — говорит дракон, — у меня в восемь часов ужин. Приходи — я тебя съем.
Идет дальше. Бежит лиса:
— Лиса, — говорит дракон, — у меня в семь утра завтрак. Приходи — я тебя съем.
Идет дальше. Скачет заяц.
— Стой, заяц, — говорит дракон, — у меня в два часа обед. Приходи — я тебя съем.
— У меня вопрос, — поднял заяц лапу.
— Давай.
— Можно не приходить?
— Можно. Я тебя вычеркиваю из списка.
…Нас ведут по перрону… Девчонки машут… Мамы плачут…
В памяти остаются только голоса:
— Сорок таблеток… Попытка суицида… Белый билет. В армию не берут… Надо быть дураком, чтобы остаться умным… Бей меня! Бей! Ну и пусть я говно, мне наплевать. Зато я — дома, трахаюсь с девчонками, а ты — с винтовкой пошел играть в войну…
Человека можно запрограммировать. Он сам этого хочет. Ать-два! Ать-два! В ногу!!! Что такое вор в законе? Человек, у которого нет романа со смертью, он решил свои отношения со смертью. Зацепи — вилку в глотку воткнет! Жизнь прожита, сожжена дотла. Такой прыгнет, укусит. А сотня молодых мужчин вместе? Зверье! В тюрьме и в армии живут по одним законам. Беспредел. Заповедь первая: никогда не помогай слабому, слабого бей сапогами по голове. Ночью кто хрюкает, кто квакает, кто маму зовет, кто воздух портит… Но слабого бей сапогом по голове!
Чехов писал, что надо каждый день выдавливать из себя по капле раба. Но иногда человеку хочется быть рабом, ему это нравится.
Подъем. Команда:
— Лечь! Встать!
Все встали, один лежит.
— Лечь! Встать!
Лежит.
Сержант стал желтый, затем фиолетовый.
— Ты что?
— Суета сует…
— Ты что?
— Суета…
Сержант — к командиру роты, тот — к гэбэшнику. Подняли дело: баптист. Как он в армию попал?! Его оградили от всех, потом куда-то увезли. Он фантастически опасен! Не хочет играть в войну…
Покончить с собой я хотел пять раз. На пятый… решился… Сначала думал повеситься… Нормально. Все возле этого когда-то проходили… Командир просил:
— Только не стреляйтесь. Людей списать легче, чем патроны.
В человеке есть война, война возбуждает. Мне бы сказали — строить этот дом, в котором я живу, — долго. Скучно. А разрушить — в два дня. Какой восторг! Бить, крушить! Нам это нравится. Системы возврата нет… Я боюсь замкнутых пространств… Ненавижу социальную жизнь… Встать-лечь! Лечь-встать! Почистили нас, помыли. Вынесли красное знамя: „И если я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара…“ Ночью во сне я убегал от отца, он целился в меня, целился…
Первое письмо от девушки… Руки затряслись… Но жизнь больше Феллини, чем Бергман. Письма хранить нельзя.
Проверка тумбочек:
— Бабы ваши, будут наши. А вам еще служить, как медным чайникам. Неси свою макулатуру в унитаз…
Положен набор: бритва, авторучка, блокнот… Сидишь на „очке“ и читаешь последний раз письмо: „Люблю… Целую…“
Полярная ночь. Бесконечная. Стоим вдвоем в карауле. В руках — оружие. Мне пришла мысль, что это совсем просто: секунда-две, и ты свободен… Я могу назвать не причину, а повод. Если искать причину, то надо начинать оттуда, когда мама хотела девочку, а папа хотел аборт. Где-то в подсознании у меня это закодировано… И папины заклинания: „Герой! Герой!“ Героев я представлял без рук, без ног. С кровавыми звездами на спине… Я никогда не хотел быть героем. Я ненавижу героев! Я их презираю! Миражи! Мифы! Иллюзия! Подмена! В детстве мы играли в самураев. Самурай должен был красиво умереть: не имел права упасть лицом вниз, закричать. Я всегда кричал… Меня не любили брать в эту игру…
А повод? Повод мог быть ерундой… Сержант сказал, что ты мешок с говном, или колбасы в обед не досталось. Чай без сахара… Столкнуть могла чепуха…
Но жизнь больше Феллини, чем Бергман.
Стоим в карауле. Шепот (парень деревенский, с Украины):
— Ты знаешь, что такое оргазм? Пробовал?
Это мы — с ракетами и ядерными головками, которые могут тысячи людей убить? И я, который хочет себя убить?..
…Смерть похожа на любовь. И последнее мгновение — страшные и некрасивые судороги. Мы не способны вернуться из смерти, но из любви мы возвращаемся. И можем вспоминать, как было… Вы тонули когда-нибудь, вас затягивал вир? Я тонул… Чем больше сопротивляешься, тем меньше сил. Смирись — и дойди до дна. Там уже твой выбор: или ты хочешь умереть, или ты хочешь жить. Хочешь жить — пробивай небо воды, возвращайся. Но сначала дойди до дна…
Я дошел и понял: хочу жить! Просто жить! Я никого не убил, единственный человек, в которого я стрелял, я сам… Только ранил…
Но жизнь больше Феллини, чем Бергман…
Там? Там никакого света в конце тоннеля… И ангелов я не видел… Сидел отец у красного гроба… Гроб пустой…
Сон… Жизнь… Эта жизнь? Или та? Как у Мережковского: „Лишь тенью тени мы живем“…»
История коммуниста последнего поколения и некоторые размышления об обаянии красного идеала
Игнатий Валерьянович С. - заведующий отделом обкома партии, 54 года
Из разговора с бывшим помощником первого секретаря обкома партии.
«Зачем вам эта история? Не хочу говорить! Зачем? Все свалили на коммунистов… Натравили на нас народ… Семнадцатый год… По знакомому сценарию… Еще один семнадцатый год… У нас директора керамического завода рабочие на тачке вывезли за ворота. Горлопанили. Били стекла. Забыли, что дальше в этом сценарии, в следующем действии: брат пойдет на брата, сын на отца… История повторяется… Те же действующие лица…
Сажусь в такси.
— Скоро коммунистов бить будем? — спрашивает у меня водитель.
— Так это же снова кровь?
— А без крови у нас ничего не получится. Я сначала бы всех коммунистов перестрелял. А потом брокеров и спекулянтов. И сжег бы эти ларьки!!
Музыка играет. Хорошие сигареты. И ведь стрелял бы! Стрелял!
Вот она — родина Пугачева и Стеньки Разина… Нравится кровь пустить… За справедливость! Только, когда дым рассеется, увидят, что брат убивал брата. А вы говорите — народ. Народ сам о себе сказал, что из него — и дубина, и икона.
Не хочу отвечать на ваши вопросы! Не буду! Зачем вам эта история? Он, как и я, из тех, кого вы собираетесь судить… Устроить Нюрнберг… Кричат на улицах: „Довели страну! Разорили! Преступная партия! Кровью залили…“ Хотят судить живых и мертвых… В столице бьют, сваливают памятники днем, принародно, а у нас, в провинции, тайком, ночью. Памятники Марксу, Ленину… Рассказывают, рабочие стащили Ленина на железном тросе вниз и кукишей ему надавали. Ночью валят… Как воры… Зачем? Проститесь с большевизмом честно. Наука принесла человечеству куда более неисчислимые бедствия. Давайте тогда истребим ученых! Предадим анафеме отцов атомной бомбы… Марксизм, как любая великая идея, дал своих мучеников и своих негодяев. В этом „красная религия“ похожа на все другие религии.
Кто я сейчас? Обыкновенный школьный учитель. Преподаю историю. По старым учебникам… Новые еще не написаны… Уходит одна мифология, приходит другая. Никаких идеалов… Я уже не говорю об идеалах… Никаких идей…
Зачем вам эта история? Эта нелепая смерть… Необъяснимая…
Вы думаете, что сегодня не опасно быть искренним? Что изменилось? Во всем обвинили коммунистов. Их нет у власти. И что изменилось? Пришли демократы — и скорее к той же кормушке, к рогу изобилия… Теперь вы поняли, что не в коммунистах дело? А в кормушке… А там все строго по рангу… Как еще и при Сталине… Об этом ходило немало партийных легенд… Например, как при Сталине заведующим секторами ЦК разносили чай с бутербродами, а лекторам — только чай. Но потом ввели должности заместителя заведующего сектором. И вот в управлении делами долго думали: как быть? Кончилось тем, что заму стали подавать чай без бутерброда, но на белой салфетке. Идеальная вечная схема: сначала пью простой чай и мечтаю о чае на белой салфетке, получив чай на белой салфетке, хочу чай с бутербродом. Кто вам сказал, что Сталин умер? Вы что — человека измените? Винят идею… При чем здесь идея? Великая идея… Человек виноват… Он ничуть не изменился со времен старого Рима и древнего Иерусалима. Человек историей не живет… Идеей не живет: родился, влюбился, женился, машину купил, дом построил. Кого-то ревнует, кому-то завидует, чего-то все время хочет. Мы об идее говорим, об этом принято у нас говорить, но мы ею не живем. Вот у меня болеет дочь… У нее лучевая болезнь… У девочки… Я этим живу… Кого-то жена бросила… Никто идеей не живет, только сумасшедшие. Наивные. Я встречал таких, но среди партийных профессионалов их не было. Я боюсь быть искренним… Я боюсь за свою семью, за детей. К моей дочке, она учится в пятом классе, подошли на перемене одноклассники.
— Мы с тобой не будем дружить. Твой папа в обкоме партии работал.
— Мой папа хороший.
— Хороший папа не мог там работать. Мы вчера на митинге были.
Я прошу родителей: никогда не берите детей на митинги! Или вы хотите новых Гаврошей и Павликов Морозовых? Только по другую сторону баррикад…
У коммунистов моего поколения оставалось мало общего с Павкой Корчагиным. Я так думаю, что у нас было три поколения коммунистов: первое — профессиональные революционеры, с портфелями и револьверами, эти хотели развести определенный тип людей, а от остальных избавиться; второе — самые искренние, честные, они выросли после Октября, когда идея еще была молодая, сильная, и они верили в коммунизм, их в тридцать седьмом в лагерях уничтожили; и третье, последнее, — это мы, служащие партии, клерки. Мы просто работали. Это была хорошая работа. Никто об идее никогда не говорил, относились к ней как к обряду. Существовал такой обряд — светлое будущее. Без него нельзя было выйти на трибуну, подняться на сцену, вынести красное знамя. Мы понимали, что человек идеей не живет, но она должна существовать, светить с высоты. Идея оставляет человека в истории. А у нас была великая идея! Без идеи мы — кто? Говорящая глина?
Как, скажите, без светлого будущего мне приходить каждый день в школу? В класс…
Я не узнаю лица людей на улице… Они поменялись… Они поменялись очень быстро, стремительно. И они мне не нравятся… Мне не нравятся разговоры моих учеников о курсе доллара и немецкой марки…
И ваши вопросы мне не нравятся… Зачем вам эта история?»
Через несколько часов он сам разыскал меня в гостинице.
«И все-таки зачем вам эта история? Хотите порадовать обывателя? Не каждый день коммунисты кончают самоубийством… Тем более работник обкома партии… Обыватель будет в восторге! История повторяется… Советую перечитать „Окаянные дни“ Ивана Бунина. Многие места из этой книги я наизусть знаю. Совпадает! Все совпадает! Мы вернулись на семьдесят лет назад… Вот, например, это место: „Помню старика-рабочего у ворот дома, где были прежде „Одесские новости“, в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных „Известий“ и с криком: „На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!“. Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: „Мало! Мало!““
Узнаете?! Как будто на наших сегодняшних улицах подслушано и записано…
Вы за этим приехали? Написать, как коммунисты сегодня выбрасываются с восьмого этажа? (Молчит.) Простите… (Порывается уйти, но остается.) Это была простая и необъяснимая смерть… Понятная и непонятная… Я близко знал его и чувствую свою ответственность за версию, с которой вы отсюда уедете. Одни, я догадываюсь, отмолчатся, открестившись от своего „коммунистического прошлого“, — таких нынче большинство, другие расскажут понаслышке, придуманное. Это сейчас, через семьдесят лет, мы читаем воспоминания о Колчаке, Деникине и пытаемся их понять… А тогда — проклятья и свист над могилами… Улюлюканье… Я — историк, я об этом думаю… Мы обречены на возвращение. Прокляв чужие могилы, умираем, чтобы то же самое повторили над нашими… Вы же помните, как уходил из своего президентского кабинета Горбачев? Его толкали в плечи. Барабанили! Как все радовались, когда покончил с собой Пуго! Самое страшное, что с нами произошло, — мы перестали бояться смерти. Мне когда-то старый священник, которого я, с новеньким университетским дипломом, убеждал, что Бога нет, тянул Бога за бороду на землю, мне этот священник рассказал анекдот.
Революция… В одном углу церкви пьют, гуляют красноармейцы, а в другом — их кони жуют овес и мочатся. Дьячок бежит к настоятелю:
— Батюшка, что они творят в святом храме?
— Это не страшно. Эти постоят и уйдут. Страшно будет, когда их внуки вырастут…
У великой идеи две жизни: чистая — в уме, в книгах, и вторая, земная жизнь, жизнь в реальности. В Кремле сидели кремлевские мечтатели и о мировой революции думали, а в церкви красноармейцы пили, гуляли и их кони мочились. Идея прекрасная! Но что вы с человеком сделаете? Человек не изменился со времен старого Рима…
Зачем вам эта история? Разве кто-нибудь может понять смерть? Мы с ним в последние дни много разговаривали. Но ведь самое главное произошло потом, после него…
Ну, для начала я вам скажу, что это был типичный партработник. Система отбора партийных кадров жестко регламентировалась. Доходило до смешного. Ветеринар, например, мог стать вторым секретарем райкома партии, а врач-терапевт нет, потому что в аппарат брали только производственников, техническую интеллигенцию. Гуманитарии не ценились, им не доверяли, они всегда были как бы на подозрении. Это сейчас драматурги и переводчики, младшие научные сотрудники могут править страной, а в те времена это было дело партийных профессионалов. Секретарем по идеологии обычно была женщина. Ее сажали во все президиумы, в центре. Но почему — женщина? Сугубо для украшения… Как на плакате… Я вам уже говорил, что существовал обряд… Обряд светлого будущего… Обряд власти… Но технократизм, конечно, накладывал отпечаток. Мысль, что народ может выйти на улицы, казалась невероятной. Может ли бунтовать тюрьма? Может ли бунтовать армия? Мне сейчас тоже непонятно, чем питалась эта наша уверенность.
Да, так вот, он был типичный партработник, ему больше всего нравилось брежневское время. Он мог вынести вопрос на бюро обкома, на секретариат… Написать постановление… Засекретить документ… Положить под сукно… Выполнить любую команду… Но в его голове не могла родиться ни одна идея, потому что он — по своей природе — только исполнитель, как был когда-то инженером на заводе, так им и остался. Прикажут — сделает, доложит. А началась перестройка… По телевизору выступал Горбачев и обещал народу демократию… Народ выходил на центральную площадь города и требовал то хлеба, то свободы, то мяса, то курева… Такого народа никто из нас не знал… Мы привыкли к организованным майским колоннам…
Он отвечал в обкоме партии за науку и культуру… И вот этот человек приходил ко мне в кабинет и спрашивал: надо ли ему читать „Дети Арбата“ Анатолия Рыбакова? И что отвечать, если на встрече в техникуме или в институте у него спросят о Солженицыне? Какая на этот счет поступила команда сверху? Грянули такие дни, когда для него ничего не было страшнее, чем выехать куда-нибудь с докладом, встретиться с людьми. Он приходил с утра на работу и сидел, не выходил из своего кабинета. Он боялся телефонных звонков… Они требовали мгновенных решений, его вмешательства: в школе забастовали учителя, в театре молодой режиссер репетирует запрещенную пьесу… Вышли на митинг старики — жертвы сталинских репрессий… По-моему, военные — это были единственные люди, которых он еще как-то понимал. Система координат тут совпадала…
О чем мы беседовали? Я был намного моложе, но даже не это, а то, что я находился как бы вблизи власти, его ко мне притягивало. И то, что я был молодой, значит, я был ближе к тому, что происходило на улице, я только что из той жизни пришел сюда. Меня взяли на работу в обком из областной газеты. „Вот вы — молодые“, — начинал он. Молодые, значит, ответственные за то, что происходит, переворачивается. Он говорил о твердой руке, о порядке, о том, что все разваливается. Других вопросов он себе не задавал. Он никогда не читал Маркса, впрочем, как и я. В вузах мы когда-то все это пролистали перед экзаменами. Маркса и Ленина я стал читать сейчас, когда сносят памятники им, тащат на свалку…
Я его видел в тот день… За несколько минут, как он выпрыгнул… Выхожу в коридор: он ходит без пиджака, открыта дверь в туалет, а там окна настежь… Виновато как-то улыбнулся мне… Пиджак висит на дверной ручке… Мелькнуло: почему он здесь, на восьмом этаже, вроде его никто не вызывал? На восьмом этаже находился кабинет первого секретаря обкома партии, сюда или вызывали, или приглашали. Представить, чтобы кто-то просто так поднялся туда и гулял, невозможно. Никто даже из своих работников не заходил, кроме меня, его помощника, и секретаря-машинистки. Мы находились рядом, наши кабинеты. Существовал этикет, который не нарушался. Краем сознания пробежала мысль: вроде никто его не вызывал… Я забрал в приемной отпечатанные странички (как раз писал доклад первому секретарю) и вернулся к себе. Через несколько минут слышу крики в коридоре…
Недавно я где-то прочел, что раб вспоминает не только плети и цепи, которыми он был прикован к галерам, но и красоту моря, и соленый ветер в лицо… К чему это я? Это уже о другом… Или нет? О том же. В университете я думал о себе, что я независим. В армии словил себя на мысли, что счастлив стоять в строю по стойке „смирно“ и появилось желание стрелять… Это уже о другом… Это уже чувства, эмоции… А вам нужны факты…
Он пришел в тот день на работу в старом костюме… В старых ботинках… Я после думал, что он же шел и представлял, как будет это делать… Вот эту последовательность: где, как, когда? Открыть, подняться, ступить… Кто бы мог подумать, что он окажется на это способным? Послушник по своей природе… Он нарушил все правила игры…
Заведующий отделом обкома партии — номенклатура ЦК. И вдруг он бросается с восьмого этажа, разбивается насмерть… Это все равно что идти на марше и ухитриться повеситься. Был переполох. Недоумение. Приезжали комиссии…
Я могу пересказать вам текст наших объяснительных записок, даже с сохранением стиля партийных документов, я их немало в свое время написал. Что-то вроде того, что нескольким работникам обкома партии было предложено подыскать другую работу в связи с тем реформированием партии, которое происходит в стране. В числе их был и Игнатий С. Имелись варианты: должность директора кинотеатра или начальника „Союзпечати“, преподавательская работа в сельхозакадемии. И так далее. В служебной бумаге излагалась служебная правда… В ней не было наших разговоров и его растерянности, непонимания того, что совершается вокруг. Он служит партии, как он считал, верой и правдой, ни разу не ослушался, всегда находился под рукой, наготове, и вдруг она его изгоняет. Она его предает. Иначе как предательство он это оценить не мог. Он же был такой, каким партия хотела, каким она его слепила и укротила, он стал ее атомом, ее живой клеткой. Ему нравилась эта большая, беспощадная машина. Однажды он мне признался, что мечтал быть военным, но не прошел по конкурсу в военное училище.
Как этот человек взбунтовался? Этот послушник. Я до сих пор понять не могу. Он всегда делал то, что ему прикажут…
У него была красивая жена. Бухгалтер в стройтресте. Двое сыновей. Он получил для каждого квартиру. Купил им машины. Да, это все было, и он это все умел — взять, получить, позвонить, попросить, нажать, выбить. Казенная дача… Продуктовый заказ в обкомовском буфете… Но не из-за этого со стометровой высоты — на камень! Не из-за сырокопченой колбасы и икры…
Его изгнали, его предали… Он не мог с этим примириться…
Было еще одно обстоятельство. Домашнее. Интимное. Я не уверен, что имею право приоткрывать его. Но если без имени… Инкогнито… Когда жена узнала, что он уходит из обкома, пригрозила: „Забирай свою старую мать! Вези назад в деревню! Мне надоело из-под нее горшки таскать…“. Мать тяжело болела… Он попросил в обкоме машину, и шофер рассказывал, как они отвозили в деревню его больную мать. Проедут десять километров:
— Стой! Поворачивай назад.
Выйдет. Покурит.
— Едем дальше.
Оставил он мать в старой, холодной хате. На чужих людей. Плакал. Просил. Это он, к кому вся деревня приезжала за справедливостью?! Это он, кто был — власть.
Человек сломался. Я думаю, он окончательно сломался там, в машине, когда он сидел в кабине, а полупарализованная мать лежала в кузове, в кабину она не вошла. Все в жизни перемешано: сырокопченая колбаса, икра, власть и смерть. Я не пытаюсь вызвать у вас сочувствие. Это наша сумасшедшая, безумная наша жизнь… По Библии человек живет не при капитализме, не при социализме, а на земле. Я должен объяснить эту жизнь своим ученикам…
Театр абсурда! Самое главное случилось потом, после него… Через несколько месяцев мы все искали другую работу. Партия, которая к моменту ее закрытия насчитывала тринадцать миллионов членов, перестала существовать в один день. Мне позвонили утром: „Обком закрывают. У нас два часа, чтобы забрать свои вещи“. Взвившаяся толпа у здания обкома… Крики и оскорбления… Заставили открыть портфель… Вывернуть карманы и снять пальто… Кабинеты опечатывала комиссия: какой-то слесарь, неудачливый журналист, мать пятерых детей… Ее я запомнил по митингам, она всегда выступала и рассказывала, что живет в многосемейном бараке, с пятью маленькими детьми, требовала квартиру… В моем кабинете все перевернули, исчезла пепельница и зажигалка… К слову сказать, через год я встретил ту женщину, спросил: „Получили ли вы квартиру?“. Она погрозила кулаком в сторону здания бывшего обкома партии: „И эти подлецы меня обманули!“. Первый секретарь обкома сейчас — замдиректора совхоза, он хороший инженер. Второй секретарь — директор кинотеатра… Я учитель… Никто не чувствует себя палачом… Все чувствуют себя жертвами… И внизу и наверху… Всех предали… Кто? Одни говорят, что идея нас предала… Другие — что мы ее предали…
Все идет по знакомому сценарию… Вы человека не измените… И без усилий системы человек хочет исчезнуть в массе. Кажется, это слова Оруэлла. Когда человек в массе, он невидим, но он бессмертен. Социализм заставлял человека жить в истории, творить историю… Он сплачивал, соединял одним действием, одним направлением движения. Великая идея подчинила хаос… Она светила с высоты, пусть недосягаемая, и даже лучше, что недосягаемая. Народ чувствовал себя в истории, что он совершает историческое действие, что он при чем-то великом присутствует… Подобное чувство он испытывал еще только в войну… А что вы ему дадите? Сытую жизнь? Благополучие? Они никогда не будут для нас конечной целью. Другой замес. Нам нужен трагический идеал. Был обряд — светлое будущее… И был этот трагический идеал… Вы его не растопчете. Не отберете. Он будет жить. Ну что ж, пишите. Сейчас все можно писать, и все пишут, а где литература? Где что-нибудь равное тому, что с нами происходит? Хотя бы вот одна его смерть… Эта смерть…»
История человека, который летел, как птица
Иван Машовец — аспирант философского факультета…… года
Из рассказа друга, аспиранта философского факультета Владимира Станюкевича.
«…Он, конечно, хотел уйти незамеченным. Был вечер. Сумерки. Но несколько студентов из соседнего общежития видели, как он прыгнул. Он открыл окно в своей комнате настежь, стал на подоконник и долго смотрел вниз. Потом повернулся спиной, очень сильно оттолкнулся и полетел… Он летел с двенадцатого этажа…
Шла мимо женщина с маленьким мальчиком. Малыш поднял вверх голову:
— Мама, посмотри: дядя, как птица, летит…
Он летел пять секунд…
Все это мне рассказал участковый милиционер, когда я вернулся в общежитие; я оказался единственным, кого в какой-то степени можно было назвать его другом. На следующий день в вечерней газете я увидел снимок: он лежал на асфальте лицом вниз… В позе летящего человека…
Конечно, я могу попробовать что-то передать… Хотя все ускользает… Мы с вами не выберемся из этого лабиринта… Это будет объяснение отчасти, объяснение физическое, а не духовное. Существует, например, служба доверия. Человек звонит туда и делится: „Я хочу покончить жизнь самоубийством“. За пятнадцать минут они его разубеждают. Они узнают причину. Но это не причина, а спусковой крючок…
За день до этого он встретил меня в коридоре:
— Зайди обязательно. Надо поговорить.
Вечером несколько раз я стучал к нему, он не открывал. Через стенку (наши комнаты рядом) я слышал: он там. Ходит. Взад-вперед. Мечется. „Ну, думаю, — зайду завтра“. Завтра я разговаривал с милиционером.
— Что это? — Милиционер показал мне как будто знакомую папку.
Я нагнулся над столом:
— Это его диссертация… Вот титульный лист: „Марксизм и религия“.
Все страницы были перечеркнуты. И красным карандашом — по диагонали, наотмашь: „Ерунда!! Бред!! Ложь!!“. Его почерк… Я узнал…
Он все время боялся воды… Еще со студенчества я помню, что он боялся воды. Но никогда не говорил, что боится высоты…
Не получилась диссертация, ну и черт с ней! Надо признать себя пленником утопии… Из-за этого, что ли, прыгать с двенадцатого этажа? Сколько людей сегодня переписывает свои кандидатские, докторские, а сколько боятся признаться вслух, как они у них назывались. Стыдно, неудобно… Может, он решил: я сброшу и эти одежды, и эту физическую оболочку…
Логика поведения не вела к этому, а действие совершилось… Есть такое понятие, как судьба. Тебе дана программа… Ты взошел… Человек либо восходит, либо опускается… Я думаю: он верил, что есть другая жизнь… В тонком слое… Был ли он верующий? Тут начинается вопрошение… Если была у него вера, то без посредников, без культовых учреждений, без самого обряда. Но для верующего самоубийство невозможно, он не решается нарушить план Бога… Прервать нить… У атеистов пусковой механизм срабатывает проще. Он не верит в другую жизнь, не страшится. Что такое семьдесят или сто лет? Какой-то миг, песчинка. Молекула времени…
Однажды мы с ним говорили о том, что социализм не решает проблему смерти или хотя бы старости. Проходит мимо…
Я был свидетелем, как в букинистическом магазине он познакомился с каким-то сумасшедшим. Тот тоже рылся в старых книгах о марксизме, как и мы. Потом мне передал:
— Послушай, что он сказал: „Это я — нормальный, а ты — страдающий“. Ты знаешь — он прав.
Я думаю, он был искренним марксистом и принимал марксизм как гуманитарную идею, для которой „мы“ — гораздо больше, чем „я“. Как некую единую планетарную цивилизацию в будущем… Зайдешь к нему в комнату, он лежит, обложившись книгами: Плеханов, Маркс, биографии Гитлера, Сталина, сказки Андерсена, Бунин, Библия, Коран. Все это читает сразу. В памяти остались отрывки его мыслей, но лишь отрывки. Я восстановил их уже после… Ищу смысл его смерти… Не повод, не причину… Смысл! В его словах…
— В чем разница между ученым и священником? Священник то, что не познано, через веру познает. А ученый пытается проникнуть в Нечто через факт, через знание. Знание рационально. Но возьмем, к примеру, смерть. Просто смерть. Смерть дальше мысли…
Мы, марксисты, взяли на себя роль служителей церкви, мы сказали, что знаем ответ на вопрос: как сделать всех счастливыми? Как?! Любимая книга моего детства — „Человек-амфибия“ А. Беляева. Я недавно ее перечитал. Это же ответ всем утопистам мира… Отец творит из сына человека-амфибию. Он хочет подарить ему мировой океан, осчастливить, изменив человеческую природу. Гениальный инженер… Ему мерещится, что он проник в тайну… Что он — Бог! Он он сделал сына самым несчастным среди людей… Природа не открывается человеческому разуму… Она его только заманивает…
Или вот еще несколько его монологов. Как я их запомнил…
— Феномен Гитлера еще долго будет волновать умы. Возбуждать. Все-таки, как запускается механизм массового психоза? Матери на протянутых руках несли детей: „На, фюрер, возьми!!“
Мы — потребители марксизма. Кто может сказать, что он знает марксизм? Знает Ленина, Маркса? Есть ранний Маркс… И Маркс в конце жизни… Эти полутона, оттенки, вся эта цветущая сложность нам неведома. Никто приращения знаний не дает. Мы все — интерпретаторы…
Нынче мы завязли в прошлом, как раньше в будущем. Мне тоже казалось, что я это всю жизнь ненавидел, а выходит, любил. Люблю?.. Неужели можно любить эту лужу крови? Это кладбище? Из какой грязи, из какого кошмара… На какой крови все замешено… Люблю!
Предложил нашему профессору новую тему для своей диссертации: „Социализм как интеллектуальная ошибка“. А он ответил: „Бред“. Мол, с таким же успехом я могу заняться расшифровкой Библии или Апокалипсиса. Что же, бред — тоже творчество… Старик растерян, ты же знаешь — он не из долдонщиков, но то, что произошло, для него личная трагедия. Мне надо переписать диссертацию, а как ему переписать жизнь? Сейчас каждый из нас должен реабилитировать себя. В психиатрии есть такая болезнь — раздвоение-растроение личности. Больные ею забывают свою фамилию, социальное положение, своих знакомых и даже детей, свою жизнь. Растроение личности… Это когда человек не может соединить свою личную точку зрения, официальный взгляд или государственную веру и свои сомнения, насколько верно то, что он думает, и то, что он говорит… Личность двоится, троится… В психбольницах полно учителей истории, преподавателей вузов… Чем лучше они внушали, тем больше развращали… По меньшей мере три поколения… и еще несколько заражено… Но как таинственно все ускользает от определения… Соблазн утопии…
Как у Джека Лондона… Помнишь его рассказ о том, что жить можно и в смирительной рубашке? Надо лишь ужаться, вдавиться и привыкнуть… И даже будешь видеть сны…
Теперь я анализирую… Прослеживаю ход его мыслей… И я улавливаю, что он готовился к уходу…
Пьем чай, он неожиданно говорит:
— Я знаю свой срок…
— Ванечка, ты что! — воскликнула моя жена. — Мы тебя только женить собрались.
— Я пошутил. А вот животные никогда не кончают жизнь самоубийством. Не нарушают хода…
Назавтра после этого разговора кастелянша нашла в мусорном бачке его почти новый костюм, и паспорт лежал в кармане. Прибежала к нему. Он смутился, пробормотал что-то вроде того, что был пьян. Да в рот не брал! Паспорт оставил себе, а костюм ей подарил: „Он мне уже не нужен“.
Решил сбросить эти одежды, эту физическую оболочку. Он тоньше и подробнее нас знал, что ожидает его там. Но ему нравился возраст Христа…
Можно представить, что он свихнулся. Но за несколько недель до этого я слушал его реферат… Железная логика… Блестящая защита!
Надо ли человеку знать свой срок? Я был знаком с одним человеком, который его знал. Друг моего отца. Когда он уходил на фронт, цыганка ему нагадала: пусть он не боится пуль, потому что на войне не погибнет, а умрет в пятьдесят восемь лет дома в кресле. Он прошел всю войну, лез под пули, прослыл отчаянным парнем, его посылали на самые лихие дела. Вернулся без царапины. До пятидесяти семи лет пил, курил, так как знал, что умрет в пятьдесят восемь лет, а до этого срока может все. Последний год он прожил ужасно… Он все время боялся смерти… Ждал ее… И умер в пятьдесят восемь лет дома… В кресле у телевизора…
Лучше ли человеку, когда круг очерчен? Эта граница между здесь и там? Тут начинается вопрошение…
Однажды я ему посоветовал покопаться в детских воспоминаниях, желаниях, о которых мечтал, а потом забыл. Их можно сейчас выполнить… Он никогда не говорил со мной о своем детстве. Вдруг разоткровенничался. С трех месяцев он жил в деревне с бабушкой. Когда подрос, становился на пенек и ждал маму… Мама вернулась, когда он окончил школу, с тремя братиками и сестричками, каждый ребенок от другого мужчины. Учился в университете, оставлял себе десять рублей, остальную стипендию отсылал домой. Маме…
— Я не помню, чтобы она мне что-нибудь постирала, хотя бы один носовой платок. Но летом я опять поеду в деревню: переклею обои, починю забор. И если она скажет мне ласковое слово, я буду счастлив…
У него никогда не было девушки…
…Приехал за ним из деревни его брат. Он лежал в морге… Стали искать женщину, чтобы помыла, одела. Есть такие женщины, которые этим занимаются. Она пришла пьяная. Я сам одел его…
В деревне сидел с ним ночью один. Среди стариков и старух. Брат не утаил правду, хотя я просил его не говорить ничего, хотя бы матери. Но спьяну он проболтался. Два дня лил дождь. На кладбище машину с гробом тащил трактор. Старухи испуганно и усердно крестились:
— Сбожеволил человек…
Поп не давал хоронить на кладбище: грех непрощаемый… А председатель сельсовета приехал на „газике“ и разрешил…
Возвращались в сумерках. Мокро. Разрушенно. Пьяно. Подумалось, что праведники и мечтатели почему-то всегда выбирают такие места. Они только тут и рождаются. Всплыли в памяти наши разговоры о марксизме как единой планетарной цивилизации. О том, что первым социалистом был Христос. И о том, что тайна марксистской религии нам до конца непонятна, хотя и стоим по колено в крови.
Сели за стол. Мне сразу налили стакан самогона. Я выпил…
Через год мы с женой снова приехали на кладбище…
— Его там нет, — сказала жена. — Раньше мы приезжали к нему, а сейчас к памятнику. Помнишь, как он раньше улыбался на фотографии…
Значит, он уже ушел дальше. Женщина более тонкий аппарат, чем мужчина, она это почувствовала.
Пейзаж был тот же. Мокро. Разрушенно. Пьяно. Его мать насыпала нам в дорогу яблок. Подвыпивший тракторист подвез к автобусу…»
История человеческой жизни, после которой остались две комнаты в бараке, одна грядка и медаль «Победитель социалистического соревнования»
Александр Порфирьевич Шарпило — пенсионер, 60 лет
Из рассказа соседки Марии Тихоновны Исайчик.
«Ходят люди, чужие люди… Что вам надо? Горел человек на своей грядке с огурцами… Облил голову ацетоном и зажег спичкой… Под вишенкой… Лежал, голова желтая… Чужие люди, что вам надо? Всем на смерть посмотреть охота. У нас в деревне, когда я еще молодая была, жил старик, он любил смотреть, как умирали дети… Не сумасшедший, нормальный, жена и свои дети у него были, в церковь ходил. Долго жил…
Где счастливые люди живут? Обещали, что они после войны будут… Всю жизнь ждала счастья, лучшей жизни, маленькая ждала, в девках, старая. Подожди-потерпи, да подожди-потерпи. Восемьдесят лет живу, уже сорок лет одна, никого у меня на всем белом свете. Иконка в углу и песика держу, чтобы было с кем разговаривать, слова не забыть. Бог дал человеку и собаку, и кошку… И дерево, и цветы… Чтобы человек радовался, чтобы ему жизнь длинной не показалась. А мне все надоело, даже как пшеница желтеет… Наголодалась за свою жизнь так, что больше всего любила глядеть, как хлеб сеют. Подожди-потерпи, да подожди-потерпи… Жизнь прождали… Терпел-терпел человек, да не вытерпел… Во как! Унесли на кладбище, и что осталось? Две комнаты в бараке, одна грядка, красные грамоты и медаль „Победитель социалистического соревнования“. И у меня такая медалька лежит… Нас тут пять семей в этом бараке, после войны его поставили, селились молодые на год-два, а всю жизнь прожили. У каждого — две комнатки, сарайчик и грядка… Во заработали! Разбогатели! В две смены, без выходных… Молодая была, сильная. И молотила, и пахала, и косила. И лес валила, и шпалы на себе тягала. О-о-о!
Барак старый, дерево сухое… Все сгорели бы, до камня… Пожалел, подумал о соседях… Записку написал, положил на видное место: „Воспитывайте внуков. Прощайте“. И пошел в огород, подальше от дома… На свою грядку… Никогда о смерти не говорил. На лавочке сидит, молчит. На поезда смотрит. Составы день и ночь стучат-стучат…
„Скорая“ приехала, на носилки его кладут, он сгоряча встает, хочет сам идти.
— Ты что, Саша, сотворил? — до машины с ним шла, провожала.
— Устал жить. Сыну позвони. Пускай в больницу придет.
Он еще разговаривал. Пиджак обгоревший, черный, а плечо белое, чистое. Костюм новый надел, похоронить потом не было в чем. Купи сейчас костюм… Пять тысяч! Со сберкнижки снял, положил на стол деньги… Всю жизнь собирал, копил… На ботинки ему хватило и на венок… Во как!
Под вечер он это надумал… После ужина… Я чай попила… И слышу крик… Кто кричал? Не скажу. Подбежала, он не кричал, а тот парень, который его тушил, кричал, хватал с веревки мокрые мои тряпки (я днем постирала) и бросал на него. Чужой парень, шел мимо и видит: человек горит… Сидит на грядке, сгорбился и горит… Молчит… Так потом нам и рассказывал: „Молчит и горит“.
Под утро он в больнице умер… Привезли, и тогда я увидела, что голова сожженная, и руки… Руки у него золотые! Как он еще со мной тогда разговаривал, когда его на носилках несли? До последней минуты не хотел жить… Не старался… Так потом нам и передали… Милиция приезжала… Но что я им скажу, как и вам? Тоска в человеке жила, печаль… Слышите? Поезд гудит… Московский… Брест — Москва… Мне и часов не надо… Встаю, когда варшавский крикнет — шесть утра. А там минский, первый московский… Утром и ночью они разными голосами кричат…
Я его утешала:
— Саша, найди хорошую женщину. Женись.
— Лизка вернется…
Я семь лет ее не видела, как она от него ушла. Билась о гроб головой:
— Это я Сашке жизнь поломала.
Хоронили без оркестра, без музыки. Одна она и плакала…
Мне страшнее огня ничего нету, я его с войны боюсь. Как горела наша деревня… Мы стоим под пулеметами, а хаты наши трещат, горят. Коты горят и куры, которых немцы не половили, кричат человеческими голосами, детскими… Мне страшнее огня ничего нету… Хожу по двору, кажется, он за спиной стоит. Оглянусь — никого. Я его еще раз спросила бы: „Ты что, Саша, сотворил?“ Такую муку выбрал! Ну, может, только одно: на земле горел, так на небе не будет? Отмучился. За Бога решил. Что Бог ему там скажет? Калеки по земле ползают, парализованные лежат, немые живут… Бог же их держит…
Работу любил: доску свежую, рубанок. У всех тут его стулья, полки, буфеты. Сорок лет на мебельной фабрике. Бригадиром. Ни разу отсюда не уезжал. Я вышла замуж, завербовалась с мужем в Сибирь, на заработки. Комары, мошки… В чистом поле жили… Сына там родила, дифтерит хоп, и задавил. Сюда не привезла… Ни сына, ни могилки… Так и живу… Где та смерть? Хоть ты ее зови… Всю жизнь по казармам, по общежитиям, по баракам…
На свадьбе его гуляла… Когда он Лизку взял… Не бил он ее, не пил… Оставила, когда детей вырастили, сына и дочку. Плакал:
— Что я без Лизки? У детей своя жизнь. Сын днем на заводе, а вечером магнитофоны, утюги чинит. Двое детей. Надо жить. А дочка далеко…
Я ему советовала:
— Саша, найди хорошую женщину. Сопьешься.
— Стаканчик налью… Фигурное катание погляжу и спать лягу.
Пил, но не запивал, как другие, и одеколон „Гвоздика“, и стеклоочиститель. Теперь бутылка водки стоит, как раньше пальто. Пейте свободу! Кушайте свободу! Развалили такую страну! Державу! При Горбачеве, при Ельцине. А я и лес валила, и шпалы на себе тягала… Вчера три часа стояла в очереди за молоком — и не хватило. Немецкую посылку с подарками принесли, а мне ее не надо. Немцы с овчарками идут, а мы — в болоте, в воде… Бабы, дети… И коровы наши стоят с нами… Молчат…
Не хочу я немецкого печенья и немецких конфет! Не возьму!
Вот! Так мы с ним сядем на лавочке… Он газеты почитает, мне расскажет. Развалили такую страну! Разворовали… Ходят слухи… Люди видят… Пошли в лес за грибами, а там кострище: вытягивали простыни новые, носки… Вредительство! Колбасу закапывают… Консервы… Продали такую страну! Обманули народ… А я лес валила, шпалы на себе тягала… Была и за мужика, и за коня. Покушать не всегда хватало, но красную грамоту дадут… Я гордая… Я стахановкой была и депутатом. Я думала, что когда-то буду хорошо жить. Верила. А вышло — обман… Великий обман…
О смерти он никогда, ни слова. Может, в один день решил? А я дозваться, допроситься ее не могу…
Старики раньше сидят на лавочке. Беззаботно. А сейчас на пенсию не проживешь. Кто бутылки по городу собирает. Кто возле церкви с шапкой стоит. А кто талоны продаст, купоны. Водку. У нас затоптали в винном отделе человека… Я чай без булочки попью, и ладно. В войну мечтала белого хлеба вволю поесть. И сейчас. Но я последнее со двора вынесу, отдам, только бы войны не было.
С мебельной фабрики гроб привезли, его товарищи. Красивый гроб, сосной пахло. Он любил дерево, сосну… Любил березу, липу, но сосну больше. На работу утром веселый бежит, шутит. Вернется, в дом не спешит. До огней на скамейке, как пережидает. Во дворе — люди, дети. Барак наш был веселый, дружный. Мы жили все вместе, одной семьей и в будний день, и в праздник. У тебя нет — я дам, а у меня не стало — ты принесешь. На демонстрации ходили, оденемся чисто, детям шарики красные купим…
Всю жизнь работали, строили социализм. А теперь говорят, что социализм кончился.
Поезда стучат, стучат. Чужие люди, что вам надо? Старость — печаль…
Принес он с работы большую коробку с красным бантом. Показал.
— На пенсию проводили. Торжественно. Часы подарили. На стену повешу: тик-так, тик-так…
— Отдохнешь, Саша. Нагорбатились мы. Хватит. — Говорю так и вижу, что невеселый он, нерадостный. Ой как невеселый! Утром теперь ему бежать некуда…
Два месяца посидел на лавочке. Скучный. Небритый.
Сидит и молчит. Последнюю неделю слова никому не сказал. Кота позовет. За-мо-о-олчал человек перед смертью… Только смотрел на все…
Хожу-хожу, оглянусь: кажется, он идет, за спиной стоит… Оглянусь — никого… На сорок первый день его дочка стала тут жить. Из Магадана приехала с детьми, без своего угла маялась. Старый барак, а все же свой дом. Молодая, думает, что временно. А может, как и мы, на всю жизнь…
Чужие люди, что вам надо? Не допрашивайте, не допытывайте… Одинаковой смерти нет… Слышите, как поезда стучат…»
История о том, что, если вы найдете у себя в подушке кусок галстука и куриные кости, галстук нужно повесить на кресте при дороге, а кости отдать черной собаке
Тамара Суховей — официантка, 29 лет
«…Маленькая, я пришла со школы, легла, а утром не поднялась с кровати. Повезли к врачу — нету диагноза. Тогда кинулись бабок искать, знахарку. Дали нам адрес, полетели по тому адресу. Бабка кинула на карты и говорит матери:
— Придете домой, распорите подушку, на которой дочка лежит, там найдете кусок галстука и куриные кости. Галстук повесьте на кресте при дороге, а кости отдайте черной собаке, дочка встанет и пойдет. Свекруха заколдовала.
Ничего хорошего, красивого я в жизни не видела, и травилась, и вешалась…
Я сама из деревни, приехала в город, всех боялась. Но все едут в город — и я. Старшая сестра тут жила, она меня забрала.
— Поступишь в училище, станешь официанткой. Ты красивая, Томка. Найдешь себе мужа военного. Летчика!
Первый муж у меня был хромой, маленький. Подруги отговаривали:
— Зачем он тебе? Он больной, скоро умрет. За тобой такие парни ухаживают!
А я с детства любила фильмы про войну, где женщины ждут своих мужей с фронта, хотя бы какой вернулся — без ног, без рук, но живой. К нам в деревню одного привезли без обеих ног, так жена его по двору на руках носила. А он пил, безобразничал. Повалятся, она его подберет, в корыте помоет и посадит на чистую постель…
Я не понимала, что такое любовь, я и сейчас не знаю, что это, я его пожалела, приласкала. Мы прижили с ним трое детей, и он стал пить, гонялся за мной с молотком…
Уже вторым ребенком была беременна, когда из деревни пришла телеграмма: „Приезжай на похороны. Мать.“. Цыганка перед этим мне на вокзале гадала:
— Ждет тебя дальняя дорога. Похоронишь отца и будешь долго плакать.
Не поверила. Отец был здоровый, спокойный. Мать пьянствовала, с утра лежит, а он и корову подоит, и картошки наварит, все сам. Он сильно ее любил, она его приворожила, что-то она знала, какое-то зелье.
Сижу у гроба, плачу, соседская девочка мне шепчет:
— Тетя Тома, баба деда чугуном убила, а мне сказала, чтобы я молчала, она купит килограмм шоколадных конфет.
Мне стало страшно, и, когда в хате никого не осталось, все ушли, раздела отца и искала на нем синяки. Синяков не было, только на голове большая ссадина. Показала матери, она сказала, что это он дрова колол и палка отлетела, ударила. Сижу возле него всю ночь и чувствую, что он хочет мне что-то рассказать… А мать не отходит от нас, трезвая сидит. Она нас одних не оставляла, пока мы его не закопали.
Родная мать, она меня родила… Продала она дом, сарай сожгла, чтобы страховку получить, и прикатила ко мне в город. Тут нашла себе другого, и он сына с невесткой прогнал, а ей квартиру отписал. Она их привораживала, она что-то знала, какое-то зелье. А мой за мной с молотком гонялся, пока голову два раза не проломил…
Ничего хорошего, красивого я в жизни не видела…
Прихожу на работу побитая, уплаканная, а надо улыбаться, кланяться. Директор ресторана позвал в кабинет:
— Мне тут твоих слез не надо. У самого жена парализованная дома второй год лежит — и лезет ко мне под юбку…
Мать с отчимом два года не пожила. Звонок:
— Тамара, умер Григорьевич. Приходи, помоги хоронить. Повезем в крематорий.
Мне стало так страшно, что я потеряла сознание.
Очнулась, надо идти. А в голове мысль стучит: вдруг это она его убила, чтобы одной в его квартире остаться, пить, гулять? А?! Она убила и хочет скорее отвезти в крематорий, сжечь? Пока его дети соберутся и старший сын, майор, из Германии приедет, жменька золы останется, сто грамм в белой вазочке. От всех этих потрясений у меня прекратились месячные, два года ничего не было. Когда они снова начались, я просила врачей:
— Вырежьте мне все женское, сделайте операцию. Я не хочу быть женщиной! И любовницей, и женой, и матерью!
Родная мать, она меня родила… Я хотела ее любить… У нее молодой косы были длинные, черные… Красивая…
Как она умирала, как она не хотела умирать… Ей было пятьдесят девять лет: удалили одну грудь, через полтора месяца — другую, а она завела себе молодого любовника. Вызвала нас с сестрой:
— Везите к знахарке… Спасайте!
Она не верила этим бабкам, никому не верила, как нам ее спасать? А ей хуже-хуже, молодой за ней ухаживает, из-под нее выносит, моет. Она не думала умирать.
— Но если, — говорит, — умру, все оставлю ему. И квартиру, и телевизор.
Сестра пригрозила:
— Убью, если ему оставишь. Убью!!
Я их мирила, плакала. Молодая мама была красивая…
Повезли мы с сестрой ее к бабке, на руках из машины вынесли. Бабка помолилась, открыла карты.
— Да? — спрашивает и поднимается из-за стола. — Увозите! Я ее лечить не буду…
Мать нам крикнула:
— Ступайте, я хочу одна остаться!
А бабка нас не пустила из хаты, на карты смотрит и пересказывает:
— Я ее лечить не буду, потому что она не одного в землю положила. А недавно, когда еще на ногах была, ходила, в церкви две свечки надломила… Твою и твою… — Показывает на нас с сестрой.
Мать:
— За здравие детей своих…
Бабка:
— За упокой ты их поставила. Смерти детям просила. Думала, что если их Богу отдашь, то сама останешься. В заклад.
После этого я боялась сидеть с матерью одна в квартире. Взяла с собой свою старшую девочку, а мать бесило, когда та просила есть: она умирает, а кто-то ест, кто-то будет жить. Порезала ножницами новое покрывало на кровати, скатерть со стола, чтобы никому не осталось, когда ее не будет. Я водила ее в туалет, выносила, мыла. Она не стеснялась, она на пол, в постель… чтобы я убирала. Не хотела умирать… Мстила…
Открыли окно… На первом этаже… Сирень пахнет… Она дышит-дышит ею, не надышится…
— Принеси, — попросила, — веточку.
Я принесла. Она взяла ее в руки, а та в одну минуту засохла, листья скрутились.
Тогда она ко мне:
— Дай за твою руку подержаться…
А меня та бабка предупредила, что человек, который творил зло, долго умирает, мучительно. Надо или потолок разбирать, или все окна в доме вынуть, по-другому душа его не уйдет, из тела не поднимется. А руку давать нельзя, болезнь перекинется.
— Зачем тебе моя рука?
Она молчит. Притаится.
Она до конца мне не показывала, где ее одежды лежат, в которых хоронить. Деньги. Я боялась, что ночью она нас с дочкой задушит подушками. Глаза прикрою, а сама подглядываю: как это душа из нее вылетит? Какая она? Куда поднимется?
День лежит, два, перестала разговаривать. Я побежала в магазин, попросила соседку посидеть с ней, посторожить. Та вяла ее за руку, и тогда она умерла… В последнюю минуту что-то крикнула, непонятное…
Я сама ее мыла, одевала. Пришли ее подруги, уворовали телефон, новые тарелки. Приехала моя средняя сестра из деревни. Мать лежит… Она ей, мертвой, глаза открывала…
— Зачем ты мать мертвую трогаешь?
— А помнишь, как она в детстве над нами издевалась. Я ее ненавижу.
— У нее волосы были длинные, черные…
— Дура! Ты все по звездам прыгаешь.
В детстве я снила сны, что по звездам прыгаю. С одной звезды на другую, как по камням в реке.
Делить вещи начали еще ночью, еще не похоронили, гроб не унесли. Старшая сестра плакала, а средняя паковала телевизор, швейную машинку, золотые сережки с мертвой сняла. Назавтра кремировали и отвезли урну в деревню, положили мать рядом с нашим отцом. Есть тот свет или нет? Где-то же они встретятся…
Старшая сестра вышла второй раз замуж и уехала в Казахстан. Я ее любила, я как чувствовала, мое сердце подсказывало:
— Не выходи за него замуж, — почему-то второй ее муж мне не понравился.
— Он хороший, я его жалею.
Мы с ней на похоронах матери разговаривали. Сидели. И он с ней по-хорошему, ласково, я даже позавидовала. Через десять дней получаю телеграмму: „Тетя Тома, приезжайте. Умерла мама. Аня.“. Это девочка ее, одиннадцать лет, нам телеграмму прислала.
Он ее убил, он ее ногами, руками убил и изнасиловал мертвую. На работе сказал, что жена умерла, ему дали тысячу рублей, он их отдал дочке, а сам явился в милицию с повинной. Девочка сейчас у меня живет, учиться не хочет, она напуганная, и у нее что-то с головой, ничего не запоминает.
Ему присудили — десять лет. Он еще к дочке вернется…
…С первым мужем я развелась и думала, что никогда больше замуж не выйду. Я стала бояться мужчин… Когда сестру убил… Меня шутя кто-то обнимет, я вырываюсь. Кричу. Как я второй раз вышла замуж, сама не пойму. Он вернулся из армии контуженный, раненый. Десантура… Тельняшку не снимает… На Кавказе воевал, только не разобралась с кем, там же все свои люди живут. Советские. Кто в него стрелял? В кого он стрелял? На минах подрывались… Со своей матерью он в соседнем подъезде жил… Выйдет вечером во двор с гармошкой, играет. Всегда что-нибудь жалобное.
Пришел ко мне. Стали мы жить. Поздороваюсь с кем из соседей, постою во дворе.
— Ну что, уже договорились?
— Саша, ты что?
— Я тебя, сучку, знаю. Жалостливая! Все вы…
Выпьет, тогда ласковый, мягкий. Трезвый скрипит зубами, ему надо или ударить, или обидеть, чтобы кто-нибудь плакал, кричал. Тогда ему хорошо. Детей бьет, самый маленький его любит, лезет к нему, а он его подушкой. Так тот теперь, когда он заходит в дом, бежит скоренько в свою кровать и спать, глаза закрывает, чтобы не били, или все подушки под диван прячет.
Выпьет, и один рассказ: как ехали на бэтээрах… Первая машина взорвалась… А он ехал на второй… Я его раньше слушала и плакала, а теперь… Гармошку его ножом проткнула, слышать не могу… Он наутро проснулся: кто? Я ему сочинила, что он сам, по пьянке… Не поверил, бутылкой из-под пива меня по голове…
Ночью лежу, он храпит. Думаю: он меня все равно убьет, лучше я сама себя убью. Днем одолжила у соседки уксусную эссенцию, огурцы на зиму закатывала, встала, открыла эту бутылку и выпила… Он проснулся. Я по полу ползаю, из меня дым идет… Дети закричали. Вызвали „скорую“…
Ничего хорошего, красивого я в жизни не видела… Мне умирать не страшно… Навещал вчера в больнице, пьяный:
— Я ковер продал… Дети голодные…
Мой ковер! Я год на него деньги копила, по десяточке откладывала. В очереди за ним стояла. А он за три дня пропил… Девчата с моей работы прибегали:
— Ты смотри, Тома, чтобы он там пьяный детей не позадушивал, они плачут. А эту старшенькую, одиннадцать лет, от сестры, сама знаешь…
Если я вернусь домой и он не принесет назад ковер… С голубыми цветами, как звездочками… Два на три… Он пришел ко мне с полотенцем и ложкой… В одной тельняшке… Раненый, контуженный… Я хотела его на руках носить… Как в кино… Если я вернусь и он не принесет назад ковер…
Я никогда не думала, что могу человека убить…»
История сталинской девочки, при которой боялись рассказывать политические анекдоты, и о том, как в пятьдесят лет она перестала верить в коммунизм в сумасшедшем доме
Наталья Пашкевич — преподаватель, 55 лет
«Два года я носила с собой яд… И мой муж… В любой момент… Мы условились: если нас загонят в тупик — жить не будем. Сломленными, униженными мы жить не будем. Подруга работает в аптеке… Я долго ее просила… Я не признавалась, зачем, для какой цели… Она достала нам мышьяк…
Мне кажется, будто я прожила несколько жизней, по меньшей мере — три, и я — это три разных человека: первый, второй… Третий — это я сейчас. Совершенно разные люди, с одним именем, с одной биографией, но они бы друг друга не узнали, не поняли, больше того, они ненавидели бы один одного. О ком рассказывать, когда я как большая матрешка: вытащишь одну — ищи в ней другую.
Судим сегодня друг друга, торопимся: этот был правоверный коммунист, как он мог положить партбилет? А этот — стать верующим, ходить в церковь? Выбросить в мусоропровод собрание сочинений Ленина — обманул (встречала и таких)… Молится новым богам… Да, может! Я в это верю… Я это знаю… В другой раз кажется, что я прожила не свою, а чью-то жизнь… На художественной выставке как-то, иду — картина: сирень, скамейка и женщина в длинном платье… Стою и не могу отойти…
Была девочка… Девочка из далекого Петропавловска-на-Камчатке, теперь — большой город, а тогда — разбросанные военные посекли с одной русской школой в центре. Она любила книги Николая Островского и Жюля Верна. Мечтала жить в семнадцатом году, чтобы участвовать в революции, видеть живого Ленина, или в двадцать первом — двадцать втором веке, когда звездные корабли полетят к далеким мирам. Как и другие мальчишки и девчонки. Мы все тогда были одинаковые, я могу сказать, что, пока жил Сталин, мы все были одинаковые. Мой шестнадцатилетний племянник недавно мне сказал:
— Надоел ваш Сталин! Об Иване Грозном читать буду, а о Сталине не хочу.
Скоро интерес к нему останется только у нас, у сталинского поколения. Жертва и палач взаимно обречены, как сиамские близнецы. Требуется хирургическое вмешательство… чтобы отделить мою девочку от того мартовского дня, когда она вернулась из школы и увидела плачущих родителей: „Сталин умер!“ (Да-да, опять и опять Сталин, о котором вы слышать уже не можете, а вынь его из нашей жизни — ничего не останется, никакого смысла, даже страшного.). На улице пурга, мороз (в такие дни обычно детей отпускали, закрывали школу), но она ставит в угол портфель и поворачивает назад, не пообедав. Как это хлебать суп, когда он умер!! Он!! Всю дорогу плачет — семь километров, уже два раза в это день исхоженных. Никто не звал, никто не приказывал, все до единого ученика и учителя вернулись в школу. Люди шли туда, где они работали, в библиотеки, клубы, чтобы быть вместе. Цепочкой брели назад, держась за веревку, — в пургу собьешься со следа, потеряешься и замерзнешь. И на следующий день она запомнит длинные черные ленты людей на чистом снегу… И траурную музыку… И, как сигнал из космоса (так это далеко), голос московского диктора: „Говорит Москва! Говорит Москва!..“.
Потом эта девочка поступит на философский факультет Ленинградского университета, в те времена самый вольнолюбивый. Но при ней будут бояться рассказывать политические анекдоты: однажды она заявит, что пойдет и донесет, так как смеяться над нашими недостатками могут только враги…
Слепая, почти безвинная готовность пойти, донести. Это было… Со мной было… Я боялась этой девочки… Я сама до сих пор боюсь этой сталинской девочки… Люди веры… Они и вправду слепы… Как влюбленные… Интеллектуалы и малограмотные… У моей бабушки вместо иконы висел в рамке потрет Ленина, и у отца, военного инженера, на столе стоял бюст Ленина… Разбирайтесь, судите их… Нас… Всех… Мистика! Повседневная мистика нашей жизни…
„Да, — спросите вы, — но кто-то же рассказывал политические анекдоты? Кто-то, вообще, плевал на все?“ Всегда есть люди (их больше), живущие в стороне, и, конечно, их тоже затягивает общий поток, но не с той силой. И есть деятельные, сильные натуры, они страстно, беззаветно бросаются в самую глубь новой веры, новой идеи. Лучшие! Эта девочка была из них, из лучших. Вы никогда не думали о том, что идея сожрала, растлила и изуродовала лучших? Вам открылось, вы увидели ее кровавое лицо, а мы смотрели, любили другое — трогательное, поэтическое… Какое мучительное освобождение… Пытка… Плечом к плечу, нас сплотили, сбили — мы не могли разлепиться. Монолит, блок! Боже мой! Ты там не в силах вырваться, как бабочка в цементе… Ты не можешь себя оторвать. Кто ты? Ты только монолит, без „я“, со всеми. Когда я это осознала? В пятьдесят лет… В сумасшедшем доме… О! Это безумная история, советский детектив…
Но был еще XX съезд… Доклад Хрущева… Отец купил утром газету и закрылся с ней в своей комнате… через сутки вышел:
— Ленин осудил бы то, что произошло после его смерти. Если бы он не умер…
Через какое-то время, месяц-два прошло, застрелился сосед. Позавтракал, побрился… Старый чекист, его в нашем доме боялись… Все гадали: чего же испугался он сам? После я узнала, что тогда по стране прокатилась волна самоубийств бывших энкэвэдэшников, тех, кто струсил или судил себя сам…
Я забыла сказать, что родители мои уже жили в Ленинграде, я оканчивала университет… Это уже совершенно другое время, и мы другие. Мы пели песни Окуджавы, читали самиздат, захлебывались стихами Евтушенко, Вознесенского, Беллы Ахмадулиной… Поэты выступали на стадионах… Там, где сегодня Кашпировский, Глоба; колдуны, хироманты и предсказатели заняли место поэтов. Я увлеклась биографиями вождей, письмами, мемуарами, воспоминаниями. Меня волновала их жизнь. Дзержинский, Луначарский, Бухарин… Помню письма Дзержинского из тюрьмы, светлые, юношеские: как он отдал больному товарищу единственный свитер (эти детали тогда гипнотизировали, пронизывали). Отдать последнее, пожертвовать! Больной Ленин отправил в детский приют масло, присланное ему крестьянами… Голодный обморок Цюрупы, комиссара по продовольствию… Вот оно — великое, чистое, оно же было, надо его только очистить, вернуться к истокам… К началу… А там все прекрасно, высоко. Это было второе наше рождение! Счастье от того, что мы снова что-то преодолели, победили. Как после исповеди, почти, сказала бы я сейчас, церковное чувство… Потом появились пьесы Михаила Шатрова о революции, их запрещали, за них воевали, о них спорили… (Закуривает.) Бросаю курить, сигареты от себя прячу… А за ночь сегодня полпачки… Не могла дождаться утра, когда вы придете… Мне важно самой в себе разобраться, накренилось что-то в душе, не восстанавливается. Беспощадное чувство поражения… И даже не обмана, а самообмана… Так о чем мы?
Дети апрельской оттепели! Наша смелость уже не смелость, наши истины уже не истины. Как мы были наивны. Ленин хороший, а Сталин плохой… Построим „коммунизм с человеческим лицом“… Сама идея не подвергалась сомнениям, она казалась незыблемой, вечной, как небосвод. Мы — авангард… Огромная пылающая домна… И каждый из нас — частица этой горящей, кипящей лавы… Сидеть дома в роскошной квартире?! Никогда! Счастливое самоотречение, одержимость… Отдать свою жизнь ради чего-то великолепного, не личного, а общего. Ради всех! Уехала из Ленинграда под возгласы друзей:
— Дура, пожалеешь… Другие всеми правдами и неправдами, вплоть до фиктивных браков, распределились в Ленинград, а ты — куда?
В Минск, „самый социалистический город“, как окрестил его мой профессор. Отнесла в жэк ключи от ленинградской квартиры (умер отец, через месяц похоронила мать, — она жила жизнью отца, без него ей этот мир был непонятен и не нужен). Я нравилась себе! Потребность жертвовать… Поклоняться… У нас это в крови… Надо быть Зигмундом Фрейдом, чтобы найти отражение… То ли это от любви нашей к рабству или к смерти, как высшему смыслу? К бедности, к аскезе…
О природе наших идеалов мы размышляем мало, а она нам до конца не ясна… Что там на глубине подсознания? Тютчев сказал: „Умом Россию не понять…“ она за пределами разума, сознания… В других границах… До сих пор никто не может объяснить, что это со всеми случилось в семнадцатом году? Переворот? Вспышка массового бандитизма? Коллективное умопомешательство? Но ведь в то время многие люди (интеллигенция!) переживали это как счастье… Праздник! У нас в подсознании живет коммунизм… Нам ближе романтическое, героическое, и скучно там, где реальность, прагматизм. Что делает любимый герой русских сказок Иванушка-дурачок? Мастерит, строит? Ничего подобного. Сидит на печи и ждет чуда: золотой рыбки, которая исполнит все его желания, или царевны прекрасной, чтобы на ней жениться… Мы все ждем чуда или справедливого царя… И сейчас…
Наш старый дом горит… Одни — холодные, спокойные свидетели, смотрят, как костер пожирает знакомое, привычное, но уже отлюбленное или никогда не любимое, ненавистную казарму. Другие, любившие, гордившиеся своим домом, бросаются в огонь, в пламя и вытаскивают, что успевают ухватить, подобрать. На пепле каждый создает свой образ и будет доказывать, что дом таким и был. Мы все сжигаем раньше, чем поймем, поэтому всегда имеем дело с мифами и легендами, а не с реальностью.
Я думаю, что коммунизм и фашизм заложены в природе человеческой. Два искушения, они от человека никогда не отступят. Вглядитесь в себя бесстрастно и хладнокровно: вы и вправду рады, что вы, например, бедны, а кто-то богат? Чужое несчастье, чужая боль или смерть не приносит ли вам удовлетворения или хотя бы запрятанной радости: это не со мной! Человек бездна и небо одновременно…
Я пытаюсь сегодня говорить об этом со своими студентами. Но они молчат…
В Минске я вышла замуж, я полюбила. Мой муж был ученый, экономист. Был… Он умер в сорок пять лет, у меня на руках… Мы жили в однокомнатной старой „хрущевке“, негде спрятаться, закричать, поплакать. Я закрывалась в ванной и, чтобы не орать, чтобы у меня не остановилось сердце раньше, чем у него, раскачивалась изо всей силы и билась головой о стенку или разбивала себе руки о ребра батареи. Голова закружится, кровь на руке, становится легче, выхожу, улыбаюсь, отвлекаю его. Когда он был здоров и нас унижали, преследовали, у него вырвалось:
— Хочу умереть!
Когда заболел, умирал, я слышала:
— Хочу жить!
В последние дни он больше всего хотел жить… До его болезни мы говорили о смерти, после стали обходить эту тему.
— Выбрось яд, — попросил он за день до смерти. — Поверь: глупо все. Глупо лежать в земле…
У него было два инфаркта…
Деревенский парень, из полесской глубинки… Детство — война, ему семь лет. Мать хлеб партизанам пекла, могли расстрелять и хату сжечь. А за ним всю жизнь как клеймо: жил на оккупированной территории, под немцам. В университет не допустили… Поступил в нархоз, окончил с отличием. На работу не берут, везде попадал под графу: был в оккупации. После страшной кровавой победы еще десятки лет воевали с собственным народом: с теми, кто вернулся из плена, кого насильно вывезли в Германию, кто не погиб в концлагере, не сгорел в крематории… Боже мой! А я преподавала марксистско-ленинскую философию в институте… Партия — это совесть, честь… И сомнения в голову не приходили… Каждая несправедливость виделась частным случаем, где был конкретный виновник. Скажи мне кто-нибудь в то время о вине идеи, об ответственности идеи? Сумасшедший! Я уже не побежала бы доносить, но назвала бы его сумасшедшим, предателем. Какое бы зло ни вершилось на моих глазах, я искала виновника: это он или он… А то, что он часть идеи, атом злой идеи, молекула, и в других обстоятельствах был бы другим человеком, мы не понимали, никто. Вот откуда теперь не только у меня, а у многих чувство, что мы прожили не свою, а чью-то жизнь. Могли быть другими людьми, другой страной… Если бы не эта идея… Я людей не виню (даже своих недавних палачей), я виню идею… Мне доказывают, что идея рождается в человеческой голове. Но я все равно ненавижу идею, а людей их поведение могу себе объяснить. Что может выбрать солдат в строю? Ничего. Шагай в ногу!
Мой муж был талантливый человек. Он все-таки защитил кандидатскую, написал докторскую. Тут ему посоветовали: хочешь стать профессором, поставь рядом со своей фамилией еще одну… Тогда все секретари райкомов, обкомов писали и защищали ученые степени. Было модно: секретарь райкома — кандидат экономических наук… Раз намекнули, второй… Нет! Ну, раз нет, то ты докторскую не защитишь. Шагай в ногу! Не печатали, не давали читать лекции… Протаскивает буржуазные взгляды, антисоветчик… Экономика никогда не была у нас наукой, всегда — политика, вот и живем так, что трусов и носков не хватает, а хлеб, живя на черноземе, который немцы в войну отправляли домой в посылках, за золото покупаем. Муж уже был больной, мы с ним гуляем по парку, там фонтан и большая цветочная клумба… из красных, белых, желтых бегоний слова: „Наша цель — коммунизм“… Даже цветы не росли просто так… Для красоты, для радости…
Когда мужа не стало, я дала клятву, что пусть после смерти, но верну ему доброе имя, опубликую его статьи. Я еще верила: надо ехать в Москву, написать в ЦК партии, там разберутся… Придут другие, умные люди…
Нет! Шагай в ногу!
…Это невозможно передать, это чувство, это унижение. Когда вам делают рентгеноскопию черепа под предлогом проверки гайморовых пазух…
— Странно, но я у вас ничего не нахожу, — говорит врач.
— А что вы должны найти? — наивно спрашиваю я.
Кладут в больницу:
— Надо поддержать ваше сердце.
Больные случайно подслушали и передали мне разговор медсестер:
— После обеда Пашкевич поведут к психиатру. Ради нее вызвали.
Закрадывается подозрение, чувствую что-то неладное. Быстро одеваюсь и пытаюсь бежать. Но на выходе уже караулят, пригрозили, что вызовут милицию и отвезут в психлечебницу. Под конвоем возвращаюсь в палату. Тут понимаю: меня заманили в ловушку…
Ночью все-таки бегу. В палате никто из больных не выдал, шепотом допытывались:
— Это правда, что вы пишете жалобы в ЦК КПСС? Говорят, что вы шизофреничка…
Дома проштудировала Уголовный кодекс: принудительная психиатрическая экспертиза на предмет „душевного заболевания“ уголовно наказуема. Но это в стране, где правит закон. Я живу в другой… Что делать?! Бежать в Москву, идти в ЦК! Подкрался страх… Боялась, до животного ужаса боялась, что меня насильно схватят и увезут в психлечебницу. Несколько дней до отъезда страшно вспомнить: на звонки ни в дверь, ни по телефону не отвечаю, окна зашторены, запиралась на все замки, верхний свет не включаю, бра прикрыто тряпками… Радио, телевизор молчат… Был момент… Достала яд… Единственный выход покончить с собой, и физический страх, что не выдержу — уйду сама… Спасение… Искус… Рядом, протяни руку…
Что человек испытывает после убийства? Перед этим сидела у зеркала… Зачем-то запоминала… После боялась зеркала, боялась посмотреть себе в глаза…
Жребий брошен… Тайно, с предосторожностями друзья проводили меня в Москву. Прямо с поезда — в приемную ЦК КПСС: помогите устроиться в психиатрическую больницу на обследование, у меня должна быть на руках справка, что я психически ненормальна, или дома меня объявят сумасшедшей. Никто не защитит! Признались, что есть у них уже такой опыт, но женщина обратилась впервые. Через несколько дней получаю направление в пятнадцатую Московскую психиатрическую больницу…
Там меня встретили словами:
— Какое отношение вы имеете к нам? Это-то сразу видно.
— Мне поставили диагноз: истерическая психопатия.
— У вас что, в Минске нет грамотных специалистов?
— Нет, доктор… Тут другой случай…
Вечер. Ищу, как включить свет. Не нахожу. Выглядываю в коридор. Идет медсестра:
— Почему в палате нет выключателя? Где свет?
— Вы забыли, куда попали? Свет здесь включаю я. Ждите. — И внимательно изучающий взгляд, точно такой же, когда я просила позвонить.
Нет, тут нельзя быть нормальным, задавать нормальные вопросы, те же правила игры, как и там, откуда я пришла. Приказала себе: притворись, исчезни, замри, иначе никогда отсюда не выберешься…
Назавтра повели к психологу. Ряд тестов, на запоминание. Слова: стул, игла, мед, хлеб, окно… Из десяти слов два не запомнила. Надо признаться, что во мне в эти дни просыпался ужас и детство одновременно: с одной стороны — а вдруг что-нибудь не смогу, не получится, с другой — чувство детской игры, в которую играют странные взрослые. Потом задание — разложить картинки по общим признакам на три группы. Слава Богу, справилась. Еще одно — нарисовать: веселый праздник, тяжелую работу, смелый поступок, болезнь, справедливость, счастье, отчаяние… А я рисовать не умею… Но пробую: веселый праздник — шарики летят по воздуху, тяжелая работа лопата… Получилось все, кроме отчаяния. Я не знала, как передать отчаяние… Мое отчаяние…
На следующие день — опять у психолога. Надо ответить на триста вопросов. Триста! Потратила полтора часа, а рассчитано на два с половиной. Испытала искреннюю радость. Еще бы! Передо мной неотвратимо обозначилось, как хрупка грань между нормой и не нормой. Ее не уловить. Теперь машина должна все расшифровать, выдать заключение. Улыбнулась грустно сама себе: интересно, кто же все-таки более бесстрастен — машина, которую придумали люди, или сами люди? Всю ночь во сне отвечала кому-то еще раз на эти вопросы: „Боитесь ли вы заразиться заразной болезнью?“ — „Боюсь! Боюсь!“. Видела себя со стороны — в казенной одежде… Бежала и бежала по безлюдному шоссе… Проснулась и не сразу сообразила: где я? Потом вспомнила — в сумасшедшем доме. На форточках — решетки. Постоянно кто-нибудь плачет, по-животному. Повышенная сексуальность. Девочки-подростки пострижены наголо И мат, мат — в палате, туалете, столовой. Кажется, Грибоедов первым осознал, что ждет у нас тех, кто возмечтал взлететь? Часами просиживала у телевизора (спасалась!) и ничего в том мире не узнавала… Впервые со сцены я перешла в зрительный зал, отделилась…
Нас одели в одинаковые синие фуфайки и вывели на прогулку. Пытаюсь смотреть только на деревья, не замечать тех, кто рядом, только пейзаж. Но боковым зрением помимо своей воли фиксирую: к приемному покою подъехала „скорая помощь“, из нее вышел нормальной походкой нормальный мужчина лет за сорок, скорее по виду деревенский, чем городской, с авоськой, из нее торчит батон. К нему подскочили двое санитаров… Он бросает авоську и делает попытку бежать, но ему быстро заламывают руки, волокут к двери. Я до сих пор слышу, у меня в ушах стоит, как он кричит, оглядывается на нас и кричит:
— Помогите! Товарищи! Это злодейство!
Что это совершенно нормальный человек, могу и сейчас поклясться. Слово „злодейство“ придет на ум не каждому, что-то далекое, чистое, народное. Наверное, один из тех, кто приехал в столицу за правдой. Растоптанный батон валяется в траве и разбитая бутылка кефира…
А как я в Минске бежала ночью из больницы?
Утром повели на биотоки мозга. Лучше бы не заглядывать в этот день в мою черепную коробку! Из головы не выходит тот мужчина, как он кричал, оглядывался… Не верил… Растоптанный батон… Разлитая бутылка кефира…
Но впереди еще много дней, не одно испытание. Месяц молчит Минск, не отвечает на московский запрос и не присылает документов о моей „болезни“. Позвонят из института, где я работаю: она — сумасшедшая? Как может читать лекции по марксизму сумасшедшая?
Иногда я была уверена, что сошла с ума… Терялась, исчезала граница между нормальным и ненормальным, между реальностью и чудовищным ее подобием…
В одно из воскресений — день выборов в Верховный Совет СССР. После завтрака нас построили в колонну: впереди завотделением со списком, позади, по бокам — медсестры, санитарки, няни. Голосуют сумасшедшие! Шагаем строем… Девочка из соседней палаты заглядывает себе в трусики… Кому-то не хватило за завтраком каши, ругается матом… У моей соседки рука почему-то все время в заднем проходе (вчера и сегодня не работал душ, нет воды). Она гримасничает, что-то хочет сказать, не получается, мычит. Я не могу поймать ее остановившийся взгляд, ничей взгляд не могу поймать. Они все смотрят куда-то мимо… А у врачей серьезные, ответственные лица. Неужели они не понимают, в каком театре абсурда мы все участвуем? Может быть, мы все сумасшедшие?!
Избирательный участок в соседнем корпусе. Зашли. Нам выдали бюллетени. Кабин для голосования нет. Берем листки и тут же их сдаем, не читая. Остановиться нельзя, идем строем. Шагай в ногу! Только одна молодая женщина с красивым лицом не отдает листок, выскочила из шеренги… Нарушила движение строя… За ней гонятся, на убегает, запихивает листок в рот и жует, давится. Я ее знаю, она из соседней палаты, у нее мания преследования, все прячет, даже использованную бумагу из туалета приносит в палату и складывает в сумку. Чтобы не оставить никаких следов… Говорили, что на работала на телевидении. Мы спускаемся по одной лестнице, по другой поднимается новая группа… Те же остановившиеся глаза и застывший в них испуг… Изумление… Сплошная вереница, непрерывный поток… Остановиться нельзя… Шагай в ногу! Может быть, мы все сумасшедшие?! Страна сумасшедших… Гигантская палата номер шесть…
Через пятьдесят два дня я выйду оттуда совсем другим человеком… Из болезней у меня найдут только остеохондроз… Но там я насовсем рассталась со своим прошлым… Взрыв внутри меня… Жуткая боль… Я могла бы прожить другую жизнь… Прошлое умерло… Если вы пробовали умереть, уже нельзя вернуться…
И сейчас просыпаюсь утром: где я? Потом вспоминаю…»
История другой девочки, которая хотела, чтобы ее кто-то любил, ну хотя бы мама
Инга С. - студентка пятого курса мединститута, 25 лет
Из рассказа близкой подруги.
«У меня было чувство, что даже в гробу лежала не она. Когда умер мой папа, мы еще год чувствовали, что он тоскует без нас. А тут я сразу поняла, что она ушла насовсем и не тоскует, не возвращается. Мы не нашли ее фотографий, ее документов, никаких ее вещей. Даже паспорта… Она все уничтожила, выбросила. Как будто ее никогда не было, она как бы случайно залетела в этот мир, открыла не ту дверь…
Мы с ней дружили с пятого класса, в музыкальную школу вместе ходили. Обычно пешком, тут нам рядом, она говорит, а я слушаю. И то, что она в ту минуту переживает, о чем задумывается, ко мне приходит намного позже. У меня затянулось детство, может, потому, что я часто болела, меня все жалели. Да, я во всем долго опаздывала. Удивительно! В восьмом классе в нее влюбился самый красивый в нашей школе мальчик. А за мной еще никто не ухаживал. Однажды на уроке она вытащила из своего портфеля банку варенья из лепестков роз с запиской: „Хотел принести тебе миллион роз…“. От смеха банка выпала у нее из рук, и на сидела вся в розовом варенье… Теперь это мальчик — мой муж. Удивительно! Он ее любит… До сих пор…
У нее был маленький брат, она его пеленала, катала в коляске, ей это очень нравилось.
— Ты знаешь, — говорила она, — я его так люблю! Когда смотрят на нас, то думают, что я его мама.
Она всегда себе что-то придумывала, какую-нибудь необычную роль.
У нее была бабушка, они очень дружили. Когда бабушка умерла, она долго плакала, тосковала. Прошло уже несколько недель, я позвала ее в кино, чтобы отвлечь.
— Бабуля — мой друг, — сказала она. — Как же я могу смеяться, развлекаться? Я хочу, чтобы она знала, как я ее люблю.
У нее были мать и отец, оба — конструкторы на большом заводе. Но о них она почти ничего не рассказывала. А я с тех пор помню только голос ее мамы, ее команды: „Инга, уроки! Инга, на музыку! Инга, у тебя — английский!“ После смерти бабушки их дом совершенно изменился, из него исчез запах вкусных обедов, праздничных пирожков, везде теперь валялись старые газеты, журналы, лежала пыль. Еда покупалась на ходу, на бегу в кулинарии, чтобы скорее — на стол. Инга говорила, что яичница — любимое мамино блюдо — ее личный враг. Бабушка умерла от рака, Инга и характером, и внешностью была очень на нее похожа, и у нее на всю жизнь остался страх, что она тоже умрет от рака. Помню, мы с ней много размышляли: как это — люди летают в космос, ходят по Луне, а на Земле быстро умирают, не могут победить болезни? Дети много говорят о смерти, просто взрослые об этом не знают, а себя маленькими они обычно уже не помнят.
Я никогда не задумывалась: какая я? Такая, как все, или нет? Помню только, что маленькая просыпалась и скорее бежала к зеркалу: что там? Конечно же, разочарование — тот же нос и те же губы. Но это в детстве. А она, мне кажется, всегда относилась к себе, как к картине или скульптуре собственной работы, где можно еще что-то добавить, закрасить или даже перерисовать, выдолбить, отсечь лишнее. Один наш спор. Тогда в газетах много писали о смертной казни. И у нас был разговор, что никто не имеет права на чью-то жизнь, у человека над человеком этой власти нет. Она с этим соглашалась, но разрешала себе власть над собой, над своей жизнью. Бунтовала:
— Как это не мне решать? А кому?!
Кому? Подождите. Я поймала слово, которое больше всего к ней подходит. Вот оно — бунт! Всегда на ней какие-то немыслимые шляпы, какие-то немыслимые брюки или блузки экзотической длины — ее дразнили: „Десять лишних сантиметров“. А у нее это называлось по-другому: „Десять сантиметров личности!“ Спала на полу. Зачем?
— Я хочу знать, какая у меня власть над моим телом.
Принципиально не списывала и не слушала подсказок.
— Я не пою со второго голоса.
Правда, это на самом деле была нездешняя птица! И дело совсем не в том, что она умерла и я так теперь о ней думаю. Я всегда так о ней думала…
В седьмом классе умер один наш мальчик. Мы пошли на похороны всем классом, и я ничего не запомнила в от день, кроме нее. Как будто это ее брат умер, кто-то очень-очень близкий. Она потом его никогда не забывала, вспоминала. Я после к этому еще вернусь, так вот о бунте. Когда все вокруг твердят: я люблю это, я люблю это — мы все любим это, а один отходит в сторонку и говорит: „Почему я должен любить это?“ А гул стоит оглушительный: люблю-люблю, любим-любим… Это она называла „правом кирпича“, а какое право у кирпича — лечь в слепой фундамент, на то место, куда положат. Не хочу!
Пожалуйста, пример. Урок истории:
— Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме… Один отчеканил, второй. Мы повторяли эти слова вслед за учителем, не пытаясь и не подозревая, что можно вникнуть в клятвенный смысл привычно загнанных в наши головы слов: верит ли кто-нибудь в такое быстрое светлое будущее или нет?
— Я не верю, что буду жить при коммунизме, — сказала одна Инга и получила двойку, а была отличницей.
Все мы влюбились в Наташу Ростову, а она назвала ее плодовитой самкой (я думаю, из-за протеста восхищаться тем, что восхищает всех), чем повергла в неописуемый ужас нашу Елизавету, учительницу русской литературы, а класс в восторг. Ее не любили, ее обожали! В четырнадцать лет мы с ней размечтались о машине времени, куда бы мы попали, появись у нас безумная возможность путешествовать по времени. Она выбрала — войну:
— Тогда я была бы нужна.
— Но ты погибла бы. Первая! Такие оттуда не возвращались.
— Но все равно я должна была быть там. Только там!
Удивительно! Она была красивая, и совсем не как мальчишка, гранату на уроке физкультуры бросала, как бросают букет с цветами со сцены в зрительный зал.
Уже два месяца прошло, как ее нет, а я бесконечно о ней думаю. Ищу объяснений, которых нет, ищу логики, которой не может быть…
Умер Брежнев. Траурный митинг в школе. Стоит физрук и рассказывает анекдоты:
— Пасха. Леонид Ильич приехал в Кремль. Его встречает первый член Политбюро: „Христос воскрес, Леонид Ильич!“ Второй член Политбюро: „Христос воскрес, Леонид Ильич!“ Брежнев в ответ: „Спасибо. Мне уже доложили“.
Мальчишки хохотали и плевались. А она задыхалась от слез:
— Как они могут! Он же умер!
Ее что-то всегда останавливало перед любой смертью.
Вот этот случай еще надо рассказать. Обязательно! Мы возвращаемся из школы, она всю дорогу молчит, что на нее совершенно не похоже, она говорунья. Домой ей не хочется, и мы кружим по скверу, наверное, часа полтора.
— Ты знаешь, моя мама — убийца, — наконец вырвалось у нее. Оказывается, Олежка (это ее маленький брат) случайно родился. Она хотела его убить, это у взрослых называется „аборт“, а врачи ей не дали.
Не успеваю ничего ответить, она торопится-торопится выговориться.
— Я слышала, как они с папой ругались. Она недавно опять кого-то убила. Может, еще одного моего братика или сестричку. Ты себе воображаешь — убить Олежку!!!
Начинаю сейчас подозревать, что ее необычайно волновала тема смерти, она боялась смерти. А что, если учиться в мединститут она пошла из-за бунта против самой себя, своего страха? Это ее поступок. Когда кто-то из мальчишек ей небрежно бросил: „Ты крови боишься!“, она на другой день принесла в школу нож и при всех полоснула им себя по руке. Пошла кровь, она смотрела на нее, пока кто-то из девочек не заплакал.
Она мне не снится… Это мучает… Вдруг обиделась? Мой муж… Его она никогда не любила… Но он ее любит, я всегда знала, что он ее любит…
У нее были свои отношения с реальностью. Вот тут еще одна разгадка, я так думаю.
— Лучше всего путешествовать мыслью, — убеждала она меня. — Когда я приезжаю туда, на то место, где уже была в мечтах, в фантазиях, мне не так интересно, как интересно в мыслях, в ожиданиях.
Свой дом, а по ее словам, у нее будет единственный муж и двое детей — мальчик и девочка, она воображала так:
— Из мебели — одни книжные шкафы, из остального книги — и больше ничего.
Книги для нее были второй реальностью, и она жила, осуществлялась именно в ней. Последний школьный звонок. Выпускной вечер. На ней — белое платье, на такая красивая! Он танцевал только с ней… Они кружились… Я это запомнила… Удивительно! У меня уже были мальчики, но другие, я о нем никогда не думала… Она первая сказала:
— Вы были бы счастливой парой. А мне надо, чтобы каждый день как после дождя… Чисто и наново…
Ей хотелось чудес, она жаждала чудес: вот она куда-то пойдет, зазвонит телефон, принесут письмо — и что-то произойдет неожиданное. Чей-то голос. И кто-то ее найдет. У нас была своя школьная компания, все держалось на ней. Она притягивала, соединяла нас своей фантазией, это было столько красок, такая живопись. Поток! Убедила меня поступить в консерваторию, стать скрипачкой:
— Тоненькая, в черном длинном платье будешь стоять на сцене…
Так мы себе представляли жизнь…
Первый год Инга в мединститут не поступила, пошла работать санитаркой в больницу:
— Мне нравится принести больным свежее белье, кормить с ложечки. Я их всех люблю! Окончу институт и уеду в дикую глубинку, где буду лечить все, от кашля и бородавок до рака.
Она приучала себя к боли, к страданиям, да, приучала, потому что не выдерживала, не переносила вида мучений. Вдруг всплывает в памяти, как мы выходим после загородной прогулки из электрички: в руках — задохнувшиеся в жаре и толкотне бессильно синие васильки, а в банке из-под сока остекленевший майский жук. И ее слова:
— Мы их убили…
У нее отсутствовал инстинкт самосохранения, защита от боли. Дети сожгли во дворе кошку, на проволоке болтался маленький обгоревший скелет, как детский, — она там — увидеть! На улице авария, крик, толпа, она там — увидеть! Я ее оттаскивала:
— Пойдем, ну не надо. Я не хочу!
Она как вкопанная стоит, глаза сужены. Она толкала туда себя, заталкивала, чтобы стать сильной, выковать непробиваемый панцирь, соорудить прибежище из фантазии и мыслей, чтобы когда-нибудь научится спасать, помогать. Наивно пыталась постигнуть то, что никто еще не постиг: почему человек должен так мучиться? Даже ребенок. У него ведь еще никаких грехов, никакой вины, пусть бы умер, как уснул. А он кричит, словно звереныш… Ему так больно… За что?
Так бояться боли и выбрать этот страшный способ?! Повеситься… На глазах своего ребенка…
Я бесконечно о ней думаю… Она была самая лучшая из нас. Как мы мечтали!!
— Инга, когда ты поверишь, что тебя любят?
— Когда меня возьмут на руки и пронесут через весь город!
Его звали Слава. Большой, сильный. Он нес ее через весь город. Привозил с юга первую сирень, когда у нас еще снег лежал в парках. Писал письма на бересте и присылал их в больших картонных коробках от кукол. Красиво… Празднично… Как в саду… Как она хотела… Сидеть в белом платье… И стол накрыт белой скатертью… Они поженились: ему — двадцать пять, ей девятнадцать. Она первая из нашего класса вышла замуж. Все девочки ей завидовали. Еще до свадьбы мы были с ней на ипподроме, смотрели скачки, и в какой-то момент у нее вырвалось:
— Я хочу жить с таким напором, как они скачут! Иначе ничего не почувствуешь!
Все у нее было с восклицательным знаком: не люблю, а очень люблю, не просто хороший человек, а очень хороший человек, не просто любимый, а очень любимый. Очень-очень-очень!!!
Я помню ее счастливой:
— Утром из ванной иду на кухню. Обернулась — он целовал мои следы. Люблю его! Очень-очень-очень!!! Он большой, сильный ребенок. Все время хочу улыбаться.
Скоро у нее родился Сережка.
— Как ты? — звоню ей.
— Очень-очень-очень!!! Теперь у меня — два ребенка: один большой, второй — маленький. Ревнуют друг к другу. Человек живет на земле для неба, вот что я с ними чувствую, вот как я с ними живу!!!
Любила ли она? Вот этого я не знаю. У нее все по-другому. Если она любила, то кого? Того, кто был рядом, или его же придуманного? Боюсь, что она любила идеал, вымысел. Иначе у нее не получалось. А он? Он засыпал у телевизора, потому что днем учился на пятом курсе мединститута, а ночью подрабатывал на „скорой помощи“. В воскресенье ему не хотелось никуда выходить из дома, а ей мечталось до утра бродить по городу, всю ночь разговаривать, пригласить друзей, чтобы всем было хорошо, радостно. Плескаться в счастье.
Она:
— Я хочу, чтобы каждый день как после дождя… Чисто, наново…
Он:
— Я ее не понимаю, то улыбнется, обнимет, и тут же: „Уходи! Я тебя никогда не любила!“. Соберу чемодан. Не пускает: „Любимый, единственный“. На коленях стоит… А назавтра все сначала. Фантазерки… Они опасные… Схватят и держат: ты — не такой, не такой! Задушат… И сами невинны, как дети.
Вдруг оказалось, что они совсем разные, смешно, но даже в этом: он сова, она — жаворонок. Пойдут в кино — и там рассорятся.
Он:
— Сумасшедшая! На экране кто-то кого-то убил или разлюбил — она плачет. Взахлеб плачет. На нас оборачиваются, мне стыдно.
Она:
— После фильма мы вышли на улицу, лил дождь. Я сняла туфли и пошла босиком… По лужам… Было так хорошо, что никто не нужен…
Кончилось тем, что он уехал в другой город. Насовсем. Женился на ее подруге — тихой, серенькой. Маленький Сережка спал теперь с мамой, по утрам целовал ее заплаканное лицо, утешал:
— Мамуленька, не плачь. Я вырасту и женюсь на тебе.
Она металась, она всю жизнь металась между реальностью и придуманным. Хотела, чтобы ее кто-то любил, нуждался в ней, „как в хлебе, как в воде“. Желала любви так сильно, страстно, что придумывала ее, бросалась к людям, как прыгают с высоты, распластывалась. В каждом из нас есть сосуд любви, если он не заполнится в детстве, то всю жизнь будешь мучиться от жажды и неутоления. И не спастись, не уберечься. В ее сосуде было только на донышке… Бабушкино…
Ну как же? Как же название этого фильма? Там главная героиня — старая большевичка. Ее навещает по воскресным дням сын, и она задает ему вопросы, как к стенке ставит:
— Почему аэропланы сегодня не летают?
Сын объясняет: мол, погода нелетная.
— Безобразие! Куда смотрит наше министерство авиации?
Заканчивается их встреча всегда так:
— А где ваши голубые города? — говорит она. — Почему вы не продолжаете то, что мы начали? Мы же расчистили вам дорогу…
Из этой породы — мама Инги, ее любимое слово „блажь“, а блажь все, что не касается дела, цели. Вместо диалога всегда монолог:
— У человека должна быть цель. Большая цель. Только лопух живет для себя, а человек живет для других Я не понимаю вас, что это значит: „Я хочу просто жить“, „Я хочу просто любить“… Вы уходите от жизненной борьбы, вы сдаете позиции. В мое время был спор физиков и лириков, я выбрала физиков. Мир принадлежит реалистам а не мечтателям. Надо дело делать, все остальное блажь!
Сильная, красивая женщина. Я не помню, чтобы она плакала или о чем-нибудь просила, нет — только воля и приказ. На улице такую встретишь — оглянешься. Ее всегда сажали в президиумы, выбирали депутатом, делегатом. Муж рядом с ней казался маленьким, незначительным. Таким он был.
После смерти бабушки Инга (это было при мне) спросила мать:
— Что такое смерть?
— Это когда тебя не будет, как бабушки.
— Я никогда не умру!
— Почему ты так думаешь? Просто ты еще маленькая…
— Я никогда не хочу умирать!!
— Как это ты не умрешь? Все умирают. Даже Ленин умер!
Они непонятны нам, наши родители, но они об этом никогда не задумывались. У них не хватало на нас времени, потому как они победили, восстановили… Строили, жертвовали… Ради нас! Ради нашего будущего! Где оно, то, о чем они твердили нам с детства, та счастливая жизнь, которая называлась будущим? Поглядите в окно: серые дома из дешевой панели, плохие дороги, некрасивые машины, усталые, изношенные люди. А они все время куда-то бежали, торопились, не успевали и отмахивались от нас: некогда, некогда!! Где следы их жизни, прожитое ими время, куда оно протекло? Они уверены, что жили для нас. Как им сказать, что они никогда нам не принадлежали?
…В тот день… За печальным столом… Мы боялись поднять глаза друг на друга… Все друзья Инги, которые собрались, нас было много… Мы не могли уйти из ее дома, мы говорили до утра, помню отрывки наших разговоров:
— Три дня тому назад она позвонила мне: „Хожу по городу и прошу: „Господи, сделай так, чтобы меня убило машиной!“ Но ты слышишь: Бога нет…“
— Когда у нас были практические в морге, ее тошнило. „Ну, это ничего, — уверяла она нас поначалу, — к пятому курсу привыкну. Как вы, буду булочки есть“. На самом деле — когда голодные, тут труп лежит, а рядом наши портфели с бутербродами и конспектами. То, что на столе под белой простыней, для нас уже ничего общего с человеком не имеет, это уже неживое, как глобус. Жизнь перелилась в нежизнь без имени. Но Инга однажды спросила: „Может быть, этого звали Сережей… А ее — Анной…“. После этих слов как взять в руки скальпель? Она помнила, не могла забыть никого, их лица, особенно детские…
— И в отместку себе пошла в патологоанатомы… В судебную экспертизу… Она слишком натянула свою струну…
Что заставляет не исчезать, цепляться за жизнь ту же бактерию или человека, независимо от уровня сознания? Какая-то неизвестная химическая или космическая пружина. Сломалась — и все. Как сломалась эта пружина у раненого князя Болконского… Толстой писал… Догадался… Помните? Весы качнулись… И он отказался жить, не захотел, а сколько биологических, физических сил в организме, на какой срок — это уже значения не имеет. Я смотрю на ее фотографию… „Когда человек умирает, изменяются его портреты…“ Она смеется… Но уже такое чувство, что — как за стеклом… Не идет энергия, меньше света… Мы сидим на траве под яблоней… Это было всего год назад… У меня тогда только родилась дочка, мы жили с мужем на квартире на окраине города в частном доме с садом. Она мчалась ко мне через весь город — покупать ребенка, пеленать, притащить веселую игрушку. Она безустанно строила мир, в котором ее все любили, не могли бы обойтись без нее, а любили ее только дети.
Я слышала как она разговаривала со своим маленьким Сережкой, ему было четыре года.
— Мама, — признался Сережка, — я боюсь темноты.
— Почему?
— В темноте маленькие злые человечки… Под диваном…
— Откуда они взялись?
— А люди как рождаются? Отчего?
— От любви…
— Мама, а эти от грустности…
В другой раз он влетел в комнату, где мы сидели:
— Мама, тучки на коленках в форточку ползут!
Они жили на девятом этаже, тучи у них ближе…
Со мной что-то случилось, когда я родила, словно меня втянуло, закрутило вихрем в огромные двери другой жизни, и я растворилась там. Я не спала ночами — девочка болела. У меня доставало сил лишь накормить, постирать, уложить ее опять, иногда поиграть и всегда — что-нибудь спеть. Перестала слышать и понимать все, кроме ее крохотного существования: спит, плачет, хочет есть, начала улыбаться. Меня будто не было…
Инга приходила, но уже редко. Выговаривалась:
— Отчего-то тоска напала. Скучно. Пусть бы кто-то пришел и просидел рядом всю ночь, держа за руку…
В другой раз забежала восторженная:
— Я встретила друга. Он — архитектор, строит красивые дома. Умный, веселый. Мне с ним хорошо и легко.
Потом они пришли вдвоем, и я была поражена, насколько нарисованный ею портрет не совпадал с реальностью. Нервный, злой, обиженный на весь мир. А где же от — веселый, умный?
Она боялась того дня, когда ей исполнится двадцать пять лет, как будто черту себе провела. До этой черты еще можно чего-то ждать — необычного, исключительного, а за ней — уже чужая территория, с чужими законами, обыденными и неподвижными, которых она не принимала. По-моему, за этой чертой ее настигла реальность.
Последний ее телефонный звонок:
— Я решила бросить мединститут…
— С ума сошла! Пятый курс…
— Ты как моя мама. Она грозит, что как только я уйду из института, ее с инфарктом увезут в реанимацию. Как это, мол, у самой цели сойти с пути… Будто я поезд и способна двигаться только по рельсам… Ты знаешь, я все-таки не могу больше видеть мертвого человека! Больные, как и нищие, сводят меня с ума! Вчера ходила на базар… Сумасшедшая женщина танцевала посреди площади и пела… Молодой парень в инвалидной коляске играл на баяне… Ему бросали рубли в шапку… Он ни на кого не поднимал глаз… Папа говорит, что так было после войны…
— А ты кому-нибудь из наших сказала?
— Кому? Все разбежались, каждый теперь выживает в одиночку…
— Но мы же…
— Что? Сидели до утра, пели, стихи читали? Это было в какой-то другой жизни… Ты отошла от нас и потеряла следы… Сказать тебе, чем занимается наш Вадик, любивший Высоцкого и мечтавший о ВГИКе? Перепродает автомобили… Лешку видела в городе… Безработный инженер… Эмма уезжает с родителями в Америку… — И дальше что-то рваное, бессвязное. — Меня нет, как будто я исчезаю… Исчезла… Я растворилась… Пораженец… А я не люблю поражений… Я как все, как масса… я жила в собственной оболочке, ее проткнули, как детский шарик… Нечем дышать… Меня стягивают и стягивают в реальный мир, на эту глину… А птичка привыкла сидеть на дереве петь, закрыв глаза… У Сережки, маленького, даже уши такие, как у его отца… Он похож на него, а не на меня… Меня нигде нет… Я вас всех обманула… Я все время играла какую-то роль… Хочу убежать… Где-то начать другую жизнь… Красивую… Праздничную… Но не эту…
— Ин-нга!!
Она положила трубку. Я звонила ей несколько дней подряд, она не подходила к телефону.
Как это случилось?! Последнее…
Об этом я знаю только со слов ее мамы. У нас с ней было два разговора, и мне до сих пор кажется, что два разных человека рассказывали мне одну и ту же историю…
Первый разговор был в тот день.
— Помоги мне! — бросилась ее мать ко мне сразу у дверей, я впервые видела ее настоящее лицо. — Это я ее убила! Я?! Я воспитана на схемах, железяках, я не понимала свою дочь. Она говорила о какой-то другой жизни… Собиралась куда-нибудь далеко уехать… Хотела бросить институт, не сдавать экзамены, я силой поднимала ее утром с постели. „Не хочу вставать. Не хочу даже чистить зубы“. — „Выкинь из головы эту блажь! Есть долг! Ты видишь, как мы с отцом живем: что бы ни случилось, надо идти на работу. Помнишь, в прошлом году наш Олежка попал под машину… Его увезла „скорая“, а я побежала на завод, потому что горел план, потому что есть чувство долга.“. Я ее одевала, заталкивала в нее силой творог или манную кашу, сажала с отцом в машину и везла в институт… На практические в морг… Так мы сдали четыре экзамена… Ради нее… Ради ее будущего! Я не отступала. Она мне показывала: „Мама, посмотри, как сходят с ума: первыми сходят с ума волосы, потрогай, какие они стали у меня жесткие, как из лески. А все люди мне кажутся похожими на животных: у этого голова — дикого кабана, а у этого бобра…“. А я запихивала ее в машину и везла в институт. Ее надо было, как маленькую, на руках качать… Я не понимала… После института я бежала к себе на завод… Брала чертежи домой… Сидела над ними ночами… Спала четыре часа в сутки… Ради нее… Ради ее будущего! Помоги мне! Может быть, я чего-то не знала? Этот ее муж… Уехал, забрал даже обручальное кольцо, которое ей подарил. И этот новый друг… Ты его видела? Она рвалась из дому, хотела свободы. А что она получала? А может, это все-таки случайность?! Помоги!!! Она вот в этой комнате… На поясе от моего халата… Сережка в углу играл… Домики из кубиков строил…
Через сорок дней мы сидели за тем же столом… Мать поднялась, снова красивая и сильная:
— Настало время энергичных, жизнеспособных людей. Инга не захотела бороться. Что же вы такие слабые? Мы для вас все сделали! Мы для вас жили! Хотя бы институт окончила… Не дошла до цели…
Мне хотелось бежать или кричать после ее слов. Я обняла Сережку:
— Сережка, мама уехала.
— Неправда, маму закопали. Она просила: „Ты не бойся. Меня, как зернышко, закопают. Я взойду“. Я теперь бабушку буду звать мамой.
Он пока не знает, что перед своим уходом мама увозила его из этого дома к отцу в чужой город. Навсегда. Но тот отказался: у него уже там, в другой семье, — мальчик и девочка. Она просила: „Я уезжаю очень далеко. Я не могу забрать его с собой. Он — мягкий. Моя мама что-нибудь такое из него вылепит… Я никогда его не узнаю…“.
У меня теперь даже нет дома, где она была. Я не могу туда пойти…
Не печатайте ничего… Все равно мы не поймем этой тайны… Одни догадки. Жестокие и приблизительные. Если напечатаете, то без моего имени. Я не хочу быть свидетелем. Я — не свидетель, я — соучастник, как все. Если бы ее кто-то, хотя бы один из нас на самом деле любил… Каждый раз, как после дождя… Чисто и наново… (Долго молчит.) Иногда я думаю по-другому, даже чаще именно так думаю: мне печально, но мне ее не жалко… Я ее понимаю… Смерть — это ее убежище…»
История человека, который воевал в сорок первом и не думал, что когда-нибудь услышит: «Зачем ты победил? Мы бы сейчас баварское пиво пили…»
Николай Севастьянович Кулаженко — бывший фронтовик, 70 лет.
«Что вы меня мучаете? Вам это нужно для литературного эксперимента, а из меня душу вынули. Луша плачет… (Молчит.) Если вспомнить, то за всю мою жизнь хорошо мне было только на войне… Кровь, вши, смерть… Но там все было понятно, у нас у всех — одна Родина и один враг. И никогда мы так не любили, не жалели друг друга, как в войну. Мы были вместе, как пальцы в кулаке. Это неправда, что социализма никогда не существовало. Он был один раз… В войну… Я — свидетель… (Молчит.) Никому не нужный свидетель… Старое чучело… Жизнь выкидывает наше поколение… Мы уже лишние… (Молчит.)
Мне это крикнули в лицо… Это приговор… (Молчит.) Во-о-он там, слева, за заводской трубой… (Подходит к окну и показывает.) Наш городской парк… Фонтан там, правда, без воды, недействующий, братская могила погибшим при освобождении города. Город небольшой, но все как положено у нас, как у всех. Возле памятника всегда проходили школьные линейки. Приглашали нас, ветеранов. Мы повязывали красные галстуки. Жена у меня тоже, как говорится, коренная фронтовичка. Девочкой на фронт ушла, в первый день войны. Миленькая моя, мы теперь как беженцы… На своей Родине… Я по телевизору видел: кран тащил памятник Дзержинскому… Лицом вниз… По асфальту… А молодые радовались и смеялись, ели мороженое… Это же были похороны! Хотя бы один шапку снял! Нет, они не наши дети! Я не знаю, я не понимаю, откуда они пришли? Где родились? От кого? Вот в этом нашем парке (не называйте город, потому что мне стыдно, тут меня каждый знает), так вот здесь меня, как этот памятник, тащили лицом вниз… Так он мертвый, Железный Феликс… А я живой. Трое мальчишек, по шестнадцать — семнадцать лет… Я иду по аллее, а они мне навстречу… С ними черная овчарка, молодые любят больших собак… Аллея узкая. И я сразу догадываюсь, что уступить дорогу им должен я, старый человек с орденскими колодками и значком „50 лет КПСС“… Конечно, я вышел в одиночку… С этим значком, который уже не носят, все сняли… А я от него не отказался. Это моя партия, я ей жизнь отдал. Нельзя отобрать веру у человека за один день. Раньше мальчишки смотрели на мой пиджак, и у них глаза загорались. Они мне завидовали. Нам завидовали, нашему поколению. А теперь у них так глаза горят при виде какого-нибудь иностранца… Идут, значит, они, говорят громко, шумно… Что-то внутри мне подсказывает — сойди! Тело стало невесомым, я его не слышу… как в рукопашной: только что каска обручем сжимала голову, поднимаешься в атаку с открытым штыком — каски на голове не слышишь… Тебя что-то несет…
— Взять! Джек, взять его! — слышу я веселую команду. На родном языке… Тихо, спокойно вокруг, никто не стреляет… — Взять! Джек, взять его!
Они кричали весело и озорно… Сорвали мой значок „50 лет КПСС“… Топтали его… Весело! Помню, что упали очки… Я не различал лиц… Только тени… Молодые, веселые тени… Они плясали вокруг меня… Как черти…
— Что ты нацепил, старая прирученная обезьяна? Старое чучело! В другой раз и колодки твои полетят. Победитель! Если бы ты не победил, мы бы сейчас баварское пиво пили…
…Я стоял возле своего дома и не узнавал его. Я забыл: кто я? Как меня зовут? Где я живу? Уже начало темнеть, а я не мог найти и вспомнить свой дом, пока дочь не увидела меня с балкона. Она побежала искать значок. Не нашла. Я лежал на диване с закрытыми глазами…
— Папа, — сказала утром дочь, — ты лучше не выходи на улицу. Почему ты плачешь? Я давно говорила: „Сними этот значок“. Вечером отвезем тебя на дачу. Мама варенье варит, ты будешь огурцы поливать…
Старая прирученная обезьяна… Старое чучело… Ты слышишь? Тебе осталось только поливать огурцы…
Они все ушли: дочь и зять на работу, внук — в училище, жена была на даче — я открыл газ… Я хочу умереть коммунистом, я хочу умереть советским человеком… (Плачет.) Соседи услышали запах газа… Взломали дверь… Они думали, что я уснул, а не хотел умереть… А я завидую тем, кто лежит в земле. От души…
Не надо вам Ленина, а кого вам надо? Взял бы булыжник и бил витрины магазинов с чужими названиями. С чужими вещами. С чужим шоколадом… Что вы меня мучаете? Вам это нужно для литературного эксперимента, а из меня душу вынули. (Молчит.) Миленькая моя, нет-нет, не вставайте… Не уходите… Я до конца скажу… Мы Родину защищали! Родина есть Родина, какая бы она ни была. Они бы баварское пили… А не скорее бы изо всех нас мыла наделали? Мы Родину защищали! Но что бы мы сейчас ни сказали, вы затыкаете нам рот Сталиным. Это наша трагедия. Нет больше Родины! А мы ее строили тачками и лопатами. Днепрогэс месили пятками. Была у нас великая страна… На развалинах живем, на обломках… Помощи ждем, чужих сухарей… К нам привозили… Красивые немецкие машины, полные больших пакетов с крупой, сахаром, мармеладом… В толпу бросали… Люди бежали за фургоном, давили друг друга… Заманили яркими обертками, цветными бумажками… Вместо великой страны я вижу дикие племена… Ненавижу!
Много лет мне снился один и тот же сон — день Победы. Как мы красиво победили! Показывают по телевизору их супермаркеты. Их колбасу. Как будто мы не видели, что такое Запад. „Мы пол-Европы прошагали…“ — пел Марк Бернес… Дали мне в прошлом году бесплатную путевку в санаторий. Там этот телевизор не выключают…
— Выключите его к… Не был я рабом! Не был! Очернили прошлое, оплевали. Сволочи! Безумие! Это безумие! Я был солдатом…
В психиатричку хотели отвезти…
А я помню другое время… Я помню, какие люди были в войну. Таких людей у нас больше никогда не будет! Я их давно уже не вижу. Не встречаю. Первое, что говорил солдат, когда выходил в операционной медсанбата из-под наркоза: а взяли ли ту высоту, под которой его ранило? (Плачет.) К Берлину шли… Через горы трупов, горы трупов лежали… По всей России… По всей Европе… Миленькая моя, рассказать нельзя… Три-четыре дня идей бой… Солнце печет, а его не видно, оно, как луна, из-за черных туч едва просвечивается… Техника горит, земля горит, люди горят… Целой земли нет… Убитых столько, что лошадиному копыту негде стать, а лошадь никогда не наступил на человека, даже мертвого. А тут они шли по трупам. Наши санитарные повозки… Услышишь, как зовут: „Братка, добей!“, пока добежишь, он уже умер… Человек в одном месте лежит, а его оторванные ноги — в другом… Первые дни сидим в окопах, переговариваемся: „Я его никогда не видел, не знаю. Какой он мне враг, этот немец? Как мне в него стрелять? Это же такой простой парень, как и я. Надо ему растолковать про социализм, про буржуев. Он повернет штыки…“. А потом мы увидели наших солдат, повешенных на столбах… повесили и подожгли, будто это деревья, а не люди… Убивать стало не страшно… Перед атакой я кричал, я сам кричал: „За Сталина — вперед! За Родину!“.
Эти люди, что сейчас живут, никогда бы не победили. Никогда! В газете читаю: разрезали на четыре части бюст Пушкина и пытались вывезти за границу… В чемоданах… Они не Пушкина везли, а цветной металл… Все променяли на джинсы, на чужие тряпки… На магнитофон, на банку кофе…
А я помню другое… Другое время и других людей… Попали мы в окружение… Политрук приказал: „Всем застрелиться!“. Был очень солнечный день… Но есть сталинский приказ — советский солдат в плен не сдается, только предатели сдаются в плен… Я выбрал место… Помню, старый дуб стоял, и рядом маленький насеялся, я погладил его по верхушке, еще подумал: „Он вырастет, и никто не будет знать, что когда-то его гладили по голове“. Политрук был немолодой, откуда-то с Украины… Поглядел он на нас — мальчишки… Фуражку снял… Сам застрелился, а нам приказал: „Живите, хлопцы!“. Таких людей уже никогда не будет! Встретишь мать с дитенком… Бредут по снегу босыми ногами… В деревню свою возвращаются, а деревню каратели сожгли. У них ничего нет, одно: у матери — сын, а у сына — мать. Это все, что у них осталось. Обнимешь ребенка, за пазуху под шинель спрячешь: „Родной мой! Хороший!“. Все, что у тебя в вещмешке есть, отдашь, крошки от сухарей ему в ручонки вытряхнешь. Мы были вместе. Братья и сестры! Я думал, что так будет всегда… После моря крови, после моря слез…
Кончилась война… Я работал хирургом в районной больнице. Всех калек, всех тяжелораненых, которым некуда было возвращаться, которых никто из родных не забрал, распределили по разным городам. Домов инвалидов не хватало, новых еще не построили, они жили в больницах. Слепые, безногие, парализованные. Знаете, простыней нет, одеял нет. Покушать не всегда хватало… Нянечки, медсестры несли из дому все свое… И картошку, и простыню, и носки, и ложки… Все были вместе. Братья и сестры! А если человек умирает, то сидим с ним всю ночь. Чтобы ушел с чистой душой… Не в обиде, не в одиночку… Чтобы умер, как дома… Среди своих…
Я о своей жизни не сожалею. Хорошая была жизнь. Я тысячи людей спас. Сорок два года работал хирургом. А жена моя — акушер-гинеколог. Днем и ночью люди нас звали… И мы шли, ехали… На телеге, пешком… Не было у нас выходных, не было праздников… На Новый год пришли гости, их встречает наша пятилетняя дочь: „У папы — острый аппендицит, а у мамы — острое маточное кровотечение… Вернутся утром…“.
А сегодня моя дочь мне говорит:
— Вы с мамой жили, как слепые. А я свободный человек. Пусть в магазинах дорогая колбаса и я не всегда могу ее купить, но я могу все сказать.
— Ты просто при мне оскорбляешь Ленина. Вот и все. Вся твоя свобода.
Она — врач, и они бастуют, потому что им мало платят. Я не понимаю, как может бастовать врач? Люди лежат с инфарктом, с инсультом… Умирают… Мы всю жизнь, можно сказать, бесплатно работали. За копейки… Но никто не жил для себя, ничего для себя не требовал. Мы хотели, чтобы наша Родина была богатой. Сильной. Чтобы ее никто не победил.
Миленькая моя, мы еще живые… Мы все помним…
Нет, эти люди, что сейчас живут, никогда бы не победили. Раз же можно воевать так, как мы воевали, за шесть дачных соток, за „мерседес“, за коммерческий киоск с чужим шоколадом? Так можно воевать только за Родину. У них нет Родины. Внук мой… В училище на повара учится. У него мечта — свое кафе открыть… С пирожками, с бутербродами… Быть богатым, иметь много денег. Вы слышали? А я в его годы мечтал летчиком стать или танкистом. Моряком. Стать героем. А деньги мне нужны были только на то, чтобы купить хлеб. Все остальное, чего я желал, нельзя было купить за деньги. Даже за миллионы!
Теперь у меня тоже нет Родины. Мое прошлое — моя Родина…
Раньше в школу нас звали… Во время праздников — на трибуну, в президиумы… Я надену пиджак с наградами… Жена с войны свою гимнастерку сберегла… Сейчас мы никому не нужны. Вымирающее племя… Динозавры… Нас боятся… Как чумных… Я сам пошел в школу, где внук учился. Там был музей боевой славы. Я все самое дорогое туда отнес: гимнастерку жены, свой хирургический скальпель, ордена и медали… На дверях музея висела другая вывеска… Наваждение какое-то… Малое предприятие… Кооператив… Шкафы строгали…
— Да, — развел руками директор школы, — сдаем в аренду. Нет денег, чтобы учебники купить.
— А где музей? Где экспонаты? Где гимнастерка моей жены? Она пятьдесят лет ее берегла…
— На складе.
Нет Родины. Нет прошлого. Сдали на вторсырье… Миленькая моя, а мы еще живые… Все помним…
Я хочу умереть коммунистом, я хочу умереть советским человеком. На своей Родине. Я закроюсь дома в своей комнате, и нам с женой кажется, что ничего не изменилось, все как прежде. Надо только закрыть двери и не подходить к телефону… И к телевизору…
В партию я на фронте вступил, в восемнадцать лет. Я билет свой не положу, не отдам, даже если меня поставят к стенке. Были у нас вожди… Командиры… Звали нас: вперед, вперед!!! А сами ушли, бросили. Как они спят по ночам? Что пишут в своих мемуарах? За границей рассказывают? Я хочу, чтобы они рассказали, как я колотил костылем телевизор и кричал: „Не был я рабом! Не был! Я был коммунистом! Я был солдатом!“. Я кричал, пока мне не сделали укол и не унесли на носилках в палату…
Я хочу умереть коммунистом, я хочу умереть советским человеком! (Плачет.) Дайте уйти нашему поколению, которое один раз жило при социализме… В войну…»
История человека, который воевал в девяносто первом там, куда можно купить билет в любой кассе Аэрофлота
Павел Стукальский — наемник, 27 лет
Из рассказа друга Олега Бажко.
«Вы хотите, чтобы я нормальными словами это рассказал? Я по эту сторону, а он? На смерть никто не хочет смотреть. Я видел ее сотни раз, и все равно каждый раз отворачиваюсь. Там, на войне, я себе твердил, вбивал во все клетки своего тела и мозга, когда мы ползли в горы и язык вываливался изо рта, как у пристреленной собаки, затолкнуть назад его мог только страх… Страх от пули… Я себе твердил: не дай этой гнилозубой твари уговорить себя, не дай ей взять тебя сонным или отчаявшимся. Гони ее и не оглядывайся, никогда не зови.
Эх, Пашка! Что она ему нашептала, если он дал ей увести себя в ночь, в темноту! Он, который лучше всех в нашей роте мог перерезать горло от уха до уха, ударить точно под лопатку…
Да, я — наемник, я продаю свое умение убивать. Думали: буду скрывать? Не буду. Раньше у нас никогда не было наемников, мы гордились защитником Отечества… Бросьте эти сказки для старшеклассников! Мужчинам нравится война, только они в этом не признавались, таились. Мы все про себя прятали. Ни один не знает: кто он на самом деле? А я не хотел такую же квартиру, как у соседа, такую же машину, такой же шкаф… И как самое большое развлечение — путевка в Сочи, к Черному морю, где считаешь каждый рубль. Я хотел познать мир, испытать себя. Я на самом деле хотел узнать: кто я? Это если откровенно… Начистоту… До дна… Тут — стопор! (Закуривает. Молчит.)
Сначала я попал в Афган. Мечтал, просился. Писал рапорт. Там, а Афгане, мы с ним встретились… С Пашкой… Сошлись… Все было похоже: школа, училище, работа на заводе, мечта об институте… И о девушке в белом…
Когда я вернулся из Афгана, моя сестренка училась в пятом классе. Я привез ей подарки: красивые игрушки (у нас таких нет), жвачку, джинсы. Но ей хотелось похвастаться другим.
— Ты герой? Сколько „духов“ ты убил? — спросила она.
— Не знаю… — Я был застигнут врасплох, меня взяли безоружного дома.
— Я скажу подругам, что ты много „духов“ убил. Сто!
Сидел рядом отец, ставила закуску на стол мать. Улыбались. Для них это был нормальный разговор. Я начал орать что-то сумасшедшее… О чужой стране, о том, как воняют вывалившиеся человеческие кишки на солнце… О том, как у нас погибло трое ребят-детдомовцев и их некуда было отправить… Гробы повезли в детдом…
Я испортил всем праздничный ужин. Тут — стопор! (Замолкает.) И вообще, если бы не Пашка, слова бы вам не произнес… Ни вам, ни друг другу правды мы не говорим. Караванчики брали, облеты… После первой рюмки вспоминали смешное, веселое. Как под Джелалабадом две недели спасали раненую обезьянку. Пашка ее вытащил из-под мертвого афганца. Перевязали лапу, на себе по очереди тащили. А про то, как расстреливали пленных, молчим. В стельку пьяные, ни один не обмолвится… Намека не даст, что помнит, как они в пыли валялись… С босыми ногами… А как пахнет чистая простыня дома! До головокружения. Но мужчине нравится война… Древний инстинкт охоты… Убивать люди научились раньше, чем сеять и пахать. Стреляешь, заманиваешь, выслеживаешь… Он зарывается в землю, уползает на четвереньках… Как зверь… В ползущего стрелять легче, чем когда он идет во весь рост, и ты различаешь лицо, одежду… Тогда заминка, на какой-то миг…
Сколько убил? Наивный вопрос. Может, двадцать, а может, и больше… Сначала считал, потом бросил. Это же моя работа — воевать, а значит убивать. Мне за это деньги платят. Но не ради одних дензнаков я этим занимаюсь. Ради азарта… Как вам передать, что острота ощущений, когда не ты стреляешь, а в тебя стреляют?! Ты сразу существуешь в этом мире и в том, по обе стороны. Животная, безумная радость, когда бой окончится, а ты жив. Ты можешь выпить водки… выкурить сигарету… Ты можешь найти женщину… Мы проиграли в Афгане. Могли стереть эти горы с лица земли, а ушли ни с чем. И в подсознании, в подкорке сидит, что мы войну проиграли, но никто не хочет быть проигравшим. Мы не довоевали. После Афгана я стал рэкетиром… От получки до получки народ живет. Варенье варит. Огурцы, помидоры осенью закручивает. Пуп трещит! А у этих миллионы… Приходишь как Родин Гуд и забираешь кусок…
Приехал знакомый из Нагорного Карабаха.
— Что там?
— Афган.
Ну, раз Афган, значит, мне туда. В кассе Аэрофлота взял билет. Как в гости, на курорт… Одни ехали загорать, другие воевать. Много войны на окраинах бывшей империи. Оказывается, везде нужны те, кто умеет стрелять. И платят лучше, чем нам платили в Афгане. За тарелку бобового супа меня уже не купишь. И не надо махать красным флажком! За идею я умирать не пойду. Что у нас изменилось? На баррикады в августе шли одни, к власти пришли другие. Коммунисты сказали, что они не любят коммунистов, и раз вам не нравится слово „коммунист“, будем называться демократами. Я не устал воевать, я еще молодой. Я люблю автомат, это — друг. Но я устал быть обманутым. Убивать тоже профессия. Я — профессионал. Я делаю это лучше, чем что-нибудь другое. За неделю любого пацана на боевика выучу или, как пишут в газетах, бойца отряда самообороны. Вчера он сидел на тракторе, пахал. Завтра будет стрелять. Попробуй его верни на трактор… В колхоз… Я ему такой гимн автомату спою! Чувство оружия… Оно тянет к себе…
Эх, Пашка! Мы вместе с ним два года в Карабахе… Ни царапинки… О чем невозможно думать? Что ты умер. Будешь думать, сойдешь с ума. Ах, ладно. Тут — стопор! (Опять замолкает.) Там и здесь отношение к смерти разное. Там она то мама, то любимая девушка, то друг. Кричат: „Мама-мамочка!!“, а приходит она. Гнилозубая тварь! Она вертится у ног, как собака.
Солнце. Горы. Лежит красивая женщина. Мертвая. Но убита так, что крови не видно. Спит. Острое желание… Мы повернули в село… Две девчонки собирали абрикосы… Как они кричали… Но все принадлежит человеку с ружьем… Видел я там и кандидатов наук, и спортсменов, и зэков… Был парень из Нижнего Новгорода, раньше он воевал на стороне Азербайджана, потом прибился к нам — мы на стороне армян… Азербайджанцы его обидели, обещали пятнадцать тысяч „деревянных“ в месяц, дали пять. Другой до этого „казачил“ в Молдове. Зарабатывал на кооперативную квартиру в Москве. Не хватило, махнул на Кавказ… Был среди нас защитник Белого дома… Был поклонник стихов Есенина, читал нам: „Раньше мне нравилась девушка в белом, а сейчас я люблю в голубом“. Этот, как на машину скопил, улетел в Ярославль. Были у нас женщины… Из Москвы, Санкт-Петербурга… Одну муж бросил с двумя маленькими детьми, на работе сократили. Ничем не брезговала, детские игрушки в разбитых домах собирала… Ну, Афган! Родной Афган! Война — бардак и похмелье, жуткое дно и мужской пир…
…Мы вернулись домой. Мы прилетели тем же рейсом Аэрофлота… Полный самолет фруктов и дынь. Никто не различал нас в толпе таких же загоревших и счастливых людей. В аэропорту купили по букету роз… Дома нас ждали… Любимые, чьи фотографии пожелтели в наших нагрудных карманах от чужого солнца. После мата, крови хотелось говорить тихие, нежные слова. Мы купили цветы и рванули домой на такси…
— Я, как пацан в первый раз, дрожу, когда она раздевается… От ее запаха… — сказал Пашка.
Теперь я знаю, что любовь и война похожи… Та же кровавая игра… Коррида… Поединок…
Эх, Пашка! Его никто не ждал дома. Дом был пустой, как брошенный окоп. Она ушла к другому… Он лег на диван и выстрелил себе в рот…
Такая сентиментальна история. Он был мой друг, мой лучший друг. Мы Афган прошли, Карабах… Мы насиловали чужих жен, убивали. Это же война, наш мужской мир. А тут? Жена бросила — и пуля в рот?! Эх, Пашка! Твои родители никому не признались, откуда ты приехал и привез кучу денег. Они всем рассказывали, что ты строил дома в Степанакерте, разрушенном от землетрясения. А там уже давно не строят, только бомбят. Я пошел в кассу Аэрофлота и купил билет… Назад, на войну… И не важно, с кем и против кого. Мне важно почувствовать в руках оружие, как музыканту инструмент. Дураки! Сидят здесь, американские боевики крутят… Теперь любой может взять билет и слетать на настоящую войну. Поглазеть. Такая роскошь! Я могу жить только там…
Стопор! (После молчания.) Город наш не называйте… Из-за родителей… Пусть верят, что мы где-то дома строим…»
История о том, что все равно есть еще парни, которым легче застрелить себя, чем стрелять в других
Владимир И-в — водитель, 22 года
Из письма матери.
«…Если бы мне сказали, что ты хочешь повторить — ничего не хочу повторить. Ощущение зря прожитой жизни. Но жизни ведь и не было, я ее не помню, была только работа. И что мы построили?! Нищая богатая страна, униженные удивительные люди. Сталин залил эту землю кровью, Хрущев сажал на ней кукурузу, а над Брежневым все смеялись, но у себя дома, на кухне. А вольно или невольно мы все в этом участвовали. Много размышляя, я дошла до самого конца и начала гордиться, что мой сын не захотел так жить, что у него хватило силы воли и достоинства уйти… А у меня нет…
Вместе со своим письмом я посылаю его детские фотографии, у меня их четыре альбома, сама печатала. Чтобы вы его просто увидели… Умершие дети почему-то всегда вспоминаются маленькими…
Села за письменный стол, взяла ручку… Надо опять пройти тот страшный путь к обрыву… Я — журналист, моя профессия — ручка и бумага. Если отойти, не вглядываться, то еще можно как-то дышать, но стоит приблизиться — в крови захлебнешься. Был у меня такой порыв, когда привезли его одежду, хранившуюся во время следствия в прокуратуре. Опустила ее в ванну, и закружилась голова, будто не ванная, а вся квартира в крови, и так потянуло в это алый родной омут… Не верьте, если говорят, что кончают с собой слабые. Уходят сильные, честные, светлые. Слабые могут спиться, могут сойти с ума. А с обрыва падают — не важно: пистолет, веревка, яд — только сильные. Я не смогла.
Мне нужно выжить. Сохранить разум, чтобы понять и рассказать эту обыкновенную страшную историю. Нашу, русскую. Пусть бросят меня в лагерь, запрут в тюрьму, раскаленными щипцами рвут мое тело — не сделают больнее. Мне нельзя сделать больнее, чем болит. Нельзя — понимаете?! Когда на экранах мелькают знакомые лики вождей, „железной рукой загонявших человечество в счастье“, их снова несут на красных полотнищах, я хочу кричать, как в ту ночь, в то утро…
Там, в прошлом, я люблю только его детство…
Сыну три с половиной года. Я сижу за столом, работаю, оборачиваюсь на тихий крик — и вижу его распластанным на полу.
— Я застрелился.
Смеюсь, беру на руки.
— Ничего смешного, когда человек застрелялся, — выговаривает он мне с обидой.
Записывала за ним много забавного, целый блокнот „Юмор в коротких штанишках“: „Посоли мне сахаром лимон. Пускай тетя Нина бросает работу и приезжает на пенсию. Намордник — это такая авоська? Дай мне куриную ножку от петуха…“ Я хотела продлить ему детство, этот сладкий, волшебный сон. У меня его не было, как не было юности. Иногда мне кажется, что вместо всей своей жизни я помню только войну. Я и песен никаких не знаю, кроме военных.
Ему девять лет. Умер наш папа.
— Мама, папа ушел так далеко, что я его никогда не увижу?
Долго боялся, когда видел меня спящей:
— Ты будто меня бросила, как папа.
После войны я тоже не любила смотреть на заснувших людей.
Взрослым я помню его таким, каким он лежал в гробу. Почти незнакомый мне человек, что-то в нем напоминало сына, но только напоминало. Эти светло-русые, чуть вьющиеся волосы, прикрытые белой косынкой, чтобы не была видна рана в правом виске… Через четыре с половиной месяца я увижу ее — на фотографии у следователя, — похожую на оборванную черную звезду. И мне стукнет в сердце война… Как идут наши солдаты и просят: „Девочка, ты туда не смотри… Тебе еще ржать надо будет…“. А там — убитые в выгоревших гимнастерках, сложенные, как шпалы… По размеру, по росту… Порванное железом человеческое тело… Его унесли из дому, а я ищу с ним связь, где-то же его душа скитается возле тела, возле своих земных привязанностей. Утром побегу на кладбище, но тут же возвращаюсь… Дома еще везде он: его свитер, его любимая кружка для чая, недочитанная книжка с закладкой… А там передо мной сразу, только я войду в ворота, возникает видение: вот он поднимает пистолет к виску, вытягивается… Вот-вот!!! И лицом вниз, в раздевалке, на затоптанный пол губами… У меня мутился разум, в голове бил колокольный звон. А безумие — оно страшнее смерти. Я стала завидовать матерям, которые сидят у родных могил, падают на них, обнимают…
Как я не любила после войны смотреть на оружие! Оно никогда не было мне красивым. Маленького целую его, целую, чтобы он рос ласковым, нежным. Он не мог ни в кого стрелять, я его очень много в детстве целовала.
Даже не помню когда, но рано, по-моему, в пятом классе, он решил:
— Буду испытателем машин. Нет ничего красивее, чем авторалли.
Но у него болели почки, он просыпался утром с глубокими подковами-отеками под глазами (Могла ли я, пережившая войну, видевшая кровь и смерть, пьяневшая и засыпавшая от голода на ходу, родить здорового ребенка!). Врачи утешали, мол, парень слишком быстро растет, у него клетчатка рыхлая, вот слезы и застаиваются… Он уже поступил в училище, на отделение автослесарей, чтобы изучить машину до последнего болтика. Заканчивался второй год учебы, когда резкая боль в левой почке в один день уложила его в постель — гидронефроз. На рентгеновском снимке не просматривалось ни кусочка здоровой ткани. Я была в отчаянии, пока мы не попали к старому профессору, совершившему чудо: он оперировал несколько часов и спас почку. Через три-четыре года сын был бы совершенно здоров…
Жили мы на одну мою зарплату и его маленькую пенсию, едва хватало от получки до получки. Но тут, у кого-то переодолжив, в чем-то себе отказав, я сделала ему подарок — мотоцикл. Пусть самый дешевый, но мотоцикл — его мечта, его сон, его желание. Мчаться, двигаться, лететь!
— Мама, я так долго пролежал в постели и просидел в кресле, — говорил он, — что мне не семнадцать лет, а сто.
И вот тут первый звоночек… Звонок… Знак беды…
Уехал, и нету, нету. Постою на балконе, поброжу по квартире: где он, что с ним? И зачем я купила ему эту страшную красивую игрушку? Может, попал под машину, врезался во что-нибудь. Мотоцикл легкий, как мячик, подобьют, сомнут в кулек. Где он? Что с ним? Поздно ночью слышу во дворе шум (у нас второй этаж — рядом). Выглядываю: мой сын что-то тяжелое тащит на себе, да это же его мотоцикл!
— Ты сам целый? — выбегаю навстречу.
— Мама, они бьют…
— Кто? Что?
— Мама, бьют… Я ничего не нарушил, и права у меня были с собой. Останавливает милиционер и приказывает ехать в отделение. Посадили в камеру, а сами кромсали, ломали мотоцикл. Волок его на себе через весь город. Зря волок — теперь ему место на свалке.
Утром пришли его друзья. Я слышала, как они просвещали, учили:
— Ты что, с луны свалился? Мент останавливает — даешь ему полтинник. Зарплата у них маленькая, понимаешь?
Через какое-то время еще звонок… Знак…
Пошел к товарищам в общежитие. Там сидел милиционер. Учинил допрос, обыск, заставил даже носки снять. Ничего не найдя, все равно записал имя, адрес: утром в таком-то часу явиться в отделение милиции… Для профилактики…
И опять я услышала:
— Там бьют, мама… Туда только попади… Ребята такое рассказывают…
День рождения. Восемнадцать лет. Радостный, веселый ужин.
— Договоримся сразу и навсегда, — был его тост с фужером лимонада, — я человек взрослый. Ищу работу. Никаких звонков и ходатайств. Теперь я все сам.
Устроился водителем в таксопарк. В первые же дни украли магнитофон. Пообещали научить, как выпивать стакан водки одним духом и трехэтажному мату — посвящение в профессию. В субботу затемно бежал на черный рынок за запчастями, покупал их на собственные — на мамины — деньги.
Не выдержал, поделился со мной:
— Мама, как же можно так жить? Все воруют, обманывают!
Умная, идейно подкованная мама возмутилась:
— Потому что все молчат. Мы все всегда молчим. Ты должен выступить на собрании!
— Спасибо за совет, — сказал он через несколько дней. — Выступил. Аплодисментов не было. После собрания подошел начальник: „Ты у нас сильно грамотный, твою мать. Пиши „по собственному желанию“, твою мать, или такую статью впаяем, что в тюрьму сядешь, твою мать!“ И через час рассчитали. Еще должен остался — тридцать четыре рубля „за пережог горючего“.
Я в это время работала на областном радио, „воевала“ за справедливость, писала книгу о детях войны. Я уже признавалась, что война была самым сильным впечатлением моей жизни. Не для меня одной, для всех. О войне много писали, говорили, ставились фильмы, спектакли, балеты. Она как бы все еще оставалась нормой, мерой вещей. Сотни, тысячи могил в лесах, у дороги, посреди городов и деревень напоминали и напоминали о ней. Воздвигались новые памятники, монументы, насыпались скифские курганы Славы. Постоянно поддерживалась высокая температура боли… Я думаю, что она делала нас нечувствительными, и мы никак не могли возвратиться назад, к норме. Теперь вспоминаю, как в рассказах бывших фронтовиков меня поражала одна, все время повторяющаяся деталь, — то, как долго после войны не восстанавливалось естественное отношение к смерти — страх, недоумение перед ней. Представлялось странным, что люди так сильно плачут над телом и гробом одного человека. Подумаешь: один кто-то умер, одного кого-то не стало! Когда еще совсем недавно они жили, спали, ели, даже любили среди десятков трупов знакомых и незнакомых людей, вспухавших на солнце, как бочки, или превращающихся под дождем и артиллерийским обстрелом в глину, в грязь, разъезженную дорогу. Я сама помню, как сразу после войны ехала в трамвае, и вдруг крик, кричала женщина, у нее срезали с плеча сумочку. Она настигла и схватила за рукав грязного, оборванного мальчишку: „Помогите! Держите! Вор! Вор!“. Его стали все бить, пинать, еще пару минут — и растерзают. У меня подпрыгнуло от радости сердце, когда я увидела в этой вершащей дикий суд толпе молодого офицера, в форме, с орденами: спасет, защитит! То, чему я стала свидетелем, до сих пор бросает меня в дрожь. Он подтянул мальчишку к себе, взял его за руку и переломил ее, как палку… И вытолкнул из трамвая… Никто не закричал: ни толпа, ни мальчишка…
…Он лежал, прикрытый белой косынкой… И эта черная оборванная звезда… Я такие раны только на войне девочкой видела…
…Сколько было мальчишеской гордости, сияния в глазах, когда его взяли на работу инкассатором в Госбанк:
— Там такие ребята, мама. Бицепсы — во! А главное — теперь ни один гаишник не имеет права остановить мою машину! Понимаешь?! А то махнет палочкой — и гони полтинник. Унижайся.
Вдруг стало реальным наше самое желанное: он будет здоров, через три-четыре месяца врачи пообещали снять с диспансерного учета. Исчезли подковы-отеки, глаза стали большими и голубыми. Теперь он поступит в институт на заочное. Что за испытатель машин без образования, это не баранку обыкновенную крутить. Была у нас мечта недоступная — цветной телевизор. Повезло, взяли в кредит без предварительного взноса. Он смотрел свои любимые авторалли…
Мы были бы счастливы, если бы не один наш разговор…
— Ты всегда меня учила, — начал он этот разговор, — читай, думай. Вот я и думаю. Мои ребята вернулись из армии. Их не узнать. Они там такое видели, пережили, что готовы убивать всех подряд. У нас с тобой интересно получается: живем в одном доме, ты — на светлой стороны, а я — на темной. Ты пишешь очерки о славных тружениках, тебе вручают почетные грамоты и цветы. Ты заходишь в жизнь с парадного входа, а я с самого нижнего этажа, с подвала…
— Сын, жизнь бывает жестокой, но в ней, как в природе, мрак сменяется светом. Мы победили страшного врага, немыслимого — фашизм. Ты вообразить себе не можешь, что такое был последний день войны! Люди вышли на улицы: плакали, обнимались, целовались, пели, танцевали. Они верили, что все зло исчезнет с земли, все станут добрыми, честными, светлыми… После моря крови, слез… Я это видела девочкой, не могу забыть…
— Честные и светлые в психушках сидели. Их по пальцам можно пересчитать. Ты что, мама, на самом деле верила, что Сахаров — предатель, сумасшедший? А Высоцкий умер, потому что пил… А не от тоски, от беспомощности, что эту китайскую кремлевскую стену не пробить, не взорвать? От этой безысходности можно сойти с ума. Человеческий мозг ее не выдерживает. А ты как с другой планеты на землю спустилась. Сколько можно о войне?! За сорок с лишним лет пора бы что-нибудь другое сделать и восхищаться…
Был бы с ним рядом отец… Мужчина…
…За стеной раздался бой часов, я насчитала одиннадцать ударов… Где сын? Наш уговор — если он задерживается позже десяти, звонить — выполнялся неукоснительно. Двенадцать… Я металась из комнаты на балкон, с балкона — в комнату. Проверяла: работает ли телефон, исправен ли дверной звонок?
Звонок раздался… Открываю дверь.
— Мама, быстро таксисту два рубля, — с этими словами он вошел в дом, с разбитым багрово-синим лицом, с распухшими руками.
Отдал таксисту деньги. Не опустился, а осел, как непосильный для самого себя мешок, в кресло:
— Завтра приду на работу, получу оружие и перестреляю всю эту сволочь! Последнюю пулю оставлю себе!
Что случилось? Что произошло?
Побыл у приятеля, шел домой. Остановился на мосту — покурить, полюбоваться ночью, звездами (это я в детстве научила его смотреть на звезды в воде — мир в звездах, сын!). Проехала милицейская машина — хорошо, что мимо. Нет, развернулась и назад, к нему. Подбежали два милиционера:
— Ты чего тут стоишь?
— Курю.
— Иди в машину.
— На каком основании?
Они показали ему „основания“ — вывернули руки били по лицу, по голове, затолкали в машину, там топтали сапогами… По оперированной почке… Привезли в отделение милиции. Дежурил пожилой майор, мелькнула надежда: этот разберется, позвонит в инкассацию или домой. Услышал команду:
— В камеру!
В двенадцать часов вывели и приказали подписать одну бумагу, что в пьяном виде мешал отдыху трудящихся, а вторую, что все вещи ему возвращены.
— Я не был пьяным и никому не мешал, — еще пробовал оно что-то доказывать. — Кроме документов, которые вы мне вернули, в паспорте лежали деньги… Сорок рублей, четыре десятки…
— Посиди еще час в камере, подумай…
Через час он поставил свою подпись под обеими бумагами.
— Мама, но ты мне веришь — я не трус. Я подписал эти бумажки, чтобы вырваться оттуда. Мы ничего с тобой не докажем. Они защищены мундиром, а мы перед ними беззащитны. — И повторил: — Завтра приду на работу, получу оружие и перестреляю эту сволочь! Последнюю пулю оставлю себе. Я не смогу жить после этого унижения! Ты прости меня, мама, но я не смогу.
Всю ночь я стояла перед ним на коленях, умоляла. Он молчал.
До сих пор жалею, что не дала сыну выспаться в ту последнюю его ночь на земле…
Утром улыбнулся мне сквозь разбитое лицо:
— Хорошо, мама, не волнуйся. Я, наверное, и не смогу стрелять в людей…
Как я могла отпустить его?! Не кинулась следом, зная, что через час в его руках будет пистолет? Я ведь думала, что стреляют только на войне… Что война давно кончилась…
Он не вернулся… Ни ночью в половине второго, ни в два часа… Никогда.
В пять утра я добилась ответа:
— Несчастный случай… С оружием…
— Он жив?
— Нет…
В восемь утра я была в инкассации. Меня обступили со всех сторон:
— Мы спросили, кто его так разделал? Он махнул рукой: мужские дела… Подумали, может, из-за девчонки какой… Если бы знали… Он был очень хорошим парнем… Можно сказать — большой ребенок…
Спасибо, люди!
В девять утра я была у начальника городской милиции. Тот день я помню по часам, по минутам. Мозг работал точно и ясно. Я бежала по следу, как собака-ищейка, за убийцей… За теми, кто убил его до того, как он зашел в раздевалку и выстрелил себе в висок. Кто он? Кто они?
Начальник милиции прочел мое заявление:
— А может, у него и не было сорока рублей. А вы милицию обвиняете…
Я закричала, впервые за всю ту невыносимую ночь, за осиротившее меня утро:
— Вы больше ничего не прочли в моем заявлении?! У меня сына убили!!
…Через несколько лет дело прекратили „за отсутствием состава преступления“. Мой сын был прав: эту стену не прошибешь. Я искала убийц… Кто он? Кто они? Уничтожались документы, отказывались от своих первых показаний запуганные милицией свидетели… Менялись лишь следователи… Я искала убийцу… Боялась сойти с ума от этих слов, сожалений, упреков: что же он, как ребенок, подумаешь, стукнули в милиции… Из-за этого стреляться? Да, мы все так живем… Псих…
Да, на войне стреляют в других… И очень редко в себя. На войне у людей другая психика, иначе не выжить, не уцелеть… Я не вернулась с войны… Мы все не вернулись с войны… И я стала гордиться тем, что он не захотел так жить… Фамилию мою не называйте. Назовете, мне будет снова страшно выйти на улицу. Не верю, что мы живем в новом мире…»
История о том, что в смерти есть что-то женское…
Светлана Бутрамеева — инженер, 36 лет
«У меня сейчас мир как бы раздвинулся… Сначала, когда все причиняло боль, любое движение: глотнуть воздух, пошевелить рукой, открыть глаза, весь мир — это было мое тело. Потом мир раздвинулся до палаты, я увидела белый потолок, нянечку… Я ползла взглядом по вещам и узнавала их: тумбочка, таблетка, градусник… Потом, когда я стала пробовать ходить, мир раздвинулся до окна, до улицы, и там я узнавала все наново: дерево, трамвай, дети… Я очень долго возвращалась… Очень долго я могла думать только о том, что видела, о предметах, которые окружали меня; даже о людях, которые были рядом, я думала, как о предметах: синий… серый… высокий… Когда я стала способной думать не только о том, что вижу, но и о том, что помню, начались воспоминания. До этого я была в безвоздушном пространстве, вне времени, я ничего в себя не впускала — ни прошлое, ни будущее. Я вспомнила то, что со мной произошло… Это как припадок… Как молния… Я вспомнила, что у меня есть муж и сын… И что я их люблю… Но тут же мысль: лучше бы их никогда у меня не было… Ни свадьбы, ни моей беременности… Я ждала, я хотела девочку. Я любила кукол, у меня осталось много кукол. Мысль, что я их люблю, но без них мне лучше. Что я хотела бы отправиться в кругосветное путешествие, но в одиночку… Что я люблю жизнь, но не ту, которой живу…
Рядом со мной умирала девушка, она умирала несколько дней. Она лежала вся в этих трубках, даже кричать не могла: во рту трубка. Она, как и я, выпила уксусной эссенции… Почему-то ее не смогли спасти… Я смотрела на эти трубки, и увидела, представила в подробностях: вот это я лежу, я умерла, но я не знаю, что я умерла, что меня больше нет. Я сходила туда… Я вернулась… Но побывала там в уме, в образе… Я хотела переселиться… В мыслях я уже жила там… Я вообразила себе, что тот мир совершеннее… Я уже не та, какая была до этого, я никогда не буду прежней. Как это выразиться? Я уже не совсем земная, я уже где-то побывала…
Но ни мужу, ни сыну я не могу этого рассказать. Я могу это рассказать только незнакомым людям… Если вы поменяете мою фамилию, я вам признаюсь… Какой странный сон я видела здесь, в больнице. Как будто я в больнице и одновременно — дома. Я лечу над всем… Я вижу мужа, он лежит на диване и читает газеты, как будто это мой муж. А я — это я, и в то же время я — это совсем не я… Я набрасываюсь на своего мужа, срываю с него одежды, я бесстыдно раздеваю его и насилую, но в то же время я понимаю, что этого не может быть. Но все это я проделываю со сладострастием, которого никогда не испытывала… Даже в близости с ним… (Растерянно и испуганно замолкает.) Как вы думаете, у меня нормально с психикой? Я боюсь разговаривать с врачом, он не верит фантазиям… А знаете, как я вышла замуж? Я вышла замуж в двадцать лет. Он меня поцеловал, и я решила, раз он меня поцеловал, я позволила себя поцеловать, значит, я должна выйти за него замуж. (Смеется.) Я была еще девчонка, кроме детства, у меня никакого другого опыта жизни не было. (Долго молчит.) Мне нельзя больше быть здесь… Видеть это… Мне надо переместиться… Но и домой я не хочу… Муж вчера приходил:
— Так нам самим стирать грязное белье или подождать тебя?
— Носки постирайте, а остальное оставьте, — сказала я.
Как в пьесе (когда-то в институте я увлекалась театром): одно — то, что я думаю, второе — то, что я говорю, третье — то, что происходит. Им нужна домработница… У них кучи грязного белья и немытой посуды, они жуют и перехватывают что-то всухомятку. Я их люблю… Я должна вернуться…
Умирать унизительно. Попадаешь во власть людей не только близких, но и чужих. Они умывают, одевают, отпевают… Если бы бесследно исчезнуть, а то остается тело, с которым продолжают возиться. Это со мной случилось… Как молния… Как припадок…
…Мои родители — рабочие на фарфоровом заводе. Я у них одна. Они меня любили, баловали. Когда я выходила замуж, они дали мне все: мебель, посуду, ковер, постельное белье, подушки. Всю жизнь они это собирали, копили, я не помню, чтобы они куда-нибудь съездили на курорт или отдохнуть, они все время работали и говорили, что живут для меня. Я действительно не могу вспомнить, чтобы они сделали что-то для себя, кроме необходимого. Конечно, тогда жизнь была проще, потому что все жили одинаково, пусть кто-то чуть беднее, кто-то чуть богаче, но в общем-то все были равны. И в той жизни я знала, как жить: я должна была хорошо учиться, чтобы поступить в институт, после института выйти замуж. Мне кажется, что я прожила бы свою жизнь так, как прожили ее мои родители. Но все вдруг поменялось… Нас кинули в капитализм… И дело даже не в идеологии… Сломали схему, по которой я умела жить. Мы все были роботы, нас запрограммировали… И в то же время, например, я была идеалистка. Я была идеалистка в том смысле, что не знала свое место в жизни, как теперь говорят, свою цену. Жизнь не требовала от меня таких усилий, какие нужны сейчас, я могла мечтать. Вы оглянитесь вокруг: сколько у нас идеалистов, нереальных людей! Я любила проснуться утром, лежать с открытыми глазами и мечтать о чем-то радостном, далеком, я даже не обрисую детали, но чувства свои помню… Мне было легко жить… Мне все было понятно… Вот скопим деньги и купим машину… Построим дачу… Вырастет сын…
Свобода. Что это такое? Не знаю.
— Мама, — спрашивает сын, — ты знаешь, что такое роскошь?
Не знаю. Сломали схему… Раньше была одна знаковая система, сейчас совершенно другая… Я неожиданно оказалась за бортом… Я работала в большом проектном институте — полторы тысячи человек, его еще называли „женский институт“, потому что инженер у нас уже давно женская профессия. Мы проектировали конезаводы, животноводческие фермы… И вот нас кинули в капитализм… Первый слух: готовят списки на сокращение… Во время обеда купили с девочками торт, пьем чай и гадаем, высчитываем: кого? Уже известно, что мужчин не сокращают, у нас их и так мало, сокращают одних женщин. Второй слух: матерей-одиночек, разведенных и тех, кому осталось несколько лет до пенсии, тоже не трогают. Все начинаем собирать справки, некоторые даже разводятся. Курим и плачем в туалете. Наконец, вывесили приказ: я нахожу свою фамилию… Куда бежать? На кухню, в постель? Каждый брал свое. Я не борец, меня учили жить по схеме, а не бороться за свое место под солнцем. Мне обещали, что места под солнцем хватит всем. А теперь мне говорят, что надо жить по законам Дарвина, тогда у нас будет изобилие. Изобилие для сильных… А я — из слабых… Пошла на биржу труда… А там тысячи таких женщин, как я, после института, в основном интеллигентные женщины: инженеры, архитекторы, учителя… А требуются штукатуры, маляры, каменщики, крановщики, разнорабочие… Стала читать объявления в газетах, на столбах, на стенах домов. Требуются… Требуются… Требуются… Опять: штукатуры, каменщики… И молодые женщины для работы в коммерческих магазинах, офисах. Несколько раз сходила по этим адресам: кто за плечи берет, кто за коленку…
— Вы женщина без комплексов? Нам нужны женщины без комплексов…
— Я инженер.
— Инженеры нам не нужны.
И тогда я себе сказала: у тебя есть муж, у тебя есть сын. У тебя есть дом. Им нравится, когда мама красивая. Я буду делать красивые прически. Они любят, когда в доме пахнет домашним печеньем. Я буду готовить им вкусные обеды. Муж всегда хотел, чтобы я не работала, сидела дома. У очага. А тут еще у него хорошо пошли дела: он — архитектор, у них много заказов. Его денег нам хватает… На ту обычную жизнь, к которой мы привыкли, а о роскоши, об излишествах я представления не имею. Когда я так решила, мне показалось, что на какой-то миг я обрела освобождение и снова поняла, как мне надо жить. Я даже себя уговорила, что я домашний человек, а не общественный. Но первые дни по привычке заводила будильник, вскакивала в шесть часов утра. В окно гляну: все куда-то бегут, торопятся, а я — дома, не вместе со всеми, не в этой толпе. Недоумение: почему? Я привыкла принадлежать толпе, давно заведенному кем-то порядку, ритму. Это так просто и удобно. Мне некогда было задумываться: какая я, что люблю, что со мной происходит, что со всеми происходит? Утром даже забывала свои сны, они ускользали, мне некогда было докапываться до чего-то тайного в себе. Тайного не было. Душевная жизнь, наверное, заменялась работой, и даже не самой работой, а временем, проведенным в институте. Поэтому мне больше всего не хватало девчонок из моего отдела, именно девчонок, нашего трепа. Наш отдел — это отдел множительной техники, сюда приносили готовые чертежи. Мы их размножали и отдавали заказчикам. Сидишь и складываешь бумажки, я любила, чтобы аккуратно, стопочкой. Работа была на втором плане, а на первом — наше общение, и не общение это, а задушевные посиделки, треп. Раза три за день мы пили чай, ну, и каждая рассказывала о своем. Привирали, выдумывали. Отмечали все дни рождения и праздники. Складывались по двадцатьпятке на крестины, на родины, на свадьбу. А после работы бежишь домой, по дороге надо заскочить в магазины: в одном — постоять в очереди за мясом, в другом — яйца дают. Там геркулес выбросили. Два автобуса пропустишь, битком набитые, в третий, наконец, втиснешься. Домой приходишь уставшая, измученная. Не хочется думать ни о чем, отбрасываешь от себя все мысли, и у тебя полное право на то, чтобы отключиться. Ты полностью истратилась, ты чувствуешь себя мученицей, жертвой. Мне кажется, если бы сейчас все у нас было в магазинах, не стояли бы люди в этих очередях днем и ночью за молоком и мылом, хватало денег, самоубийств было бы еще больше. Появились бы вопросы, они всплыли бы тут же: почему мы так живем, кто мы? На них над было бы отвечать. А сейчас спасает то, что надо бороться за выживание. Все надо достать, выбить, скопить, подождать, вытребовать… А я выпала из этой тележки…
Теперь я вязала свитера, варила обеды, мыла полы, чистила окна. И в один из дней обнаружила, что они меня не замечают. Муж приходил с работы, заваливался на диван и читал газеты. Сын возвращался из школы, обедал и закрывался в своей комнате. Включал музыку. Со мной никто не разговаривал. Подай… Принеси… Где чистая рубашка? Где чистые носки? Что у нас на обед? Я дома жила, а они возвращались сюда переночевать, перекусить, сменить рубашку, сменить ботинки, чтобы их обмыли, обстирали. Когда сын был в школе, я заходила и сидела в его комнате. Так как он со мной общался мало, не откровенничал, я хотела приблизиться к нему через его вещи. Там было все новое, с незнакомыми наклейками, начиная с зубной щетки. Чужие песни, майки, сигареты, значки, носки… Как будто рядом со мной жил какой-то иностранец…
— Сынуля, — спрашивала я, — есть у тебя мечта? Ведь тебе уже шестнадцать лет. Ты, конечно, поступишь в институт?
— Зачем? Я стану бизнесменом. У меня будет много денег.
— А зачем тебе много денег?
— Я хочу жить, чтобы развлекаться. Деньги — это свобода. Это личная свобода. Ты, мам, знаешь, что это такое?
Не знаю. Для меня деньги всегда были материальны — это машина, дача, наконец, шуба или возможность купить парное мясо, фрукты с базара. О том, что деньги — это еще и свобода, я не предполагала. Я об этом не задумывалась, я, вообще, никогда не размышляла о свободе. Мне хотелось, чтобы у меня все было: дом, еда, одежда — все то, что сын сейчас называет „комфортом раба“. Жизнь для него — праздник, он чувствует ее быстротечность, а мне она казалась прочнее. Он не хочет ждать, он хочет все сразу. Сейчас! Его поколение уже не убедишь, не призовешь стать удобрением для будущего… Я подслушала, о чем они говорят, его друзья. Каждый мечтает иметь свое дело: киоск, магазин… От одной только девочки я услышала:
— У меня будет ателье. Я стану шить для бедных.
Кто-то тут же ее обескуражил:
— Ты разоришься.
И девочка замолчала. Все они хотят праздника…
Но растет же рядом соседский мальчик: запоем читает книги, мастерит корабли и хочет стать мореплавателем. Вот это мой мальчик, я его понимаю…
Но вдруг мой сын подойдет ко мне, обнимет, поцелует:
— Мама, я, может, завтра даже полы для тебя вымою.
Такого никогда не бывает, но все равно приятно. Я это помню.
Муж лежит на диване и читает газеты. Он принес в дом деньги… Остальное должна делать женщина, особенно если она дома. В воскресенье он любит пойти в парк и кататься на качелях. Раньше мы катались и целовались, теперь только катаемся.
Я убегала от них к подружкам. Еще недавно… Совсем недавно… Мы все были равны, жили одной жизнью… А теперь? Одна удивлялась:
— Деньги приносит? Что тебе еще надо? Главное — бабки. А ты еще каких-то отношений хочешь. Моя мечта — выйти замуж за иностранца или богатого кооператора.
У другой муж запил. Ей не до меня. В доме постоянно нет денег, сына голодного в школу отправляет и сама зимой ходит в старой осенней куртке и легких туфлях в мороз. У третьей муж стал миллионером. Что-то покупает, что-то продает. А она работет кочегаром, ну, разумеется, она уголь лопатой в топку не бросает, кнопки нажимает, но все равно им за вредность там молоко дают. У мужа — миллионы, а жена кочегарит, как говорится, пашет. Ей все время кажется, что кончатся их миллионы тем, что его посадят. Кому это у нас нравится, что у другого есть миллионы, а у него нет?! Или сожгут, или посадят. А у нее двое детей. Увенчались мои походы тем, что я поняла: моя душа — моя территория, я должна ее защищать, никого сюда не впускать. Разломят, разнесут, то ли из любопытства, то ли из сострадания. Надо учиться жить одной. А как? Я оказалась неспособной к одиночеству. Все время надо выбирать. Самой. Я измучилась. Хотела пошить халат, ходить дома в красивом халате. Чтобы мои ахнули! Покрой никак не подберу. Привыкла: юбка, кофта, джинсы. Как и раньше, нажарю котлет на всю неделю. А дальше что? Я не люблю кухню, не люблю наряжаться, краситься… Вышло, что дома я тоже не „профессионал“… И тут мой удел — снимать копии и размножать: платье как у всех, котлеты как у всех… Со мной не было праздника…
Может, щенка завести? Откуда люди взяли, что они, люди, лучше зверей и птиц?
…Мне разонравилось все в себе: мои волосы, моя походка… Со мной что-то стало происходить… Не только в душе, но и в самом организме… Это как припадок… Как молния… Слышу, что открывается дверь, я уже по повороту ключа угадываю: муж или сын. Муж! На столе бутылка с уксусной эссенцией… Я успела выпить лишь половину… Быстренько глотаю то, что осталось… Выбрасываю в мусоропровод бутылку… Чтобы никаких следов… Чтобы он не уговорил меня не умирать… Когда я его не вижу, когда он мне ничего не говорит, я знаю, что его слова… Это не любовь… Ему просто удобно, чтобы я была… Как это? Комфорт раба… Я не хочу быть рабой… Рабыней… Я так и не поняла, кто я… Мне лучше переселиться… И начать все сначала. Но перед тем, как выпить уксус… Это просто смешно… Неужели я не понимала, что исчезаю насовсем? Перед этим я посмотрела очередную, сто какую-то… серию фильма „Богатые тоже плачут“, этот мексиканский киносериал, который сейчас вся страна смотрит… Про любовь… Как это я умру, когда через полчаса кино? Я хотела на самом деле умереть… Я мечтала умереть… но мне все равно было интересно: они поженятся или нет? Бывает ли кто-нибудь счастлив? Как быть счастливой?
От сына мы скрыли… Теперь я колеблюсь: признаться или не признаться? Как-то он мне сказал, что в смерти есть что-то женское… Что он хотел сказать?»
История человека, который не мог быть счастливым…
Виктор Иванович Марутин — фотограф, 55 лет
Из рассказа дочери
«Он уехал на дачу… Это он нам сказал, что поедет на дачу. Сошел с электрички, его видели: с рюкзаком, с охотничьим ружьем и фотоаппаратом. И повернул в лес… По заячьему следу… Это нам тоже рассказывали. Было воскресенье. Хороший зимний день. Блестело чистое солнце. Много людей ехало на дачу…
Он был плохой охотник… Не любил убивать, не было в нем этого охотничьего азарта… Хотя всегда брал с собой ружье. Но привозил домой чаще всего не убитую дичь, а новые снимки. Птиц, зверей… Ему нравилось снимать зиму и осень. Лето почему-то не любил. Моя любимая фотография, однажды подаренная мне отцом на день рождения, — изумленный заяц… Он близко-близко наскочил на человека и не испугался, а изумился… Эта фотография была на нескольких выставках. Получила приз. Отец объездил всю страну. Снимал знаменитых ученых, космонавтов, передовых доярок, передовых пастухов и рыбаков, стройки и новостройки пятилетки. Но призы и дипломы получал за птиц и зверей. (Пауза.)
Стрелял он из своего охотничьего ружья… Прямо себе в сердце…
Мы нашли его через три дня… Мы искали его по заячьим следам. (Пауза.) Я убеждена… Никто не докажет… Он все унес с собой… Это личное… Тайное…
Может быть, это был страх перед уродливостью финала? Он хотел умереть сильным… (Молчит.)
Над его рабочим столом всегда висел портрет Хемингуэя…
Или была у него какая-то своя версия жизни. И она — бах! — и рухнула. А новая версия не придумана…
Мама? Чем жила мама? Она вставала в шесть часов утра, вымывала квартиру…
Можно многое вспомнить… Остались его записные книжки… Я их прочла. Я поняла, что не знала своего отца, я читала записи почти незнакомого мне человека. (Молчит.) Со мной он скорее… защищал свое время… А сам мучился… Метался… (Молчит.)
Наверное, главная причина там… В нем… (Молчит.)
Я знала о нем несколько вещей, которые для меня создавали образ моего отца. (Молчит.) Он родился в войну… Его преследовали какие-то видения оттуда… Но он никогда о них не рассказывал… (Молчит.) А мы любили с ним говорить о снах. О причудах ночной фантазии. Он ведь писал стихи… Для себя… Писал всю жизнь… Это вторая вещь, которую я о нем знала. Почему-то все свои стихи он сжег. Стихи не остались… (Молчит.)
Он любил другую женщину. Не мою маму. Когда-то он любил мою маму. Мама теперь вспоминает, как он заваливал ее цветами. И говорил: „Мне все в тебе нравится! Мне все в тебе нравится!“.
Я нечаянно увидела его на улице… Два года назад… Он стоял с букетом цветов, кого-то ждал. Я увидела его спину… А я только что вышла замуж… И я уже знала… Узнала эту спину, это напряжение… Мальчишеское… Охотничье…
Навстречу ему шла молодая девушка… Бежала… (Молчит.)
Я не запомнила ее лица. Я запомнила только, что это лицо было очень радостное. Счастливое.
Я побежала в другую сторону… (Молчит.)
Когда я вспоминала ее лицо… Ее лицо много раз всплывало в моей памяти… Когда я его вспоминала, меня не покидало чувство, что эта история будет кому-то из них стоить жизни. (Молчит.)
Без состояния любви он жить не мог. Может быть, даже не любви, а влюбленности он всегда хотел. Он физически не мог иначе существовать. (Молчит.) Хотя казалось всегда, что он занят другим. Фотографиями. Командировками. Своей газетой. Очередной выставкой.
Мать знала, как ему может быть хорошо. Как им будет хорошо! Она его никогда бы не отпустила… (Молчит.)
Она любит его… Она сейчас его любит еще сильнее… После смерти… Она до сих пор не догадывается, я ей не призналась ни тогда, ни после, что я их видела. Вдвоем. Моя мама… Она писала письма в его редакцию, в ЦК партии. В институт, где училась эта девушка. Ее родителям. Она требовала, чтобы ей вернули мужа. Чтобы государство, чтобы партия (а отец был членом партии) вернули ей мужа и любовь. Безумное поколение! Но отец был лучше их всех, он был лучший из них… (Молчит.) Мы об этом сейчас с ней не вспоминаем. Иногда мама даже приснится мне и во сне начинает грубо, жестоко со мной говорить. Просит снова подписать какие-то бумаги… А я не подписываю… (Молчит.) В жизни… При встречах мы об этом с ней не вспоминаем. Она сейчас всем рассказывает, как отец заваливал ее цветами… И говорил: „Мне все в тебе нравится! Мне все в тебе нравится!“. И был в военной форме. Офицер. И все девочки на почте ей завидовали, она работала телефонисткой. (Молчит.)
Зачем он это сделал… Из охотничьего ружья… Я ему теперь все время куда-то звоню… Я ночами кручу телефон… Диск срывается… Прокручивается… Никак не наберу нужную цифру… Я набираю-набираю до бесконечности… Мне кажется, что утром у меня болят пальцы…
Я у него прочла… В записных книжках… Он писал: „Теперь мне больше всего хочется любить свою дочь“.
Странный сон… Странный сон был… Мы бежим-бежим с отцом, убегаем… А потом куда-то падаем… Проваливаемся… Он то неожиданно мертвый, то неожиданно живой… (Молчит.)
Эта связанность наших жизней… Я хочу освободиться…
Я рассказала сон своему мужу. Я просила его помочь:
— Ты должен меня сильнее любить.
Мне кажется, я так чувствую, что мертвый отец меня очень любит. Он любит меня больше всех.
Я тоже его не хотела отдавать той девушке… Я не отдала бы… (Молчит.)
Это личное… Тайное… Не называйте его настоящей фамилии… Моя мама… Она всем рассказывает, как он ей дарил цветы… Мне ее жалко… Она как безумная… Снова пишет письма… Той девушке… Я не знаю, что она ей сейчас пишет, даже предположить не могу. Ей хочется бесконечно с кем-нибудь говорить об отце… Вспоминать… (Пауза.)
Это личное… Тайное… Я о чем-то только догадываюсь… Мне кажется… (Пауза.) Я думаю, что ему надо было придумывать новую версию жизни… (Молчит.)
Детские воспоминания об отце у меня связаны всегда с высотой, полетом к нему на плечи, к потолку. Я сижу у него „на загривке“, эта игра у нас называлась „папа-лошадка“… Лечу в воздух, это мы играем „в самолет“… Первая его профессия — военный летчик… Он учился летать в планерной школе. Учили их списанные на гражданку военные летчики. Фанаты! Отец вспоминал, что, когда он, уже взрослый, увидел, на чем они летали, удивился, как они живы остались. Самодельные планеры… Деревянные реечки, обитые перкалью… марлей… Все управление — ручка и педаль…
— Но зато, когда летишь, — говорил он, — ты видишь птиц, ты видишь небо. Ты чувствуешь крылья…
Наверное, потом это становится мечтой? Необходимость? (Молчит.) Небо меняет психику людей… Высота… Я знакома с его друзьями, бывшими военными летчиками. Они всегда были чуть-чуть высокомерны ко всем остальным: они летали!!
Я любила своего отца. Но я не любила его поколение. И я не боюсь этих слов. Отец был лучший из них. Но и его сломали: он стал как все. Мучился. Он мучился этим. (Пауза.) Собираясь вместе, они много говорили о войне. Победители! Победа в войне — это как бы найденный смысл их жизни. Пусть они сами не воевали, но они чувствовали себя детьми победы. Они победили… Они освоили целинные земли… Они полетели в космос… Они строили коммунизм… Они шутили на этот счет, сочиняли анекдоты. Но они верили в эти бумажные идеалы. Лицемерные и наивные идеалы. Я это для себя определяю как эмоциональный социализм. Все они были эмоциональными социалистами. Идеалисты! Слепцы! Но то было их жизнью, смыслом их жизни. Смысл жизни, как личная проблема, для них не существовал. Я помню, я хорошо помню, что даже за столом в праздники они говорили о России, а не о своей жизни… Такое это поколение… Такие люди… (Молчит.) Трагедия этого поколения в том, что оно жило в придуманном мире, и наконец реальность ворвалась в их жизнь… Из поезда, который мчался в социализм, в прекрасное далеко, им надо было пересесть в поезд с курсом — на капитализм. В опустошенную реальность… В конкуренцию… В другие человеческие отношения… Без иллюзий… На ходу вскочить в новый состав… Мгновенно… В моей жизни это могло вместиться, а в его — нет. Слишком стремительно все произошло, слишком неожиданно. Они ведь романтики!! А тут надо было придумывать новую версию жизни… Жесткую, рациональную. Жизнь взывала, кричала: „Меняй! Меняй!“ А он к этой новой роли был не готов. (Молчит.) Они все не готовы… Они не готовы умом, сердцем… Они не готовы на физиологическом уровне… Им бы драться на баррикадах… Крепко дружить… Петь одни песни, мечтать о „голубых городах“ и тосковать о несделанном, пить… А тут надо не воевать, а бороться. Бороться-то нужно с самим собой: со своим неумением, со своей ленью, со своей психологией… Они это не умеют… (Пауза.)
У отца уже было две жизни: сначала он — военный летчик, потом журналист. Это много для одного человека. Достаточно. (Молчит.) Это личное… Тайное…
Я недовольна собой… Сумбурно… Путано… Я ничего не объяснила… Это же — жизнь… И смерть…
А что я знаю?!
Я любила отца. У нас разные профессии. Я — экономист, я всю жизнь считаю, а он наблюдал жизнь, мечтал… Он из того поколения, которое слишком много значения придавало словам. Слишком много смысла. (Молчит.)
Кто-то каждый день приносит на его могилу один цветок… Почему белый? Или белую розу… Или ромашку…
Наверное, это она. (Молчит.) Он писал стихи. Он всю жизнь писал наивные, мальчишеские стихи… И любил фотографировать птиц и зверей… Мой отец…» (Замолкает и дальше отказывается продолжать разговор.)
Из записных книжек отца:
«Где же ты, хладнокровный историк?
Вот мысль А. Платонова, что смерть не однажды нас посещает…
Русский человек не хочет просто жить, он хочет жить для чего-то… Он хочет участвовать в великом деле…
Идеализация будущего — это наше духовное состояние, форма нашего существования в истории. Оно и загубило нашу русскую жизнь.
В сегодняшних газетах вдруг прочтешь:
„До середины 80-х годов Союз представлял собой многомиллионное человеческое поголовье с хорошо обученным механизмом азиатских табунщиков, призванных надзирать за планомерной эксплуатацией скотопромышленного сырья“ (газета „Московский комсомолец“).
„Многомиллионное человеческое поголовье“, „скотопромышленное сырье“…
А это была твоя жизнь…
— Я люблю тебя, — сказала она.
— Может, ты любишь не меня, а саму любовь? — спросил я.
— Я люблю тебя, — опять сказала она.
Женщина — это что-то другое…
У В. Н. теперь свое дело. Продает куда-то за границу наши спички. Имеет капитал.
За бутылкой водки он мне вчера признался, что иногда ему хочется петь с кем-нибудь наши комсомольские песни.
Я шел домой и попробовал вспомнить:
Дан приказ ему на запад, Ей в другую сторону. Уходили комсомольцы На гражданскую войну.Что мы знаем о нашей ненависти и любви? А кто-то напишет: „многомиллионное человеческое поголовье“, „скотопромышленное сырье“…
Лежал… Смотрел в потолок… И думал… А внутри уже работал, был запущен какой-то механизм.
В дороге.
Нам дай покопаться в звездах, а не сделать что-то на земле. Хотя бы нормальные дороги. Хороший асфальт положить.
Ты жил в то время. И вдруг ты виноват, что жил в то время. Мучился. Страдал. Не важно. Ты все равно виноват.
О стариках.
Их лишили всего. Даже возможности жить прошлым…
Помню. Барабан крутится… Бросаешь копеечку… Белочка достает твою судьбу… Записочку в зубах тебе несет… То ли кто-то вернется… То ли тоскует в плену…
А я ждал папу… А папа уже лежал в земле под Смоленском. С сорок первого.
Из разговора в одной школе со старшеклассниками.
Они даже телевизор не смотрят Политика их не интересует.
Но в дни августовского путча были на улицах с листовками. Сейчас, говорят, уже не пойдут к Белому дому. Они чувствуют себя обманутыми…
Я оделся, побрился. Очень. Ходил по городу, забредал в любимые книжные магазины…
Это мои воспоминания об августе 91-го, когда мы победили. Когда Горбачев вернулся из Фороса…
Еще я помню, как солдаты сидели на танках и ели мороженое…
Сижу у телевизора… Идет съезд.
Нет ни одного человека на земном шаре, в котором было бы столько общественного, как в нас. Живем событиями, а не жизнью. Что сказал Ельцин? Что ему ответил Хасбулатов?
Нет чтобы выпить. Или пойти к женщине. На лыжах покататься.
Идет съезд…
Идешь по знакомым улицам: французский магазин, немецкий, польский… Я подумал, что уже несколько лет не могу купить себе — советские носки, советские трусы… Советские сигареты…
Что с нами произошло? Куда мы делись?
Я думал, что он принес статью или свои фотографии, а он зашел поговорить. Студент. Рассказал, что ходил на митинги демократов. Потом был на собраниях национал-патриотов. Познакомился с фашистами. Теперь — к нам, в редакцию:
— Что делать?
Вечный русский вопрос. Вечный русский юноша.
— Мне обязательно кто-нибудь даст винтовку, — сказал, прощаясь. — Мой ум протестует — не могу убивать. Но они не простят.
— Кто они?
— Еще не знаю…
Сегодня разговаривал с убийцей. Красивая молодая женщина. Убила мужа… топором. Были моменты, когда я смотрел на нее, слушал, и она мне нравилась. Я ловил себя на мысли, что она мне нравится. Проникался ее словами, чувствами, я как бы с ней проживал ее жизнь. И не находил в себе ни отвращения, ни негодования.
По дороге в редакцию думал о том, что у нас грань между преступным миром и нормальным миром размыта.
Что-то главное ускользнуло из моих мыслей. Надо сразу записывать, не откладывать…
Приказ Сталина в 42-м году предписывал солдатам в случае угрозы плена самоубийство.
Подвиг Гастелло, Александра Матросова? Сгореть вместе с самолетом, превратившись в горящую бомбу, и, упав на мишень, закрыть своим телом чужой дот… Что это, если не самоубийство?
Я только и слышу со всех сторон: жизнь — борьба. Сильный побеждает слабого. Естественный закон. Слабые никому не нужны.
Это — фашизм… Это — свастика…
Кто-то сказал о нашем народе — народ-большевик.
Вчера опять в нашей газете заметка о том, как подожгли усадьбу арендатора… Люди успели спастись… Сгорели животные…
— Мы ничего не имели, но мы были счастливы, — уверена моя мама.
Почему для счастья нам нужен винегрет и вши? А если искра или хотя бы сахар без талонов? Тогда — что?
Раньше о смысле жизни говорили больше, когда нельзя было. Теперь не говорят.
— Надо искать положительных героев, — сказал на планерке редактор. Хватит плевать в прошлое…
Герой?! Он готов себя отдать во имя идеи. Если он готов отдать себя, свою жизнь, то что он способен с другим человеком сотворить?
Вчера опять с В.Н. пили водку. Он вернулся из Америки.
— Все ничего, — говорил. — Но когда я попал в детский магазин игрушек, мне стало плохо. Поют, играют, сверкают… Я понял, откуда я приехал.
Напились.
Уехал бы далеко-далеко, где нет ни белых, ни красных, ни красно-коричневых…
А не прав ли Ницше, уверенный, что „вера“ была во все времена, как у Лютера, только мантией, предлогом, завесой, за которой инстинкты разыгрывали свою игру?
Странно трогать вещи и думать, что они будут, а тебя не будет. Это письменный стол, даже пластмассовая авторучка…
Хочу поехать в свою деревню. Это трудно поддается объяснению… Ты был мальчик, а она — девочка… Ты дергал ее за косичку. Проходит много лет, и тебе так хочется видеть эту девочку.
А у нее пятеро детей и муж — пьяница.
Из разговоров с В.Н., с человеком, у которого сотни миллионов в кармане.
Соседи пишут на него анонимки в милицию и кэгэбэ (а это наверняка уже по привычке): откуда, мол, у него эти миллионы? У нас нет, а у него есть, мы же вот только-только все были равны.
Коммунизм не построили, но коммунистическое сознание воспитали…
Не будет у нас дела! Не дадут! И В.Н. это чувствует…
Утопия… Нельзя ее превращать в жизнь. Но мы все равно любим и будем любить не эту реальную жизнь, а ту… Жизнь, которая впереди…
Умер друг. Что осталось? Дети и жена, перессорившиеся из-за дачи и новеньких „Жигулей“?
Осталась тень…
В. Маяковский: „Единица — вздор, единица — ноль“. Я его боюсь. Я вынес его книги из своего кабинета…
Певец насилия. Я способен это сказать… Я, который вырос на Маяковском… Он был мой любимый поэт…
Кусочками сдираю с себя старую кожу… Пытка…
Никакого желания идти на улицу, делать что-то. Лучше ничего не делать. Ни добра, ни зла. То, что сегодня — добро, завтра окажется — зло.
Думал о наших наивных и счастливых 60-х годах. Мы — потерянное поколение. Надеялись на что-то. Не получилось. Мы это уже не догоним…
Что делать? Ничего. Потому что „этот замысел превышает человеческие силы“.
Отец В.Н. отбыл пятнадцать лет в колымских лагерях. Я устал, а он хочет жить. По утрам делает физзарядку, вечером бегает вдоль реки. Зимой — на лыжах. Старик хочет жить! Как же после всего, что с ним было, он хочет жить? Да еще с такой сверхъестественной силой хочет жить?!!
— Почему ты решила, что мы должны быть счастливы? — спросил я Н.
— Потому что я этого хочу, — ответила она.
Из газеты:
„…желание спрятаться в смерть, как в кокон, как в материнскую утробу (Фрейд), как в освобождение от мучительной необходимости решать проблему смысла своего человеческого существования“.
Вчера опять у меня была мать, у которой единственный сын погиб в Афганистане. Той страны, которая их туда посылала, уже нет. Куда ей идти со своими бумажками? Со своими болезнями? Его орденами?..
Надежда похищена…
Я как будто все помню. Откуда? На коленях у матери… Передается это близко-близко, как будто видел…
Я сидел на аккордеоне… Бабушка посадила меня в корыто и крестила веником…
Дед Ефим водил травинкой по вывернутому плугом черепу и говорил: „Когда-то это человек был… Человек сгнил, а сапоги остались… Хорошие немецкие сапоги с подковами…“
Дед пас коров… И я зимой и летом встречал его в этих сапогах…
Люди любят фотографироваться. Любят, когда рисуют их портрет.
Человек сам для себя тайна. Загадка. Он больше всего интересен сам себе. Он хочет себя разгадать…
В детстве. В юности. Я думал, что никогда не умру. Хотя жил среди „царства смерти“. Мы выкапывали из земли, собирали в лесу патроны, снаряды, гранаты. Стрелять я научился раньше, чем писать.
Помню мертвых. Немецкие и наши солдаты. Они лежали, стояли, прислонившись к окопу, сидели… Целые, разорванные на части или пополам… Мы ползали вокруг… Снимали часы… Искали что-нибудь поесть…
А зимой я катался на мертвом немце… Он застекленел от мороза… Мы садились на него верхом и неслись вниз… Как на салазках… Испугались весной, когда он растаял… И стал мягкий… Как живой…
Но я все равно думал, что никогда не умру…
У И. Бунина нашел мысль о том, какое громадное место занимает смерть в и без того крохотном человеческом существовании.
У меня исчезла грань между животными и мною. Собакой. Лошадью.
Как страшно кричит раненый заяц…
Человек не может быть счастливым…
У Пушкина — „Пир во время чумы“.
Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья…Замечаю: хожу в театр, хожу в кино. Хожу смотреть на смерть.
Есть ли кто-нибудь из нас, кто хоть бы раз в своей жизни не подумал о самоубийстве?
Кириллов в „Бесах“ Достоевского покончил с собой, недоумевая: „Почему не все люди кончают самоубийством?“.
Сегодня я вышел — весь ночной, с ночными мыслями, а люди — утренние. Они спешили по своим делам в разные стороны…
Проходил мимо фотостудии. А что, если меня не будет, и фотографии последней не останется? Сфотографировался.
Вечером забрал фотографии. Странно смотреть на свой портрет. Будто бы это я сам сфотографировал незнакомого человека…
Сталин. Какая-то загадка есть.
Что помню я?
Радио передает бюллетени — о состоянии здоровья товарища Сталина.
— Мама, как же так как? Неужели он может умереть?
— Ну и что тут такого? — отвечает мама. — Он уже старый человек.
— Почему все живут, как будто ничего не случилось? Все должно остановиться. Молчать.
А назавтра он умер. Нас послали за венком. За венком для Сталина…
Мы смеялись… Бежали… Мы уже забыли, что это Он умер…
Еще у Пушкина: „Без поэтических свобод жить очень можно“. Очень! Да мы не умеем.
Ну, чем бы плохо: уехать на дачу, растопить печку… Смотреть в окно.
Не умею…
Я представляю, как я это… сделаю. Но то, что я сделаю, будет грубым повторением. Неудачным.
Разговаривал в поезде с женщиной. Бывшая фронтовичка. Снайпер. Ехала от дочери. Та с детства — в сумасшедшем доме:
— Бог покарал меня, — говорила мать. — Я убивала… А она сошла с ума…
Молодой лейтенант, приехавший в отпуск, служит на Кавказе. Там гуляет война. Рассказывает и все время повторяет:
— Или я сойду с ума, или буду спокойно убивать других.
Поразила одна деталь: собаки боятся людей, они поняли, что голодные люди начали за ними охотиться…
Ну и что? Сегодня тысячи, миллионы антивоенных книг, фильмов, песен, балетов… А через пятьдесят лет люди делают то же самое…
Что мы знаем о революции, о гражданской войне? Теперь начинаешь понимать, что знали мы нашу литературу, ее героев, но не реальности, подробности того времени. Чапаев, Щорс, Буденный, Ворошилов… Реального человека все время переделывали под идею. То, что выдавалось за реальность, имело к ней такое же отношение, как Кащей Бессмертный и Соловей Разбойник. Это было не искусство, не философия, не литература, а „фабрика реальности“.
И я в этом тоже участвовал. И надо признаться, что долгое время искренне. После этих размышлений повез в свои фотоархивы. Сотни портретов… Лиц… И они тоже — искренние…
А как с этим быть?
Ленин мечтал: „Вся страна, как одна большая фабрика“.
Я не вижу свободных людей…
Она меня поцеловала, и я услышал ее запах… Запах молодого дерева…
Как хоронили раньше у нас в деревне? Гроб умершего выносили во двор, он прощался со своим двором, затем ставили в саду — и стучали в каждое дерево, чтобы пробудилось… Скотину поднимали в хлеву, чтобы не лежала… „Одну яблоню обошли, забыли, не постучали, так она засохла“, — рассказывала бабушка о смерти моего деда.
Наше русское… Жизнь на разрыв аорты… На краю… Как там у Высоцкого: „Хоть минуту еще постою на краю…“ На краю!!
Зачем вечно стоять на краю? А потому, что остальное все скучно. Пострадать дай! Упоение страданием… Ничего другого не хочется. Скучно деньги зарабатывать, дороги мостить, носки штопать… Русскому человеку все время праздника хочется!! Отвертку в бок соседу пырнуть или революцию сделать. На баррикады, на войну… В революцию… И тут же, после баррикад, после революций, подавай счастливую жизнь…
Кто мы? Да послушайте наши песни. Что в них? Призыв к смерти… К самоуничтожению…
И не социализм в том виноват, не коммунисты, а люди мы такие. Эта степь… Ширина… Географическая бесконечность… Прав Достоевский, что широк русский человек, надо бы сузить…
Рылся сегодня в своих фотоархивах. Мелькнула мысль, что в человеке три человека: ребенок, юноша, старик…
— Никогда так не хочется умереть, чем тогда, когда любишь, — вдруг заплакала Н., когда нам было хорошо.
Она плакала, а я в этот миг подумал, что она сама не поняла, что она сказала…
Умом понимаешь, а тело сопротивляется…
А вдруг это всего лишь химическая реакция в моем организме? И только? И надо пойти к врачу…
Или взять ружье и фотоаппарат…
Почему-то я совсем не вспоминаю небо. Как будто я никогда не летал…
Слушаю кассету… Любимую… Я думал, что я это ненавижу, а, оказывается, люблю:
— Хоть минуту еще постою на краю…»
История о том, как один человек за всех вас молился
Ольга В… — топограф, 2… года
«Я стояла на коленях и просила: „Господи! Я могу сейчас! Я хочу сейчас умереть!“ Несмотря на то, что утро, день начинается… Несмотря на то, что я умею петь, рисовать… Я захотела умереть. Это — избавление. Это свобода…
Я из Абхазии… Я там живу… Я — русская… Я приехала с войны… Вы меня понимаете? Я с войны…
Мне так хотелось быть светлой, доброй… Откуда-то приходить…
А теперь я всегда думаю о смерти…
И я забыла, что за мыслями нужно следить… Они ведь материализуются, обретают формы, невидимые глазу… (Затихает. А дальше — шепотом.)
У меня все ногти были до крови сняты… Я царапалась, впивалась в стенку, в глину, в мел… В последнюю минуту я снова захотела жить…
И шнур оборвался… Не выдержал…
Как забытье… Как большой сон, в целую жизнь сон… Но в конце концов я живая, я могу себя потрогать…
Но теперь я всегда думаю о смерти… (Долго молчит.)
…Когда мне было шестнадцать лет, умер мой папа. С тех пор я ненавижу похороны. Эту музыку. Я не понимаю, почему люди играют этот спектакль? Я сидела у гроба, я уже тогда понимала, что это не мой папа, моего папы здесь нет. Было чье-то холодное тело… Оболочка… След…
Как забытье… Как большой сон, в целую жизнь сон…
Как будто меня кто-то позвал… Я стала думать о близких, которые ушли туда… Даже о тех, кого никогда не видела, кто ушел раньше, чем я появилась на свет. Я вдруг увидела свою бабушку… Как я могла увидеть свою бабушку, если у нас даже фотографии ее не осталось? Но я ее узнала во сне, кто-то мне сказал, что это моя бабушка… У них там все по-другому… Это все тот же сон… Они не прикрыты ничем (мы прикрыты телом), а они не защищены…
Я не могу из этого плена вырваться, меня теперь только это интересует…
А я другая была, еще недавно я совсем другая была. Как я танцевала утром у зеркала: я — красивая, я — молодая! Я буду радоваться! Я буду любить!
…Он лежал… Русский парень… Чуть-чуть песком присыпан… Он лежал в кроссовках и военной форме… Назавтра кто-то кроссовки снял…
Вот он убит… А дальше, дальше что — там, в земле? И на небе?
Мое тело… Моя оболочка… Иногда меня не устраивает мое тело, я слишком ограничена во всем этом. Есть несоответствие между тем, что я сейчас внутри, и моим прежним телом. У меня все то же тело, а я уже другая. Вот я говорю, сама слышу свои слова и думаю, что я этого сказать не могла, потому что не знаю, потому что глупая, потому что люблю булки с маслом… Потому что еще не любила… Не рожала… А я это говорю… Я не знаю: почему? Откуда?
Там на войне… Там в церквах нет людей… Люди не идут к Богу…
Я зашла. Никого не было. Я стала на колени и молилась за всех. Тогда я не понимала: что я говорю? С кем?
Я сейчас приму таблетки. Мне нельзя волноваться… Меня водили к психиатору… (Пауза.) Иногда мне кажется, что я могу закричать. Иду-иду по улице и вдруг хочу кричать. Люди бегут на работу, за покупками, кто-то целуется, кто-то собачку прогуливает, а я… я хочу кричать… Раньше я вообще молчала. Я была нема. Это счастье, что я могу уже плакать и вопить…
Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Например, о том, что я люблю смотреть фильмы… Западные фильмы… Почему? Там ничего не напоминает нашу жизнь…
Я тоже хочу вас спросить: вот вы ищете таких, как я, находите… Разговариваете… А вы не боитесь, что вам понравится эта логика? Она вас увлечет?
Где я хотела бы жить?
Я хотела бы жить в детстве… В детстве я была с мамой, как в гнездышке… (Молчит.)
Я могу вам рассказать, что такое — война. Я ее видела… (Пауза.) В школе я любила читать военные книжки. Они мне нравились. Я даже жалела, что я девочка, а не мальчик: вот, если будет война, меня на войну не возьмут. Глупая. Странная. Ненормальная.
Мама обнимет:
— Доченька, что ты читаешь?
— Про войну. „Они сражались за Родину“ Михаила Шолохова.
— Зачем ты читаешь эти книги? Они не о жизни, доченька. Жизнь — это что-то другое…
Мама любила книги про любовь.
Моя мама! Я даже не знаю сейчас: жива она или нет?
Я увидела войну, и у меня было чувство, что я это уже знаю… Что со мной это уже было… Правда?! Вот такое странное чувство. Ненормальное.
Я расскажу вам про войну…
…Мы с мамой пошли на рынок. С июня в Сухуми не продавали хлеб. Мы хотели купить муки. Сели в автобус, рядом села соседка с ребенком. Ребенок играл, а потом стал плакать, и так громко, будто его кто-то напугал. И соседка вдруг спрашивает:
— Стреляют? Вы слышите: стреляют?
Сумасшедший вопрос!
Подъехали к рынку: бегут и кричат люди. В ужасе. Будто они надели какие-то страшные маски. Летят курные перья… Козленок белый мечется… Кричит… Кричит страшнее, чем человек. Я не передам, не произнесу, как он кричит. Невообразимо страшно. Я когда об этом думаю, то появляется мысль: а вдруг животным умирать еще страшнее, чем людям? Никогда об этом не говорят. Правда, я ненормальная? Я слишком много думаю о смерти… Я только этим сейчас внутри занята… И вот: лежат растоптанные куры, размазанные на камнях… Сапогами, туфлями… Какие-то вооруженные люди… Без формы, с автоматами… Они хватают женщин, забирают у них сумочки, вещи…
— Это уголовники, — шепчет мне моя мама.
— Это война, — отвечаю я.
Мы вышли из автобуса и увидели русских солдат.
— Что это? — спросила у них мама.
— Вы что, не видите? — ответил ей лейтенант.
— Это война, мама, — повторила я.
Моя мама — большая трусиха, она упала в обморок. Я затащила ее во внутренний дворик. Из какой-то квартиры нам вынесли графин воды…
Где-то бомбят… Где-то рядом…
— Женщины! Женщины! Мука надо? — Я оборачиваюсь: молодой парень тащит на себе мешок муки, на нем синий халат, в которых у нас грузчики ходят, но он весь белый, он весь мукой обсыпан. И смешно, и страшно.
Я стала смеяться, а мама говорит:
— Давай возьмем.
Мы купили у него муки. Он насыпал нам десять килограммов. Отдали деньги.
С ума можно сойти! Но это правда. Вот эти безумные подробности. Это правда. Потом только до нас дошло, что мы купили ворованное… Потом…
А где-то бомбят… Где-то рядом…
Пробежала с криком раненая курица… Это так страшно…
Мама мне не подсказывала. Никто. Я сама сняла с себя золотой крестик и спрятала его в муку. И кошелек с деньгами тоже спрятала. Я вела себя, как старая бабушка, я все знала. Уже я видела каких-то людей, которые ходили и приказывали:
— Сними это… Отдай это…
Муку, десять килограммов, я несла до нашего села — шестнадцать километров. Не верите? Но это так. Это правда. Хотя я видите какая маленькая, балетный вес.
На дороге горел бронетранспортер… Цветы на клумбе горели… Олеандры, розы… Георгины, петунии… (Молчит.) И все это в неописуемо прекрасный летний день… (Молчит.) Все это казалось каким-то наваждением… Клумбы, перепаханные гусеницами танка, как трактором… После стройки… (Молчит.) После стройки?.. Если бы не слышать, что стреляют…
Я шла спокойная… Если бы меня в тот момент убили, я не успела бы испугаться…
Пробежала раненая беременная кошка… Черная… (Молчит.)
Все старалась зачем-то запомнить… (Пауза.) Я читала много военных книжек… Я уже знала, что это надо запоминать… (Молчит.)
Идет шоссейная дорога, и рядом — железнодорожное полотно. На рельсах сидели молодые парни: у одних — черная лента на голове, у других — белая. И у всех — оружие. Они еще меня подразнили, посмеялись. Как будто ничего не случилось. Это правда.
Стоит грузовая машина. Пустая. За рулем сидит убитый водитель… В белой рубашке…
Мы обошли его… Без страха. В недоумении.
Бежали через мандариновый сад… Где-то стреляли… (Молчит.)
Я тащу муку…
— Оставь, — просит мама.
— Нет, мама, я не оставлю. Началась война…
Медленно, на малой скорости, движутся „Жигули“. Поднимаем руки. Голосуем. Машина проходит мимо, и так медленно, как на похоронах. На первом сиденье — парень с девушкой, на втором — труп женщины. Она, как большая кукла… как манекен, качается…
Почему-то не страшно…
У самого моря — еще одни „Жигули“… Лобовое стекло разбито… Лужа крови… Женские туфли валяются… Мужская шляпа…
Почему-то не страшно… Только скорее хотелось домой… Это правда.
Откуда-то сверху пополз тяжелый гул. Мы поднимали головы к небу: что там? А навстречу нам двигались танки. Они шли не колонной, а поодиночке, в беспорядке… Наверху сидели солдаты с автоматами. Автоматы в упор на нас наставлены… Они шли в беспорядке, потому что одни танки быстро уходили вперед, другие останавливались у коммерческих ларьков. Солдаты соскакивали… Прикладами сбивали замки… Брали шампанское, конфеты, шоколад. Все смеялись, очень много смеялись… За танками шел автобус „Икарус“, набитый матрацами. Почему — матрацами?
Война? Но разве это война? Какая-то война, не похожая на войну. В книжках она другая… Там приходят чужие… А тут все свои… На одном языке говорят… Братья… Знакомые… (Молчит.) На одном языке говорят… (Повторяет эти слова несколько раз.)
Дома мать кинулась к телевизору. Включила. Играл симфонический оркестр…
Перед тем как идти на рынок, я заготовила помидоры, огурцы… Чтобы консервировать… Банки вымыла… (Пауза.)
И вот я стала кухарить. Закручивать банки. Мать смотрела на меня как на сумасшедшую. А я кипятила, варила… Пробовала, что получилось: хватает соли или не хватает — добавить… Я продлевала нашу прежнюю жизнь… Еще на час, два… На один вечер… На одну ночь… Я люблю свой дом… Я люблю свою маму…
Я не знаю сейчас: жива моя мама или нет?
Утром через наше село пошли танки. Один остановился возле нашего дома. Экипаж — русский. Я поняла: наемники. Хотела у них спросить:
— Куда вы едете?
Они позвали маму:
— Мать, дай воды.
Мама принесла им воды и яблок. Воду выпили, а яблоки не взяли. Сказали:
— У нас вчера одного отравили яблоками.
Я боюсь крови… Я больше всего боялась увидеть, как убивают…
На улице встречаю подругу:
— Что у тебя? Где твои?
Она прошла мимо. Я побежала за ней, схватила за плечи:
— Что с тобой?
— Я уже твою маму предупредила: вы ко мне не подходите: я — мингрелка, у меня муж — абхазец.
Я обняла ее изо всех сил!!
Ночью к ней приходил родной брат… И хотел ее мужа убить… Только за то, что он абхазец… Только за это…
Через несколько дней хоронили соседа… Грузина… Девятнадцать лет… Его мать идет за гробом: то плачет, то обернется — и смеется… Она сошла с ума… (Молчит.)
Они недавно в одном классе учились, а теперь стреляют друг в друга… (Молчит.)
Вы когда-нибудь случайно подслушали, о чем говорят старики возле дома на скамейке? О том, как они были солдатами. А старые женщины вспоминают, какие они были молодые и красивые. (Пауза.) Мужчины воюют… Мальчишки…
Моя мама говорила… Она говорила: „Я никогда так не была счастлива, как в старости. И вдруг — война“.
Сидит старая женщина над убитой собачкой… И плачет… Все смотрят и молчат…
Моя мама ужасная трусиха… Прибежит от соседей:
— Рассказывают, что в Гаграх сожгли целый стадион грузин.
— Мама!!
— А еще я слышала, что грузины кастрируют абхазцев.
— Мама!
— Вот ты не веришь… А в Сухуми разбомбили обезьянник… Ночью грузины за кем-то гонялись и думали, что это абхазец. Они его ранили, он кричал. А абхазцы на него наткнулись, думали: грузин. Догоняли, стреляли. А под утро все увидели, что это раненая обезьяна. И все кинулись ее жалеть.
А человека бы убили…
Мне нечего было сказать моей маме.
Я пошла в церковь. Людей не было. Я стала на колени и за всех молилась. Я не знаю, кому я говорила? С кем?
Я ему говорила:
— Они идут, как зомби. Идут и верят, что творят добро. Но разве можно автоматом и ножом творить добро? Вразуми их!
Они заходят в дом и, если не находят никого, стреляют в скотину… Я видела убитых поросят… Крову с простреленным выменем, из которого текло молоко… Даже убитого попугая в клетке… Они стреляют в банки с вареньем, в мешки с мукой… Они расстреливают из автоматов воробьев: одни по эту сторону, другие — по ту… Вразуми их!
Вчера я была свидетелем… Я сама видела, как молодой парень… Грузин… Он бросил автомат и кричал:
— Куда мы приехали!! Я могу погибнуть за Грузию! Я приехал погибнуть за Грузию, а не воровать чужой холодильник! Зачем вы идете в чужой дом и берете чужой холодильник? Чужой ковер? Я хочу умереть за Грузию…
Его под руки куда-то увели. Уговаривали.
Другой грузин поднялся во весь рост и пошел навстречу тем, кто в него стрелял:
— Братья абхазцы! Я не хочу вас убивать, и вы в меня не стреляйте.
Его застрелили свои в спину…
Об этом все друг другу рассказывают… Он поднялся во весь рост и пошел навстречу тем, кто в него стрелял: „Братья абхазцы…“
А русский парень Соколов с гранатой бросился под танк… Он что-то кричал… Но никто не расслышал, что он кричал… (Пауза.) В танке горели грузинские парни… Они тоже кричали…
Я говорила и говорила… Шептала и шептала… В детстве меня никто не учил молитвам. Я придумывала свои…
Я возвращалась домой.
Дома плакала мама:
— Я никогда не была такая счастливая, как в старости. И вдруг война…
У мамы в доме все подоконники заставлены цветами. Подушки вышиты цветами, она сама вышила. Она мне признавалась, она не раз мне признавалась: „Я проснулась ранним-ранним утром, солнце пробивается сквозь листву, и я чувствую, что это солнце, что это радость струится, и у меня сразу мысль: „Вот я сейчас открою глаза — и сколько же мне лет?““. У нее бессонница, у нее болят ноги, она тридцать лет на заводе проработала, но она утром не знает, сколько ей лет. А ей шестьдесят пять. Потом она встает, чистит зубы, видит себя в зеркале: на нее смотрит старая женщина…
Но потом она готовит завтрак и забывает об этом. И я слышу, как она поет…
Раненые старики… Это еще страшнее, чем раненые дети… Если дети ничего не понимают, то эти все понимают… Это правда.
Я слышу ночью, как меня окружают сны. У меня сны не страшные. Мне все время снится одно и то же… Как я ухожу из своего тела… Поднимаюсь высоко-высоко…
Первые дни грабители ходили в масках… Черные чулки на лицо натягивали… Потом без масок… Идет: в одной руке хрустальная ваза, в другой — автомат… Или: на спине — ковер, а на груди автомат болтается. Телевизоры тащат, стиральные машины… Женскую шубу несет… Мебель грузят… (Молчит.)
Девочка одна у нас повесилась. Мы пришли к ним в дом, пришли помочь. А ее бабушка говорит, что она любила парня, а он женился на другой. Ее хоронили в белом платье. Она из-за любви… Она любила… Никто не верил… Не мог понять. Как это из-за любви? Красивая девочка… Вот если бы ее изнасиловали…
Смерть не самое страшное из того, что я там видела… Не самое страшное… Как будто… Нет… Все можно вспомнить… Волнуюсь… Путаюсь в словах… (Молчит.) Мамина подруга… Тетя Соня… Она насмотрелась на все это и заболела. Слегла.
— Девочка моя, зачем после этого жить? — говорила она.
Я кормила ее супом из ложечки. Она не могла глотать… (Молчит.)
Я еще не готова исповедоваться… Открываться незнакомому человеку… (Молчит.) Не готова…
Они с оружием… Но они — мальчишки… Они еще маленькие… Восемнадцать — девятнадцать лет… Они еще недавно вешали кошек в подвалах… Разрывали лягушек на части, чтобы узнать, как устроен мир. Им никто ничего не объяснил… Если бы у них был хороший учитель физики… Или русской литературы… Наивно? Но я так думала. Или если бы у них была мама такая, как у меня… (Молчит.) Больше всего я люблю думать о маме… Вспоминать…
Как моя мама долго по вечерам расчесывает волосы… Тихонько покачивается и улыбается сама себе… Мама часто рассказывала о папе, как они любили друг друга. Я слушала, как старую сказку… О том, как сначала у нее был другой муж… Однажды она гладила ему рубашки, а он ужинал… И вдруг (это только с моей мамой могло такое произойти) она сказала вслух: „Я больше рожать от тебя не буду“. Забрала сына и ушла.
А мой папа бродил за ней по пятам. Ехал в автобусе. Ждал на улице. Отморозил зимой уши. Ходил и смотрел И однажды он ее поцеловал… Он любил клятвы:
— Поклянись, что любишь меня! Хочешь, я поклянусь?!
Я родилась от любви… Вся тайна в том, что я родилась от любви…
…Мама продала все ценное, что было у нас в доме: телевизор, папин серебряный портсигар, который мы всегда берегли, мой золотой крестик… Чтобы уехать из Сухуми, надо было дать взятку. Люди неделями живут на вокзалах. На аэродромном поле. Под бомбежкой, под обстрелами… Взятки берут большие… Военные, милиция… Наших денег едва хватило на один билет… (Молчит.)
А я хотела пойти в госпиталь… Ухаживать за ранеными… (Молчит.)
Мне не разрешили взять даже сумку с мамиными пирожками… А рядом… Это правда. Рядом мужчина в штатском… Но солдаты к нему обращались: „Товарищ майор…“ Он грузил мотоцикл… Большие деревянные ящики… И тут же женщина… Эта женщина взяла двух мальчиков: один — свой, второй соседский… Мальчики распухли от голода… (Молчит.)
Мама меня оторвала от себя… Затолкала в самолет…
Я не знаю сейчас: жива она или нет?
— Мама, а куда я еду? — спрашивала я. Плакала. Кричала.
— Ты едешь домой… В Россию… (После долгой паузы.)
Я хотела погибнуть на войне. На какой-то другой войне. Красивой… За Родину! Это правда.
В Москве я жила на вокзале… Две недели… Там беженцы отовсюду… На всех вокзалах — на Белорусском, на Киевском… С семьями… С детьми, со стариками… Из Армении, из Баку, из Таджикистана… Они спят на скамейках, на полу… Месяцами… Суп на вокзале варят, макароны… В туалетах… Там есть розетки — в туалетах… Или возле эскалатора, там тоже розетки… Воды в таз налил, туда — электрокипятильник… Лапши набросать, мяса… Суп готов! Я ела… У меня быстро кончились деньги…
Можно все вспомнить… Но я еще не готова исповедоваться… Открыться незнакомому человеку…
Мне кажется, что все вокзалы в Москве пропахли консервами и супом харчо… Детской мочой… Старыми пеленками… Их сушат на батареях, на окнах…
— Мама, а куда я еду?
— Ты едешь домой, в Россию…
Я не знаю сейчас: жива моя мама или нет?
Я жила на вокзале две недели… Там тысячи людей… Они никому не нужны. Их никто не ждет. Вся Москва — это вокзал… Большой вокзал… Меня хотели изнасиловать… Два раза: один раз какой-то солдат, другой раз милиционер…
Днем я убегала на Красную площадь. Или ходила по магазинам. Продуктовым. Очень хотела есть. Одна женщина купила мне пирожок с мясом. Я не просила. Она ела, а я смотрела, я даже не понимала, что я смотрю, как она ест. Как во сне… Куда-то идти, бежать, чтобы не сидеть на вокзале. Не думать о еде, о маме. Куда идти? На Красную площадь… Моя мама всю жизнь мечтала: поехать в Москву — увидеть Красную площадь и Ленина… Это правда.
Днем я жила на Красной площади. Ночью — на железнодорожном вокзале. Пока не приехала мамина сестра. Из Рязани. Две недели. Пока я написала письмо, пока оно дошло. Пока тетя насобирала по соседям и родственникам деньги на дорогу. Ей восемьдесят лет.
— Ольга… вас ожидает в комнате милиции ваша тетя из Рязани.
Все зашевелились, задвигались: Кто? Кого? Как фамилия?
Мы прибежали вдвоем: там оказалась еще одна девочка с такой же фамилией, но с другим именем. Из Душанбе… Как она плакала! Это правда.
Как она плакала… (Долго, очень долго молчит.) …У меня тут уже есть друзья. Они — хорошие, они — нормальные. А я с войны…
Я говорю-говорю им, а они:
— Ну и что? Пойдем в кино.
Я говорю-говорю, а они:
— Ты что, чокнутая?
А я теперь только о смерти и думаю… Я не могу понять смерть…
По телевизору услышала… Священник говорил… Он говорил такие слова: таинственный и страшный смысл страдания… Таинственный и страшный… Я стала думать над этим… Над этими словами…
А моя тетя? Она ходит к Богу за утешением… И говорит, что смерть заслужить надо. Страданием.
Я стояла на коленях и просила: „Господи! Я могу сейчас! Я хочу сейчас умереть!“ (Забывает, что не одна. И уже себе, для себя — все тот же вопрос.) Я не знаю сейчас: жива моя мама или нет?
Вчера в парк пошла… Целовалась… Я целовалась?! Смеюсь… Хохочу… Живу…
Что, этого всего со мной не было? Там… На войне… (Молчит.)
Я не могу пережить это… (Молчит.) Не могу пережить, что я это пережила… Как же так? Не сошла с ума… Не свихнулась…
Господи! Я хочу сейчас умереть!!»
История с красным флажком — между взмахом крыла и лопаты…
Анна М-ая — архитектор, 55 лет
«Сначала мне приснился сон, что я умерла… Этот сон был раньше, чем я захотела умереть, подумала о смерти. В детстве я много раз видела, как умирают, а потом я об этом забыла. Когда мне приснился этот сон, я уже не смогла оторваться от мысли о смерти. Я проснулась в то утро с чувством, что у моей головы, за мной кто-то стоит… Открыла глаза и чувствую, что кто-то там стоит, я хочу повернуться, чтобы увидеть, кто это, я хочу оглянуться… Но я лежу… Какой-то страх или предчувствие не пускает меня посмотреть назад, даже не предчувствие, а знание, что этого делать не надо, нельзя. Вы думаете, я не хочу жить? Я очень хочу жить! Я не просто жила, я любовалась жизнью. У меня много сил уходило на любование жизнью: вот яблоня в белом, светится, вот чей-то голос за окном, как будто я первый раз слышу человеческий голос… Я какая-то доверчивая была! Мне было радостно жить, жизнь меня ошеломляла, завораживала. Я не выражусь… Я не объяснюсь…
Вот мы с вами разговариваем, а я слышу запах мать-и-мачехи… Горы вижу… Как будто началось какое-то возвращение… Я обратной дорогой пошла… Деревянную вышку вижу… Желтый пол… И железные кровати, очень много железных кроватей… Они одна возле другой, маленькие железные клетки… Это все было во мне глубоко-глубоко запрятано. Мне раньше казалось, что, если я кому-нибудь расскажу, мне захочется убежать от этого человека, чтобы больше никогда его не видеть, не встречать. Если бы вдруг с меня сняли, содрали, стянули кожу… И я — одна… А я никогда не жила одна… Я жила в лагере в Казахстане, он назывался Карлаг… Сталинский лагерь… В детдоме, в общежитии… Свой дом у меня появился, когда мне было уже сорок лет. Нам дали с мужем двухкомнатную квартиру, у нас уже дети были большие. Я бегала к соседям по привычке, как в общежитии, одалживала то хлеб, то соль, то спички, то утюг, и они меня за это не любили. А я никогда не жила одна…
Я шла пешком с работы через мост, я люблю мосты, в Ленинград на экскурсию ездила, чтобы посмотреть на мосты, остановилась у перил и глянула вниз: меня потянула высота… В той, другой жизни, у меня, видно, что-то было с высотой, она меня всегда тянет… Мне захотелось опуститься вниз плавно, тихо, чтобы не слышно, чтобы не больно и чтобы никто не видел. И никто потом не нашел. Как будто меня никогда не было… Я не выражусь… Я не объяснюсь… (Замолкает.) Мне теперь стало страшно жить…
Я всего боюсь… Я боюсь человека… Раньше я всегда что-то ждала от каждого встреченного человека, что-то хорошее. Выйду в город — это наш город! Была большая, была непобедимая страна! Я живу прошлым… Как за ключей проволокой… Нет вышки, нет часовых, но уйти мне оттуда некуда… Из прошлого… Я никому здесь… Сейчас не нужна… И дома, и на работе. Вокруг меня живут совершенно другие люди, они все не такие, как я. У меня с детства это чувство, с лагеря… Помню, как в „Новом мире“ напечатали и все читали „Один день Ивана Денисовича“ Солженицына. Были потрясены! А я не понимала, почему такой интерес, такое удивление? Все было знакомое, абсолютно для меня нормальное: зэки, лагерь, параша… И — зона…
…В тридцать седьмом арестовали моего папу, папа работал на железной дороге. А через полгода я родилась. Мама бегала, хлопотала, доказывала, что папа не виноват, что это ошибка… Обо мне она забыла… Родился недоношенный ребенок… Но я выжила… Я зачем-то выживала много раз…
Потом маму тоже арестовали, и меня вместе с ней, так как меня нельзя было оставить одну в квартире, мне было четыре месяца. Двух старших сестричек мама успела отправить к папиной сестре в деревню. Но из НКВД пришла бумага: привезти детей назад в Смоленск. Их забрали прямо на вокзале:
— Дети будут в детдоме.
Они рассказали нам об этом через много лет…
Я помню, что сначала в лагере я жила с мамой. Все маленькие дети жили с мамами. Потом нас поместили в отдельный детский дом. Утром через проволоку мы видели, как наших мам строят, считают: один, два… И уводят на работу. Уводят за зону, куда нам ходить было нельзя. Когда меня спрашивали: „Откуда ты, девочка?“ — я отвечала: „Из зоны“. „Зазона“ — это был другой мир, что-то непонятное, пугающее, для нас не существующее. То ли это была сказка, то ли ужас. Не знаю. За зоной — пустыня, песок, сухой ковыль… Мне казалось, что пустыня там до самого края, дальше горизонта. Что другой жизни, кроме нашей, нигде нет. Нас охраняли наши солдаты…
Был у меня дружок Рубик Циринский, кучерявый, с профилем Пушкина. Он водил меня к мамам через лаз под проволокой. Всех построят идти в столовую, а мы спрячемся за дверью.
— Ты же не любишь пирожок с капустой? — говорит Рубик.
Я всегда хотела есть и очень любила пирожки с капустой, но ради того, чтобы увидеть маму, я согласна была на все.
— Нет, я не люблю пирожок с капустой. Я люблю маму.
И мы ползли в барак к мамам. А барак был пустой, мамы все на работе. Мы знали, но все равно ползли и, как щенки, обнюхивали там каждый угол: железные кровати, железный бачок для питьевой воды, кружка на цепочке, — все пахло мамами. Иногда мы там находили чьих-то мам, они лежали на кровати и кашляли. Чья-то мама кашляла кровью… Рубик сказал, что это мама Томочки, которая у нас самая маленькая. Эта мама скоро умерла. А когда умерла сама Томочка, я долго думала, кому сказать, что Томочка умерла. Ведь ее мамы нет, ее мама тоже умерла…
Когда я своей маме об этом рассказывала… через много лет… на не верила, она говорила:
— Тебе тогда было всего четыре годика.
Я вспоминала, как из каких-то маленьких кусочков она шила большие фуфайки. Она снова мне не верила:
— Тебе было только четыре годика.
— Мама, я еще спрашивала: почему они черные? А ты отвечала: „Зато теплые“.
— Правда? — удивлялась мама. — А я хочу все забыть. Я однажды даже забыла лицо нашего папы…
Мне кажется, я помню все: аромат кусочка дыни, который мама мне однажды принесла. Размером в пуговицу… В какой-то тряпочке… Я запомнила его навсегда. Помню, как мальчики позвали меня играть с кошкой, а я не знала, что такое кошка. Ее принесли из-за зоны, в зоне кошек не было, потому что не оставалось никаких остатков еды, мы все подбирали, съедали, как зверьки. Ели какую-то траву, корешки. Нам очень хотелось угостить чем-то кошку, но у нас ничего не было, и мы кормили ее своей слюной после обеда. Она ела.
Помню, как мама хотела дать мне конфету.
— Анечка, возьми конфету! — кричала она.
Охранники ее не пускали, они оттаскивали ее от меня за длинные черные волосы. Лаяли собаки, большие серые овчарки. А она оглядывалась и звала:
— Анечка, возьми конфету!
Мне было страшно. Я не знала, что такое конфета. Никто из детей не знал, что такое конфета. Все испугались и поняли, что меня надо спрятать, и затолкали в серединку. Меня всегда дети ставили в серединку: „Потому что Анечка у нас падает“. Я ничего не видела, я только слышала, как моя мама кричала:
— Анечка, возьми конфету!
(Закрывает лицо руками и молчит.)
Давайте не будем больше вспоминать… Я ничего не помню… Может, мне кто-то все это рассказал… Или я в книге прочла… (Опять молчит.) А вдруг я схожу с ума?
…В пять лет нас вывезли из лагеря, как сейчас помню, в детдом номер восемь поселка номер пять. Все было под номерами. Нас погрузили в грузовик и повезли. Мамы бежали, цеплялись за борта, плакали. Помню, что мамы всегда плакали, а дети не плакали никогда. Мы никогда не были капризными, не баловались, не смеялись. Плакать я научилась в детдоме. В детдоме нас очень сильно били. Нам говорили:
— Вас можно бить и даже убить, потому что ваши матери — враги.
Отцов мы не знали.
— Твоя мама плохая. — Не помню лицо женщины, которая мне это повторяла и повторяла.
— Моя мама — хорошая. Моя мама — красивая, — плакала я.
— Твоя мама — плохая. Она — наш враг.
Я не помню, говорила ли она само это слово „убить“, но помню, что наших мам не должно быть. Мы знали, что нас охраняют наши солдаты. Наши! Позже мы понимали, что солдаты нас охраняют от мам. У нас не было воспитателей, учителей… Таких слов мы не слышали… У нас были командиры… Мне хотелось, чтобы меня били так, чтобы остались дырки, и тогда перестанут бить. Дырок у меня не было, зато гнойные свищи покрыли все тело. Тогда я поняла, что если что-то очень хочешь, оно сбывается. У моей подружки Олечки были металлические скобочки на позвоночнике, ее нельзя было бить. Я ей завидовала и тоже хотела иметь скобочки… А еще я ждала, чтобы скорее была ночь. Ночью к нам приходила тетя Фрося, ночной сторож. Она была добрая, на нам рассказывала сказки. Про Аленушку… Приносила в кармане пшеничку и давала по нескольку зернышек тому, кто плакал. Больше всех у нас плакала Лилечка, она плакала утром, вечером плакала… Плакала, когда мы кушали, плакала, когда мы учились… У нас у всех была чесотка, толстые красные чирьи на животе… А у Лилечки под мышками были еще волдыри, они лопались гноем… Помню, что дети доносили друг на друга. Это поощрялось. Больше всех доносила Лилечка… Мы ждали весну, чтобы нарвать цветов и съесть их. Мы ели подснежники… Лилечка умерла зимой… Если бы она дожила до подснежников, она бы не умерла… (Пауза.)
В классе мы пели счастливые песни о Сталине. Первое мое письмо я написала товарищу Сталину. До этого у нас бумаги не было. Когда мы выучили буквы, нам раздали чистые листки бумаги, и под диктовку мы писали письмо самому доброму, самому любимому товарищу Сталину. Мы его очень любили, верили, что получим ответ. Что он нам пришлет подарки… (Пауза.) На Первое Мая нам выдавали красные флажки… Мы радостно ими махали… Я всегда боялась, что мне не достанется флажок… Что у меня не будет красного флажка… (Долго молча смотрит в окно. После снова торопится выговориться.)
Нас все время учили, нам говорили:
— Родина — это ваша мать… Родина — это ваша мама…
Маленькие, мы у всех взрослых, которых встречали, спрашивали:
— Где моя мама? Какая моя мама?
Никто не знал наших мам…
Первая мама приехала к Рите Мельниковой. У нее был изумительный голос. Она нам пела колыбельную:
Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни… Дверь ни одна не скрипит, Мышка за печкою спит…Мы такой песни не знали, мы эту песню запомнили. Просили: еще, еще. Я не помню, когда она кончила петь. Мы заснули. Она нам всем говорила, что наши мамы хорошие, что наши мамы красивые. Что наши мамы все поют эту песню. Мы ждали…
Потом было страшное огорчение. Она нам сказала неправду. Приезжали другие мамы. Они были некрасивые, больные. Они не умели петь. С тех пор я не люблю неправду. Нас нельзя было утешать неправдой. Нас нельзя было обманывать: твоя мама жива, а не умерла. Ребенок начинал верить, а потом оказывалось, что мамы нет. Я не люблю сказки. Долго не читала сказки. Я начала читать сказки, когда у меня родилась дочка, когда ей исполнилось пять лет, и она просила:
— Сказку, мама, расскажи страшную сказку.
Я читала ей сказки и всегда удивлялась: почему в наших детских сказках так много убивают и почему детям это нравится? И сейчас не понимаю.
В детдоме мы были очень молчаливые. Мы не говорили. Не помню наших разговоров. Помню прикосновения. Моя подружка Валя Кнорина до меня дотронется, а я знаю, о чем она думает, потому что мы все думали об одном и том же. Мы знали друг о друге интимные вещи: кто писается ночью, кто кричит во сне, кто какую букву картавит. Я все время ложкой зуб себе исправляла. Что-то на нас падало. Наверное, свет ангелов. Не может столько детей быть без ангелов. В одной комнате — сорок железных кроватей… Вечером — команда: сложить ладошки вместе и — под щеку! И всем — на правый бочок! Мы должны были делать это вместе, все сорок человек. Это была общность, пусть животная, пусть тараканья, но меня так воспитали… Лежим-лежим ночью и начинаем плакать, все вместе:
— Хорошие мамы уже приехали…
Одна девочка сказала:
— Не люблю маму. Почему она так долго не едет?
Но я вспомнила, как моя мама звала меня: „Анечка, возьми конфету…“. Как ее не пускали… Тянули за красивые черные волосы… Я прощала ей все… Я любила ее…
Утром мы хором пели (тихо напевает):
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом Вся советская земля…Больше всех праздников на свете мы любили Первое Мая. Нам выдавали новые пальто и новые платья. Все пальто одинаковые и все платья одинаковые. Ты начинаешь их обживать. Нам выдавали мальчишечьи трусы — девочкам и мальчикам. Нам говорили, что это Родина о нас думает, о нас заботится. Нам говорили, что Родина — наша мама. Перед первомайской линейкой выносили во двор большое красное знамя… Стучал барабан… Мы строились… Нам раздавали маленькие красные флажки… Помню, как приезжал какой-то генерал, поздравлял нас. Всех мужчин мы делили на солдат и офицеров, а это был генерал. Мы лезли на высокий подоконник, царапались на него, чтобы увидеть, как он садился в машину и махал нам рукой.
— Ты не знаешь, что такое — папа? — спросила меня Валя Кнорина.
Я не знала…
А потом у меня тоже появились волдыри под мышкой. Они лопались, было так больно, что я плакала. Игорь Королев поцеловал меня в шкафу… Мы учились в пятом классе… Я начала выздоравливать… (Смеется.)
Был у нас Степка… Руки сложит, как будто он с кем-то вдвоем, и кружится по коридору, как в вальсе. Сам с собой танцует… Какую-то свою музыку слушает… Нам смешно… Он ни на кого не обращает внимания, словно он один живет… Нам непонятно… Чудно… Его даже к врачу водили…
Не могу больше… На сегодня хватит… В другой раз… Я живая осталась Меня спасли… Врачи спасли мое тело… Но я с собой покончила… Я не выражусь… Я не объяснюсь… В тот вечер, когда пустила в квартиру газ… Вы думаете, я не хочу жить? Я очень хочу жить… (Молчит.) Интересно, вот те люди, что работают на кладбище, как они относятся к смерти? Ведь они каждый день на кладбище, как они относятся к смерти? Ведь они каждый день — на кладбище… Они никому не признаются, что работают на кладбище… Никому не рассказывают… Им стыдно, неловко или страшно?
Мой сын говорит, что я жила на кладбище… Что я — ненормальная… Нормальный бы человек это не выдержал…
Они мне говорят… Мои дети… Что я — испорченный, что я — уродливый человек… Я выросла на кладбище… Что мне нужна зона… Эти рамки… Я в них родилась… (Замолкает.)
Что вспоминать? Что, собственно, у меня было? Игорь Королев поцеловал меня первый раз в шкафу, и я выжила…
…Я жила в детдоме до шестого класса. Когда я пошла в шестой класс, ко мне приехала моя мама. В лагере мама отсидела двенадцать лет. Мне двенадцать лет, и двенадцать лет мама была в лагере. Мы с ней так и подсчитывали: сколько мне лет, столько у нее прошло срока.
Я помню, как она приехала за мной. Ей разрешили забрать меня. Чтобы нам жить вместе. Под осень. Меня кто-то окликнул:
— Анечка! Анюточка!
Никто меня так не звал. Я увидела женщину с черными волосами и закричала:
— Мама!!!
Она обняла меня с таким же ужасным криком:
— Папочка!
Маленькая я была очень похожа на отца.
Но оказалось, что мы с мамой не понимаем друг друга. Я искренне верила, что у нас счастливое детство. Хотела скорее вступить в комсомол, чтобы бороться с какими-то невидимыми врагами. Чтобы они не разрушили нашу самую лучшую жизнь… А мама плакала и болела. Мы поехали за документами в Караганду, оттуда нас направили в ссылку… В Сибирь… Город Белово… Где-то за Омском…
По пути отмечались в НКВД, нам все время предписывали: ехать дальше. До сих пор я не могу видеть вечерних огней в домах. Нас выгоняли с вокзалов, мы шли на улицу. Горели огни в домах, там были люди, они жили в тепле, они грели чай. Нам надо было постучать в дверь и попроситься. Это было самое страшное… Никто не хотел пускать ночевать…
В Белово мы стали жить на квартире — в землянке. Потом опять жили в землянке, и она уже была наша. Я заболела туберкулезом, не могла стоять на ногах… Сентябрь, надо идти в школу, а я не могу ходить, Умирать было не страшно… В больнице все время кто-нибудь умирал… Умер Ванечка… Умер Славик… Мертвых я не боялась… Но я не хотела умирать… Я очень красиво рисовала, вышивала. Так красиво, что все удивлялись. И я не понимала, почему я тогда должна умереть?
Каким-то чудом я выжила. Однажды открыла глаза: на тумбочке стоял букет черемухи. Поняла, что буду жить… Я выживала много раз…
Вернулась домой, в землянку. У мамы очередной инсульт. Увидела старую женщину, еле передвигающуюся по землянке. Ее увезли в больницу… В доме я не нашла никакой еды… А выходить на улицу стеснялась, чтобы меня такой не увидели, не расспрашивали, не давали кусочек хлеба… Пока соседка не обнаружила…
Меня посадили на поезд… Билет купил Красный Крест… Я возвращалась в Смоленск… В свой родной горд… В детдом…
И снова выжила… (Задумывается. Молчит)
Мне исполнилось шестнадцать лет. У меня появились друзья. Но была у меня такая странность: если я кому-нибудь начинала нравиться, становилось страшно. Страшно, что кто-то обратил внимание, выделил меня. Хорошо чувствовала себя только незамеченной, неузнанной. В толпе… В группе… За мной невозможно было ухаживать… На свидание я брала с собой подругу, если меня приглашали в кино, я тоже являлась не одна… Вдвоем… втроем… Когда я пришла на свидание к своему будущему мужу с подругой, он отвел меня в сторону и показал на голову:
— Ты что, с ума сошла? В этом деле коллективизация еще не объявлена.
(Неожиданно плачет.)
Умер Сталин. Нас вывели на линейку… Построили. Вынесли красное знамя… Сколько длились похороны, столько мы стояли по стойке „смирно“. Часов шесть или восемь… Кто-то падал в обморок… Я плакала… Как жить без мамы, я уже знала. Но как жить без Сталина?
…Когда я уже училась в архитектурном техникуме, насовсем вернулась из ссылки мама. Она приехала с деревянным чемоданчиком, в нем — цинковая утятница (она до сих пор у меня, не могу выбросить), две железные ложки и куча драных чулок.
— Ты — плохая хозяйка, — говорила мама, — не умеешь штопать.
Штопать я умела. Но я понимала, что эти дыры никогда не заштопать. У меня стипендия — восемнадцать рублей, у мамы пенсия — четырнадцать рублей. Это был для нас рай — хлеба ешь, сколько хочешь. Еще хватало на чай. У меня был один спортивный костюм и оно ситцевое платье, которое я сама сшила. В техникум зимой и осенью ходила в спортивном костюме. Маму помню только больную. Она не могла меня пожалеть, у нее не было для этого сил. Мы ни разу не обняли друг друга, не поцеловали. Это страшно вымолвить: мы были два чужих человека. Наши матери теряли нас дважды: когда нас забирали у них маленькими и когда они старые возвращались к нам, уже взрослым, незнакомым. (Пауза.) Родина — наша мать… Родина — наша мама… (Долгая тяжелая пауза.)
Кто-то придумал ужасную шутку:
— Мальчик, где твой папа?
— Еще в тюрьме.
— А где твоя мама?
— Уже в тюрьме.
Своих родителей мы представляли только в тюрьме. Мы с мамой были такие чужие, что, когда она вернулась, я хотела убежать от нее в детдом… (Останавливается. Молчит.) И я это никогда не поправлю… Мамы давно нет… Об отце мама не могла говорить, было впечатление, что она его не знает… (Молчит.) Я ласкала, гладила ее только мертвую… Когда она лежала в гробу… Во мне проснулась такая нежность, такая любовь… Она лежала в старых валенках, потому что ни туфель… ни домашних тапочек у нее не было… А мои — маленькие…
Я целовала ее… Я так хотела заплакать… Но я не плакала…
Знаете, когда я по-настоящему научилась плакать? Когда вышла замуж, когда у меня родился сын… Когда я была счастливая…
Вот и все… Вся жизнь… То, что вмещается между взмахом крыла и лопаты… У какого-то поэта прочла… Запомнила… Между взмахом крыла и лопаты…
…Купила красивые туфли. Разорилась. Я хотела, чтобы меня похоронили в красивых туфлях… У меня никогда их не было. Покупала всегда или подешевле, или поношенные, в комиссионке. У меня никогда не было красивых вещей. Дорогих. Хотела еще кофту хорошую купить, да денег не хватило. Я уже насмотрела. Мохеровую. Теплую. Все же зима… Но зимой не так жалко умирать… Нет, все равно жалко. Даже старики… Они жалеют… Никто не уходит легко и радостно… А я? Я любовалась этим миром… Не налюбовалась… Мне нравится жить… В окно утром смотреть…
Написала записку: скажите Анечке (это моя внучка), что бабушка уехала далеко в гости…
В тот день встала рано и все время искала себе работу, чтобы быть занятой. Утром жарила котлеты. Хотела сильных запахов. Услышать еще раз, как пахнет жареное мясо… После затеяла большую стирку. Штопала. Что-то делать-делать. Но не думать. Мои любимые духи „Может быть“… Достала. Я хотела, чтобы после меня в доме жил запах жизни, а не смерти…
Из вещей, из предметов ничего не хотела оставлять. Ни моих фотографий, ни моих писем, ни моего почерка. Уходила, как из гостиницы, все вынесла, выбросила. Даже свой кусочек мыла, зубную щетку. Я помнила, как умерла соседка. Как торопились сгрести и вынести из квартиры то, что после нее осталось. А она прожила долгую жизнь, когда-то была известная балерина: фотографии, письма в больших картонных коробках… Какие-то сувениры, камешки, засушенные листочки… Скомканные записочки: „Любимая…“, „Принцесса…“, „Божественная…“ Все это ее сын паковал в большие целлофановые мешки и жег за нашим домом на пустыре. Человек столько мусора после себя оставляет…
Если бы я была влюблена в свою дочь… Или в своего сына… Я им чужая… Я им такая не нужна… А муж ушел… Он ушел к другой женщине… А я его люблю… До сих пор… Я — однолюб… (Вдруг улыбнулась.)
Поставила букет цветов, чтобы, когда войдут в мою комнату, не так испугались смерти… (Пауза.)
Я знаю, как надо жить в зоне… Я знаю, как можно выжить в зоне… Я выживала там много раз…
У меня психология зэка… Мои дети со мной обращаются, как будто я больная, больна какой-то неизлечимой болезнью. Я не выражусь… Я не объяснюсь… Был мой день рождения… Я что-то вспомнила о лагере… Мы радоваться не умеем, даже когда нам хорошо, что-то тянет душу. Я вспомнила, как мы любили праздник Первого Мая… В руке — красный флажок… Нам выдавали новые пальто и новые платья… Все одинаковые… Как нас поздравлял генерал… Мы ползли, царапались на высокий подоконник…
— Зачем ты нам это рассказываешь? Признаешься зачем? Ведь стыдно! — оборвал меня сын.
(Молчит, а потом продолжает, вдруг заикаясь, бессвязно.)
Они друг-гие… Они не б-были там, в зоне… Они к-красивые… На улице я люблю с-смотреть на м-молодых, а дома я… их… я… их б-боюсь… (Останавливается.) В детстве… В детдоме заикалась… Потом прошло… Вылечилась… Ин-ногда теп-перь возвращается… Скоро про… пройдет… По-п-п-пьем чай… Чайку… Сейчас заварю… (Уходит на кухню.)»
Через полчаса мы кончаем наш разговор.
«Он мне сказал, крикнул:
— Зачем ты нам это рассказываешь? Признаешься зачем? Ведь стыдно! На вас, как на лягушках, поставили бесчеловечный опыт. Унизительный. Понимаешь, унизительный! А вы гордитесь, что выдержали?! Остались живы?! Лучше бы умереть! А теперь ждете сострадания. Благодарности. За что? Как там древние говорили? Человек — это мыслящий тростник… Удобрение, навоз, а не мыслящий тростник. Песок… Строительный материал для коммунизма… Меня родили в рабстве и учили жить в рабстве… В зоне… Вокруг шумел праздник жизни, а вы в нем не участвовали. Твое поколение… Вас держали то ли в клетке, то ли в контейнере. А ты хочешь, чтобы я это помнил?! Ты никогда не будешь свободным человеком. Я слышу, как и во мне течет твоя рабская кровь… Я сделал бы себе переливание крови!!! Клетки все поменял бы! Даже если бы у меня была возможность отсюда уехать, я все равно такого бы себя увез с собой… С твоим составом крови… С твоими клетками… Ненавижу!!!
…Я пустила газ в квартиру… Включила радио…
Я была свободна… Я никогда не думала, что смогу это сделать…
Вы думаете, я не хочу жить? Я очень хочу жить! Я жизнью не налюбовалась…»
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Из сегодняшних газет:
«В России растет число самоубийств. „В 1991-м году 60 000 людей покончили с собой, это на 20 000 больше, чем год тому назад“, — сообщил руководитель Российского института общественно-политических исследований Геннадий Осипов, по информации агентства Интерфакс. „Россия стоит у пропасти, — заявил далее Осипов в разговоре за „круглым столом“, — миллион людей совершали попытку самоубийства, двадцать процентов населения, то есть пятая часть огромной страны, мечтают об эмиграции…“
Он сравнил нынешнюю ситуацию в России с XIII веком — перед татарским нашествием…»
«Франкфуртер Рундшау», 28 марта 1992 г.
«Горькая весть: Юлия Друнина покончила с собой. Она могла тысячу раз погибнуть на той войне, на которую ушла в семнадцать лет. А умерла по своей воле в гараже на даче… приняв снотворное и включив в машине выхлопной газ.
Самоубийство поэта… Мы помним Есенина, Маяковского, Марину Цветаеву. Кода поэт сам решает уйти из жизни, значит, в ней что-то очень неблагополучно. Вот и Юлия Друнина… Осталась предсмертная записка. Вот строки из нее: „Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл…“
Когда-то этим тылом был Алексей Каплер — талантливый кинодраматург и любимый, любящий муж. Но его она похоронила в Старом Крыму, где и себя завещала похоронить. Другой же такой любви в мире для нее не оказалось. И получилось, что оказалась она с ужасным, передравшимся миром один на один…»
«Правда», 7 апреля 1992 г.
«Прошел почти год со дня смерти Маршала Советского Союза С. Ахромеева.
Вот в кратком изложении следственная версия.
24 августа 1991 года маршал Ахромеев прибыл в свой рабочий кабинет в Кремле и, будучи в состоянии депрессии после разгрома ГКЧП, принял решение о самоубийстве. В 9 часов 40 минут утра он совершил первую попытку повеситься, о чем оставил записку такого содержания: „Я плохой мастер готовить орудия самоубийства. Первая попытка (в 9.40) не удалась. Порвался тросик. Очнулся в 10.00. Собираюсь с силами все повторить вновь.
Ахромеев“.Вечером того же дня комендант здания обнаружил маршала повесившимся в его собственном кабинет. Следственная бригада прибыла на место в 2….27 и зафиксировала на видеопленку следующее: Ахромеев сидел у окна на полу, прислонившись спиной к стене. Синтетический шпагат, на котором он повесился, был привязан к ручке оконной рамы. В кабинете был идеальный порядок и никаких следов борьбы. На рабочем столе лежали предсмертные записки и письма к семье…
В одной из его записок есть такие строки: „Пусть в истории хоть останется след — против гибели такого великого государства протестовали. А уж история оценит — кто прав, а кто виноват…“»
«Советская Россия», 18 июля 1992 г.
«Город Минусинск содрогнулся, узнав о том, что молодая женщина Нина Черненко собственными руками задушила двух своих детей, а затем убила себя, выпив флакон уксусной эссенции. Дети сопротивления не оказали, хотя и были достаточно взрослыми: Ване исполнилось одиннадцать лет, Наде — десять. Предположительно, что мать, готовясь к этому страшному шагу, дала им снотворное.
Следствие пока не располагает данными, что Нина Черненко страдала психическими расстройствами. Наоборот, все допрошенные по делу соседи и сослуживцы вспоминают ее как человека глубоко порядочного. Но жилось ей очень трудно, порой невыносимо, не под силу было в одиночку справиться с материальными тяготами сегодняшней нашей жизни. Постоянное безденежье, постоянное чувство унижения толкнули ее на преступление против себя и своих детей. „Больше так жить не могу, — написала она в предсмертной записке. Знаю, что дети мои после моей смерти никому не нужны, поэтому забираю их с собой“.
В тоненькой школьной тетрадке мать-убийца хладнокровно начертила план своей будущей могилы, указав, с какой стороны положить рядом с ней сына и доченьку. И тут же аккуратно написала список всех своих долгов, которые следовало отдать из начисленных ей накануне отпускных денег…»
«Попытку самосожжения подполковника Вячеслава Чекалина удалось предотвратить у штаба российских войск в Клайпеде. Послужив двадцать семь лет, офицер оказался без крыши над головой, с нищенской пенсией, на которую невозможно прожить. Несколькими днями раньше он пытался продать себя для медицинских опытов, чтобы приобрести квартиру…»
Газета «7 дней», 21–27 сентября 1992 г.
«Если бы тогда, в войну, умер от ран, я бы знал: погиб за Родину. А вот теперь — от собачьей жизни. Пусть так и напишут на могиле… Не считайте меня сумасшедшим…»
«Это строки из предсмертного письма защитника Брестской крепости Тимерена Зинатова. В очередной раз приехав в Брест из родного Усть-Кута, он долг бродил по священным для него улицам города, по пустующей легендарной цитадели, а потом… потом старик бросился под поезд.
Приехавшие на похороны родные (он попросил похоронить себя на брестской земле) свидетельствовали, что вел он скромную жизнь, отказывался пользоваться льготами даже простого участника войны, не говоря уже о каких-то „спецпривилегиях“. В отличие от других героев — защитников Брестской крепости, Зинатов никогда не просил помочь ему с покупкой автомобиля, телевизора, холодильника. Когда его семья, зная крутой характер деда, втайне все-таки записала его на дефицитную мебель, старик устроил дома скандал. „Я Родину защищал, а не привилегии“, — говорил он.
Вместе с предсмертным письмом в кармане у ветерана-самоубийцы нашли семь тысяч рублей, которые он привез для собственных похорон. Но местные городские власти взяли расходы на себя. Похоронили героя за счет статьи „текущее содержание объектов благоустройства“.
А одна из газет рассказала, как после войны в казематах Брестской крепости была найдена надпись, нацарапанная на стене штыком: „Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 22/VII-41 года“. Чуть ли не по решению ЦК эта строчка стала символом мужества советского народа и преданности делу КПСС. Оставшиеся в живых защитники Брестской крепости утверждали, что автор этой надписи — курсант пулеметной школы, беспартийный, татарин Тимерен Зинатов, но коммунистических идеологов больше устраивало, чтобы она принадлежала неизвестному, погибшему солдату… И тут Зинатов особо не настаивал: „Я ради Родины умирал, я ради Родины выживал“.
Что скажешь, Родина? Почему молчишь?
Кому кричим…»
«Народная газета»… октября 1992 г.

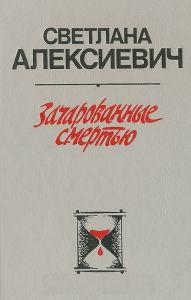

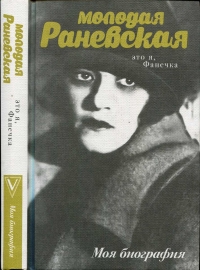

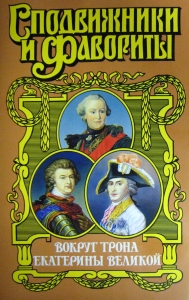

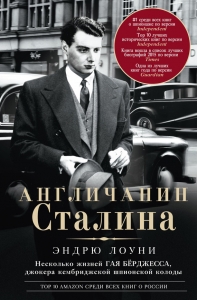

Комментарии к книге «Зачарованные смертью», Светлана Александровна Алексиевич
Всего 0 комментариев