Н. Т. Мельниченко Еще вчера. Часть 1 Я – инженер
Посвящаю матери и отцу
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
© Н. Т. Мельниченко, 2015
© ООО «Написано пером», 2015
01. Необходимое предисловие
– Чей это портрет?
– Это мой портрет.
– Чего-то не похоже.
– А чего не похоже?
Это мой портрет, а не меня.
Буквицы сии зело многочисленны,
при том тяжек труд разбирать.
(неизвестные гении из WWW)Кому все это нужно?
Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?
(К. П. № 8)Я решил написать автобиографию. Вообще, в жизни мне пришлось написать уйму автобиографий. Обычно это было более-менее литературное приложение к анкете – опросному листку с многочисленными нумерованными вопросами относительно службы в белых армиях, участия в троцкистско-зиновьевских оппозициях и о других интересных и щекотливых темах. На эти вопросы полагалось отвечать кратко и недвусмысленно: «не был», «не участвовал» – в пределах отведенной строчки. Все знали, что дальше эти ответы тщательно проверялись «где надо». И только в автобиографии, прилагаемой к холодной анкете, можно было разгуляться и показать себя во всей красе и с живописными подробностями.
Самая длинная автобиография у меня получилась после окончания седьмого класса в 1945 году. Я подробно и детально описывал, где и когда был, чем занимались мама, я и младшая сестра Тамила. Во время «дранг нах остен» в 1941 году, прежде чем попасть в Казахстан, мы с надеждой, что немцев дальше не пустят, останавливались в пути три раза на 3–4 недели. Так вот в моей автобиографии были приведены подробные адреса всех этих мест и сведения о наших занятиях с точными датами прибытия-убытия. Очень мне хотелось облегчить жизнь людям с горячими сердцами, холодными головами и чистыми руками, которые неусыпно сверяли мою анкету с суровой действительностью, чтобы определить: не матерый ли диверсант и по совместительству шпион прячется за личиной 14-летнего пацана?
С годами, по мере увеличения числа событий в моей личной и общественной жизни, текст моих автобиографий удивительным образом стал сокращаться. В недалеком будущем вся автобиография поместится в черточку между двумя датами, одна из которых известна уже сейчас. Конечно, есть люди, удлиняющие эту черту так называемым «правильным образом жизни». Это и специальное питание, и упражнения, и лечение, и сон, прогулки, режим и т. п. и т. д. Но бытие этих людей так сурово и перегружено, что не каждому по плечу, тем более работающему пенсионеру, задумавшему написать Автобиографию и не имеющему времени и сил для дополнительной работы. Написание этих страниц – попытка сделать черточку хотя бы более толстой, если удлинения не получается.
Сейчас мне идет 72-й год от рождения. Жизнь уже более чем на излете. Она была всегда трудной и интересной, редко – прекрасной, иногда казалась безвыходной, но никогда не была скучной и однообразной. Наверное, время было такое. А судьба каждого поколения связана всегда с судьбами страны. Тем более что история не перестает нас удивлять своими «загогулинами». В каком кошмарном сне могло присниться, что могучий Советский Союз перестанет существовать, что я буду жить в Санктъ-Петербурге, а родная Украина станет заграницей? Что мне придется 33 лучших года носить военную морскую форму, участвовать в испытаниях оружия, способного разрушить планету, строить старты для средств его доставки куда надо, – и к концу жизни увидеть разрушение великой Родины и бесполезность сделанного?
В жизни моего поколения самое главное событие, которое разделило всю жизнь на два периода «до» и «после», была ВОЙНА. И война наложила свой неизгладимый отпечаток на всю жизнь «после», – для всех и на всё.
Зачем я пишу эти записки? Я старый больной человек, понимающий, что существует неисчислимое множество книг, фильмов, музыки, картин, мемуаров и т. п. и т. д., где это время отражено неизмеримо сильнее и талантливее. Не льщу себя также надеждой, что эти записки с волнением и восторгом будут читать мои немногочисленные потомки. Например, я вспоминаю свое восприятие рассказов родителей о гражданской войне, которая тогда закончилась всего-то 8 – 10 (!) лет назад. Все это казалось таким далеким и несущественным, как сейчас для большинства Куликовская битва.
Тогда зачем? Вот несколько причин. Просматривая свои наивные школьные дневники, нашел в них мечту(!): написать хорошую книгу(!). Потом я понял, что уже был «писателем», о чем расскажу далее. Второе: после смерти матери я почувствовал, что мы плоть от плоти происходим от своих родителей и то, что происходило с ними, касается непосредственно нас. Я горько пожалел, что невнимательно слушал и не записывал рассказы своей матери – дорогой Бабули, когда стало необратимо поздно… На все мои вопросы по истории нашего рода уже никогда и никто не получит ответа. Возможно, эти записки смогут ответить на будущие гипотетические вопросы по прошлому, которому я свидетель…
Очень также хочется побывать в прошлом, вспомнить дорогих людей, которых уже нет…
И вспоминая молодость былую,
Я покидаю должность старика.
И юности румяная щека
Опять передо мной для поцелуя, – как сказал М. Светлов.
Немалое значение имеют возможности компьютера, к которому меня на старости лет приобщил сын. Дело в том, что я уже написал техническую книгу и знаю, насколько мучителен процесс доводки даже готовой рукописи, чтобы и мысль и написанное стали логичными, точными, короткими и ясными. Нужны бесконечные правки, вставки и переписывания рукописи. А затем неграмотная машинистка может свести «на нет» все написанное, и приходится начинать почти сначала. Когда все кажется уже готовым, – наступает не менее трудоемкая верстка для типографии, вставка различных таблици рисунков, разметка шрифтов и т. п. Еще есть корректирование по сигнальному экземпляру… В этом плане возможности компьютера, от которых я «балдею» и «торчу» как младенец, – безграничны. Правда, не остается черновиков, на которых сможет кормиться, как на пушкинских, не одно поколение литературоведов. Да ведь это – частные, написанные для узкого круга гипотетических читателей, мемуары…
И, наконец, – для себя. Я всегда чувствовал себя хорошо только тогда, когда удавалось что-то путное сделать. Если сил хватает только на нажатие кнопок, то надо их нажимать, чтобы себя вообще как-то чувствовать, то есть – жить. Вот как об этом сказал человек-легенда Дуглас Энгельбарт, ученый, придумавший современные компьютерные технологии:
«Время жизни человека прямо пропорционально трудностям, которые он может себе позволить преодолевать».
Сплошная фантастика в паре с религией
Смотри вдаль – увидишь даль; смотри в небо – увидишь небо; – взглянув в маленькое зеркальце, увидишь только себя.
(К. П. № 77)В последнее время, уже при работе над этой рукописью, появилась еще одна причина, о которой надо рассказать подробнее. Я с младых ногтей интересовался физикой, устройством мироздания и научной фантастикой, в которой самые «продвинутые» писатели обсуждали всякие бредовые идеи. Любил почитывать книги типа «ЖЗИдей», «Атомы у нас дома», журналы «Знание – сила», и даже «высокотехнические» «Юный техник» и «Мурзилку». Библию впервые начал читать уже после войны, воспринимая ее как колоссальный литературный памятник и путеводитель по картинам на библейские сюжеты. Для своего внутреннего употребления придумал модель мира, похожей на ленту кольца Мебиуса, в которой космос и микромир – две поверхности ленты – фактически являются одной поверхностью, «где бесконечности вселенной перетекают плавно в микромир». Поражало огромное количество открытых в микромире частиц и весомое подкрепление их реальности ирреальной мощью атомной бомбы. Последний десяток лет я почти ничего не читал по физике. (Хотелось бы с гордостью сообщить, что занимался лирикой, но – увы! – это была презренная проза добычи хлеба насущного). И вот недавно вдова моего друга подарила мне книжечку в мягком переплете «Физика веры», которая меня слегка «опрокинула».
Оказывается, за истекший период, не глядя на нашу «перестройку», физики столько «наковыряли», что картина мира сильно изменилась. Исходные предпосылки такие. Наш реальный мир пронизывает «Тонкий Мир», он же – физический вакуум, в котором разгулялись закрученные (торсионные) поля, распространяющиеся в миллиарды раз быстрее света. Поля – сгустки информации обо всем сущем – существуют в тонком мире как состояние материи. Спор между материалистами и идеалистами: что первично – материя или сознание – теряет смысл, так как это одно и то же. Торсионные поля – океан информации – делятся по иерархии. На самой высшей ступеньке – Творец, Абсолют, Бог, – принципиально непознаваемый. Материальный (наш) мир возникает из физического вакуума силой Мысли – сгущением торсионных полей, которые генерируют любые частицы. Созданные частицы дальше могут составить любой предмет – от спички до новой планеты. Существует и обратный переход Вещества в Мысль, которая в виде торсионных полей вливается в Тонкий Мир. Если мысль добрая, то вращение (спин) у нее правый, если злая – левый. «Левые» мысли искажают и частично уничтожают информационное поле Тонкого Мира в своей области.
Душа человека – бессмертна и после смерти физического тела, через 40 земных дней, отрывается от него и со своим, наработанным в течение жизни опытом, вливается в Тонкий Мир, в меру своих сил пополняя опыт и знания всего Человечества. Души убийц, людей творящих зло, имеют рваные, изувеченные формы: это жертвы наносят душам убийц непоправимый вред во время своей гибели. Иногда (всегда?) души б/у вселяются в новорожденных.
Наш мозг отнюдь не вместилище памяти и разума: ему просто нечем это делать с быстродействием, нужным даже в быту (вспомним скорость и сложность вопросов на всевозможных интеллектуальных играх на телевидении). Поэтому мозг работает как приемник-передатчик для обмена информацией с Тонким миром и является всего лишь «командоаппаратом» для управления физическим телом человека. (Мне кажется, что авторы теории здесь перегнули палку. Надо было хоть немного мозгов оставить: нельзя же по каждому пустяку обращаться к Руководству).
Однако общение человека с Тонким Миром сейчас происходит только по мелочам. Более глубокое приобщение к необъятным знаниям Тонкого Мира бывает только у святых, провидцев, экстрасенсов, поэтов и т. п. Иногда к людям, усиленно и безуспешно решающим какую-либо проблему, как бы во сне приходит готовое решение: это тоже Тонкий Мир приходит на помощь труженику.
В принципе, это можно объяснить даже на бытовом, что ли, уровне. Эфир вокруг нас сейчас забит до отказа информацией: на разных частотах вещают тысячи телевизионных и радиоканалов, по миллионам телефонов ведутся разговоры, работают локаторы и излучают бог весть что, бог весть какие устройства. Ну, чем не картина торсионных полей Тонкого мира? Сейчас в этот мир можно проникнуть только при помощи приборов, приемные устройства которых настроены на определенную частоту и не воспринимают великого множества сигналов на остальных частотах. Почему бы не представить себе человека, видящего излучения и радиоволны в более широком диапазоне частот, чем узенькое окошко частот видимого света, без дополнительных приборов? Такой человек (?) даже в полной темноте видел бы: и другого человека, и биение его сердца, и его мысли, и даже сообщения на мобильник, спрятанный в кармане. И тогда настройка на нужную частоту для получения информации получалась бы сама собой, а владелец такого зрения и слуха (звуки ведь тоже колебания) увидел бы суть вещей и стал бы провидцем, волшебником или святым!
Но эта бледная аналогия относится к нашему, обычному миру. Можно представить себе могущество существа (человека?), непосредственно связанного с Тонким Миром! Такие люди раньше были, точнее – все люди раньше были такими, считают авторы книги. Было это так.
Создание человека у Творца шло не так гладко, как это описано в Библии. Сначала были созданы огромные и рыхлые мешкообразные существа, размножающиеся делением и полностью управляемые Тонким Миром. Вторая раса уже немного уплотнилась и стала двуполой, но была весьма глупой. Творец разделил вторую расу на мужчин и женщин, сотворил наследственный аппарат ДНК, уплотнил физическое тело, добавил мозгов и получил третью расу людей – лемурийцев. Каждый лемуриец был природным магом и мог использовать энергию и необъятные знания Тонкого Мира. Поздние лемуро-атланты достигли высокого развития, построили огромные города, создали первоклассную науку о материальном мире, создали Стоунхедж, Сфинксов, сооружения Южной Америки. Лемурийцы жили по тысяче лет, а их Золотой век согласия с природой длился многие тысячелетия. Появились ранние Атланты, огромные люди, которые все же выглядели пигмеями рядом с гигантами-лемурами.
Однако лемуры перессорились, и начали войны. Вскоре им в наказание на планете произошел взрыв, после которого она изменила свою орбиту, а на небе показалась планета, движущаяся к Земле. Лемуры в ужасе покинули Землю. После столкновения уцелевшие представители четвертой расы – атланты – смогли выжить на разрушенной Земле, на которой из-за изменения орбиты началось резкое похолодание. Высший Разум сначала оставил атлантов без связи с Тонким Миром, затем, глядя на их трудолюбие, снял запрет. Атланты создали высокую цивилизацию, потом, как водится, начали морально разлагаться и воевать за власть. Абсолют снова лишил атлантов доступа к информации Тонкого Мира. Жрецы атлантов предупреждали их о грядущей катастрофе. Чтобы сохранить свою цивилизацию и добытые Знания, жрецы спрятали в пещерах Тибета и Гималаев некоторых атлантов, погруженных в «сомати», когда душа отделена от тела, пребывающего в состоянии глубокого анабиоза. Там же спрятаны золотые пластины с записью Знаний. Доступ туда имеют только особо посвященные священнослужители буддизма(?).
Катастрофа для атлантов грянула 850 тысяч лет назад. Это был описанный в Библии Великий Потоп. Большинство атлантов погибло. Оставшиеся в живых – одичали, и только часть цивилизации атлантов сохранилась на острове Атлантида, которая позже (всего 12 тысяч лет назад) тоже погибла, погрузившись на дно океана. Ну а пятая раса, арийская – начала свое медленное развитие с пещер и лесов. Терпя невзгоды и лишения, в неустанных трудах, человечество закалялось и приобретало Волю, похожую на Волю Творца. Развитие привело к созданию современного мира. (На мой непросвещенный взгляд, этот мир накрутил уже столько вредных – левых – торсионных полей, что Творец его скоро гробанёт, как и предыдущие).
Теория Тонкого Мира красива и включает в себя как частные случаи большинство известных физических, теологических и даже фантазийных теорий. Например, С. Лем открыл мыслящий океан на далекой планете Солярис. Зачем было так далеко ходить, если наша родная Земля окружена по самую макушку Разумом на многих уровнях? А люди Амбера из «фентези» писателя Желязны, силой воображения переходящие из одного мира в другой, вовсе не вымышленные, а реальные люди, владеющие прямой связью с Тонким Миром. Телепортации, левитации, ведьмы, черти, летающие тарелки и прочее и прочее – становятся очень возможным и простым делом – по тем же причинам.
Конечно, есть и нестыковки. По теории Тонкий Мир не имеет Времени, поэтому в нем хранится прошлое, настоящее и будущее всего сущего и каждого человека. Если там уже записано и существует мое будущее, то зачем я трепыхаюсь в настоящем??? Дальше. Узнав о бессмертии души, я очень обрадовался встрече Там с дорогими ушедшими людьми. И вдруг узнаю, что они могут быть помещены в чьи-то другие, совершенно чуждые мне, тела на неопределенный срок… Неудобно получается, понимаешь: встреча может не состояться. А если состоится попозже, то когда? Времени-то там уже нет. Впрочем, как говорится, – поживем – умрем – увидим.
Сейчас стимулом для написания этих записок принимаю следующее свойство Тонкого Мира: как и в голограмме, каждая точка Тонкого Мира (в том числе чья-нибудь душа) имеет полную мгновенную информацию обо всем, происходящем в материальном (нашем) Мире. Если не сможем встретиться, то пусть хоть почитают эти строки дорогие мне души…
Чтобы не кончать столь длинное предисловие на трагической ноте, приходится еще раз удлинить его превентивными реверансами автора придирчивым читателям из будущего.
Извинения автора
… Не знаю за что, но прости…
(из песен Ю. Богатикова)Я показывал отдельные главы друзьям – своим ровесникам. Им эти записки интересны: они были участниками или свидетелями описываемых событий. Друзей-ровесников остается все меньше, автор – тоже торопится: «успеть бы допеть»… Не знаю, будет ли кто-нибудь читать мои записки потом. Тем не менее, автор заранее хочет извиниться перед гипотетическими читателями, предугадывая их вопросы.
– Что за странное название – «Еще вчера» (сокр. – ЕВ)?
Молодым кажется, что к будущему идти очень далеко. Только к старости понимаешь, что жизнь – коротка, и все главное в ней было совсем недавно – еще вчера…
– Какой жанр «ЕВ»? Мемуары, роман, документальная проза?
Автор сам не до конца понимает, что он написал и в каком жанре. Известно только одно: это не роман типа «Война и мир». Там много разных героев, судьбы которых изменяются согласно воле Великого Автора, Боже сохрани меня сравнивать себя с Ним. Эти записки – всего лишь длинная биография одного человека, написанная им самим.
– И это все написано только «о себе, любимом»???
Для начала ответа – анекдот. Некий рационализатор предложил заменить медные провода линий электропередач (ЛЭП) полиэтиленовыми. Мероприятие сулило огромную экономию: полиэтиленовые провода дешевле, не ржавеют, намного легче медных, что позволяет резко облегчить опоры и т. д. «Правда, – самокритично заметил изобретатель, – провода не проводят электрический ток. Но таково уж свойство материала».
В 2002 году я поздравлял внучку с двадцатилетием, оформив ей шутливый фотоальбомчик с ее детскими фото. В разделе «Общение с предками» я поместил фото (единственное), где вместе с юбиляршей был и я, наивно считая себя одним из ее предков. Немедленно мне учинен был разнос мамашей юбилярши с воплями и придыханиями за то, что я поместил «себя, любимого» и не поместил ее предков по материнской линии, которые несравненно лучше меня и имеют больше неоспоримых прав на размещение в печатной продукции (моей!). Слова «себя, любимого» произносились с таким глубоким сарказмом, что сразу ставало понятно: кроме меня самого, меня никто и никогда не может любить.
Так вот, предвосхищая стенания будущих читателей своей автобиографии, сообщаю, что в ней я пишу о себе, любимом. Таково уж свойство материала.
Что касается других людей, упоминаемых в ЕВ, автор заранее просит прощения за невольные, возможно – неприятные, искажения их облика: так их увидел и запомнил несовершенный автор. Ведь даже собственный голос в записи кажется незнакомым. С пониманием приму любой свой образ в их воспоминаниях.
– Очень большое место в ЕВ занимают «техницизмы»!
Нет адъютантов без аксельбантов. Отними аксельбанты, и кто поймет, что перед тобой находится адъютант? И чем он будет заниматься без своих аксельбантов? Тем более будут недовольны некоторые мои друзья, сами увешанные аксельбантами и знающие в них толк. Может также пострадать «наработанный» имидж автора, обозначенный в подарке сына к его 75-летию. Там железный человек с металлическим шарфом левой штангой (как бы — рукой) работает на кульмане, правой – жмет клавиатуру компьютера. Щепотку гуманизма в свой символ я добавил уже сам: просверлил нечто(?) стальное у кульмана и вставил туда живой цветок.
Автор в глазах сына’
Чтобы не травмировать моих друзей-гуманитариев бесконечными описаниями «железяк», отдельные главы типа «В штопоре» – целиком написаны для них. Остальное им можно и не читать.
– Автор, случайно, не злобный графоман? Налил тут воды, понимаешь!
Возможность такого варианта пугает и самого автора до сих пор. Если диагноз подтвердится, то графоманам можно только посочувствовать. Вот какие отношения связывали автора с его созданием (файлом):
………
Растил тебя я долго, трудно,
Вникая в чуждый мне язык.
Бросал все. Снова возвращался.
Пока к тебе я не привык.
……
Ты ночью приходил как тать,
Меня терзая до рассвета,
Проблемы высказав свои —
Немедля ожидал ответа.
Ты требовал – ты не просил,
Сколько ни ел – все было мало,
Ты рос и набирался сил, —
Их меньше у меня ставало.
………
Ты монстром стал, ты проглотил меня:
Куда ни ткнусь – везде ты есть.
Прикован я к тебе, как раб в галере,
Я без тебя не мог ни спать, ни есть!
………
А что касаемо «воды» – ее очень легко отжимать при каждом чтении на мониторе компа, что и пытался много раз делать «трудолюбиМый» автор. Конечно, «граммы – добыча, годы – труды», как требовал поэт, – идеал недостижимый «для среднего ума», как говаривал мой друг матрос-электрик Гена Степанов. Впрочем, уже сейчас можно представить этот труд сжатым до двух глав, без какой-либо воды. Глава первая:
МЕЛЬНИЧЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ
22. 07. 1931 – дд. мм. гггг
Все поместилось в одну лишь черточку. А вот глава вторая, вспомогательная, нужная только один раз для «озвучивания» при заполнении цифр «дд. мм. гггг» в главе первой:
Инженер-механик. Полковник. Изобретатель СССР,
Заслуженный рационализатор РСФСР.
Награжден орденами Красной Звезды и Мужества.
Это – все. А теперь автор от обороны переходит в наступление, приводя многозначительный анекдот для негодующих читателей всяческих мемуаров:
Профессор (недовольно, с экспрессией). У вас не память, а сплошная пустыня!
Студент (задумчиво). В каждой пустыне есть оазисы… Правда, не каждый верблюд найдет туда дорогу…
02. Перед войной
А на том берегу незабудки цветут…
Генетика и генеалогия для детей
Мои родители – учителя, выходцы из крестьян. Тогда вся страна, от мала до велика, училась, и на учителей был большой спрос. Учителей на скорую руку готовили различные школы, техникумы, чтобы закрыть дефицит. Учеба на более высокий уровень продолжалась обычно самообразованием и сдачей курсовых сессий в пединститутах. Наверное, академических знаний учителям этого поколения всегда не хватало, зато они хорошо знали и понимали тех, кого учили, поэтому пользовались огромным авторитетом у селян (украинское «селянин» сочетает в себе обозначение не только жителя села, но и русского крестьянина).
Мои родители
Наша семья в полном составе – 1939 год
Мой отец преподавал в школе русский и украинский языки и литературу, был умельцем на все руки, прекрасно пел и играл на скрипке, рисовал. При всех этих гуманитарных наклонностях был человеком сдержанным и даже суровым. Мать – человек увлекающийся и эмоциональный, а преподавала математику и алгебру; составление уравнений с неизвестными иксом и игреком было просто ее любовью.
Родители поженились в начале 1930 года, когда отцу было около 29 лет, а матери – 20. Я – их первенец – родился 22 июля 1931 года. На Украине в 1932–1933 годах был страшный голод, и, по рассказам матери, родителям стоило больших усилий сохранить жизнь себе и мне.
Историческое отступление. Позже, в 1947 году, нам пришлось пережить еще один голод на Украине, когда погибло много людей. Это как надо было хозяйничать на этой благодатной земле, чтобы «обеспечить» смертельный голод! Впрочем, какое дело Фараону до судеб людей, строящих ему Пирамиду? Недавно я прочитал убийственную цитату из У. Черчилля: «Я всегда думал, что умру от старости. Но, когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха». Остается добавить, что это закупаемое зерно никаким образом не попадало в «зерносеющие» районы, и никому не было дела, что эти районы вовсе не были «зерноимеющими». Те крохи, которые удавалось собрать, немедленно отнимались до последнего зернышка, оседая в безвестных и бездонных «закромах Родины». Позже я был свидетелем и, пожалуй, участником этого процесса, о чем, даст Бог, еще напишу…
Родители мои родом из сел Озаринцы и Кукавка вблизи Могилева Подольского. Учительская судьба бросала их по разным селам Подолья. Где-то в году 1935 они осели в Деребчине, т. к. кроме меня появились еще Тамила, затем – Жорик, и былая мобильность, наверное, была утрачена.
На селе было много кружков ликбеза, несколько из которых вел мой отец по вечерам. Слово ликбез, неведомое теперь, означало ликвидацию безграмотности. Что бы ни говорили теперь восхвалители дореволюционной России, большинство селян вместо подписи ставили крестики и не умели читать. Отец, сам выходец из этой среды, учил взрослых натруженных людей алфавиту и искусству буквы складывать в слоги, слоги – в слова. Можно представить себе восторг человека, сложившего Слово и Смысл из хаоса ранее непонятных крючков!
Естественно, что вместе с селянами проходил курс обучения и я. Начиная лет с четырех-пяти, я уже бегло читал и получал в подарок книги. До сих пор помню восхитительный типографский запах Новой Книги. Среди них потрясли «Украинские народные сказки», фантастические рассказы об огромных металлических роботах (!) и «Повести Белкина» Пушкина (я долго выяснял: кто же написал повести – Белкин или Пушкин?). Иногда отец брал меня на свои уроки литературы в 5–7 классах. Чтобы посрамить весьма великовозрастных учеников, которые еще не очень твердо лепили из слогов слова, отец вызывал для чтения меня. Я, как молодой задорный щенок перед взрослыми собаками, упивался собственным быстрочтением, не особенно вникая в смысл. Сейчас, когда, не снимая памперсов, молодой народ начинает изучать английский язык (предполагается, что русским он уже овладел в совершенстве), эти стародавние картинки выглядят забавно. Однако в то время дети начинали первое знакомство с алфавитом с 8-ми лет в первом классе, и мои родители затратили много сил и здоровья, чтобы добиться разрешения направить меня в 1-й класс в 7 лет. Считалось, что ранние нагрузки могут подорвать здоровье детей. То, что эти дети уже давно освоили нелегкий крестьянский труд, ничего не меняло. (Возможно, в столицах и тогда все было по-другому, но я пишу о глухой украинской глубинке). Кстати, эта глубинка была не такой уже и глухой. В селе Деребчин на Винничине до войны было 5 колхозов, совхоз, сахарный завод, церковь, клуб, больница, общественные бани, большая «ярмарка» (базар), школы: средняя, семилетка и несколько начальных. Большой детсад располагался в старинном парке с вековыми деревьями, прекрасным садом и остатками барской усадьбы. Центральная дорога вдоль всего села была вымощена серым булыжником и называлась «бурковка». Для Деребчина эта бурковка была как Невский для Петербурга и Бродвей для Нью-Йорка.
Лингвистическое отступление. На Винничине (возможно – на Подолье) местный диалект по словам и интонациям значительно отличается от общеукраинского. «Криниця» (колодец), например, называется «кирниця». «Бурковка» означает брукованную, т. е. вымощенную камнями, дорогу. Неповторимо применение артиклей «та», «той», «то» (вместо «те») «То дитя взяло ту тарiлку i налляло в ню того борщу» – так могут сказать только там. Неповторимы интонации. «Де ти бачила?» – вопрос, начинающийся с высоких нот и заканчивающийся низкими, эквивалентно утверждению «этого не может быть никогда». Говор в некоторых селах вообще экзотический: «Ви-то нам казались-ти, а ми не дуже слухались-мо: пiддерла-м димку, тай пiшла-м по вулицьов!». В языковедении я меньше чем дилетант, но почему-то люблю и помню эти такие далекие от меня мелочи. Помню даже усвоенные гораздо позже фрагменты говоров вологодского, волжского… Очень интересен акцент, интонации и искажения слов у довоенных местечковых евреев, живших на Украине, говоривших на потрясающей смеси украинского, русского, идиша и еще бог знает каких языков и наречий. Но это уже другая, не моя, песня…
Весной и осенью «бурковка» покрывалась тонким слоем жидкой грязи, но была вполне проходимой. Все остальные транспортные артерии состояли из глубокого слоя, хорошо размешанного с атмосферными осадками, украинского чернозема с вязкостью и липучестью достойными книги Гиннеса. В нескольких километрах от села проходило шоссе («битий шлях») Могилев-Подольский (на Днестре) – Винница. Вдоль шоссе росли огромные старые липы, по преданию посаженные еще при Екатерине. Около 8 км было до железной дороги Киев – Одесса, а к сахарному заводу подходила железнодорожная ветка. Наша станция Рахны находится на полпути между всемирно известными Жмеринкой и Вапняркой.
Своя хата оставалась для родителей несбыточной мечтой, и они обычно снимали одну-две комнаты у «хозяев», кочуя по разным углам Деребчина, соединенным с местом их работы – школой черноземными «магистралями».
К нашей семье привязалась душевно бабка Фрасина, добрейшей души человек, которая постоянно помогала родителям, и на попечение которой родители часто оставляли нас – детей. Бабушка нам во всем потакала, говорила ласковые слова и гладила по головкам. Сын бабки Фрасины Степан Серветник был трактористом в колхозе. Для меня не было большего счастья и наслаждения, чем прокатиться со Степой на его грохочущем чуде (трактора того времени были без всяких рессор на стальных колесах с огромными стальными шипами). А еще Степан мастерил из соломы замечательные мельницы: если подуть в соломку, то на ее конце бешено вращалась маленькая турбинка.
Друзья – писатели – сапожники
Наконец мы осели в «центре» Деребчина – на бурковке, в полукилометре от школы, трехстах метрах от базара и сельсовета и одном километре от завода. У наших хозяев Смычковских был большой дом «пiд бляхою», большой сарай со свинками, коровой и сеновалом. Обширный огород и сад спускались к речушке, вытекающей из пруда сахарного завода. На пойменном берегу речушки – нашей Амазонки – крупными кустами росли лозы – наши джунгли, сельва и тайга в одном флаконе.
У меня проявился здесь первый настоящий Друг – младший сын Смычковских, Ваня. Он был старше меня на целых пять классов: в 1938 году, когда я окончил первый класс, Ваня уже прошел шесть. Рослый и крепкий, знающий все тонкости и тяготы крестьянского труда парень и я, в общем, слегка развито́й (или, как теперь говорят, – продвинутый) недоросль, как-то сразу понравились друг другу и в течение нескольких лет до самой войны не могли долго существовать один без другого. Ваня просто и естественно установил свою опеку надо мной от посягательств «внешних» врагов, жадно проглотил всю имеющуюся у меня литературу. Вдвоем мы начали вплотную подбираться к отцовской библиотеке. Надо заметить, что в те времена я был благовоспитанным учительским сынком, что несколько затрудняло мое общение с местной хулиганистой элитой моего возраста. Мама меня летом одевала в шортики из черного бархата; манжет каждой штанины украшали две белые перламутровые пуговички, что особенно подчеркивало мой нездешний статус. Стремясь влиться в пролетарские массы, я при первом удобном случае обрывал эти символы высокого происхождения. Мама удивлялась непрочности ниток и пришивала перламутровые знаки отличия еще крепче…
Помогая Ване выполнять задания по хозяйству, я развивал ему свои «идеи» о прочитанном. Добрый и незлобивый по натуре, Ваня не вступал в спор, но его суждения были здравыми и основательными, и мне приходилось с ним соглашаться. Наверное, и у Ивана тоже как-то расширялись пределы видимого мира. От литературных разговоров мы переходили к повседневной жизни. Отец Вани был прекрасным сапожником, сам Ваня тоже многое умел делать. Я с упоением участвовал в изготовлении и применении березовых колышков-гвоздей для крепления подметок и набоек. В дырочку, проколотую шилом, эти гвозди надо было забивать одним ударом молотка. Особенно мне нравилось приготовление дратвы и пришивание деталей обуви. Суровые нитки протягивались через березовую смолу – вар с восхитительным запахом, затем – через воск. Вместо иголки в конец нити заправлялась щетинка. В проколотую дырочку щетинки направлялись навстречу, и шов получался двусторонним, очень прочным и красивым. Глядя на мои упражнения, отец, посмеиваясь, говорил, что я на старости буду иметь хороший кусок хлеба с маслом. Разве мог он тогда предположить, что через короткое время я буду вынужден применять эти знания, а хлеб – даже без масла, – станет несбыточной мечтой…
С Ваней у нас возникали различные «проекты», как сказали бы теперь, претворение в жизнь которых не всегда оканчивалось безоблачно.
В сарае у Смычковских стояла «сiчкарня», в которой различные лопухи, крапива и солома превращались в мелко нарубленный салат для свиней и коровы. Зелень накладывалась в лоток. На маховике-колесе были закреплены кривые ножи, которые при вращении колеса и рубили поступающую массу. Все было видно, просто и понятно. Непонятным оставался вопрос: как и чем зелень сжималась и подавалась из лотка под ножи? Когда мы окончательно выяснили, как это происходит, то «сiчкарнi» положен был основательный ремонт, а нам – не менее основательная трепка (Ивану досталось несправедливо больше).
Следующее наше начинание касалось виноделия. Мы задумали осчастливить человечество новыми, небывало вкусными сортами вина из доступных продуктов. Натерли на терке различные сорта яблок и груш, отжали сок и разлили его в подручную тару, добавив туда по конфетке различных сортов. Промаркированные бутылочки были спрятаны на сеновале для созревания и последующих испытаний, чтобы определить «Чемпиона». К испытаниям мы приступили уже на следующий день. Вскоре материалы для дегустации иссякли, а вместе с ними – угасли надежды Человечества на получение достойного напитка.
На сахарных заводах известь необходима по технологии и производится в больших количествах. Поэтому живущее вблизи население охотно использует ее для строительства и ремонта жилья. Негашеную известь закладывают в заранее выкопанную яму и заливают водой – гасят. После гашения яму засыпают землей на несколько лет, чтобы песок и камни опустились на дно. Готовая для строительства известь – ярко-белая пластичная масса. Однако из всей этой благородной технологии нас заинтересовал только процесс гашения с разогревом и бурным выделением газов, которому мы придумали адскую роль динамита. В прочную бутылку из-под шампанского мы натолкали негашеной извести, залили ее водой и быстренько закупорили, предусмотрительно отбежав подальше, чтобы не попасть в зону предполагаемого взрыва. Однако, как теперь говорят, – процесс вышел из-под контроля. То ли бутылка оказалась слишком прочной, то ли пробка слабой, но вместо эффектного взрыва мы получили свистящую струю жидкой горячей извести, устремленную в небо. При возвращении обратно к земле эта струя распалась на тучу мелких брызг, которые обильно оросили свежеокрашенную крышу дома… Неприятности были выше средних, но мы теперь знали все: о прочности сосудов, о расширении газов, даже о том, что горячая известь намертво прилипает к свежей краске и не смывается дождем! А крыша долго радовала глаза своей небывало веселенькой раскраской (белый горошек и бобы на темно-зеленом поле). Так что в целом результаты опыта следует считать положительными.
Более печальным (для меня, во всяком случае) стал опыт ледового плавания под парусами. В тот год была очень ранняя весна, наша Амазонка разлилась и затопила лозы. Затем неожиданно грянули жестокие морозы, и вся пойма речки оказалась ледовым катком. Прилетевшие аисты десятками погибали, если их не успевали подобрать и отогреть люди. Весна все же взяла свое, и каток в лозах покрылся слоем воды в 10–15 сантиметров. Мы с Ваней быстро соорудили мачту и парус на санки и пустились в плаванье. Вскоре поняли, что ветра и паруса «маловато будет», и плаванье продолжили, отталкиваясь палками ото льда. Плаванье было восхитительным! Но когда палки выскользнули и уплыли, до берега надо было добираться пешком по воде и скользкому льду под водой… В результате – воспаление легких и пара недель в больнице. Ваню дома разогрели так, что он, к счастью, остался на плаву.
Наше участие в озеленении планеты привело к неожиданным результатам. Мы нашли в лесу, выкопали и посадили возле дома прелестную елочку. Чтобы охранить ее от повреждений, вокруг соорудили оградку из кольев лозы. Несмотря на заботливый уход и почти ежедневные поливы, – елочка засохла. Зато принялась и начала буйно развиваться оградка елочки.
Один наш проект имел оглушительный успех и получил «общественный резонанс» в лице соседских мальчишек. При помощи Коли, старшего брата Вани, мы соорудили велосипед – голубую мечту довоенных ребят. Наша машина не имела передачи, педалей и тормозов. Но она имела три больших железных колеса и руль! Если ее выкатить на горку, то вниз она катилась сама, перевозя при этом нескольких добровольцев, которым в порядке подарка разрешалось поднимать наше чудо техники обратно на горку. Рулили, естественно, творцы чуда.
Все наши подвиги происходили в напряженной атмосфере последних предвоенных лет. Взрослые закрывались в комнатах и обсуждали шепотом, кого уже забрали и кто на очереди. Аршинные заголовки газет клеймили врагов народа и предателей. Наши песни: «Если завтра война», «…и станет танкистом любой тракторист..», «…когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!» — были популярнее сегодняшних суперхитов. В школьных учебниках мы закрашивали чернилами лики бывших героев гражданской войны, а теперь – предателей и агентов иностранных разведок. На различных собраниях все, от мала до велика, клеймили шпионов, предателей и агрессивный империализм, их разоблачению посвящались кинофильмы и газетные статьи.
Народным героем стал пограничник Карацупа, который с овчаркой Индусом задержал несколько десятков шпионов, пытавшихся нарушить нашу границу. Кинофильм с пограничной собакой Джульбарс с восторгом смотрели по много раз тысячи и тысячи зрителей нашего возраста. В книгах для внеклассного чтения (читанках) печатались рассказы о юных героях. Однажды пионер увидел рельс, поврежденный диверсантами, и приближающийся поезд. У пионера в наличии была только белая (чистая!) рубашка, которую он быстренько превратил в красную, разрезав себе руку и смочив рубашку собственной кровью. Крушение важного военного поезда, конечно, было предотвращено. Все юные пионеры восхищались этим подвигом, и каждый был готов его повторить. (Гораздо позже я понял, что автор, как и мы, никогда не видел темно-бурый цвет крови на тканях и бинтах и слабо представлял, сколько ее надо, чтобы окрасить рубашку). Другой юный патриот еще во время гражданской войны случайно нашел немецкий полевой телефон и, как опытный артиллерийский офицер, направил огонь немецких батарей на немцев же, так как «недаром у немца я был пастухом: немецкий язык хорошо мне знаком»
В республиканской пионерской газете «На змiну» тоже печатались душераздирающие рассказы о подвигах юных героев, которые мы с восторгом читали. И вот у нас созрела и окрепла незрелая мысль – внести свою лепту во всенародную ловлю шпионов и диверсантов: написать повесть об этом и напечатать ее в газете для всеобщего восхищения и взятия примера. Мы ни минуты не сомневались, что наше творение будет лучше того, что печаталось. Задуманный сюжет был прост как столб и незатейлив как грабли. Два друга (мы) находим в лозах (не в джунглях же!) погибающего щенка, выращиваем из него здоровенного пса неизвестной породы и очень умного (под стать воспитателям). С такой собакой задержать вражеского шпиона и диверсанта (в одном лице, конечно, поскольку разница между ними нам была не совсем понятна) было парой пустяков. Неясно было, как назвать нашего главного героя. Жук, Бобик и т. п. – несолидно, лучшие имена Джульбарс и Индус уже были захвачены другими авторами. После длительных прений мы назвали его Джус, слив две известности (брэнда) в один флакон, получив звучное и короткое как выстрел имя.
Все основные вопросы были решены, и дальше оставалась чисто техническая работа по написанию текста повести, которую мы провели в рекордно короткие сроки. В описании главного героя Джуса и процесса его воспитания для живости были увековечены некоторые подробности из жизни знакомой дворняги (от Ивана), и команды товарища Карацупы своему Индусу (от меня). Отец выправил несколько грамматических ошибок, оставив нетронутыми для правдоподобия все остальные ошибки и слова. Произведение, занимающее целую тетрадь в клеточку, было заказным письмом отправлено в Киев в редакцию.
На следующий день, раскрыв газету и просмотрев ее до последней запятой, мы с негодованием поняли, что наш шедевр не напечатан! Немного остыв, мы догадались, что письмо еще в пути, и дали бедной редакции еще три дня. Три-четыре месяца мы с нетерпением ожидали каждый номер газеты – тщетно! Наиболее вероятная версия неудачи: тетрадь выкрали шпионы. Правда, была еще версия: хищение ценной вещи редакцией газеты, чтобы, изменив имена, опубликовать повесть как свое произведение. Копии текста у нас не было, и надежда на всенародную известность таяла с каждым номером газеты.
Когда боль утраты уже почти утихла, мы получили Письмо Из Киева. Неизвестный референт писал, что повесть не может быть помещена в газете из-за ее большого объема (еще бы: пес то у нас был здоровенный!). Еще нам советовали побольше читать Горького, Бальзака и кого-то еще. Так прозаически провалилась наша блистательная попытка приобщения к сонму бессмертных.
Мы имеем свой дворец с охраной
Где– то в начале 1940 года исполнилась заветная мечта родителей, и мы получили Свою Хату, – обычную, покосившуюся от старости и невзгод, на треть вошедшую в землю мазанку под соломенной крышей, ранее принадлежавшую кому-то из раскулаченных или выехавших в поисках лучшей доли бедняг. Хата сдавалась сельсоветом нашей семье на правах аренды, но все равно – это был Наш Дом. Одна половина дома предназначалась для свиней или коз (корова, очевидно, не смогла бы пройти через общий вход – сени). Другая половина – жилая – состояла из проходной кухни с большой русской печью и теплой лежанкой и комнаты с тремя маленькими окнами. Двор возле дома густо зарос травкой с мелкими листочками и съедобными плодами – «калачиками». Посреди обширного огорода располагался небольшой садик с несколькими сливами, вишнями и огромной черешней. Прямо под окнами родители разбили цветники, которые по вечерам благоухали несказанно прекрасным запахом белого невзрачного цветка – метиолы(?).
Отец где-то добыл досок, – это был огромный дефицит, и соорудил за домом настоящее отхожее место – «нужник». Надо заметить, что аборигены по причине недостатка материалов строят эти необходимые сооружения из плетеной лозы, из-за чего они (необходимые сооружения) просвечиваются насквозь, создавая дискомфорт особо утонченным натурам. Через дорогу от нас снимала комнату молодая красивая учительница Нила Родионовна, которая по вышеуказанным причинам предпочитала наше сооружение хозяйскому. Идиллия продолжалась до тех пор, пока не подросли выращиваемые мамой белые инкубаторские цыплята. Среди них выделялся размерами, особо гордой статью и буйным характером петух, который почему-то (возможно – из-за красного пальто) очень невзлюбил Нилу Родионовну. Я первый услышал жалобные крики бедной учительницы, атакуемой яростным пернатым, который ей не позволял даже с честью отступить. Твердой рукой я обуздал хулигана, открыв путь спасенной к заветному сооружению. В дальнейшем, по робким призывам с другой стороны калитки, кто-нибудь из мужиков (отец или я) выходил и нейтрализовал неуемную птицу. Когда это попробовала сделать Тамила, петух обратил свою ярость на нее, вскочил ей на плечи и начал клевать темечко; и даже я еле справился с ним. Вот и толкуй после этого об условных рефлексах наших братьев меньших…
В этом доме нашей семье пришлось пережить большое горе, когда заболел наш младшенький Жорик. Отец ездил с ним на облучение в Киев, сделали несколько операций, которые только продлили его мучения. Он умер на наших глазах и похоронен на Новом кладбище Деребчина. Кладбище, наверное, уже стало Старым, как и то, на котором уже тогда все могилы сравнялись с землей, а разбитые каменные кресты растащены безбожными мальчишками по разным надобностям. На старом кладбище тогда сохранился только благодаря своей неподъемности обелиск из черного гранита Пелагее Грабовой (это была жена директора сахзавода), да на площади возле разрушенной церкви огромный куб из серого песчаника с надписью, над которой мы, неразумные, потешались: «Здесь покоится раба Божия Екатерина, жена ротмистра Пуциллы. Ты не умрешь незабвенная для сердец мужа и десяти детей твоих». Дай Бог здоровья потомкам Грабовой, Пуциллы и тех безвестных, чьи кресты разрушены… А мы почти не виноваты, ибо не ведали, что творили… Да и с нашими крестами время поступит так же просто.
Любовь с номером ноль
В любом уважающем себя повествовании должна быть любовь. Я полюбил ее еще до школы, на детском утреннике по поводу Нового года. Она танцевала танец с бубном, была грациозна и невыразимо прекрасна. Ее имя Светлана звучало в моей душе как музыка на фоне небесного цвета. Мы с ней оказались в одном первом классе, и нас посадили за одну парту. Я был безмерно счастлив. «Семейные» неприятности грянули неожиданно и на политической основе. (Это не шутка. За похожие ошибки расплачивались жизнями и более взрослые люди). Высунув от старательности языки, мы работали по вечной теме «палочки должны быть параллельны и перпендикулярны», выводя имена дорогих вождей – Ленина и Сталина. Моя любовь вместо «Ленин» написала «Менин». Светлана обвинила во всем меня, якобы я сбил ее с верного ленинского пути своим гнусным шепотом. Разразился скандал. Моя пассия была дочерью директора школы Мильмана, поэтому дело завертелось. Отец имел неприятности (слава Богу – этим и закончилось). Нас рассадили по разным партам. С женским коварством я, незрелый глупец, стал бороться язвительностью (!) и заработал от нее титул «ехидины». С предмета моего восхищения в моих глазах слетали белые одежды и нимбы. («Слетали … одежды» наводит на мысли о стриптизе, – наверное, надо написать, что одежды просто темнели, без предварительного «слетания»). Очевидно, и я не соответствовал ее представлению о принце. К третьему классу, когда палочки стали натурально параллельны и перпендикулярны, мы были совсем чужие.
Историческо-лирическое отступление — взгляд из будущего. Судьбе угодно было соединить наши пути совсем близко. В 1941 долгие месяцы наши семьи «путешествовали» вместе: сначала на телеге, затем в тесных теплушках. В Казахстане почти год наши две семьи (две мамы и четверо детей) жили в одной маленькой комнатушке, а мы со Светланой учились в одном классе. Она, наверное, не была «мымрой», как я себе ее представлял: в 5 классе у нее был бурный роман с моим товарищем Васей Харченко – с побегами, слезами и т. п. Расстались мы в 1944 году и встретились спустя лет 5 (осенью 1949) уже студентами в Киеве (она нашла меня сама). Наш разговор состоял из взаимных колкостей. Больше мы не встречались. Подчеркнутую фразу я написал по воспоминаниям. Однако, перечитывая свой дневник, я с удивлением обнаружил, что мы встречались несколько раз, ходили в кино и проводили философские диспуты до двух часов ночи. В том числе, спорили, стоит ли писать дневник. Я убедил Светлану, что стоит. Она обещала писать, затем показать мне (! – это был бы дневник для меня?) Это я написал сейчас. А тогда в дневник записал чрезвычайно умную мыслишку: «оригинально, вот это будет дневник, если знаешь, что кто-то его будет читать!». Она – студентка мединститута; почему-то настойчиво хотела затащить меня в анатомку. А вот еще цитата из дневника: «К моему удивлению, мы с ней нашли общий язык, хотя бы в том, что спорили о разных возвышенных и отвлеченных понятиях. Она – умная и оригинальная девушка, имеет наклонность к наставничеству, но это ей идет». Все так. Однако, прозрение в подчеркнутой фразе, если отвлечься от частных подробностей, – верно. Я никогда не понимал женщин, по крайней мере, – сразу. Более позднее понимание «сути вещей» – остается «вещью в себе» и уже никому не нужно…
Болезни и войны – помеха детскому отдыху
После присоединения к СССР Западной Украины в 1939 году у мамы дома появились два ученика по математике «с той стороны», которая дико угнеталась панами «до тоГо». Мы с интересом приглядывались к угнетенным. Это были два рослых парня. Будучи «до тоГо» угнетенными, они весьма скептически отзывались о наших, лучших в мире, порядках и жизни, что заставляло приседать от страха пользователей оными.
Кое в чем мне в жизни не везло сызмалу. После первого класса меня премировали путевкой в какой-то республиканский пионерский лагерь, где по слухам было очень хорошо. Однако пришлось ложиться на операцию и удалять грыжу (удушливый запах довоенного наркоза – хлороформа я помню до сих пор). В следующем году я (наверное, с помощью родителей – теперь этого никто не подтвердит) был премирован путевкой в знаменитый Артек! Отцу надо было сдавать сессию в Бердичевском пединституте, где он был заочником. Отец решил взять меня с собой, и затем отвезти в Артек. В поезде я, как «свиня до мила», припал к мороженому и целый месяц вместо Артека провалялся в больнице в Бердичеве. Маленький штрих: в больнице впервые я попал под напряжение – поднял голый провод с земли. Потом меня много раз «било током», но то первое прикосновение – ужас и бессилие – помню до сих пор.
После моего третьего класса, мама, глядя на мою невезучесть, решила взять власть в свои руки. С большим трудом она добыла путевку на двоих, себя и меня, в Одессу, в некий санаторий с замысловатым названием. Кажется, Лютцдорф, или что-то очень похожее. Готовиться начали заранее и очень основательно. Обновили, насколько это тогда было возможно, наши с мамой гардеробы. Был подготовлен баульчик из гнутой фанеры с кожаными петлями и ручкой. Чтобы было надежнее, отец заменил дохленькую ремешковую ручку баула металлической, надев на нее для удобства деревянную трубку из обожженной бузины. Разбойный петух был превращен в жареного, запасена и другая снедь. Папе были отданы исчерпывающие инструкции, как и чем кормить Тамилу. Нанята бричка до Рахнов. Выезд был назначен на понедельник. Все было уже готово, и наша семья просто наслаждалась погожим летним днем. Вдруг на улице показался бегущий человек – учитель физики. Он добежал до отца и выдохнул одно слово: «ВОЙНА!»
Учитель, один из немногих, имел радиоприемник и случайно услышал выступление Молотова. Кстати: одним из первых распоряжений советской власти после начала войны был приказ о сдаче всех радиоприемников. Учитель запомнил только такие подробности выступления Молотова: «вероломное нападение», бомбежка Киева, Севастополя и других городов, переход границы СССР во многих местах, отпор Красной Армии…
Это была середина дня, воскресенье, 22 июня 1941 года. Через считанные минуты по всему селу разносились крики: «Война!», «Война!»
Лицо отца потемнело и как-то заострилось. Мама всплеснула руками и сказала:
– Ну и что – война? С таким трудом удалось добыть эту путевку! Все равно поедем!
Отец только грустно посмотрел на нее, как на маленького несмышленыша. Вообще-то, незадолго до этого мы благополучно пережили несколько войн, из которых всегда выходили победителями: Халхин-Гол, озеро Хасан, финская война, захват (т. е. добровольное присоединение) Западных Украины и Белоруссии, Бессарабии. До сих пор подтверждались слова «первого маршала», что Красная Армия будет воевать на чужой территории и малой кровью (пиррову победу в финской войне тщательно скрывали). Еще очень многие верили, что при нападении империалистов на СССР, их рабочие из солидарности не пойдут воевать и поднимут восстание. Большинство, конечно, понимало, что это будет другая, тяжелая война, но об истинных размерах постигшего страну бедствия подозревали лишь немногие.
Первая военная короткая летняя ночь прошла тревожно. Над нами на восток на большой высоте пролетали самолеты с незнакомым завывающим звуком. (Гораздо позже я узнал, что на немецких Юнкерсах было два не синхронизированных двигателя. Сложение близких по частоте звуков давали биения).
Следующий день был наполнен ожиданием. За селом ночью трактор выкашивал огромное поле неспелой ржи, якобы под аэродром. На свет фар немецкий самолет сбросил несколько бомб, которые не взорвались. Говорили, что там была записка с выражением солидарности от немецких рабочих. Бомбы выкопали. Я с ребятами помчался туда. Метрах в трехстах от бомб, уложенных на телегу, в вырытой яме прятался деревенский портной Фавель, которому, оказывается, поручили охранять эти игрушки. Великолепно проигнорировав мольбы Фавеля не приближаться к телеге, мы подошли туда и начали жадно разглядывать этих первых посланцев с той стороны. Три бомбы были темно-красные, сытые, с черными выступающими кругами в носовой части и непонятными надписями. Вместо отвалившегося стабилизатора бомба оканчивалась толстым кольцом. Мне захотелось узнать длину бомбы «в попугаях». Лечь рядом с бомбами было некуда. Пришлось вырвать стебель небывало высокой в тот год ржи, измерить им бомбу, затем – себя. Длина бомбы точно соответствовала моему росту в возрасте 9 лет и 11 месяцев…
На следующую ночь меня и Тамилу разбудила мама и торопливо одела. Оказывается, метров за 150–200 от нашей хаты немец бросил две бомбы. Я спал под окном со стороны взрывов и даже не проснулся – хорошо спится в детстве! Окно не вылетело, т. к. было плотно закрыто одеялом. Догорали какие-то постройки…
Мы с мамой побежали к другу отца, Павлу Михайловичу Бондарчуку, и вместе с его семьей спрятались в глубоком погребе. Отец в это время дежурил в сельсовете, видел взрывы возле нашей хаты, но не мог бросить пост, чтобы узнать, что с нами. Тревожный остаток ночи мы слушали в хлебах, начинающихся за огородом, крики то ли перепелов, то ли – немецких диверсантов. Утром поползли слухи, что немцы выбросили десант, перерезали железную дорогу…
Уже при свете дня мы рассмотрели, что же произошло у нашего дома. Одна бомба попала в хлев с коровой нашего соседа Жоги. Несчастное животное было размазано по стенкам, отброшенная соломенная кровля сгорела во дворе, чудом не загорелся дом. По другую сторону дороги вторая бомба разнесла дом, принадлежавший трем старым девам – бабушкам. Их кровати взрывом были далеко отброшены. Бабушки, к счастью, остались живы. Разнесена в клочки была также общественная баня. С нашей красавицы черешни осколок как ножом срезал ветку, размером с хорошее дерево. Соломенная крыша нашей хаты бесследно проглотила вражеские гостинцы, а вот железная крыша следующего дома зияла десятком рваных дырок.
Мы – беженцы. Последний взгляд на отца
Скупые строки газетных известий были противоречивы, слухи – все более тревожны. Со стороны Могилева от старой границы уже прослушивались звуки то ли артиллерийского огня, то ли бомбежки. Отец все более был занят организацией самообороны, возможно – партизанского(!) подполья. Да и приказ о мобилизации его года – 1901-го – мог поступить со дня на день. Надежды (детские) на то, что война будет на чужой территории и с малой кровью, таяли… Война стремительно приближалась непосредственно к нам. Совет самых авторитетных учителей средней школы принял решение: отправить детей и женщин на восток. Единственно доступный тогда транспорт – телега (вiз), влекомый парой школьных, не самых резвых и молодых, лошадок. Народу набралось достаточно: П. И. Степанковская (жена С. М. Мильмана) с двумя детьми, жена завуча И. А. Редько, тоже с двумя детьми, мама, Тамила и я, и две девушки, чьи-то родственницы, – для помощи. Совет решил старшим и ездовым отправить Ивана Ананьевича Редько, который был моложе всех, и которому в первую очередь предстояла мобилизация.
Тащить телегу, двенадцать человек и их пожитки для двух ущербных лошадиных сил была задача непосильная, поэтому на забираемое имущество, в том числе одежду, обувь, необходимую посуду и т. п. были наложены жесткие ограничения. Да и зачем нужно это имущество: было лето, а уж к осени мы непременно вернемся… Отец настоял, чтобы всем детям на шею под одежду были надеты специально пошитые из клеенки конверты с документами, фото родителей и адресами родственников. Всем взрослым и старшим детям (Светлана, я и Виля Редько) предстояло передвигаться пешком. Мы знали в теории, что делать в случае бомбежки, обстрела, отставания от своих… Подозреваю, что обучающие тоже смутно представляли себе предмет обучения, поэтому главное в обучении было: не поддаваться панике и принимать правильные решения. Детство, когда родители вместо тебя принимали очень правильные и хорошие решения, – кончилось.
Ранним утром в первых числах июля мы двинулись в неизведанное. С отцом расстались на опушке леса возле вековых лип на шоссе. Уже взошло солнце, и тысячи росинок сверкали как алмазы. Мы с Тамилой повисли на шее отце, он обнимал и ласкал нас. Впервые увидел в его глазах слезы. Он уже знал, что больше никогда не увидит своих детей и жену…
Послесловие. Взгляд из будущего. Мама, Тамила и я – выжили и вернулись в свою хату только осенью 1944-го – через долгих три с лишним года. Мой дорогой папа погиб в Иране в начале 1943 года. Обстоятельств его смерти ни мама, ни я не смогли узнать, несмотря на все усилия. «Архивы не сохранились» – последний ответ «родного» Министерства Обороны на запрос полковника Мельниченко Н. Т. о судьбе рядового Мельниченко Трофима Ивановича…
Винницкую область освободили весной 1944 года, Ваню Смычковского сразу мобилизовали. Он был убит в первом же бою.
Со слезами на глазах нас встретила бабушка Фрасина и показала полустертую вырезку из дивизионной газеты, где описывалась смерть ее сына Степана. Возле озера Балатон немцы начали наступление. Подразделение отступило, а пулеметчик Степан Серветник, оставшись один, яростно отстреливался до последних патрона и дыхания, сдерживая натиск врагов. Посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза. Неизвестно, состоялось ли это награждение. Бабушка Ефросиния Серветник и ее дочь, сестра Героя, умерли от голода на Украине в 1947 году.
Не знаю, хватит ли мне сил и отпущенного времени на продолжение этих записок. Да и нужны ли они кому-нибудь, в самом деле, кроме меня?
СПб, 19 января 2003года.
03. Война. Drang nach Osten
«Ехать, так ехать», – сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост из клетки.
Жизнь рядом с колесами
По надписи отца на фотографии для матери (ей тоже пришлось надеть на шею пакет с документами и адресами) я уже теперь установил, что наше бегство началось 8 или 9 июля 1941 года (фотография подписана 08.07.1941 г.).
К нашей телеге на выезде присоединилась еще одна: знакомый председатель колхоза отправлял на восток семью с тремя детьми, младший из которых был грудным. Все же им было легче: людей меньше, лошадки – помоложе, поэтому у них никто не шел пешком.
Первые километры пути по знакомым местам прошли в угрюмом молчании старших и радостных возгласах малых детей, обрадованных поездкой на телеге. Перед Рахнами съехали с шоссе на извилистые проселочные дороги мимо лесов и полей с созревающими, обильными в тот год, хлебами. Небольшие села с белыми мазанками, утопающими в садах, проезжали без остановки; две лошадки не самого юного возраста передвигали телегу довольно резво, и нам, идущим сзади, приходилось шагать тоже довольно широко. По мере подъема светила, наша прыть и ширина шага стали заметно снижаться. Да и лошадям пора было отдохнуть и перекусить. Вот на краю клеверного поля с колодцем наш табор и сделал привал. Оказалось, что мы не совсем готовы к цыганской жизни. Чайников взяли много, а ведра – ни одного, запасенные продукты, например – жареные цыплята, стали быстро портиться. Не было посуды для приготовления горячей пищи, требовавшейся малым детям. Никто не знал своего «маневру», и много времени уходило на бестолковую суету… В дальнейшем все, конечно, образовалось, и наш табор быстро разворачивался и снимался. Кстати, настоящие цыгане нас часто обгоняли. На огромных, но легких арбах, влекомых такими же, как у нас, двумя лошадками, с гиком и воплями в два-три десятка глоток, проносились цыганские семьи. Почему-то их лошади были резвее и мощнее наших, – вот что значит специалисты по лошадям!
За день мы проезжали-проходили около 25 километров. Ночевали в основном на покинутых усадьбах колхозов или совхозов, иногда – в крестьянских дворах на окраинах, где можно было вблизи пасти лошадей. Погода пока нас баловала. Обычно прямо на земле настилали соломы или сена, застилали ковриками, и все укладывались «по кланам». Дежурная вахта, в которую входили и «взрослые» дети (мы), обеспечивала кормежку и сохранность лошадей.
На ночном небе сверкали миллиарды звезд, как всегда, как тысячу лет назад. Казалось, – Земля и Вселенная – вечны и неизменны. Только надрывный звук проходящих на большой высоте немецких самолетов, зарево пожаров на западе и неясный гул дальних разрывов напоминали нам о войне.
Наш табор перемещался по цветущей земле Украины в основном по проселочным дорогам. Война, однако, ощущалась и здесь. Стада коров передвигались параллельно дороге. Управляли ими по несколько выбивающихся из сил женщин и подростков, чуть старше нас. На просьбу дать молока для детей женщины отреагировали необычно:
– Идите, доите, сколько хотите!
Оказывается, сами они не в состоянии были доить множество коров, и те страшно страдали от сгорающего в вымени молока. Коровы, увидев женщин с ведром, хором двинулись к ним. Наши женщины доили, сколько смогли. Все пили молоко «от пуза», набрали полную 5-литровую бутыль. Через какое-то время молоко из бутыли пришлось выковыривать: из всплывших сливок сбилось масло и закупорило горловину.
Вскоре в движущихся стадах началась эпидемия ящура. Лечить было некому и нечем, и крестьянские кормилицы своими трупами устилали придорожные луга, снабжая пищей воронье. Надвигающуюся сзади войну уже можно было ощущать по многим приметам: обезлюдевшим селам, брошенной посреди дороги сельхозтехнике, потоку пеших беженцев, рядом с которыми мы чувствовали себя буржуями. Многие просто шли пешком с рюкзаками за спиной. В руках некоторые вели детей, коров, собак. Самые «обеспеченные» толкали впереди себя тачки с нехитрым скарбом и малыми детьми. Иногда мы завидовали, когда нас обгонял трактор с вагончиком на колесах. Однако у тракторов кончалось горючее, или они ломались, и тогда счастливые пассажиры вагончика пополняли ряды пешеходов. Мы чувствовали себя малой каплей в этом океане всенародного бедствия. Скупые известия с фронтов добывались случайными газетами и дополнялись невероятными слухами. Немцы, по слухам, высаживали десанты, перерезали железные и шоссейные дороги… Однако во всей массе народа, двигавшегося на восток, было одно твердое убеждение: дальше Днепра немца не пустят, скоро все пойдет в обратном направлении. Это была идея, помогающая жить и двигаться, преодолевать свои слабость и усталость.
Однажды утром, когда наш табор сворачивал ночевку для движения, над близким лесом мы услышали незнакомый звук авиационного мотора – высокий и напряженный. Из-за деревьев на бреющем полете над нами с разворотом пронесся истребитель с чужими крестами. Никто не успел даже шелохнуться. Я разглядел хмурое лицо немецкого летчика в шлеме, смотрящего на наш табор. К счастью для нас, оргвыводов не последовало, и мы тронулись в путь. Впервые так близко мы видели реальное лицо врага.
Среди движущегося на восток народа были только женщины, дети и старики. Наш главный водитель, восседающий на телеге И.А. Редько, мужчина в расцвете сил, чувствовал себя весьма неуютно под взглядами измученных женщин. Их взгляды молчаливо спрашивали: «А почему ты, такой здоровый, здесь, а не там, где воюют и гибнут наши мужья?». Очевидно, поэтому мы старались двигаться проселками, выбираясь на широкую дорогу только при крайней необходимости. Когда большой населенный пункт нельзя было миновать и было предположение, что там стоит заградительная комендатура для ловли дезертиров, Редько передавал вожжи одной из женщин, воссоединяясь с нами уже за городком в условленном месте. Хотя Редько был злым гением нашей семьи, я не могу его обвинять за эти действия. В конце концов, он нес ответственность перед отцом и за наши жизни…
Ой, Днiпро, Днiпро…
Однако по мере приближения к Днепру мы вынуждены были влиться в основные потоки беженцев: переправ было считанное количество, и немцы тоже понимали их значение. Днепр решили перейти в Черкассах: после войны это областной центр, а в 1941 году районный город. В Черкассах работали три моста: железнодорожный, понтонный и деревянный шоссейные. Когда до Днепра оставалось около 10 километров, совет табора выработал такое решение: выехать с ночевки в 5 утра, чтобы без остановок проскочить мост около 10 утра.
Сначала все шло по намеченному плану. Ночевку начали раньше, чтобы лошади хорошо подкормились и отдохнули. Всю короткую ночь были слышны дальние взрывы. На юге и сзади виднелись зарева огромных пожаров: это горели склады горючего в городках Шпола и Смела…
Двигаться к Днепру мы начали даже на полчаса раньше. Не завтракая, быстро свернулись в холодном утреннем тумане еще до восхода солнца. Все были напряжены. Даже маленькая Торочка на руках у П. И. Степанковской не капризничала, как обычно. Через час мы подъехали по своему проселку к магистральному шоссе, ведущему прямо в Черкассы.
Увы, мы опоздали! По шоссе уже медленно полз к Днепру сплошной плотный поток, которому не было конца. Женщины, дети, старики брели плотной толпой, таща на плечах или в тачках свой скарб и малышей. Некоторые вели на поводу домашнюю живность: корову, козу, собаку. В этом потоке были такие же, как мы, «пароконные» и даже тракторные вагончики, которые тянули трактора со снятыми с металлических колес шипами. Однако все они двигались со скоростью самого медленного пешехода или коровы: обгонять было невозможно и бесполезно. Вся ширина дороги, в том числе встречная полоса, были заняты этим нескончаемым потоком…
Кое-как наша телега втиснулась в поток и начала движение «как все»: медленно и обреченно. Час проходил за часом, давно взошедшее солнце беспощадно припекало, а желанные Черкассы и переправа через Днепр оставались такими же недосягаемыми. К полудню стало ясно, что наши усталые «лошадиные силы» не смогут без отдыха совершить бросок через Днепр. Да и детям, почти не спавшим прошлой ночью, надо было поесть и передохнуть. В километре от шоссе, среди желтеющих хлебов, виднелся небольшой хуторок с деревьями, обещающими защиту от солнца и водопой для людей и лошадей. Туда и решили свернуть, с некоторым сожалением вырываясь из ставшего привычным потока.
Окраина хуторка из двух домов и глубокого колодца под раскидистыми дубами уже была обжита: в тени отдыхало отделение военных, среди которых оказался один знакомый земляк. Распрягли и напоили лошадей, затем сами приникли к холодной воде из колодца. Женщины начали готовить небогатую снедь, расстелив кусок брезента на траве, одновременно засыпая вопросами знакомого. Восемь вчерашних мирных хлебопашцев, учителей, бухгалтеров были мобилизованы, переодеты в военную форму и, безоружные и необученные, направлялись на некий сборный пункт для дальнейшего прохождения службы и защиты Отечества. Вести с фронтов – скудные и противоречивые. Слухи – наоборот: красочные и страшные. Где-то немцы выбросили десант, перерезали пути сообщения и, не встречая организованного сопротивления, ходят с оружием по нашей земле, разрушая ЛЭП, линии связи, взрывая мосты и склады горючего. Огромные столбы черного дыма, поднимающиеся над местом ночных пожарищ, подтверждали самые худшие опасения.
Среди разговоров не сразу поняли, что в окружающем пространстве уже появился и непрерывно усиливается некий тяжелый и вместе с тем звенящий гул. Запоздалый крик «Воздух!» был излишним: все уже и так видели, что над дорогой, с которой мы недавно свернули, в сторону Черкасс быстро пролетает волна за волной несколько десятков немецких самолетов. Над дорогой начали вспухать султаны взрывов. Несколько секунд спустя доходили звуки взрывов, и начинал беспорядочно «толкаться» воздух.
Пролетевшие самолеты устроили гигантскую карусель над невидимой нам, но очень близкой целью. По очереди каждый из самолетов клевал носом на короткое время, затем выравнивался и опять занимал место в карусели. Отдельные взрывы почти слились в один непрерывный гул. Воздух двигался толчками, земля ощутимо вздрагивала. Внезапно среди самолетов появились белые круглые шарики, и кто-то выдохнул: «Десант!». Это была искра, которая подожгла пожар паники. Наше случайное сообщество мгновенно разрушилось, и каждый начал спасаться по своему разумению, – куда-то бежать, прятаться… Мама схватила нас с Тамилой за руки, и мы понеслись в поле уже желтеющей пшеницы или ржи. Запутавшись в высоких стеблях, мы метров через 50 остановились и присели. Самолеты выходили из карусели и возвращались на запад уже точно над нашими головами. Наше укрытие с воздуха им было, наверное, видно как на блюдечке. Когда это стало понятно, то наши ощущения можно было сравнить с чувствами голого, оказавшегося на большой пустой площади, окруженной вооруженными врагами…
Самолеты врагов
Позже, на «разборе полетов», я упрекал маму за то, что мы так нерасчетливо подставились под немецкие бомбы. А еще позже, стоя на крыле самолета и прицеливаясь для очередного прыжка с парашютом, я понял, что решение «спрятаться на виду» было единственно правильным. Ведь с высоты 600–800 метров летчик видел в первую очередь зеленый оазис хуторка среди желтого поля. Только там могла прятаться угроза для самолета. И если у летчика оставались неизрасходованными 2–3 бомбы, то кинуть их на хуторок – святое дело…
К исходу налета все уже поняли, что белые облачка возле самолетов вовсе не парашюты десанта, а разрывы зениток. С надеждой мы ожидали прямого попадания в гадов, но, увы, – все самолеты возвратились назад…
Спустя часа два мы опять выехали на шоссе для движения к Днепру. Поток оставался почти таким же плотным, осторожно огибающим свежие воронки на шоссе и людей на обочине, голосящими над убитыми, перевязывающими раненых. Трупы животных, разбитые повозки и домашний скарб, упавшие на дорогу телеграфные столбы и провода уже были сброшены на обочину. Поток безостановочно двигался к Днепру. Это был заветный последний рубеж, дальше которого немцы просто не могли пойти…
Только к вечеру мы как-то незаметно оказались в Черкассах и остановились под высоким глухим забором городской больницы. Вскоре там начались душераздирающие крики: привезли раненых и убитых рабочих, непрерывно восстанавливающих переправы через Днепр – даже во время бомбежек. Война показывала свое истинное лицо, не такое, как в кино…
Ночевали мы в Черкассах в брошенной городской квартире. Всю ночь стреляли зенитки, слышались взрывы. Но мы были уже «обстрелянные» и настолько устали, что не обращали на это внимания.
Рано утром с высокого правого берега Днепра мы скатились к деревянному мосту, длина которого составляла 2 или 3 километра: мост проходил также через озерца и плавни левого берега. Весь берег вокруг моста был изрыт воронками от авиабомб. На дороге воронки были засыпаны свежей щебенкой. На самом мосту выделялись пятна свежих досок, которыми лечили раны моста.
Надо заметить, что крутой спуск для лошадей был так же труден, как и подъем: тяжелая телега напирала сзади. Поэтому все такие подъемы и спуски взрослые обычно преодолевали в пешем строю. Перед спуском к мосту с телеги сошли только мама и две девушки. На мосту нельзя было двигаться сплошным потоком, поэтому следующую повозку выпускали только спустя некоторое время. Редько сразу же погнал лошадей. Наши женщины побежали вдогонку, но начали отставать. Я закричал: «Мама осталась!». Редько пробормотал что-то типа: «Ничего с твоей мамой не случится». Тогда я дико заорал «Стой, …….!!!» и вцепился в нашего доблестного возницу сзади. Кажется, говорил непотребные слова, малую толику которых знал уже тогда. Тамила тоже во весь голос начала верещать. Наконец наша руководящая дама Полина Ивановна выдавила из себя: «Зупинiться, Iван Ананьевич». Лошади остановились, вскоре обессиленные девушки и мама водрузились на телегу, и мы вскачь, не жалея лошадей, понеслись по мосту.
Только теперь, пропустив главный фарватер Днепра, я начал видеть окружающее. Мост узкой лентой пересекал необозримые заросшие камышом плавни Днепра. Стена зелени прерывалась небольшими чистыми озерами и протоками с песчаными отмелями. Но даже на этом ландшафте были видны следы беспощадных бомбежек: круглые озерца воронок, плеши в зарослях тростника. На самом мосту повреждений было сравнительно немного: видно не так легко, к счастью, попасть с высоты в тонкую черточку моста, а опуститься ниже летчикам не позволял огонь зениток, так разочаровавший нас накануне. На самом мосту мы объехали два или три брошенных трактора ХТЗ с колесами без стальных шипов. Очередной налет, по-видимому, помешал механикам разобраться в тайнах переставшего работать магнето или захандрившего карбюратора. Вагончиков с людьми и скарбом на мосту не было: их могли под бомбежкой выкатить даже вручную, если там находились малыши… Встречного движения на мосту не было. Метров через 200–300 возле перил стояли суровые дядьки в военной форме с винтовками за плечами.
Мост наконец кончился, и мы поехали почти по таким же плавням, но уже по высоко насыпанной и мощеной серым булыжником дороге. Все самое страшное осталось позади. Мы были в полной безопасности. Мы забыли все невзгоды и неувязки, все смеялись, шутили и любили друг друга. Съехали с дороги вблизи конопляного поля, которое под жарким солнцем одуряюще пахло. Наши славные лошадиные силы были освобождены от сбруи и пут, напоены, обласканы и отправлены на выпас и отдых. Ярко светило и грело солнце. Женщины вспомнили, что детей и одежду давно не стирали и занялись этим увлекательным делом в небольшом чистом озерце с песчаными берегами. Выстиранные платки и одежду повесили сушить на ветлах, росших вдоль дороги. На небольшом костре уже булькала в котле и приятно пахла похлебка. Старшие дети купались и носились друг за другом на зеленой лужайке. Видя наш веселый табор, к нам присоединилось человек 5 красноармейцев во главе с офицером (виноват: с красным командиром; тогда к слову «офицер» обязательно добавлялось прилагательное – «белогвардейский»).
В эту идиллию постепенно начал вплетаться некий посторонний звук.
– Воздух! – первым крикнул красный командир.
– Убрать белое, всем укрыться!
Все бросились снимать невысохшее белье с ветел, затем прятаться под ними. Не очень высоко, параллельно Днепру по НАШЕЙ стороне, прямо над нашими головами, пролетал немец.
– Парашютист! – истошно завопил один из бойцов, спрятавшийся по другую сторону насыпи дороги. Преодолевая страх, я выполз на уровень полотна дороги. Метров за 300, в кукурузе высотой в полтора роста человека, медленно угасал белый купол парашюта. Все выскочили не таясь на дорогу, показывая пальцами на след парашютиста, заметный по колеблющимся верхушкам кукурузы. Бойцы с надеждой смотрели на единственного вооруженного человека – своего командира. Тот внимательно осмотрел свой пистолет, проверил патроны и вдруг сел на полотно дороги и начал… снимать сапоги. «Чтобы сподручнее догнать фашиста!» – так все поняли его действия. В это время вой моторов стал усиливаться: самолет возвращался назад. Все опять залегли под придорожными ветлами. Диверсант тем временем растворился в маисовых, то бишь – кукурузных плантациях…
Статистическое отступление. По статистике, приведенной К. Симоновым, жизнь младшего офицера на фронте длится около одной недели. Спасибо тебе, находчивый красный командир, что ты не полез сгоряча под автоматную очередь немецкого диверсанта и сохранил свою молодую жизнь для целой недели боев с захватчиками…
Наш табор быстро собрался и молча и угрюмо двинулся дальше обычным способом. Война двигалась следом и наступала на пятки…
Полтавские каникулы
Еще неделю-полторы мы передвигались по благодатной земле левобережной Украины. Чистые глубокие реки – Сула, Хорол, Псёл, Ворскла. Тучные поля с желтеющими хлебами. Белые хаты, утопающие в садах. Приветливый, трудолюбивый народ… И на все это уже ложилась печать огромного народного горя – всепожирающего Молоха войны. И мы, беженцы, были невольными вестниками и частицами этого, уже двигающегося по нашей земле, огненного вала всенародной беды. Однако, тогда в 1941-м, вряд ли кто мог представить себе всю тяжесть, длительность и глубину этой беды, истинную величину горя и потерь. Сожженные города и села, голод, холод, десятки миллионов загубленных жизней и исковерканных судеб слышны в траурных и торжественных мелодиях Дня Победы…
Остановились мы в небольшом селе с неблагозвучным именем Портянки (нового названия Куйбышевка народ почему-то не принял). Но само село было на удивление хорошо. Утопающее в фруктовых садах село стояло на высоком берегу реки Псел. На низком берегу вдали просматривались Сорочинцы, где-то рядом были Миргород, Диканька – знаменитые гоголевские места. Я впервые в жизни увидел вблизи настоящую реку: глубокую, чистую с мягкой немного коричневатой водой, с песчаными отмелями и скалистыми кручами на изгибах. Я совершенно не умел плавать. Со страхом садился с местными мальчишками в легкий, выдолбленный из целого ствола дерева, човен, а затем с восторгом наблюдал, как сноровисто они добывали из реки настоящую рыбу. Иногда после захода солнца (мне кажется из-за отсутствия – как модных, так и вообще каких либо купальников) на купание приходил весь наш табор. Купание (и помывка!) при свете звезд – это такой кайф, как сказали бы теперь!
Вести с фронтов были неутешительны. Немец неудержимо двигался по нашей стране. Многие начали понимать, что Днепр не станет для немцев непреодолимой преградой. И нам надо было двигаться дальше. И. А. Редько призвали в армию. Его семья не захотела ехать дальше и переехала куда-то к родственникам. Мы, оставшиеся, забрали из колхоза своих лошадок и двинулись на Восток. Лошадей запрягали и по очереди правили ими все набравшиеся опыта женщины и я. Наш экипаж сократился на четырех человек с пожитками, поэтому мы теперь почти всегда едем на телеге, скорость нашего движения возрастает.
Я не могу теперь назвать точных дат нашего отъезда; думаю, что это было около 20 августа, когда немцы уже вплотную подошли к Днепру и Киеву. Из книги С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» я выяснил, что танковые армии Гудериана и Клейста, форсировав Днепр, обошли упорно обороняющийся Киев с севера и юга. 15 сентября немецкие клещи соединились в районе Лохвицы, окружив в котле восточнее Киева наши значительные силы. В этом котле наши войска понесли огромные потери. Погибло почти все командование Юго-Западного фронта во главе с героем Гражданской и Финской войн генералом М. П. Кирпоносом. Маршал Жуков в книге «Воспоминания и размышления» пространно пишет, что он предупреждал Сталина о будущей катастрофе, советовал сдать Киев и строить оборону по реке Псёл. Город Лохвица, где замкнулись клещи немецких танковых армий, находится в 50–60 километрах севернее места наших «гоголевских каникул». Значит, по ним прокатился огненный каток войны всего лишь через полторы-две недели после нашего бегства.
Ничего этого, конечно, тогда никто не предвидел. Мы просто упрямо передвигались на восток в потоках себе подобных, чувствуя за спиной горячее дыхание войны. В Белгороде остановились возле больницы, превращенной в госпиталь. На машинах с поездов туда непрерывно привозили тяжело раненных. В воздухе висел стойкий запах медикаментов и гниющей человеческой плоти…
У меня случилось и личное несчастье. Пытаясь добыть свежее сено для лошадей из высокой скирды, я оттуда свалился. Левая рука неестественно загнулась в локтевом суставе. Прибежала мама и с силой дернула руку, после чего она как будто стала на место. Однако опухоль на суставе не проходила, рука перестала изгибаться в локте. Посещение врача не принесло радости: сустав установлен неправильно и окостенел в таком положении. Исправить можно только сложной операцией в стационарных условиях. Когда горит вся страна, гибнут миллионы, и хирурги на вес золота, – кто может заниматься больным суставом мальчишки? Мы смирились, привязали руку к телу, я учился управляться одной, благо – правой.
Тамбовский госпиталь и воронежский отель
Остановились мы в сентябре (наверное, по разнарядке власти) в деревне Мельгуны Тамбовской области. Лошадей и телегу сдали на нужды обороны. Странное впечатление производила на нас эта деревня. На ровном чистом поле стояли голые избы, вокруг которых не росло абсолютно ничего. Не было ни грядок, ни сараев, ни каких либо заборов. Самое большое здание – школа из серых досок, куда мы стали ходить как ученики, а мама и Полина Ивановна – как учителя. Народ питался сахарной свеклой, сшибая ее с машин на недалекой дороге, ведущей к сахарному заводу. Топили соломой, оставшейся на близлежащих полях. Мы с ужасом думали, чем будем кормиться и обогреваться приближающейся зимой… Случайно узнали, что совсем недалеко, в поселке Грибановка Воронежской области, находится эвакуированный туда Деребчинский сахарный завод, и стали просить разрешения на выезд в Грибановку: знакомые земляки не дадут пропасть женщинам с детьми…
Пока ходили бумаги, по совету нашей хозяйки, мама повела меня к столетней слепой старушке, которая в деревне слыла костоправом. Мы вошли в незакрытую, чисто убранную, избу. За столом сидела опрятно одетая, – нет, не старуха – просто пожилая женщина со светлыми невидящими глазами. Мама представилась, без всякой надежды рассказала о нашей беде. Бабушка молча легкими чуткими пальцами ощупала мой раздувшийся локоть. Попросила согреть воду, поставить тазик и мыло, объяснив, где что находится.
– Держи его, голубушка, покрепче, – потребовала бабушка у матери. Намылила мне руку, и с силой выпрямляя ее, другой рукой охватила локтевой сустав. Если бы я не видел, что это были просто пальцы, я бы подумал, что руку мне сжали стальными клещами. Медленно «клещи» поползли вниз по намыленному суставу. Я взвыл полным голосом и задергался, но мама, хоть и со слезами, смогла удержать меня. После пятого-шестого прохода я охрип и подумал, что неприлично орать, когда тебя лечат, и только молча корчился от боли.
– А ты молодец, терпеливый, – незаслуженно похвалила меня бабушка и велела и впредь не бояться боли и разрабатывать руку. После третьего-четвертого сеанса «стальной протяжки» опухоль спала, подвижность сустава увеличивалась, и я уже самостоятельно начал мордовать и разрабатывать руку, поверив, что не стану инвалидом. От всякой платы бабушка категорически отказалась, хотя мама на радостях настойчиво предлагала ей что-то из нашего скудного имущества. Спасибо тебе, бедное село Мельгуны, где живут такие бабушки…
Вскоре мы переехали в Грибановку. Это было окруженное лесами большое село с «градообразующим», как теперь говорят, сахарным заводом. Все дворы здесь – с садами и огородами, с запасом дров на зиму. А приближение зимы уже весьма ощутимо: было начало октября, и ночью лужицы замерзали.
На постой нас определили к высокой женщине, на руках которой было трое детей, а муж воевал. Хозяйка встретила нас сурово и неприветливо. Сразу немногословно объяснила нам, где жить, где ходить, что можно брать, что нельзя, что мы обязаны делать и чего нельзя делать. Обескураженные неласковым приемом, мы начали обживаться в выделенном нам углу избы.
Вскоре мы поняли, что наша хозяйка, – просто замученная тяжелой постоянной работой женщина. Кроме работы на заводе, ей одной приходилось управляться с тремя малыми детьми и сравнительно большим хозяйством: с коровой, поросятами, курами, огородом, готовиться к предстоящей зиме: запасаться продуктами и топливом. До нас у нее на постое уже была какая-то семейка, требовавшая от хозяйки чуть ли не гостиничного сервиса, как сказали бы теперь.
Мы начали ей всемерно помогать. Мама занялась детьми и приготовлением пищи, я – дровами. Даже маленькая Тамила важно работала веником или помогала мне складывать поленницу. В школу я не пошел: стало понятно, что и здесь мы задержимся не надолго.
Недели через две-три наша хозяйка со слезами, как близких и родных, снабдила нас едой, посадила на телегу для отправки в эвакопункт Борисоглебск. Еще через несколько дней в Поворино был сформирован состав из товарных вагонов – «теплушек», который вне всяких расписаний и графиков начал рывками, но неуклонно, продвигаться на восток. В одной из теплушек, среди великого множества похожего народа, на одной из дощатых полок, вместе с нехитрым скарбом, ехали две женщины и четверо детей. Старшему из них (мне) исполнилось уже целых десять лет, а самой младшей – Торочке Мильман (Степанковской) едва минуло два года.
Жизнь на колесах
Для людей, требующих билеты «возле окошка» в самолет или на поезд, товарная двухосная теплушка, едущая холодной осенью вне расписания, не очень подходит. Высоко расположенные четыре стальных окошка при открытии пропускают не только свет, но и поток холодного воздуха, насыщенного паровозной гарью. То же самое можно сказать о широких откатных дверях. Любители чтения детективов под стук колес, боюсь, тоже будут разочарованы: в теплушках не предусмотрено местное освещение, как впрочем, и общее. Желающие размяться на привокзальных перронах должны иметь в виду, что перроны для товарных вагонов – это земля, чуть ниже головки рельса, и лестница к полу теплушки, находящегося на высоте около полутора метров тоже не предусмотрена. Но самое главное ограничение, касающееся всех, – отсутствие каких-либо «удобств» для совершения естественных отправлений. При остановке на станциях из теплушек вываливалась или, в зависимости от высоты перрона, – спрыгивала, высыпала толпа с квадратными глазами с единственной целью – облегчиться. Особо воспитанные пытались забраться под вагоны, чтобы хоть как-то уединиться. Но после того как нескольких стыдливых разрезали колеса внезапно тронувшегося поезда, порочная практика прятанья была прекращена. Прямо вдоль вагонов выстраивались шеренги сидящих женщин, стариков, детей постарше. Проходящие железнодорожники стыдливо ничего не замечали. Все станционные пути заплывали продуктами жизнедеятельности человека с соответствующими запахами.
Всем едущим в теплушках при формировании поезда на эвакопунктах выдавали продуктовые карточки. Однако отоварить их при нерегулярном движении поезда было весьма проблематично. Помню, кажется в Саратове, маме удалось получить на карточки пирожки с повидлом. Это был хотя и очень короткий, но настоящий праздник! В лучшем случае по карточкам удавалось получить крупы, иногда – печеный хлеб. Народ начал приспосабливаться: на остановках быстро устанавливались два кирпича, на них – кастрюля с водой и крупой, разжигались заранее запасенные щепки. Сколько будет стоять поезд на глухом полустанке, пропуская срочные попутные и встречные поезда, – никто не знал. При первом гудке нашего паровоза, недоваренные каши вместе с кашеварами влетали в теплушку. Иногда каша варилась «понемножко» в течение двух суток. Еще один источник теплой пищи – кипяток (даже если в кипяток нечего было положить, то и в чистом виде он представлял некую калорийную ценность). На всех станциях большими буквами с указывающими направление стрелками были надписи «Кипяток», куда всегда устремлялись бегущие с чайниками толпы с подошедшего поезда. Анекдот того времени: иностранец удивляется, почему в СССР все станции называются «Кипяток»?
Была еще одна проблема, которая не могла не возникнуть в скученной массе людей, неделями не мывшихся и не меняющих белья и одежды. Это большая проблема, создаваемая маленькими паразитами – вшами. Вездесущие и неистребимые насекомые разных оттенков и размеров и их яйца – гниды – были везде: в волосах, складках белья и верхней одежды, свободно переходя от одного «донора» к другому. Впрочем, теперь уже понятно, что дело не только в гигиене и чистоте. Вши нападают на людей голодных и обездоленных, ослабленных духовно и физически. Женщины, как могли, защищали, прежде всего, детей. То, что современный зритель расценил бы как любовное и бессмысленное перебирание волос ребенка, – в действительности было поиском и уничтожением паразитов. Сейчас уже мало кто понимает всенародный жест, означающий полное уничтожение – сближение двух ногтей больших пальцев. В большой цене были мелкозубые (частые) гребни, которых теперь не делают. Чем меньше зазор между зубьями, тем меньших размеров паразитов «берет» такой гребень.
Одна картина врезалась мне в память так, как будто это было вчера, а не более 60-ти лет назад. В нашей теплушке ехал одинокий старик еврей из Белоруссии. Его семья попала под бомбежку и погибла, все имущество тоже пропало. Несчастный был одет в рваную телогрейку, а почерневшие от грязи кальсоны служили ему также брюками. На одной из станций мы оказались рядом на низком перроне возле нашей теплушки. Стыдливо отвернувшись лицом к вагону, старик расстегнул пояс кальсон и ребром ладони начал сгребать изнутри на землю сплошную серую шевелящуюся массу вшей…
Если бы в вагоне вспыхнул, например, брюшной тиф, – мы были бы обречены. Конечно, на эвакопунктах и больших станциях, где проходила огромная масса людей, предпринимались кое-какие санитарные меры. Допускали в залы и регистрировали документы только после прохождения санобработки. Там людей раздевали до нитки и отправляли под более-менее теплый душ, а всю одежду до носков включительно пропаривали в автоклавах. Однако, как заметил кто-то из умных: «Нельзя жить в обществе и быть независимым от него». Содержащиеся остальным обществом паразиты тоже знали эту чеканную формулу и через пару часов заменяли собой павших на поле брани единоплеменников. Кроме того, строгость правил «смягчалась» человеческой жалостью контролеров: разве можно не пустить в теплый вокзал выбившуюся из сил женщину, увешанную сопливыми детьми и немудреными пожитками? Конечно, они пройдут санобработку, но немножко после, когда обогреются, чего-нибудь поедят и чуть-чуть отдохнут…
Реплика из светлого будущего. Когда современные дети, посмотрев кино типа «Четыре танкиста и собака», представляют войну в виде веселых и увлекательных приключений с красавицей Марусей и умной собакой, я вижу старика, сгребающего вшей, и измученную женщину с голодными детьми. Это – один из главных ликов войны. Впрочем, современным бомжам и беспризорным детям, наверное, так видится и лицо «перестройки»…
В нашей холодной теплушке состоялось чудо: появилась настоящая круглая чугунная «буржуйка» – отрада обездоленного и замерзающего пролетариата. Теперь каждый вылезающий в свет абориген теплушки считал своей главной задачей добыть гостинец для выделяющей живительное тепло представительницы враждебного сословия: кусок угля, полено, щепку. «Представительница» поедала все с неизменным аппетитом, румянясь от удовольствия. Если бы до этого не кончились все запасы круп, то на ней можно было бы даже варить кашу. Тем не менее, поближе к живому теплу сползалось большинство населения теплушки, и под стук колес каждый молчал о своем, наслаждаясь неслыханным комфортом.
За нашей теплушкой была прицеплена открытая платформа с огромным зачехленным станком. Два-три пацана, в том числе я, проводили на свободном краю платформы многие часы, постигая «нутром» огромные просторы Родины и язык железной дороги. Мы знали в лицо все паровозы: маленький писклявый маневровый «Ов» (овечка), «ИС» (Иосиф Сталин) с огромными красными колесами. Больше всего мы уважали «ФД» (Феликс Дзержинский). В этом длинном чудовище с короткой овальной трубой все было прекрасно и ладно, начиная с низкого мощного гудка. Во всем его облике чувствовалась огромная мощь и стремительность. Мне кажется, что создатели этого паровоза были не только отличные инженеры, но и поэты и художники. Когда усталый паровоз хотел пить, он подходил к поворотному гусаку, который через раструб низвергал в чрево паровоза толстенную струю воды. Блаженно рявкнув, паровоз благодарил «гусака», тот закрывал струю и отворачивался. Довольный паровоз выпускал струю пара и величаво удалялся. Вместе с паровозом мы испытывали жажду и чувство ее утоления… Мы любили «тормоз Матросова» и «тормоз Казанцева», которыми согласно надписям были снабжены теплушки и платформы, и люто ненавидели «тормоз Вестингауза», который обычно стоял на пассажирских вагонах. Вагоны были, конечно, буржуинские, а Вестингауз – иностранец и наш личный враг. Вместо слов «замолчи», «перестань» мы говорили: «закрой поддувало, не сифонь», – такие надписи стояли перед железнодорожными мостами. «Не толкать!», «С горок не спускать!», «Не кантовать!», – только такими словами реагировал сонный мальчишка на всякие беспокоящие его действия. Сидя на платформе, проносящейся по бескрайним степям после Челябинска, мы самостоятельно постигли тайну автоблокировки. Поезд, проезжая зеленый светофор, включал на нем красный сигнал, на предыдущем светофоре зажигался желтый, а на еще более раннем – зеленый. Таким образом, без людей поезд сам создавал за собой зону безопасности длиной в два светофорных пролета. Иногда наш поезд часами стоял на неизвестных станциях: у нас отнимали Паровоз! И не было лучшего звука, чем гудок паровоза и лязг буферов, бегущий от головы до хвоста поезда. Это означало, что мертвая гусеница поезда соединялась для движения с Живым Паровозом!
Вести с фронтов, выхваченные второпях на станциях, были отрывочными и не радостными. «После тяжелых боев оставлен город N». Только тот, кто знал, где находится этот город, мог представить себе, как далеко забрались немцы. Пал Киев, под немцем уже была почти вся Левобережная Украина, где мы, наивные, полагали отсидеться… Немцы окружили Ленинград, подошли к Москве и Волге…
Нас обгоняли пассажирские и товарные поезда. Навстречу один за другим неслись такие же товарные поезда. Часто в таких же теплушках на фронт ехали, одетые в серые шинели и полушубки, молодые ребята; на платформах стояли зеленые танки, автомобили и зачехленные пушки, цистерны с надписями: «Огнеопасно», «С горок не толкать!».
Мы постигали воочию необъятность и мощь Родины. Уже погибли миллионы людей, сгорели тысячи городов и сел… Но огромная страна СССР только начинала по-настоящему разворачиваться и воевать, бросая в прожорливую топку войны новые неисчислимые ресурсы и своих сыновей… «Наше дело правое, мы победим! Будет и на нашей улице праздник!» – сказал Вождь, и мы ему верили, больше, чем себе, как позже скажет К. Симонов…
Вместе с нашим движением на восток двигалось и время, – стояла уже глубокая осень, наступали холода. Наши аварийные летние пожитки не были на это рассчитаны, и мама прилагала все усилия, чтобы нас с Тамилой как-то утеплить. Мы в своих нарядах стали напоминать кочан капусты, в котором листьями были все запасенные на лето смены одежды. Популярен был анекдот: «Шо это за климАт? – говорил одессит в Архангельске. – Двадцать маек надел, – все равно прошибает!». На крупных станциях наш поезд ставили далеко от вокзалов. Вдали в голубом тумане нам виделись города Курган, Петропавловск, Омск, Новосибирск, Барнаул. Менялся облик аборигенов: «глаз стал узкий, нос – плуский».
Мы уже почти на Востоке
Морозным днем мы высадились, наконец, в Семипалатинске. Как морякам, давно не бывшим на суше, нам было непривычно не ощущать под ногами дрожь вагона и стук колес. В городе свирепый ветер заносил снегом и песком (!) узкие полоски асфальта. После санпропускника и эвакопункта на второй или третий день нас «сформировали» в переполненный, уже пассажирский, вагон, и уже через сутки мы высадились на станции Аягуз.
Во время этого броска, а может и раньше, заболела Тамила. Высокая температура, трудное дыхание… Мама побежала на руках с ней в Аягузе в больницу. Там женщина – главврач (все врачи, как и железнодорожники, считались мобилизованными) осмотрела Тамилу, покачала головой. «Крупозное воспаление легких», – был ее неутешительный вывод. Надежд на выздоровление – мало. Мама была в отчаянии. Нас отправляли дальше. Остаться с Тамилой без жилья и карточек было невозможно. Больница была переполнена тяжелоранеными, доставленными с фронта, и вся медицина выбивалась из сил. Плача, мама просила врачей и медсестер поухаживать за Тамилой, и это было единственное, что можно было для нее сделать…
Холодным, по-настоящему зимним днем, человек 15 эвакуированных (таков был наш официальный статус), в том числе семья Мильмана, одна из деребчинских девушек и мы с мамой, погрузились в кузов полуторки; нас любовно накрыли тяжелым брезентом, чтобы не замерзли. Машина двинулась дальше на восток.
Около 200 километров тряской извилистой дороги, которая называлась шоссе, мы преодолевали целые сутки. Наше физическое состояние колебалось от почти полного замораживания до частичного оттаивания в прокуренных самосадом пунктах обогрева и питания водителей. Но это была райская атмосфера, в сравнении с нашей «подбрезентовой»: один из стариков страдал расстройством желудка и за неимением других возможностей удалял его содержимое в одежду и окружающее, увы, тесное пространство…
Наконец мы выгрузились в районном центре Урджар – небольшом селе с несколькими домами покрупнее, где находились: власть, образование (школа), культура (клуб) и торговля (магазин). Здесь нас еще раз «сосчитали» и рассортировали. Мильманы, девушка и мы с мамой были посажены на сани с пахучим сеном. Женщина-ездовая рассадила нас по одной ей ведомым правилам, что-то сказала двум небольшим лошадкам, и мы бодро двинулись санной дорогой по холмистому заснеженному пространству – опять на восток. Слева на севере возвышалась громада гор, которые так отчетливо я видел впервые в жизни. Через несколько часов пути показалось большое село. Из труб домиков, очень похожих на украинские хаты, уютно поднимались вертикально вверх дымки от печек. Дым от печек имел непередаваемый, довольно приятный запах. Это был неведомый нам ранее запах горящего кизяка… Маму, девушку и меня высадили возле четвертой от края села хате. Нас встречала хозяйка с двумя дочками и рвущийся с привязи здоровенный пес… Здесь была конечная точка нашего бегства от войны. Дальше на восток, километров через сто, была уже граница с Китаем.
04. Восточная жизнь
Восток – дело тонкое.
Аборигены Востока. Холодная зима 1941 года
Наша хозяйка Зоя Барабаш была типичной казачкой: веселой и трудолюбивой, несмотря на свою болезнь – Базедову. Раздутый «зоб», как я узнал позже, свидетельствовал о недостатке йода или об облучении радиоактивным йодом. Старшая ее дочь Нина, не очень складная и высокая, – человек замечательной доброты, участливая ко всем несчастным. Младшая Лида – чертик в юбке: неугомонная, смешливая, способная на неожиданные выдумки и поступки. Старшую сестру она называла «няня». Мы сначала не могли понять, «кто есть кто», затем узнали, что няней здесь всегда называют старших сестер. К сожалению, впоследствии Лида повредила ногу и после «умелого» лечения стала инвалидом, что резко изменило ее характер. (Не было здесь тамбовской бабушки…) Еще у наших хозяек была огромная и свирепая среднеазиатская овчарка Разбой, с которой я вскоре подружился, – наверное, она скучала по своему хозяину, ушедшему на войну, и видела во мне некий эрзац отсутствующего хозяина. К весне мы с Разбоем достигли полного взаимопонимания. О наших совместных предприятиях я еще расскажу. Была у хозяек еще маленькая бурая коровка, дававшая молоко замечательной жирности и вкуса. И, наконец, трогательная неразлучная парочка: теленок и поросенок. Эти ребята не могли жить друг без друга: когда один из них куда-нибудь отлучался, другой как потерянный носился по двору. Когда они опять встречались, то радовались несказанно и занимали «штатное» положение: ложились рядом, клали друг на друга головы и блаженно закрывали глаза.
Наше село имело вполне славянское название: Ириновка. Его жители – переселенцы 20-х годов со Ставрополья, с Кубани. Как известно, кубанские казаки иногда считают себя русскими, иногда – украинцами. Например, родной брат русского губернатора и генерала Лебедя – украинец. Язык кубанцев – русский, специальный, что ли, – с большими включениями украинских слов и оборотов. Во всяком случае, сплав двух народов получился веселым, работящим, жизнестойким. Каждый двор и огород возле него был ухожен, в добротных сараях было место для скота и сена. Перед самой войной здесь поселились также переселенцы с Тамбовской области. Дома этих семейств и участки выглядели как временные: грянула война. Все мужчины ушли, не успев толком обустроиться.
Практически все дома в Ириновке были построены из самана – самодельных глиняных кирпичей огромных размеров. Материал для изготовления самана был под ногами. Снимался поверхностный слой дерна и взрыхлялся слой глины. В образовавшуюся круглую яму отводилась вода из ближайшего арыка (об арыках надо рассказать подробнее), затем солома и полова. Аборигены с участием крупного рогатого и безрогого скота месят ногами эту субстанцию, пока не получают однородную пластичную массу. Формуется саман в деревянных разъемных прямоугольниках определенного, раз навсегда заданного, размера. После предварительного схватывания саман выкладывают в воздухопроницаемые пирамиды, в которых он высушивается и приобретает прочность, то есть готовность для строительства. В сухом климате толстые – около полуметра – самановые стены замечательно удерживают прохладу жарким летом и тепло очень холодной зимой. Ямы возле строящихся домов непрерывно углубляются, затем заполняются водой из арыка, заменяя туземцам плавательные бассейны. В одном из таких бассейнов учился плавать и я. Надо заметить, что фильтрация и замена воды там не предусмотрена, купающиеся там дети доводят воду до состояния глиняной болтушки, и начинающие пловцы должны быть готовы к дегустации этого напитка…
Градообразующее предприятие Ириновки – колхоз имени кого-то, который разделен на 6 бригад, имеющих отдельные дворы и хозяйства. Дом нашей хозяйки располагался напротив двора 6-й бригады, мы автоматически ставали ее членами и работниками, а бригадир – хромой инвалид лет 50 – нашим прямым начальником. Это, казалось, малозначительное обстоятельство создало потом маме сильную головную боль. Дело в том, что одна из «деребчинских» девушек, Лида, добровольно «примкнула» к нашей семье и поселилась вместе с нами. Чтобы не объяснять каждому, что и как, мама объявила ее своей племянницей. Лида была довольно смазливой и упитанной девушкой, хотя качество ее органа мышления было не столь выдающимся… Бригадир-6 начал выделять ее из всех своих работников, что ей сначала понравилось. Когда, спустя некоторое время, по непонятным мне тогда причинам, что-то не заладилось, бригадир все претензии стал направлять «тетушке». Дело приобрело размах. Маме с большим трудом и нервотрепкой пришлось отказываться от родства и отправлять Лиду в автономное плавание…
Но это было потом. Стоит рассказать о том мире, в который нам предстояло вживаться, теперь стало понятно, – надолго. Наша Ириновка располагалась в двухстах километрах от железной дороги, без нормальных автомобильных дорог к ней, с единственным телефоном в сельсовете, работающем от случая к случаю, и это накладывало отпечаток автономности на всю здешнюю жизнь. По украинским меркам ириновский колхоз был богатейшим. Колхозники недостаток коммуникаций вполне заменяли высоким жизненным уровнем. Например, до войны средняя семья получала на трудодни около 10 тонн (!) пшеницы, которую даже сейчас с руками оторвали бы итальянцы для своих спагетти. (Когда мы с голодухи начинали жевать почти прозрачные зерна пшеницы, то в остатке оставался большой ком нерастворимого белка, подобный жевательной резинке). Мука для хлеба – очень вкусного, исключительно домашней выпечки, – просеивалась на шелковых (!) ситах, затворялась на самодельных дрожжах из хмеля и отрубей. Достаточно было и других злаков: кукурузы, гречихи, овса, проса. В горах колхоз содержал 17 пасек по 150–200 ульев, и колхозники зарабатывали по 200–300 килограммов целебного горного меда, который, кроме чаепития и выпечки всяких сластей, применялся аборигенами для изготовления непередаваемой прелести и крепости медовухи – благо хмель выращивался здесь же. При каждом дворе был поливной огород размером около 100 соток, что составляет целый гектар (эти сведения интересны несчастным владельцам несчастных 6 соток). Обычно половина огорода отводилась под бахчу, то есть под арбузы и дыни. Огромные сладкие арбузы и непередаваемо прекрасного запаха и вкуса дыни аборигены ели почти все лето и осень. Арбузы помельче осенью солили в огромных бочках и потребляли их до следующего урожая. Дыни – целые дирижабли – разрезали на ломтики и вялили на солнце, затем заплетали в косички по три. По вкусу и запаху эти косички далеко оставили бы позади любые сникерсы и баунти. Картошка, огурцы, помидоры, огромные, серые снаружи и ярко оранжевые внутри, тыквы, – любые овощи – на хорошо унавоженных поливных землях под жарким солнцем давали сказочные урожаи. Поскольку рынки сбыта были почти недоступны, то, например, три-четыре куста помидоров запросто покрывали потребности средней семьи. Возле каждого дома росли фруктовые деревья: яблони, абрикосы, сливы, тутовые деревья. В сараях возле дома у каждой семьи стояли по одной-две коровы, телята, свиньи и овцы или козы. Кроме того, в колхозных отарах колхозники содержали по 20–30 своих овец и коз, которых стригли или забивали на мясо по мере необходимости.
Коренных проблем у местных жителей было две: вода для полива и топливо. Эти проблемы, конечно, успешно решались, пока не ушли на войну все работоспособные мужики. Оставшиеся старики, женщины и дети справлялись с извечными заботами хуже. Воду надо было брать в горах. Свободно текущая горная река, широкая и свирепая весной, когда в горах таяли ледники, к середине лета почти пересыхала, испаряясь на раскаленных камнях. Но дело даже не только в этом. Река безумно растрачивала свою энергию, падая с многочисленных водопадов, и возле села проходила уже в глубокой долине, откуда поднять воду на полив можно было только мощными насосами. Ни насосов, ни энергии для их вращения, конечно, не было. Поэтому высоко в горах часть воды отводили в специальный канал. Этот канал петлял по холмам предгорья с минимальным уклоном и подходил к селу на достаточной высоте. Вдоль главной улицы села был прорыт основной арык – канава с отлогими берегами, по которой протекала живительная вода. Перегородив основной арык, каждый мог направить поток воды на свой огород. Естественно, к живущим ниже по течению уже ничего бы не дошло. Поэтому власть и сами жители составляли жесткий круглосуточный график водопользования, который неукоснительно соблюдался. Если ты проспал свой час ночного полива, никто тебе не позволит брать воду из арыка, кроме как ведром, когда ты проснешься. Как говорили древние: «Dura lex, sed dura». И канал с гор, и система арыков требовали непрерывного ухода и восстановления, без которых они ветшали и переставали работать.
Вторая головная боль – топливо, тоже требовала немалых усилий. Основное топливо – кизяк, это изготовленные по саманной технологии кирпичи, в которых вместо глины использовался навоз. Особенно за свою теплотворную способность ценились овечьи шарики. Навоз нужен был также для огорода. Но скота ставало все меньше: некому было косить траву весной, некому пасти отары и охранять их от волков. Сокращались и топливные ресурсы. Еще один вид топлива вырастал в степи в виде кустов дикого миндаля – карагая и кустиков таволожника с тоненькими как бы лакированными стебельками, тонущими в воде. В пойме реки еще можно было нарубить лоз. Но вблизи села все уже было вырублено, а доставка с удаленных мест упиралась в транспорт: много ли дотащишь на своих плечах?
Однако все это стало известно потом. Сейчас нас встретил незнакомый мир, засыпанный снегом, с сильными морозами, в котором надо было устраиваться надолго, – никто не думал, что так надолго. Хозяйка и дочки нас встретили радушно и участливо, накормили, обогрели, сводили в баню. Жить нам предстояло в гостевой половине избы, с отдельным входом из сеней и глинобитным полом. Большую часть комнаты занимала огромная русская печь с пристроенной лежанкой. Место для меня нашлось сразу: на вершине печки под близким потолком. Все равно туда больше никто не помещался – Тамила ведь осталась в Аягузе. Через несколько дней мы определились: мама пошла работать в школу учителем математики, которого здесь не было вообще. Оказывается, именно поэтому мы были распределены в Ириновку. Нас «поставили на довольствие»: эвакуированным полагался хлеб, некоторые овощи и, главное, топливо в виде кизяка и керосин для освещения. Это очень обрадовало нашу хозяйку, которая с тоской взирала на уменьшение своих запасов. Хлеб мы получили в виде огромного белого каравая, набросились на него с благодарностью Советской власти за проявленную заботу о нас сирых. Правда, из всего остального «положенного» маме удалось «выбить» немного керосина. Выдача хлеба тоже вскоре прекратилась: его просто не было вообще. Хлебом должен был обеспечивать колхоз, но учителя не были его работниками, да и вообще весь хлеб подчистую был вывезен: во время войны хлеб – материал стратегический, и все это понимали. У нас появилась новая учительница Шейнман Сара Самуиловна, студентка последнего курса пединститута, вывезенная из блокадного Ленинграда. После ее рассказов о буднях жителей блокированного Ленинграда мы казались себе обожравшимися обывателями, а наше недоедание – плод воображения, пресыщенного чревоугодием. Забегая вперед, скажу, что печеный нормальный хлеб я попробовал вживую только весной 1944 года. (Слово «нормальный» станет понятным после описания моего собственного опыта хлебопечения весной 1943 года). Правда, кое у кого из аборигенов оставались какие-то запасы, и они выдавали своим детям «тормозок» в школу в виде кусочка белого(!) хлеба. На вопрос: «Если муки мало, то почему вы печете такой белый хлеб?», ответ был: «Мы не можем портить остатки муки, выпекая серый хлеб». Гастрономическую тему не так легко окончить, рассказывая о тех голодных днях, и я буду к ней постоянно возвращаться.
Мне надо было ходить в школу. Расстояние до школы было около двух километров санной, она же – главная, дороги. Морозы уже стояли приличные, и наше обмундирование не соответствовало «текущему моменту». Каким-то чудом мама сохранила отцовское зимнее пальто: очевидно, его в пути должны были использовать вместо матраца. Теперь ему наполовину отрезали полы, частично – рукава – и для меня получился очень миленький и теплый «верхний наряд». Хуже обстояли дела с обувью: ботиночки на резиновой подошве черпали снег бортами, и ноги ужасно мерзли. При этом остатки резиновой подошвы сохранили зачем-то свои скользящие свойства, что делало мое перемещение к светочу знаний похожим на пляски шамана. Глядя на мои антраше, наша хозяйка сжалилась и обула меня в «пимы», оставшиеся от мужа, наполовину обрезав голенища. Хотя валенки-пимы были на несколько номеров больше требуемого размера, нельзя было словами передать «чувство глубокого удовлетворения», когда ногам стало тепло и они перестали разъезжаться в разные стороны на скользкой дороге.
Борьба за огонь
Надо заметить, что к тому времени у меня появился очень важный и нужный статус «хранителя огня». Спички кончились у всех почти одновременно, новых поставок не намечалось. Утром, практически еще темной ночью, аборигены выходили из изб и искали глазами или носом дом, из трубы которого поднимался дымок. Туда устремлялись дальние и близкие соседи с горшками, в которых были запасенные заранее угли. Добытый в первоисточнике огонь разносили по своим домам. Иногда приходилось ходить очень далеко. Я как-то незаметно освоил добычу огня, используя кремень и кресало – обломок старого напильника. Искры должны были попасть на благодатную почву – специально обработанную вату. Для этой обработки использовалась зола от шляпок подсолнуха. Но тлеющая вата – еще не огонь. К тлеющему фитилю надо было прикоснуться лучиной, на одном конце которой была головка, образованная окунанием лучины в расплавленную желтую серу. Сера загоралась голубым, стреляющим во все стороны огнем, выделяя при этом дымок, весьма продирающий органы дыхания. Лучина разгоралась, вслед за ней лампы и печи, давая людям свет и тепло. Мама обычно будила меня ни свет ни заря. Спросонок в темноте я нащупывал свои орудия производства и, часто попадая по пальцам, добывал огонь по описанной технологии. Хозяйка и ближайшие соседи были избавлены от походов за огнем, что частично оправдывало щедрый дар – валенки.
Вскоре после нового 1942 года нас очень обрадовала телеграмма, чтобы мама забрала из больницы в Аягузе выздоровевшую Тамилу. Вскоре мама привезла ее: половину худенького лица занимали глаза. Тамилу в больнице смогли спасти, уделив ей немного новых лекарств, поступавших для раненых. Для поправки и «откорма» Тамилы наша хозяйка собственноручно испекла тыкву и нажарила пирожков. Огромная серая снаружи тыква, сплющенная по полюсам, имела внутри ярко-оранжевую толстую сущность. На верхнем полюсе вырезалась круглая дырка, через которую удалялись семечки. Отверстием вниз тыква была уложена на сковороду и помещена в горячую печь. Через несколько часов тыква была извлечена. Ее кожа снаружи даже обуглилась, зато внутренности стали еще более оранжевыми. Надо ли говорить, что остывшие ломти тыквы имели бесподобный вкус и сладость? Пирожки тоже готовились по эксклюзивной, как теперь говорят, технологии. Сушеные яблоки сушили еще раз, затем дробили в ступе до состояния порошка. Порошок с изюмом, пасленом и другими вкусными вещами заливали кипятком и замешивали до состояния густой каши, которой начиняли маленькие пирожки. Более вкусных пирожков я не едал в своей жизни. К сожалению, их божественный вкус излишне подчеркивался незначительностью дегустируемой порции, не допускающей пагубного пресыщения…
Долгие зимние вечера семья хозяйки и наша проводили за работой, – очень нужной и очень нудной: в нескольких мешках овса, переданных колхозом, надо было отделить овес от овсюга. Зерна сорняка овсюга по всем параметрам, кроме цвета, были совершенной копией зерен благородного злака, и никакая машинная очистка их не разделяла. Отделяя зерна от плевел при скудном свете керосиновой лампады, женщины, конечно, также работали языками. Война – главная тема. От мужа хозяйки тоже не было ни одной весточки. Положение на фронтах ставало все хуже, и горестные предчувствия и неизвестность угнетали людей. Довоенная жизнь вспоминалась как райская, которую не умели ценить. (Меня, например, досаждало навязчивое воспоминание о большом бутерброде, который я, пресыщенный болван, не доев, сунул в плетень).
Зима 1941–1942 стояла суровая. Часто свирепые ветры с сильным морозом выдували тепло из одежд и жилья, иногда начинался буран. Потоки снега залепляли глаза, валили с ног. Горе тому, кто во время бурана оказывался в пути. Одной ночью сквозь завывания ветра мы услышали слабые крики – наш дом стоял почти на краю поселка. Хозяйка оделась, добралась к дому бригадира, который сумел организовать добровольцев и найти заблудившихся всего в 500 метрах от села. А они уже были на волосок от гибели. Их лошади остановились, почуяв волков. Затем в темноте и снежной круговерти люди потеряли всякую ориентацию, началась паника. Бывалый дед взял власть в свои руки, привязал лошадей поводьями к саням, чтобы никуда не убежали. Обессиленных людей заставил непрерывно двигаться по вытоптанному вокруг саней кругу и по очереди кричать, чтобы не замерзнуть, отпугивать волков и звать на помощь. Они так «работали» непрерывно несколько часов, пока ветер не изменил направление и их крики услышали. Другая группа при таких же обстоятельствах вся погибла: уснула, замерзла и была растерзана волками.
Гастрономическое отступление (опять). Ранней осенью 1943 года волков назвали «друзьями народа». Волки забрались в колхозную кошару и зарезали несколько десятков овец. Говорили, что это была учеба молодых: волк снизу прокусывал овце шею и набрасывался на следующую. Было еще тепло, мясо хранить было негде, и эвакуированным выдали сразу по 10 кг баранины. Поскольку холодильников у нас тем более не было, а есть очень хотелось, то целых два дня мы отъедались мясом «от пуза». Кстати: после длительного недоедания насытиться невозможно, сколько ни съесть. Уже в животе нет места, а чувство голода никак не проходит, глаза бы еще ели и ели.
Враги – рядом
Надо сказать, что население нашей Ириновки значительно пополнилось за счет эвакуированных из Украины и Белоруссии. Однако была еще одна категория новых жителей, с которыми у нас были довольно сложные отношения. Сюда в начале войны переселили советских немцев с Донбасса и Поволжья. Якобы они готовили удар в спину Красной Армии. Не знаю даже теперь, насколько это верно: никаких официальных и иных данных по этому вопросу я нигде не встречал. Немцы всегда организованны и законопослушны до неприличия – с одной стороны. С другой стороны, – они не могли не сочувствовать соплеменникам. В Казахстане немцам было гораздо хуже, чем даже нам, «законным» эвакуированным. Я не уверен, что им хоть что-нибудь выделяли из скудных выдач по карточкам военного времени. Мужчин всех забрали в трудармию, оставались, как и у нас, – старики, женщины и дети. Старуха-немка со сморщенным, как печеное яблоко, лицом стала личным врагом всех мальчишек, живших в округе шестой бригады. Вообще-то, первыми начали мы, когда забросали ее лошадиными «яблоками», рассыпанными на санной дороге, выкрикивая неприличные частушки про немцев. Но когда она злобно прошипела: «Наши ваших на котлеты порубят!», – ненависть стала осознанной и распространилась на всех немцев, включая учеников, сидящих за одними партами с нами. Вокруг них сразу образовалась невидимая зона отчуждения. По-видимому, с таких пустячных шуток и начинаются межнациональная вражда, довольно часто переходящая в резню.
Учеба в 4-м классе для меня пролетела быстро: половину «срока» я провел на колесах теплушки. Пока еще сытые туземные товарищи по классу присматривались к нам, эвакуированным. Для знакомства меня, как новичка, поколотили: три парня моего возраста возле школы напали на меня и кулаками «рассказали за жизнь». Я только пассивно закрывал лицо локтями и слегка вопил, правда, стоя на ногах. К сожалению, я оказался не на высоте: уж очень я тогда еще боялся боли. (К счастью, мы тогда не видели современных гангстерских фильмов и боев без правил, где основным оружием нападения является нога, часто оснащенная специальной обувью…). Позже я узнал, что при таких же обстоятельствах, Коля Куролесов, невысокий крепыш, приехавший из Сибири, вырвал из земли молодое деревце и так начал охаживать своих обидчиков, что они побежали, несмотря на пятикратный перевес в численности. Мальчишки уважают силу и решительность: больше на Колю никто не нападал. С Колей мы подружились позже и осуществили с ним несколько «проектов», о которых расскажу позже. Стоит заметить, что на меня тоже больше никто не нападал: один из обидчиков стал хорошим приятелем, а два малоразвитых – вассалами.
Книга – лучший друг голодного человека
Одно маленькое техническое усовершенствование круто изменило мою жизнь, во всяком случае – вечернюю жизнь. Темнело рано, народ соответственно рано ложился спать. Из малюсенькой фарфоровой крышечки заварного чайника с дырочкой в центре и фарфоровой же баночки от какой-то мази я соорудил Индивидуальный Светильник. Это был, наверное, самый экономичный светильник в мире. Развивая мощность в треть свечи, он потреблял ничтожно мало керосина, подсолнечного или конопляного масла, освещая только раскрытую страницу книги. Теперь я побыстрее старался окончить «мирские дела» и устремлялся на свое теплое поднебесье, точнее – «подпотолочье». Через минуту я уже, подобно жителям Амбера, был в иных мирах.
Я добывал книги, где только мог: у своей учительницы Сары Самойловны (она меня тайно снабжала книгами своего хозяина), у друзей и соседей. В школе, увы, библиотеки не было. Читал все, что удалось добыть. Многие книги помню и люблю до сих пор. «Пароль скрещенных антенн» Халифмана, «В людях» Горького, «Борьба за огонь» Рони, «Охотники за микробами» Крюи, «Падение Кимас-озера» Геннадия Фиша. Последняя книга после бегства Сары Самойловны стала моей, и я знал ее почти наизусть, Это рассказ о скрытном рейде по белофинским тылам отряда лыжников. Как я тогда мечтал о лыжах! Названия лыж: длинные узкие хаппавезы, короткие широкие – телемарк, звучали дивной музыкой. Большинство туземных ребят катались на самодельных, но грамотно сделанных лыжах. Мне виделись сны наяву: вот спускается с неба то ли ангел, то ли посланец самого Сталина и вручает мне лыжи… Забегая вперед, годам к 25-ти я с удивлением понял, что самыми моими заветными мечтами были несбыточные мечты о средствах передвижения: лыжи, велосипед (это уже после войны), в институте – мотоцикл, и, наконец – автомобиль! (При этом слышится крик Якубовича, объявляющего суперигру).
Кстати, к следующей зиме лыжи я себе сделал, но кончилось это плачевно. В школе я преступно выломал и украл одну доску из скамейки, разрезал кухонным ножом ее пополам. От канавки вдоль лыж, которая держит направление, и предварительного продольного прогиба пришлось сразу отказаться, как от технически неосуществимых химер. Заостренные концы двух досок я долго кипятил в котле с водой, затем попытался их согнуть. Увы, после освобождения из приспособлений, концы лыж упорно возвращались в первозданное состояние. После пятого цикла: запарка – гнутье – сушка – снятие опор – проверка, – мое изделие не выдержало и приподняло свой нос сантиметра на три над плоскостью земли. Надо бы еще повыше, но терпение кончилось. Для креплений были использованы обрезки старого полушубка, что и стало основной причиной последующих событий. Надев свои скороходы, я бодренько двинулся на огород, покрытый глубоким снегом. По утоптанному двору мои лыжи двигались вполне сносно, и я выбрался на нетронутую целину. Увы, мои лыжи даже на легком насте не держали мой вес и стали погружаться в снег! Я горько пожалел о своей гипертрофированной честности: ведь можно было снять с этой несчастной скамейки не одну, а две доски, и лыжи стали бы вдвое длиннее! А вот недостаток «загнутости» заставлял лыжи все глубже погружаться в снег… И вот при очередном рывке мои размокшие крепления не выдержали и лопнули. Я погрузился почти по шею в снег. Две малоразмерные, но весьма злобные, соседские шавки, до того облаивавшие меня на почтительном расстоянии, немедленно приблизились вплотную с очевидными намерениями съесть мою находящуюся на поверхности лучшую часть. Пока я неподвижно гипнотизировал их взглядом, они оголтело лаяли и скалили мелкие, но частые клыки на расстоянии полуметра. Но как только я делал движение с целью добыть хотя бы одно из моих неудачных спортизделий для самообороны, шавки немедленно приближались вплотную. Я стоял, замерзая, пока не догадался разрядить патовую ситуацию громкими воплями. Сигнал бедствия был услышан владелицей Церберов, и я был спасен физически, испытав морально всю горечь поражения в жизни и спорте, в отличие от героев – лыжников из «Кимас-озера» Геннадия Фиша…
Одна из прочитанных мной тогда книг продолжает до сего времени травмировать моих близких. В «Охотниках за микробами» изобретатель микроскопа Ван Левенгук обнаружил, что его рот кишит микробами, которые погибали после питья горячих напитков. Это был простой и надежный способ «освежить дыхание» – в 1941-м о Stimorol-ах еще не слыхали, – и я начал широко им пользоваться. Постепенно научился пить чай из крутого кипятка, естественно втягивая его, как кашалот планктон, и с теми же примерно звуками. Именно звуки, а не трудно поддающаяся измерениям температура чая, травмируют моих родных. И кто бы мог представить, что виноваты в этом безобразии Поль де Крюи и Ван Левенгук! А может быть, из-за них у меня на восьмом десятке жизни все зубы свои? Тогда они все шатались, десны кровоточили… Действительно, все мы родом из детства, – как заметил кто-то из умных.
Первая весна на Востоке. Транспорт – не роскошь
Тем временем наступила наша первая военная весна в эвакуации – голодная, но сулящая надежду. Глубокие снега как бы испарились, передав всю свою силу рекам и ручьям. На текущий в долине ручей страшно было смотреть: могучий поток нес деревья, вырванные с корнями, ворочал огромные валуны. На перекатах вода ревела и клубилась, но самыми опасными местами, оказывается, были «тихие» участки, где по гладкому дну поток несся с огромной скоростью. Несколько человек погибли, пытаясь перебраться через реку именно в этих обманчивых местах…
Казахстанская степь весной прекрасна. Ярко-зеленая трава обильно окрашена красными тюльпанами, розовыми кустами дикого миндаля (нашего основного топлива). Теплый воздух густо напоен ароматом чабреца и бог весть каких еще трав и цветов. В траве и кустах полно юрких ящериц, особенно красивы изумрудно-зеленые. Гадюк разноцветных тоже хватает, – это наши враги. С хозяйской собакой – огромной среднеазиатской овчаркой Разбоем, мы вышли в степь, чтобы нарубить и притащить на себе карагай – топливо для будущей зимы. Зима, однако, будет еще не скоро, и мы вдвоем с Разбоем гоняем разноцветных ящериц. Внезапно Разбой настораживается, шерсть на загривке стает дыбом. Я уже знаю: он учуял гадюку. От былой беспечности не остается и следа: пес собран и точен, как боксер на ринге. Вокруг шипящего гада начинается настоящий танец с ложными выпадами. Наконец следует молниеносный бросок, гадюка схвачена пастью собаки. Голова при этом бешено вращается в разные стороны, – центробежная сила не дает гадюке укусить собаку. Пес бросает раненного гада и отскакивает. Если гадюка не была перекушена с первого раза, танец повторяется до полной победы. Я добиваю для гарантии уже мертвую гадюку, и мы опять беззаботно гоняем ящериц. Смутно я понимал, что мы наносим вред живой природе. Особенно после прочтения алтайской народной сказки, где герой спасает от огня змею на дереве. Благодарная змея дала герою проглотить яичко, после чего он стал понимать языки зверей, птиц, трав – всего-всего живого. Это знание дало ему необыкновенное могущество. Но сказка – сказкой, а гада, который может убить тебя, надо убивать первым. Однажды я просто случайно сбил палкой в полете гадюку, которая прянула сбоку, чтобы ужалить меня…
Однако карагай нарублен, связан в увесистый сноп. Теперь его надо дотащить домой, и здесь Разбой мне не помощник. После нескольких ходок я затосковал по очередному транспортному средству – тележке, на которую можно было бы нагрузить несколько снопов карагая и спокойно везти их. Дело было за колесами, которые в этом степном краю уже все были где-нибудь пристроены. Несколько дней я с вожделением оглядывал все круглое, хоть отдаленно напоминающее колесо, но все было тщетно. Надежды таяли, снопы казались особенно тяжелыми. И вдруг счастье улыбнулось мне ослепительной улыбкой. Я нашел целых четыре неиспользуемых колеса!!! Как обычно водится, в этой бочке счастья была ложка, даже две, дегтя. Колеса были не совсем колесами, а зубчатыми шестернями с лобогрейки (это такая косилка). Но главное: они охранялись грозным лохматым Цербером. Вряд ли Цербера специально приставили к охране круглых сокровищ. Просто заросли лопухов, где находились вожделенные колеса, непосредственно примыкали к ящику с крышей – дворцу Цербера. При каждом моем появлении у забора, пес повисал на ошейнике и издавал весьма недвусмысленные, хотя и хриплые звуки.
Исполнение желаний отодвигалось. Родилась подлая мысль: коррумпировать стража при помощи продуктовых взяток. Запасенная с трудом половинка картофелины была им проглочена мгновенно, но тональность рычания и агрессивность позы нисколько не изменились. Я понял, что этот путь к колесам если и возможен, то требует много времени и затрат драгоценной картошки. Второй вариант умыкания отличался благородной простотой, но требовал специальной оснастки. Надо было изготовить некий удлинитель преступной руки, который бы: а) доставал до колес; б) не позволял бы собаке достать до меня; в) надежно схватывал бы Колесо, чтобы извлечь его из зарослей. Поскольку операция обещала быть длительной, то надо было выбрать такое время, чтобы повышенная активность стража не привлекла внимания хозяев и аборигенов.
Подготовка новой технологии заняла несколько дней. Отсутствие опыта злодеяний привела к некоторой волнительности при осуществлении преступных замыслов, но операция прошла успешно, и все страхи прошли при непосредственном осязании добытых четырех Колес!
Теперь надо было творить Телегу. Главное – оси. О металлических в нашем степном крае пришлось забыть сразу. Две деревянные оси были изготовлены из сломанных черенков лопат. Уменьшение диаметра под колесо было сделано кухонным ножом с терпением и трудолюбием графа Монтекристо. Основу телеги составляла сломанная лестница. Чрезмерной сложности и вертлявости телеги удалось избежать, закрепив неподвижно переднюю ось. Предполагалось, что на поворотах водитель будет вручную заносить передок на нужный азимут. Наконец телега была готова. При огромной толпе соседских детишек начались ходовые испытания. Влекомая полудюжиной добровольцев и нагруженная самым маленьким, но самым отважным аборигеном, телега пророкотала зубьями всех четырех шестерен по пыльной дороге. Звук был удивительно машинный, а следы колес – просто инопланетные. Создатель счел испытания законченными, прекратил твердой рукой разгорающийся ажиотаж (уже темнело), и начал готовиться к боевому использованию созданного и только что испытанного чуда.
Утром телега показалась несколько тяжеловатой на ходу и излишне устойчивой на поворотах. Конструктор успокаивал себя тем, что так же она будет двигаться нагруженная кучей снопов карагая, поскольку эта тяжесть просто давит на землю через колеса и не мешает горизонтально передвигать телегу.
Изрядно вспотевший автор доставил чудо техники на полигон и начал заготовку груза. Нарубив карагая в четыре раза больше обычного, Главный конструктор телеги решил на первых порах этим ограничиться. Увязав груз, он взялся за тягловое водило. Телега стояла как вкопанная, узкие колеса на треть погрузились в грунт. Ценой суперусилий удалось немного сдвинуть повозку с места. Творец рассвирепел и начал тянуть свое детище, двигаясь задним ходом и упираясь обоими пятками сразу. Таким способом удалось преодолеть сотню метров степи, но стало понятно, что до далекого финиша так не дойдешь. С большими сожалениями была снята половина груза. Телега пошла немного легче. Пройдено еще полкилометра. Оставалось еще километра два, на которых были подъемы, но были и спуски. Однако после внимательного осмотра своего чуда конструктор полностью разгрузил телегу и уныло потащил ее, пустую, домой. Шпоночные канавки на колесах почти полностью перегрызли деревянную ось. Надо было спасать так тяжело добытые колеса…
Исторически-ностальгическое отступление. В дальнейшей жизни мне пришлось проектировать, изготовлять, использовать большую уйму средств для перемещения грузов, всегда при недостатке нужных материалов или времени, часто – того и другого одновременно. Иногда были неудачи, обычно создавались одноразовые рядовые «приспособы», позволяющие решить некую задачу. Очень редко получалось недурно, как, например, дачная тачка с колесом от истребителя, за которой начальство ставало в очередь. Но весь этот тернистый конструкторско-тележечный путь мне всегда ярко освещал черный свет Первой Телеги!
Вскоре была сделана новая, уже двухколесная тележка, рассчитанная только на два снопа карагая, но – снабженная ящиком для кизяка. Деревянные оси в ней были обиты жестью, а шпоночный паз колеса был заполнен вставкой из твердого дерева. С этими конструктивными изменениями транспортное средство стало вполне пригодным, правда, – без желанной грузоподъемности. В степь обычно мы выходили втроем: Разбой, Тамила и я. Тамила обожала спуски с горки на рокочущем чуде техники. Были попытки приспособить Разбоя как тягловую силу, но Благородный Истребитель Змей немедленно освобождался от каких либо пут, ограничивающих его личную свободу. Пока я рубил карагай, Тамила собирала в окрестности сухие коровьи лепешки, прекрасное топливо. Обычно на жарком солнце это топливо дозревало к использованию уже через несколько часов после «изготовления».
Кстати, о топливе. Несмотря на раскаленное лето, оно нам было нужно не только для грядущей зимы, а каждый день лета для приготовления пищи. Летом в избе не топили: берегли естественную, очень ценную, прохладу саманного дома. Летняя печь (по-туземному «кабыця») высверливалась в стенке сухой ямы, образовавшейся при изготовлении самана. Над горизонтальным каналом вырезались одно-два отверстия для чугунков. Короткая труба в конце топки была желательна, но не обязательна. Обычно ужин готовился вечером, когда спадает жара. Темнеет на юге быстро, на черном небе проявляются мириады звезд. Неяркий огонь печки освещает лица усталых людей, которые уже никуда не спешат. Они говорят о том, какая раньше была счастливая жизнь, которую не ценили, тревожатся о близких, которые где-то далеко воюют, о том, что немец опять прет… Мягкий, такой домашний, запах горящего кизяка растекается вокруг… Ну, не было там поэтов, каковые сидели на подмосковных вечерах. И не у кого уже просить: «Так, пожалуйста, будь добра (!?), не забудь и ты…»..
Молитва светилу. Отец жив!
Об отце не было никаких известий. Я чувствовал, что надо бы попросить помощи у некоторых Верховных сил, ведающих всем сущим. Это мог быть только Бог. Но в то время я очень твердо знал, что Бога нет, и не может быть. И я обратился к Солнцу. Не жмурясь и не закрывая глаз, я смотрел прямо на слепящий диск и попросил:
– Сделай так, чтобы папа был жив, и мы получили от него письмо!
Вскоре мы получили телеграмму от дяди Антона с адресом отца, а еще через какое то время – письмо от папы!
В отцовских письмах той поры я не смог найти это первое письмо, которое наполнило нашу жизнь радостной надеждой. Отец не остался в тылу врага, как это сначала планировалось. С боями прорвавшись из окружения, он с товарищами пешком прошел до Днепропетровска, где была сформирована часть – кавалерийская дивизия, которую направили в Иран. Писать об этом было нельзя: все письма тщательно проверялись военной цензурой, но потихоньку мы это место определили. В письмах отца была радость, что мы живы, боль разлуки, забота о нас. Отец ценой невероятных усилий смог сберечь многие наши семейные фото, документы и теперь понемногу пересылал их нам. В описаниях своей жизни проскальзывали нотки горечи: в свои 40 с небольшим лет он, рядовой, чувствовал себя стариком среди скороспелых молодых, но малообразованных, командиров. Конечно, это я понял гораздо позже, перечитывая письма отца. Так же спустя годы стали понятными довольно высокопарная декларативность ненависти к немецким захватчикам, занимавшая изрядное место в письмах отца. В 1942–1943 годах мной она принималась за чистую монету, позже я стал думать, что это следствие недостаточного образования отца. И только потом осознал, для кого это писалось. Как было напугано его, да и мое, поколение в обществе, где все высокопарно врали, скрывая простые человеческие чувства! Ценой ошибки ведь были не только твои жизнь и смерть, но и жизнь и будущее дорогих тебе людей – детей, жены, близких родственников… Поняв, – простил…
Отец в письмах иногда присылал чистые листы бумаги, на которых я как бывший, хотя и несостоявшийся, писатель республиканского масштаба, живописал наш «Дранг нах Остен» и теперешнюю жизнь. Вполне возможно, что эти опусы хранятся еще где-нибудь в архивах компетентных органов… Хорошо, что писал я их на листах чистой бумаги, а не между строк книги о рентгенографии животных, как школьные сочинения. То-то было бы хлопот с расшифровкой…
Волка кормят ноги и руки
Между тем наша жизнь в Ириновке, в значительной степени состоящая из поисков пищи, продолжалась. Манили горы, в которых по рассказам туземцев, было всё. Нас с Володей Ермаковичем, моим приятелем из Белоруссии, впервые повел в горы Коля Куролесов. Километров восемь до предгорий мы пробирались по тропинкам вдоль горной речки, которая была еще весьма полноводной и грозно ревела на водопадах и перекатах. Узкая каменистая тропа петляла по крутым берегам, иногда ныряя в густые заросли, иногда упираясь в невысохшие протоки речки, которые надо было преодолевать вброд. Наконец мы вошли, точнее – поднялись, в ущелье, зажатое с обеих сторон высоченными скалами. Река шумела теперь где-то внизу. На одной из скал мы увидели огромное орлиное гнездо, в котором прилетевший родитель кормил чем-то птенцов размером с хорошую курицу. В горах расстояния обманчивы, что мы вскоре осознали своими ногами. До скалистых вершин казалось рукой подать, вот только пройти этот покрытый густыми зарослями небольшой холмик. С трудом продираясь сквозь заросли, поднимаешься на вершину оказавшегося почему-то очень большим холма и видишь впереди еще несколько холмов побольше. А скалистые вершины все так же близки, – ну прямо рукой подать! После нескольких таких подъемов с неизменным результатомначинаешь понимать недосягаемость вершин и заниматься делом, ради которого ты пришел в горы. А в тот раз мы пришли ради земляники. Вскоре мы обнаружили безлесный южный склон одного холма и, рассмотрев его, упали в буквальном и переносном смыслах. Весь склон был красным от ягод земляники! Воздух до отказа был напоен несказанно прекрасным ароматом нагретых солнцем ягод. Можно было набрать сколько угодно ягод, передвигаясь только на нижней части туловища! Мы и начали это делать, половину сбора отправляя в рот. Когда стало понятно, что ягодами заполнены все наши емкости, в том числе – животы, мы с сожалением оторвались от этого райского места и двинулись в обратный путь. Больше никогда и нигде я не встречал такого обилия такой напоенной солнцем земляники.
В следующий раз мы отправились в горы вдвоем с Володей Ермаковичем за медом. В горах в колхозе были огромные пасеки, где, по слухам, до отвалу кормили медом всех пришельцев, правда, ничего не давая с собой. Максимальное количество меда (а именно такая была наша главная цель) можно было съесть только с хлебом. Обеими мамами для выполнения задачи нам была выдана где-то добытая коврига белого хлеба, которого мы уже давно не видели. По описаниям знатоков мы дошли до одной из пасек. На лай огромной овчарки вышел дед-пасечник. Мы вежливо поздоровались, ничего больше не говоря. Дед внимательно осмотрел нас, и так же молча повел нас в свое то ли жилище, то ли мастерскую, где жестом пригласил сесть за стол. Через минуту он принес две деревянные ложки и половину небольшой тарелки темно-янтарного меда, в котором плавали кусочки вощины. «Вот это и все? – подумал я. – А говорили – до отвала!». Не мешкая, мы приступили к разнузданному обжорству и оголтелому потреблению драгоценного дефицита: «Як мед – то ложкою!». Заветную ковригу хлеба мы хитро не трогали, надеясь решить задачу насыщения без стимуляторов. После трех-четырех ложек наспех проглоченного меда в наших горлАх нестерпимо запершило. Мы вынуждены были продолжить медоядение с запасенным хлебом. Дело пошло веселее, но, увы, стимулятор скоро кончился, и в горле опять началось жжение. Дед, с улыбкой наблюдавший за нами, пришел на помощь и предложил попить водички. За домиком прямо из скалы бил тоненькой струйкой родник с очень холодной чистейшей водой. Мы припали к живительно несладкой влаге, и через пару минут были готовы к дальнейшему поглощению ценного продукта. После нескольких ходок к роднику, мы уразумели, что не сможем даже смотреть на мед до конца дней своих. А ведь в тарелке еще оставалась изрядная часть выданного нам продукта! Спустя один час по пути домой мы опять смогли бы съесть тарелку меда, но, как позже скажет мой любимый Василий Шукшин: «Суббота еще продолжалась, но баня уже кончилась!».
С Колей Куралесовым мы осуществили несколько «проектов», один из которых был очень даже гуманитарный. Начну с преступно-пищевых. Весной за оградой нашей шестой бригады под стенами сарая нежилось на солнце и копошилось в пыли довольно многочисленное куриное племя. Мы придумали изощренный план похищения для последующего съедения одного из пернатых. Был изготовлен мощный Одиссеевский лук (надо ли говорить, что в тот момент я наслаждался «Приключениями Одиссея»?). Изготовленная в одном экземпляре стрела-гарпун с куском шпагата должна была не только умертвить пернатое, но и доставить его нам – сначала к забору, для последующей транспортировки в кастрюлю. Совесть свою мы убаюкали соображениями, что потеря одной птицы для гиганта социалистического сельского хозяйства, каковым является наша Шестая бригада, – несущественна. В то же время, потребление одной курицы могло очень даже увеличить силы двух ее (бригады) будущих работников. На Колином огороде были проведены тренировки и учебные стрельбы изготовленным гарпуном. Коля стрелял лучше, и первый выстрел был поручен ему (оказалось, что втайне друг от друга мы планировали и следующие выстрелы для дальнейшего расхищения социалистической собственности!). В блестяще разработанных преступных планах был всего один, но существенный недостаток: не была учтена великая сила общественного мнения, точнее – крика… События развернулись самым неожиданным образом. Куриное племя совершенно спокойно наблюдало за нашими ужасающими приготовлениями по другую сторону забора. Но когда грянул (просвистел?) роковой выстрел и вырвал из намеченной жертвы пару перьев, сама жертва и остальные, совершенно неповрежденные, особи, подняли такой истошный крик и кудахтанье, что преступники в страхе бежали без оглядки, оставив у возмущенной жертвы свое орудие преступления…
Следующий проект – набег на колхозную бахчу – был скорее данью древним традициям, чем желанием насытиться, хотя и это «имело место быть». Всем эвакуированным весной выделили по клочку земли для огорода. По украинским традициям мама натыкала семян на этом огородике густо-часто, а по туземным обычаям – половину площади отвела под бахчу, посеяв густо-часто и там. Я быстро освоил технологию среднеазиатского полива и, поливая хозяйский огород, не забывал и свою латифундию. В то время, когда на хозяйском огороде появились зеленые ростки в метре друг от друга, наш был «покрыт весь зеленью – абсолютно весь». Зелень состояла из красивых резных листиков арбузов, среди которых было много маленьких арбузиков. Мы уже прикидывали, какой небывалый урожай бахчевых мы получим, когда ситуация неожиданно вышла из-под контроля. Если на хозяйском огороде листья почти не увеличивались, а арбузы появлялись в большом количестве и росли с ужасающей скоростью, то на нашей латифундии все было наоборот. Наши микроарбузики надежно прятались в густых разросшихся листьях. Им там было хорошо – оставаться вечными малышами под родительской опекой…
А вот колхозная бахча была еще лучше хозяйской! То ли участок там был лучше, то ли агротехника, но арбузы там уже лежали густо, толстые как поросята, и спелые совершенно. Их неусыпно охранял некий инвалид с ружьем, который хорошо слышал, но плохо видел. Набралось человек 8 – 10. Коля и я здесь были рядовыми, операцией командовал «старший товарищ». Ночью, при свете луны, двое наших устроили шум на бахче с одной стороны. Тем временем остальные бесшумно подошли с другого конца. Слышались только пощелкивания ногтями по арбузам для определения спелости. Выбрав и захватив по два огромных спелых арбуза, «партизаны», в том числе – мы с Колей, скатывались в пойму пересохшей реки. Здесь на поляне, при лунном свете и происходило арбузное пиршество. Закон – как на пасеке: ешь, сколько хочешь, домой – ничего.
Один наш «проект» носил, можно сказать, гуманитарный характер, так как не был направлен непосредственно на удовлетворение потребностей в пище. Однажды Коля таинственно сообщил мне, что на его огороде есть аномальное явление. Мы поспешили туда и начали изучать его. На одном участке с диаметром около двух метров при простукивании ступней ноги земля издавала особенный звук, как будто под землей находился большой барабан. Рискуя разнести вдребезги свои хилые обувки, мы тщательно простучали большой огород и нигде больше такого явления не обнаружили. Военный совет, заседавший непосредственно на аномальном месте, пришел к единодушному мнению: обнаружено место захоронения Клада. Используя наши совместные обширные познания в истории, географии и недавно усвоенном романе Стивенсона о кладах морских пиратов, совет выдвинул гипотезы, что это могут быть сокровища: а) морских пиратов тех времен, когда море непосредственно омывало берега Средней Азии; б) Чингисхана, который не знал, куда девать сокровища после своих захватнических войн по всему миру; в) басмачей, грабивших трудовой народ во время гражданской войны; г) китайских императоров, до которых рукой подать, и которые вообще не знали, что делать с обилием золота. Мной было высказано робкое предположение, что здесь может быть утерянный оригинал «Слова о полку Игоревом». Все найденное золото и драгоценности, мы, конечно, по примеру знаменитых людей Советского Союза сдаем в Фонд Обороны, где на них должны построить эскадрилью истребителей с именем «Два Николая» или два больших танка с тем же именем. Рукопись «Слова» мы должны были сначала прочесть и насладиться сами, а уже потом осчастливить все культурное человечество.
Совет в полном составе слегка подкрепился, чем Бог послал Колиной маме, и, вооружившись лопатами, приступил к извлечению Клада.
Через несколько часов упорной работы яма стала настолько глубокой, что вынимать оттуда землю приходилось ведром на веревке. Мы забыли о времени и усталости: клад был все ближе. В своем рвении мы могли бы добраться до центра Земли, но очередное простукивание дна ямы пяткой показало: звук пустоты под ногами пропал! Чтобы не ошибиться, мы опять простучали другие места на огороде и опять в яме. Звук везде был одинаковый!
Безмерная усталость и разочарование навалились на кладоискателей. Гораздо позже я узнал, что в такие моменты крушения надежд бывшие друзья и партнеры начинают обвинять в неудаче друг друга и расстаются врагами. К нашей чести, мы пережили неудачу, как общую беду, и наша дружба еще больше окрепла. И это была, тогда невидимая, наша главная победа.
Ход Большой Войны, когда немцы уже добрались до Волги, показывал, что надеяться на скорое возвращение домой не приходится. (В понятии «возвращение» подразумевалось также возвращение к хорошей жизни, что, как позже показал опыт, – две большие разницы, как говорят в Одессе).
Поэтому основные заботы лета-осени, кроме топлива, были заготовки т. н. даров природы для «поддержания штанов» и самой жизни длинной холодной зимой. Дары природы в виде мелких очень горько-кислых яблок были в горах. Несмотря на невзрачность и вкус, эти яблочки после сушки становились замечательным продуктом, кладезем витаминов и заменителем сахара. На склонах гор этих яблок была тьма-тьмущая. Проблемы были со сбором и доставкой.
Обычно группа добытчиков, вроде меня, выходила в горы утром. К полудню мы достигали злачных мест и приступали к сбору. Хорошие яблони почему-то росли на крутых склонах среди почти не проходимых зарослей стелющихся и прямостоящих кустарников. Продираясь через заросли, ни на минуту нельзя было забывать о кусающих и жалящих, летающих и ползающих аборигенах, особенно – о гадюках, ведь это была их Родина. Достигнув все же желанной яблони, убеждаешься, что самые крупные яблоки растут на недосягаемой высоте. Трясти их на землю – глубоко бесполезно: в зарослях на крутом склоне яблоки не найти. Приходится, как бамбуковому медведю, пробираться по гнущимся веткам. Хорошо, что падение было почти безопасным: кусты и крутой склон смягчали и закручивали удар, но подъем к этой яблоньке надо было начинать сначала. После нескольких падений мозги начинали работать и приходило Мастерство в виде длинной палки с крючком для пригибания веток. Очень важен также спокойный «философический» взгляд на недосягаемые яблочки: это не мое, пусть живут дальше.
Наконец мешки наполнены. Общество сборщиков фруктов выкладывает все личное продовольствие на общий «стол» и самый авторитетный справедливо делит все поровну. Горе съевшим свои припасы втихомолку «до тоГО»! Они из общества изгоняются окончательно и бесповоротно! Можно, конечно, индивидуально подкрепляться собранными фруктами, но при одном взгляде на них сводит скулы и ноют зубы от оскомины: яблочки пробовали все.
К мешкам прилажены веревки, груз с помощью товарищей надет на спину. Общество в кильватерном строю (тропинка узкая) ложится на обратный курс. Первым идет второй номер. Вожак – самый выносливый и сильный – идет последним: никто не должен отстать и потеряться. Впереди восемь километров тропинки, петляющей в трех измерениях и десятке окружающих сред: камни, заросли колючек, лозы и неизвестных растений, броды спокойные и бурлящие, и т. д. и т. п. Первые километры спуска проходят сравнительно легко. Успеваешь замечать красоту гор, дикую силу ревущей внизу речки и ее запах свежести… Дальше – хуже. Пот заливает глаза. Мешок, казавшийся очень легким, необъяснимо тяжелеет, толстые веревки самодельных рюкзаков становятся тонкими и врезаются в тело до костей. Самые нетерпеливые останавливаются и отсыпают часть фруктов, набранных с таким трудом. Большинство упорно несет свой крест. На коротком привале все в изнеможении падают прямо на камни рядом со своим грузом. Хочется бездумно смотреть в высокое небо и остаться здесь навсегда…
…Сдав доставленные ценности для чистки и сушки женщинам (маме и Тамиле), начинаешь понимать чувства первобытного охотника, притащившего ногу добытого мамонта для прокорма своей семьи…
Несколько проще происходила заготовка паслена. Правда, при этом я первый раз (а добровольно – и последний) приобщился к наркотикам. Паслён – растение из семейства картошки. Возможно, у него есть и клубни, но нас интересовали фиолетовые или желтые ягодки, которые, в отличие от украинских, здесь дозревали до высоко вкусной кондиции. Сушеные ягоды очень напоминают изюм и великолепно улучшают компот из горных яблочек. Паслён, как всякий сорняк, рос везде, но особенно большие заросли с крупными ягодами были на маковой плантации нашего колхоза. Эта огромная плантация (примерно два на два километра!) находилась не очень далеко, и мы часто ее посещали. Выращивался там опийный мак, дающий особенно много опия (опиума?). Спелый опийный мак, в отличие от обычного, имеет не серые, а светло-коричневые семена-зернышки, – впрочем, наверное, существует много других сортов мака. На зеленые маковки, в которых семена еще бело-молочные, наносят кольцевые надрезы специальным многолезвийным ножиком. Выступившие капли молочка через некоторое время буреют и стают похожими на клей с вишен. Это и есть опий-сырец – основа как наркотиков, так и анестезирующих препаратов. А они – тоже стратегические материалы. Шла кровопролитнейшая из войн. Сотни тысяч раненых спасали от болевого шока эти препараты. Часто на поле боя они были единственной помощью тяжело раненым бойцам…
Я думаю, теперь для охраны такой плантации от наркоманов пришлось бы через каждые два метра выставлять вооруженную круглосуточную охрану, а за ней – заградотряды в блиндажах с тяжелым оружием. Тогда – поле было безлюдным и мирно дремало под жарким солнцем. Нашу ватагу совершенно не интересовал мак, неведомы были его стратегические производные и их боевое применение: мы пришли за паслёном. Зеленые маковки уже были надрезаны, и на их боках застыли капельки опиума. Откусив корончатую верхушку маковки, можно было вытрясти в рот незрелые еще семена мака, которые уже были вполне съедобны. Однако при каждом откусывании слизывалась частица опия, – это я понял потом. То ли я активней других кормился маком, тот ли по другим причинам, – мне первому стало плохо. Кое-как добрел домой и упал. Встревоженная мама отпоила меня хозяйской простоквашей, после чего я проспал несколько часов…
Взгляд из будущего. Первый опыт применения наркотиков мне не понравился. Может быть, поэтому во время жестоких болей я никогда не просил обезболивающих или снотворных медикаментов. Возможно, мне их вводили перед операциями, когда я не мог сопротивляться…
Осень 1942. Опять школа
К середине лета степь изменилась и стала желтеть, а затем – буреть. Солнце припекало настолько беспощадно, что на раскаленную дорогу нельзя было наступить босой ногой. По степи гуляли смерчи, возникающие из ничего, и поднимающие пыль и мусор на огромную высоту. Однажды на хозяйском огороде на наших глазах всего лишь микросмерч в мгновение выстроил столб высотой в три дома из стеблей кукурузы, собрав их со всего огорода. Вскоре столб рухнул, как ни в чем не бывало, уложив все стебли в одну кучу.
Бурная речка теперь едва сочилась среди обнажившихся раскаленных камней. Вода оставалась только в бывших омутах под кручами, с которых мы ныряли, соревнуясь в «вертикальности» вхождения в воду. Однажды я вошел в воду так вертикально, что голова слегка повредила камень на дне, а меня Коля вытаскивал из воды полуживого… Пока возвращаемся из речки к трудовым занятиям, опять стает невыносимо жарко и хочется бежать к речке опять…
Колхоз привлекал малолетних учеников на каникулах к сбору колосков и посильной работе, суля обильные корма. Запомнилась маленькая девочка из Белоруссии. Она сказала, что не может работать на пустой желудок. После поглощения большой миски пшенной каши, она со слезами сказала, что теперь тоже не может работать, но уже из-за переполненного желудка… Мы с Колей отгребаем солому, лопатим зерно на току. Мы – патриоты: ударной работой в бригаде (колхозе) мы помогаем фронту. На ленивых Коле достаточно внимательно япосмотреть, чтобы они начинали шевелиться быстрее. Потихоньку мы по-настоящему втягиваемся в работу и воспринимаем напоминание о том, что надо собираться в школу как неумную шутку.
Однако первого сентября все появляются в школе. Мы теперь в 5 классе, нас «ведет» не один учитель, а «по предметам». Коля учится в параллельном классе, и теперь мы общаемся реже. Я сижу за партой с Володей Кириченко, симпатичным туземным пареньком. Все друзья, все знакомые, – о былом отчуждении ничто не напоминает. Почти все летом работали в колхозных бригадах, и теперешние уроки клонят в сон и кажутся пустой тратой времени. В массах созревает лозунг, ясный и простой как репа: хватит с нас этих наук, страна сражается не на жизнь, а на смерть, и мы должны ей помочь делом, а не полудремой на уроках! Идеи масс надо довести до руководства. Я и Лазарь Подольский, чернявый еврейчик из Белоруссии, беремся воплотить эту идею в жизнь технически. Я в это время читал книгу Голубевой «Мальчик из Уржума» о Сереже Кострикове, – будущем Сергее Мироновиче Кирове, которого все очень любили. Так вот, Киров печатал листовки на гектографе. Компоненты для желатинового слоя, переносящего текст на бумагу, Киров покупал в аптеке. О том, где он брал бумагу, – речи вообще не шло, как о пустяке, которого везде полно. У нас не было ничего. Не было хорошо описанных в книге компонентов, не было средств для их приобретения, не было даже аптеки, где их можно приобрести. Но, главное: у нас не было бумаги, на которой можно было бы что-нибудь напечатать. Упорная и последовательная, дюже умственная, работа по замене теоретических компонентов на имеющиеся в натуре дала прекрасные плоды. Вместо бумаги текст огненных призывов решено было отпечатать прямо на побеленных саманных стенах школы! Вместо сложной матрицы гектографа следовало применить способ первопечатника Ивана Федорова, изготовив штамп с текстом. Гравирование выпуклых букв на металле было отвергнуто сразу: во-первых, не было металла. Решено было вырезать буквы из старых галош и смолой наклеивать их на фанеру. При исполнении задуманного возникли технические трудности: туземцы изнашивали галоши неравномерно, не заботясь о их высоком назначении в будущем. Буквы из пяток и подошвенной части получались разной толщины, что не позволило бы их хорошо отпечатать! Число рваных галош пришлось увеличить для большего выбора. По нашему кличу класс быстренько натаскал нам гору отходов обувной промышленности, что вызвало нездоровый интерес к нам родственников и хозяев.
Вырезание печатных букв из галош оказалась очень трудоемкой и длительной работой. Кроме того, для размещения полного текста нашего лозунга «ДОЛОЙ ШКОЛУ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРИГАДА!» требовалась очень большая фанера или очень маленькие, но четкие, буквы. Мы утонули в неразрешимых трудностях. Надо было сокращать текст лозунга. Посчитав, что «ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРИГАДА!» очень длинно и само собой понятно, мы решили оставить только «ДОЛОЙ ШКОЛУ!».
Дело сразу пошло веселей: крупные буквы легко наклеились на небольшую фанеру, образовав вполне удобную печать. Намазав наше клише чернилами, мы сделали пробный оттиск на стенке. На ней после восклицательного знака отпечаталась малопонятные слова «! УЛОКШ ЙОЛОД». С волнением мы развернули доску так, чтобы восклицательный знак оказался в конце надписи. Стало немного лучше, но почему-то все буквы, кроме «О», стали вверх ногами. Пару минут мы тупо разглядывали содеянное, усвоив за это время законы отражения при печати. Все пришлось переделывать сначала… Наконец наш боевой лозунг печатается так, что его даже можно понять. Нам он кажется верхом полиграфического искусства.
В школу мы пришли рано утром. Лазарь мазал печать некой черной краской, накануне похищенной в школе. (Там она использовалась вместо замазки оконных стекол. Мы ее слегка разбавили керосином). Я энергично шлепал лозунг на видном месте коридора. Всего на четвертом оттиске нас схватила за уши уборщица баба Нюра и удерживала с воплями и причитаниями до прихода директора. Отрицать свою причастность к содеянному было глубоко бесполезно: алиби отсутствовало. Зато присутствовали вещдоки в виде печати и отпечатков. Кроме того, наши руки, морды лиц и очень орлиный профиль Лазаря были густо замазаны почти несмываемой черной мастикой. Мы стояли под градом директорских вопросов как партизаны в рассказах – молча. И вот здесь мы осознали все значение «технического» сокращения нашего лозунга…
Это была крупная, можно сказать, – политическая ошибка. Мы так свыклись со своим лозунгом в «полном размере», что не заметили, как отсечение второй его части превращает нас из патриотов Родины в непонятных мерзких анархистов в глазах учительской общественности и, вообще, всего народа. Действительно: для чего «Долой школу»? Тяжело учиться? А как же на фронте? Лень? А где ваша совесть? В тот момент, когда весь советский народ, не щадя сил и жизни, борется… и т. д. и т. п.
Скандал и неприятности были огромные. От исключения из школы нас, наверное, спасла невероятная глупость содеянного, а так же отсутствие мест содержания малолетних преступников… Класс отнесся к нам сочувственно и весело, особенно вспоминая сцену, как нас с Лазарем в учительской отмывали керосином. Даже мама, пережив все неприятности и выскоблив и побелив наши грехи, не могла без смеха вспоминать о нашем «фиаске» и керосиновом очищении. Только Тамила с уважением смотрела на меня как на героя-партизана…
Чему нас учат семья и школа?
Итак – школьно-колхозная революция не состоялась, из школы нас не выгнали, и надо было продолжать учебу вместо производительного труда на колхозных полях. «Правильные» учителя учили нас как надо, поэтому не запомнились. Расскажу об оригинальных. Историю преподавал Мычкин, длинный худой, с чеховской бородкой учитель из Ленинграда. За три месяца учебы мы усвоили с ним всего-навсего три страницы учебника. Зато я помню сведения из них почти дословно до сих пор. «Царский сын Будда удалился в пустыню и после многих лет раздумий и размышлений пришел к выводу, что высшее в мире блаженство – полный покой, бездействие, погружение в мысль и созерцание – НИРВАНА». Еще одна важная информация, записанная на белой обложке моей «тетради» – учебника по рентгенографии животных: «В 1242 году при городе Лас Навас де Толоса состоялась битва испанских кортесов (?) с маврами». Мычкин носился между партами и, потрясая бородой, заставлял каждого записывать и повторять без конца эти бесценные сведения. Что дальше стало с Буддой и чем окончилась битва при Лас Навас де Толосе – осталось для нас величайшей тайной, как, впрочем, и вся История. Разозленный нашей тупостью и ленью, Мычкин даже слегка поколачивал своих учеников со словами: «Проснись, олух!». Однажды, когда в классе было особенно холодно, Мычкин скомандовал для сугрева: «Бокс, ряд на ряд!». При этом он сам ввязался в этот «сугрев», достаточно больно пиная своих питомцев. Неожиданно оба ряда объединились и от души воздали своему наставнику, действительно согревшись от удовольствия… Популярная частушка тех лет: «Мычкин, Мычкин, – дурная голова! Если «плохо» ты поставишь, мы убьем тебя!».
Учитель немецкого языка Берин был во всем антиподом Мычкина. Маленький горбун, с огромной лысой головой, большими лопухами ушей и ртом от уха до уха. Ходил он в огромных, явно не своих, валенках, из-за чего его походка очень напоминала утиную. Шею он укутывал шарфом и никогда не снимал длинный, видавший виды, пиджак (подозреваю, что под ним ничего не было). Он был страшно близорук, очки где-то потерял. Возможно, поэтому на его лице всегда блуждала какая-то детская беспомощная улыбка… По сравнению с другими учителями, он находился в заведомо худших условиях: наша вольница не желала учить язык врага, с которым воевали (народный герой Штирлиц, в совершенстве владеющий языком врага, в 1942 году еще не пользовался всеобщей известностью). Берин, по-видимому, тоже в совершенстве знал этот язык и любил его. Наскоро проскочив алфавит и «Анна унд Марта баден» из учебника, он начал учить нас, темных болванов, настоящему немецкому. Ему очень хотелось, чтобы его ученики также полюбили и знали язык Шиллера и Гете, надеясь увлечь нас, не принуждая. Прекрасный художник, Берин где-то изыскивал листы картона, на которых четким, иногда – готическим – шрифтом писал немецкие предложения в разных вариантах и пытался объяснить нам, невеждам, чем и как отличается в разговорной речи давно прошедшее время от просто прошедшего, как строятся вопросительные предложения и другие премудрости. С упоением рассказывая все это у доски, он ничего, даже внимания, не требовал от орды, сидящей за партами. С нашей точки зрения, это был его существенный недостаток. Не вникая в науку, класс скучал, затем начал развлекаться в меру своих способностей. Туземный сорт тополя давал семена в виде зеленых шариков размером с горошину. Если набрать горошин в рот и выдувать их через трубочку из камыша, то летели они довольно далеко. Отдельные талантливые асы могли вести прицельный огонь очередями. Обычно на переменках разыгрывались дуэли и целые баталии. Большая голова Берина была идеальной целью для такой стрельбы. После первого попадания Берин смущенно улыбнулся и потер лысину. В дальнейшем стрельба велась залпами по команде «ПЛИ!». Учитель только умоляюще поднимал руки и говорил: «Не надо, ребята!», продолжая сеять разумное, доброе, вечное на твердолобую почву…
Однажды учителям выдали по большому кругу жмыха (макухи, шрота) – отходов из неочищенных семечек подсолнечника после отжима масла. Берин пришел к маме и спросил: «Из чего изготовляется этот удивительно вкусный продукт? Почему он до войны мне не попадался?». Мама не смогла ему разъяснить, что «удивительно вкусным продуктом» до войны кормили только свиней…
Взгляд из будущего. Немецкий язык я учил в школе, институте и при подготовке в аспирантуру, – в общей сложности – более десяти лет. Научился склонять der, die, das с небольшими ошибками, могу перевести со словарем «Anna und Marta baden». Ну, не встречались мне больше в жизни учителя, по лысине которых стреляли горохом…
Картошка – пионеров идеал
Не знаю, по каким причинам, возможно – для экономии, мы на пару месяцев переехали поближе к школе и стали жить вместе с Мильманами, шесть человек в одной комнатенке. Мне, как, наверное, маме и Тамиле, стало жить хуже. Я лишился своего ночного читального зала. Наш класс стал заниматься во вторую смену, и мне вменили чистку картошки для совместного обеда на шесть персон. Кастрюля была очень большая, так как производимое варево было для всех первым, вторым и десертом. Картошка, наоборот, была размера взрослого желудя. Сначала дело двигалось очень медленно и трудно. Постепенно я научился снимать тончайшие «мундиры» из своих желудей с большой скоростью. Руки все делали сами, и можно было в это время размышлять о чем угодно. Таким образом, у меня как бы прибавлялось свободное время. До сих пор не могу видеть, как небрежно кромсают картошку неумехи. Кстати, надо рассказать уже все о картошке: «основной продукт» той эпохи этого заслуживает. Во время войны целую картошку весной никто не сажал. Сажали «верхушки клубней картофеля». В специальных статьях в газетах, плакатах и даже на специальных курсах подробно освещалась технология этого дела. Для посадки отрезался только маленький сегмент с «глазками», специально готовился к посадке. Все остальное шло в пищу. Я думаю, этот способ спас тысячи и тысячи людей от голодной смерти. Крупные картофелины мы бережно сохраняли для больших праздников. Тогда все собирались за праздничным столом и его главным блюдом и украшением были «деруны» – оладьи из свеженатертого картофеля. Весной обнаружился еще один источник поступления «почти картофеля». При вскапывании огорода часто отрывались некие серые мешочки. Это оказался невыкопанный прошлогодний картофель, перезимовавший под глубоким снегом. В тонком коричневом «мундире» находилось сыпучее белое вещество: смесь крахмала и еще чего-то съедобного. Запах был, конечно, не Шанель номер 5, но вполне сносный – картошка не сгнила, а каким-то образом потеряла влагу. К тому времени я научился молоть откуда-то полученное зерно – пшеницу пополам с ячменем, затворять настоящее тесто на дрожжах и печь хлеб. Тонкость размола на самодельной мельнице по типу кофейной – «оставляла желать», поэтому хлеб получался еще более зернистый, чем современные элитный и лечебный… Связующая добавка крахмала и «еще чего-то съедобного» оказалась весьма кстати. До сих пор помню восхитительный вкус Своего Хлеба! Мама сначала недоверчиво смотрела на мои эксперименты, опасаясь, что я окончательно загублю хоть и малосъедобные продукты. Попробовав Хлеб, она удивленно протянула: «Вку-у-сно!». Тамила молча отщипывала маленькие кусочки, с чувством разжевывала их и с обожанием смотрела на меня – кормильца несчастного…
Кое-что для пропитания моих родных женщин мне удалось добывать путем отравления народа. Заслуживаю снисхождения, ибо не ведал, что творил… (Недавно прочитал статью экологов, о том, что в средние века жизнь народа была короткой тоже по этим причинам. А ведь среди них были мыслители – не мне чета!) Дело было так. Из Деребчина еще у нас была эмалированная мисочка, очень зеленая и очень нужная. Наконец она прохудилась, и мама сказала, что без этой мисочки она «як без рук». Желая вернуть ей руки, в тире за селом я откопал несколько свинцовых пулек от малокалиберных патронов. С – надцатой попытки, мне удалось заклепать свинцом (!) дырку так, что миска не протекала. Мама очень обрадовалась и похвасталась соседке неожиданной реставрацией потерянного. Немедленно я был завален горой прохудившейся посуды. Приходилось «просить пардону» у тех, чьи дырки значительно превышали размер пули. Остальным – «возвращал руки». Я, конечно, ничего не просил за работу, но благодарные «руки» всегда что-нибудь приносили съестное. Чтобы хоть немного оправдаться перед историей, хочу призвать весь народ: «ДЕТИ! НИКОГДА НЕ КЛЕПАЙТЕ ПИЩЕВУЮ ПОСУДУ СВИНЦОМ! МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ! КАК ПОКАЗАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГОВ, ВСЕ ДРЕВНИЕ УМЕРЛИ ОТ ХОРОШЕГО ПИТАНИЯ СО СВИНЦОВОЙ ПОСУДЫ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ОДЕЖДЫ КРАСОК, СОДЕРЖАЩИХ МЫШЬЯК!» Здесь, правда, я допустил перебор: одежду мышьяком я не красил, честное пионерское!
Табак – вреден. Махорка – нет
Зимой 1943года мы переехали совсем близко к школе. Семья наших новых хозяев Фроловых состояла из замученной жизненными невзгодами женщины и выводка детей, старший из которых Валька был чуть моложе меня. Это были переселенцы со ставшей нам родной Тамбовщины. Глава семьи успел перед войной построить только саманную избу с плоской глиняной крышей. После его ухода на войну семья страшно бедствовала, голодала. От довоенной, тоже не самой роскошной жизни у них осталась старая собака, несколько кур и отощавший поросенок, которого берегли на черный день. Валька искал свою собаку не иначе как громкими криками «Жучка, на! Кусок! Хлеба! С маслом!», – безуспешно надеясь, что, услышав о таких, невиданных даже для хозяина яствах, старая собака резво прибежит.
В сенях у Фроловых хранились подвешенными большие запасы табака – листьев и стеблей. Перед всеми праздниками на фронт готовились подарки. Женщины вязали шерстяные варежки с одним указательным пальцем «для стрельбы», теплые носки. Фроловы и мы, не имея другой шерсти, кроме собственной, могли готовить только махорку. Листья табака нарезались тоненькой лапшой. Стебли табака подсушивались в печке, затем дробились в большой деревянной ступе с ножным «приводом». На качающейся доске с одной стороны было закреплено «било», входящее в ступу, точной копии средства передвижения ведьм. «Ступач» (обычно – я), балансируя на шарнире доски, заставлял било с нужной силой дробить сухие стебли. Искусство было в том, чтобы не превратить драгоценный продукт в пыль и получить максимум зерен нужного размера. Из полученной смеси отсеивались пыль и крупные куски (они снова шли в ступу). Нужную фракцию смешивали с нарезанными листьями. Это и была желанная махорка, которую насыпали в кисеты с трогательными вышитыми надписями для отправки на фронт. Часто в кисеты вкладывали письма неизвестному бойцу с пожеланиями и поздравлениями. Такие подарки на фронт были святым, истинно всенародным делом…
Разбирая запасы табака на стене, мы неожиданно обнаружили давно забытую волосатую свиную шкуру, которую перед самой войной не успел сдать хозяин. Надо заметить, что шкуры скота были стратегическим сырьем и подлежали обязательной сдаче. «Смалить кабана», как это делают сейчас, было запрещено. Найденную шкуру сдать уже было невозможно, кроме того она представляла собой большую пищевую ценность. На совете обеих семей было решено: чудом сохранившуюся шкуру втихомолку съесть. Шкура была расчленена и по частям, чтобы запах горелой шерсти не привлек внимания, осмалена в печке. После скобления и мытья, криминальная шкура была порезана на маленькие кусочки, заложена в большой чугун, залита водой и помещена в печь. Наши женщины уверяли своих нетерпеливых чад и друг друга, что у нас получится очень приличный и «крепкий» студень, который после застывания придется даже резать ножом, а разваренные кусочки шкуры нам вполне заменят мясо. Из литературы известно, как голодающие варили свои сапоги и спасались от голодной смерти. Но там была выделанная кожа, в которой уже был не тот смак и питательность. У нас же была Настоящая Живая Шкура, которую всегда для крепости кладут в студень! Пока чугун млел в печи, я рассказал обществу о способе обработки другой шкуры, которому был свидетелем и даже соучастником. Наша предыдущая хозяйка – хромая Паня, была какой-то шишкой в сельсовете и по этой причине считала, что некоторые законы писаны не для нее. Она выкормила здоровенного кабана и решила умертвить его тайно, чтобы не сдавать шкуру. Рано утром, когда все разбежались, дед-специалист прирезал несчастное животное. Я учился во вторую смену, от моего любопытства Пане было не отвертеться, и она решила сделать меня подсобным рабочим, посулив вознаграждение и потребовав держать язык за зубами. Я его немного держал там (за зубами), но теперь случай был особый: я живописал Технологию Обращения Шкуры в невыносимо вкусный Продукт. Так вот, свинью закололи, слили драгоценную кровь, затем начали смалить. (Компьютер меня без конца поправляет, требует писать «смолить» Но, это слово напоминает о смоле и лодке, поэтому буду писать неправильно, чтобы меня правильно поняли). Для этого полагалась специальная солома: овсяная или ячневая. После этого надо было скрести и мыть шкуру, затем обдавать кипятком. На янтарно-желтую тушу затем накладывался толстый слой опять какой-то специальной соломы, которая сверху плотно закрывалась коврами, покрывалами и т. п. На этот холм усаживались на полчаса все участники злодейства. Только после этого свинья (даже стыдно применять это название к столь драгоценному продукту!) разделывалась. Сало, вместе с благоухающей нежной Шкуркой на нем, складывалось и пряталось отдельно, как сокровище из подпольного золота…
За всеми разговорами Наша Желанная Пища созрела. Чугун был извлечен из печи, и все Фроловы набросились на него с ложками. Мы скромно стояли в очереди: шкура ведь была не наша. Хозяйка отбила большой деревянной ложкой натиск своих малолетних пиратов и первой зачерпнула варево. Через секунду она остолбенела, и ее глаза полезли на лоб. Малые пираты вонзили свои ложки в продукт – их разочарование тоже не знало границ. Теперь уже с опаской стали пробовать и мы с мамой и Тамилой. Наше долгожданное варево было невыносимо горьким!
За время почти трехлетнего совместного «проживания» с листьями крепчайшего табака, Шкура пропиталась им насквозь. Этим, кстати, объяснялась ее удивительная сохранность, – даже прожорливые букашки не могли ее скушать. Валькин Цербер только понюхал наше варево и отошел, не осквернив языка. Конечно: ведь он знал из призывов хозяина, что на хлеб, который он еще смутно помнил, можно намазать какое-то невообразимо вкусное масло…
Свет в конце тоннеля
Лето 1943 года тоже прошло в заботах о питании и топливе. Теперь, правда, еще стала добавляться забота об одежде и обуви, – все обносились до предела. Мои сапожные навыки очень пригодились, но вскоре нечего было уже ремонтировать… Тем не менее: жить стало лучше, жить стало веселей. В тяжелой войне наступил перелом: немцы были остановлены и пошли вспять. Война уже возвращалась в знакомые нам места, которые мы прошли при бегстве. Очень близким казалось возвращение на Украину, и конец всем бедам. Все лишения теперь переживались легче: появился свет в конце тоннеля.
Новый 1944 год встречали весело, обилие на столе почти заменяли песни. В школе был грандиозный по нашим меркам утренник, хором пели песни: «Мальчишку шлепнули в Иркутске…», «Подари мне, сокол, на прощанье саблю, вместе с острой саблей пику подари». Новых военных песен, которые пел весь народ, у нас никто не знал: радио в сельсовете включали только для последних известий, берегли драгоценные батареи. Зато елка была очень большой, и все ее ветки торчали вверх. Дело в том, что у нас почему-то не росли елки. Перед Новым Годом отважные лыжники шли в горы и там, рискуя попасть под снежную лавину, выкапывали под снегом ветки ползучей вечнозеленой туи. Ветки туи привязывали к веткам любого подходящего дерева, и елка была готова…
Папин младший брат Антон, зная о нашей голодной жизни, звал к себе. Он был «на броне», то есть не подлежал призыву в армию. Работал он в Ивановской области главным электриком огромного торфопредприятия, которое обеспечивало топливом все электростанции Ивановской области. От этого электричества крутились все ткацкие и другие станки, работавшие на войну. Райских кущей дядя не обещал, но питание и обувь-одежду по карточкам военного времени там выдавали всем работающим и их иждивенцам.
Нам очень тяжело было добраться до Аягуза, то есть – до железной дороги. Для этого требовались пол-литра водки или пятьсот рублей (именно столько стоила водка – то ли в т. н. коммерческих магазинах, то ли на черном рынке). Ни того, ни другого у нас не было. Кроме того, любая поездка во время войны требовала документов: вызовов, разрешений и других важных бумаг. Мама объединилась с Ермаковичами – семьей из Белоруссии, которая мечтала о выезде, но не имела никаких бумаг: до Белоруссии еще было ой как далеко. Муж белоруски был офицером НКГБ, и она по его аттестату получала ежемесячно какие-то грамульки настоящей водки. Она накопила уже целый литр, – цену нашего путешествия до Аягуза для обоих наших семейств. Дядя Антон прислал вызовы, разрешения на проезд через Москву и нам и им. Мы бешено стали собираться. Главная задача: накопить продуктов на дальнюю дорогу, которая не могла быть быстрой. Каким-то чудом мама собрала полмешка Настоящих Хлебных Сухарей и сушеных яблок. Еще был золотой запас – кусок Настоящего Сала. По нормам военного времени – один сухарик и 10 грамм сала на один обед в сутки, нам должно было хватить дней на 15–20. Это была очень хорошая, но очень маленькая норма. Остальные калории предполагалось восполнять на станциях «Кипяток».
И вот тут я совершил постыдный поступок, который поставил наш выезд на грань провала. Это было связано с Первой Пьянкой. До сих пор меня мучают стыд и раскаяние, но из песни слова не выкинешь…
Хозяин Ермаковичей был старый бессовестный алкаш, и мать семейства, опасаясь за сохранность драгоценного продукта, перенесла бутылку к нам, где были только женщины и дети. Она, бедная, и думать не могла, что старший детеныш (я), готовится стать закоренелым алкоголиком… К стоящей открыто бутылке на этот раз меня привела не случайность, а любопытство. Мне очень было интересно, что есть особого в жидкости, литр которой способен переместить шесть человек со скарбом на расстояние 200 километров. Открыв бутылку, я сделал Первый Глоток. Сначала перехватило дыхание, но дальше ничего особенного не произошло. Еще трезвыми глазами я посмотрел на бутылку и понял, что моя проба будет замечена: бутылка была наполнена до краев, и я отпил из самой узкой части горлышка, где снижение уровня особенно заметно. Я очень волнительно обеспокоился и начал заметать следы. Самое простое было – долить воды, что я и поспешил сделать. В волнении я несколько превысил начальный уровень бутылки. Следующее решение уже имело две цели: а) восстановить уровень до исходного; б) исследовать изменение вкуса продукта. В процессе практической реализации решения желанный уровень от волнения был проскочен вниз. Зато вторая часть задания вселяла оптимизм: вкус Продукта не только не изменился, но стал значительно лучше! Путем нескольких приближений я наконец идеально подогнал уровень под исходный. Неожиданно Тамила, которая с некоторым недоверием наблюдала за моими манипуляциями, стала невыразимо смешной, и я от всей души начал ржать. Смешно до колик было все, на что обращался мой затуманенный взгляд. Затем почему-то я полез на плоскую глиняную крышу, где на весеннем солнышке меня окончательно развезло. Последнее, что я слышал, был доклад озабоченной Тамилы: «Мама, наш Колька здурiв!»
…………………………………
После протрезвления я понял весь ужас содеянного: и мы, и Ермаковичи не могли уехать! Истекали также сроки присланных на выезд документов.
Я заметался в поисках выхода. Проклятую водку можно было получить при сдаче цветных металлов. Несколько свинцовых пулек, оставшихся после моих «заклепочных» упражнений, не решали проблемы. Я остервенело перерыл все стрельбище, но ничего не нашел. Поиски других источников цветных металлов добавили только две, почти невесомые, алюминиевые ложки.
С тоской обратил свой взор на освинцованный связной кабель, идущий по столбам из Урджара. К счастью, сообразил, что обрыв связи будет сразу замечен, и я не успею с кабеля содрать свинец и превратить его в водку.
Взгляд из будущего. Современные искатели цветных металлов менее расчетливы и более рискованны: срезают их с действующих ЛЭП и лифтов, с устройств сигнализации и блокировки, что угрожает жизни как срезающих, так и остальных людей. На этом фоне сокрушение двери в нашем домике в садоводстве и кража двух алюминиевых лестниц выглядит невинной шалостью. Желания у нас, любителей цветных металлов, конечно, одинаковые – добыча спиртного, но я ведь хотел добыть его с благородной целью… Единственное, в чем мы полностью похожи: все начинается с пьянства…
Глядя на мои метания и опасаясь, как бы я еще чего-нибудь не натворил, мама и Ермакович (к сожалению, я не помню имени этой милой женщины, пострадавшей из-за меня) приняли решение рискнуть: выйти на рынок транспортных услуг с несколько некондиционным продуктом. Подозреваю, что они попробовали его по моему методу и пришли к аналогичным результатам. МЫ ЕДЕМ!!!
05. На пути в Эдем
Не ходи по косогору: сапоги стопчешь!
(К. П. № 131)Посещение Юга по пути на Север
Мы выехали с Ириновки, попрощавшись со всеми временно остающимися и остающимися навсегда аборигенами. Прощание не было лишено некоторой грусти с нашей стороны и зависти со стороны остающихся. Ночевка в Урджаре была сумбурной в обществе наших грядущих перевозчиков. Они успешно реализовали нашу мзду – «жидкую валюту» – за перевоз и, судя по охватившему их возбуждению, градусов в ней после моего запоя еще оставалось достаточно.
Вечером следующего дня мы погрузились прямо на зерно в кузовах полуторок и двинулись в двухсоткилометровый путь. Мама, Тамила и часть багажа с продуктами ехали на другой машине, которая должна была выйти чуть позже.
Чувствовалось приближение весны. Санные дороги уже раскисли, но наше «почти шоссе» было расчищено, и уже рано утром несколько машин, в том числе та, на которой ехал я, были в Аягузе. Мамы и Тамилы не было. Я был привязан к своим вещами никуда не мог отойти. Полузнакомые попутчики пожалели меня и забрали мои вещи в дом к своим знакомым. Я отправился к элеватору встречать маму и Тамилу.
Час шел за часом – их не было. Решил вернуться к хозяевам, где были наши вещи. Увы, в ряду одинаково черных двухэтажных домиков я не смог отыскать нужный. Голодный и потерянный, бродил я целый день по Аягузу, не зная, что предпринять. Однажды ноги принесли меня к магазину, где по карточкам выдавали хлеб. Это был черный военный хлеб, который жидким (для привеса) заливался в формы. Этот хлеб был крупно ноздреватый, имел восхитительный запах и вкус. Я никогда не видел его черствым: пекли его строго по прикрепленным карточкам, к моменту привоза его уже терпеливо ждала длинная очередь. Хлеб развешивался с точностью до грамма, поэтому к основному куску почти всегда прилагались один-два микроскопических кусочка. Часто покупатель (хлеб по карточкам продавался за деньги) сразу съедал кусочек, если он был очень маленький, но большинство заботливо несли всю пайку родным… Я долго стоял у магазина, не в силах оторваться от зрелища Развешивания и Выноса Хлеба. Несколько раз я чуть было не отваживался попросить кусочек хлеба, но какая-то сила удерживала меня. Наверное, кроме сатанинской гордости, это была также 100-процентная уверенность, что мне ничего не дадут…
Мама, Тамила и Ермаковичи приехали поздно вечером. Их машина обломалась, и они долго ждали помощи… Я был настолько голоден, что свой паек за целый день проглотил не разжевывая. Сразу нашлись и знакомые, и дом, и вещи.
На следующий день, после беготни с документами и билетами, мы уже сидели в поезде и двигались почему-то на юг. Да, в Аягузе мы всей семьей посетили больницу, где в 1941 году спасли Тамилу. У нас ничего не было, чтобы, как стали говорить позже, – «отблагодарить» этих людей. Мама порывалась вписать благодарность в несуществующую книгу отзывов. Но этим, замученным тяжелой постоянной вахтой людям, было просто приятно, что их труд не пропал напрасно, а выросшую и окрепшую Тамилу целовали и ласкали как родную…
Итак, мы с удобствами сидели в пассажирском вагоне, а поезд по расписанию (!) двигался на юг. Ставало все жарче, здесь снег уже везде сошел. Вскоре мы как в кино увидели зеленую, покрытую яркими цветами, казахстанскую степь. В стороне в голубой дымке осталась Алма-Ата, «отец яблок», бывший город Верный. Этот город, особенно его леса и горы, был мне давно известен и любим по книге Ольги (?) Перовской «Ребята и зверята». Я был очарован книгой и читал ее много раз еще до войны. Отец известных сестер Перовских был лесничим в окрестностях Верного. Книга с любовью рассказывала о разных зверях, которые жили в этой семье.
И вот наш поезд движется уже на запад по настоящей пустыне. Везде холмы и барханы раскаленного серо-желтого песка или совсем серые с белым налетом солончаки. Днем мы изнываем от жары, ночи довольно холодные. К счастью, путешествие кончается, и нас высаживают на узловой станции Арысь. Дальше на запад находится Ташкент – как известно из литературы, – город хлебный. Увы, мы не смогли в этом убедиться: туда нас не пустили. Однако, для путешествия на Север – мы слишком далеко забрались на юг. Только из Арыси веточка железной дороги ведет на Север, где много других дорог, ведущих на Запад, – домой! домой!
Не мы одни нетерпеливые, не ожидая освобождения своих малых Родин, кочуем на Запад, поближе к дому. Огромный пыльный пустырь возле хиленького вокзальчика заполнен тысячами женщин, детей, стариков, – сидящих, лежащих, бродящих вокруг островков и кучек своих пожитков. Обжитый пустырь является фактически частью пустыни, окружающей станцию. Наше вселение туда никого не стеснило и не взволновало: в пустыне всем места хватит.
Первые контакты с аборигенами пустыря дают очень неутешительную информацию. Главное: на поезд попасть очень трудно, почти невозможно, даже обладая посадочными талонами. Бродят рассказы о некоей шайке бандитов в форме железнодорожников, которые за большие деньги берутся посадить на поезд. Действительно, расталкивая обезумевшую при виде подошедшего поезда толпу, забрасывают в вагон сначала вещи, затем – людей. Поезд трогается, люди радуются. И только теперь замечают, что никаких вещей у них уже нет. При погрузке вещи одновременно сгружались с другой стороны вагона. Некоторые семьи на этом плацу под открытым небом живут уже две недели. Карточки на хлеб вроде дают, но отоварить их можно только с боями: хлеба на всех не хватает. Старшие дети и некоторые женщины открыли источник пищи: в ближней пустыне отлавливают черепах. Несчастных рептилий кидают в костер или в кастрюлю живьем: никто не знает, как гуманно можно умертвить черепаху, которую хочется скушать. Раньше черепахи были ближе, теперь за ними надо ходить далеко в пустыню, что небезопасно (гадюки, фаланги) и требует затрат энергии больших, чем можно получить от маленькой пустынной черепашки…
За весь этот узбекский бардак никто не отвечал. Теперь у всех уже другой официальный статус: мы «реэвакуирующиеся». Приставка «ре» из людей, движимых суровой государственной бедой (наступлением врага), превращает нас в своевольных себялюбцев: хочу, дескать, поближе к дому, и все тут! Национальные руководящие кадры союзных республик не обязаны потакать эгоистическим запросам всяких проезжих из других краев!
В Арыси мы провели всего три или четыре дня, прожив их в пыли и грязи вокзала под открытым небом. Возможно, сыграли свою роль вызовы дяди Антона: трест «Ивгосторф» вызывал из эвакуации маму и Ермакович как незаменимых специалистов, без которых ему (тресту) будет невмоготу выполнять свои военные функции. А, может быть, Ермакович обратилась в ведомство мужа, и помогли они. Как бы то ни было, уже на третий день, к зависти многих, мы имели посадочные талоны. Глубокой ночью, плечом к плечу и голова к ноге с другими «реэвакуируемыми» мы штурмовали пассажирский вагон нужного поезда. Тамила и ее сверстница Майя ревели в голос, я и Володя Ермакович работали кулаками и перемещали багаж, наши воспитанные матери допускали отнюдь не парламентские выражения в борьбе за место на колесах для своих чад…
Всевышний был к нам благосклонен: все уехали, багаж не потеряли. Остаток ночи я провел в вагонном туалете, зажатый мешками. Одна моя пятка опиралась на унитаз, вторая висела в воздухе. Смертельно хотелось спать, но уснуть было нельзя: распираемые моим телом мешки тогда бы упали и погребли бы меня на уровне унитаза. Однако колеса стучали, мы двигались в нужном направлении!!!
Теперь – на Север!
Утром народу в вагоне понадобился туалет, и меня освободили. Наши 6 человек путем всяких утрясок и перестановок заняли один отсек (назвать это место «купе» – язык не поворачивается) старого пассажирского вагона. По сравнению с теплушкой это были вполне райские условия: у нас было даже свое окно…
Поезд передвигался на север и потихоньку опять вползал в зиму. Конечно, мы не отрывались от окна, сравнивая 1941 с 1944 годом и разглядывая незнакомую страну, которая воевала уже четвертый год. Кроме старых надписей «Кипяток», такими же вездесущими стали стрелки и указатели «Военный комендант». Все военные и даже железнодорожники теперь носили погоны, по перронам ходили строгие вооруженные патрули. Теперь воинские поезда и товарняки, груженные военной техникой, были не встречными, а попутными, обгоняя наш пассажирский. Навстречу двигались санитарные поезда с ранеными. Движение на железной дороге усилилось, порядка стало больше, станции чище. И, вообще, все стало вертеться веселее…
Продукты наши кончались; мамы экономили беспощадно, несмотря на нытье наших младшеньких. На станциях местные жители продавали иногда вареную картошку и даже более вкусные вещи, но таких денег у нас не было.
И вот к нам в отсек неожиданно подсел улыбчивый ангел-спаситель – дядечка в полувоенной форме без погон. Мы в это время заканчивали более чем убогую трапезу, нажимая на кипяток. Младшие сестры привычно ныли на тему: «кушать хочется». Дядечка внимательно оглядел мордашки Тамилы и Маечки Ермакович и начал раскрывать свою плетеную корзинку, приговаривая: «Посмотрим, что нам положили на дорогу». А положили ему совсем неплохо: колбасу, черную и твердую, буханку хлеба, какие-то белые коржи, курагу, печенье, сахар, большую банку с повидлом. Похоже, наш попутчик сам удивлялся щедрости и заботливости тех, кто снаряжал его в дорогу. Он выложил все на столик, нарезал колбасу и хлеб, воткнул ложку в банку с повидлом и щедрым жестом пригласил всех к трапезе. Еще двух сопливых пацанов он пригласил из соседних купе. Наших маленьких дам он особенно заботливо подкармливал повидлом из банки, намазывая его толстым слоем на ковриги хлеба… Мы блаженствовали. Наша голодная орава разделала драгоценную корзинку за считанные минуты. Матери пытались нас притормозить и спрашивали нашего благодетеля: «А как же вы теперь будете без продуктов?» Дядечка отвечал, что это пустяки, что ехать ему недалеко, и явно испытывал удовольствие, глядя на довольные детские мордашки. Вскоре он заторопился, сказал, что хочет посетить друга в другом вагоне, и ушел. Через пару часов в вагоне милиция начала поголовную проверку документов. Милиционер сказал, что ищут вора, который украл продукты у очень важного человека из Ташкента, едущего в Москву. И мы, и ближайшие соседи ничего не сказали милиции о недавнем детском утреннике с раздачей слонов …
По мере приближения к Москве движение на железной дороге усиливалось, на станциях путей и эшелонов ставало все больше, а документы проверяли все чаще. Въезд в военную Москву был строго по пропускам и жестко контролировался еще на дальних подступах.
В Москву мы приехали рано утром. После выгрузки из поезда представительница эвакопункта проверила документы и быстро всех рассортировала. Нам надо было на троллейбусе номер такой-то ехать на Ярославский вокзал. Все было в диковинку пацану, одичавшему в среднеазиатской глубинке. Оказывается, в Москве есть какое-то средство, ранее неизвестное, на котором можно ездить (о метро и лестницах-чудесницах я был начитан, о троллейбусе там не было ни слова). Второе: этих троллейбусов так много, что им зачем-то дают номера. Третье: в Москве не один, а целых два вокзала (я не могу сейчас вспомнить, на какой вокзал мы приехали).
Впервые в жизни я видел большой город воочию, хотя читал о них много. Книжные представления можно назвать «элементными». Например, можно представить себе огромный дом, даже небоскреб, по его описанию. Если увидеть этот дом в натуре, то будешь поражен не только его истинными размерами, но и тем, что он стоит рядом с множеством других домов и сооружений, которые еще больше. Ну и еще изменяют и делают неузнаваемой картину дороги, движение, звуки, транспорт, люди, освещение, небо, – и тысячи других впечатлений, не учитываемых при книжном знакомстве с объектом… Конечно, это все более поздние размышления… В 1944 году я через окно троллейбуса (большого автобуса с непонятными усами на крыше) впитывал глазами и слухом столицу воевавшей Родины – большой город Москву, где жил сам Сталин…
Мы – торфяники
Дядя Антон встретил нас, измученных, грязных и голодных в Тейково под Иваново. Везде еще стоял глубокий снег – мы вернулись в зиму. После очередной пересадки, мы сели в игрушечный вагончик узкоколейки, который, непривычно переваливаясь на прогибающихся рельсах, доставил нас в поселок Ново-Леушино. Толпою мы ввалились в тесную квартирку на втором этаже бревенчатого дома. Усилиями тети Таси вся квартирка сияла чистотой, дощатый пол был выскоблен до такой невероятно белой желтизны, что на него страшно было наступить ногами – как на обеденный стол. Разгрузившись, мы двинулись в специально заказанную для нас баню. Я кажется, впервые в жизни погрузился в большую настоящую ванну с теплой водой. После всех железнодорожных перевалок, наверно, такое блаженство могут испытывать только грешники, неожиданно попавшие в райские кущи. После ужина с непривычно жидкими после наших сухих пайков блюдами, мы все улеглись на чистые постели, накрытые прямо на полу, и почувствовали, что Нирвана – действительно высшее в мире блаженство…
Ермаковичей поселили в комнате общежития, а мы с мамой и Тамилой стали жить в дядиной квартире.
Дядя Антон был довольно высокопоставленный «ИТР». Во время войны их ценили гораздо выше, чем потом, когда инженерам стали платить меньше, чем простым рабочим. У ИТР военного времени и пайки были больше, и столовые отдельные и другие маленькие льготы. Единственное, чего у них не было, это нормированного рабочего времени. Рабочий день мог длиться хоть круглосуточно. Ночью звонил телефон, дядя быстро одевался, совал за голенище финский нож (в лесах пошаливали бандиты и дезертиры) и отправлялся на присланном паровозе узкоколейки на устранение очередной аварии или ЧП. Зона его действия – огромное по площади, количеству людей и техники – торфопредприятие. Оно непрерывно грузило свою продукцию – брикеты торфа в железнодорожные шаланды и полувагоны, которые немедленно везли его к прожорливым котлам электростанций. Электроэнергия как воздух нужна была всем, особенно промышленности, работающей круглосуточно на войну. Любой, даже маленький, сбой в этой цепи мог привести к очень серьезным последствиям, в том числе – для людей, которые допустили или не смогли устранить этот сбой.
Лирико-ностальгическое отступление. Я, наверное, человек с того времени: глядя теперь на почти всеобщую разболтанность, необязательность и разгильдяйство, – мне жаль, что ушли собранность, самоотверженность и ответственность того сурового времени…
Торф добывался двумя способами: гидравлическим и фрезерным. Фрезерный торф в виде мелких крошек добывался машинами на сухих торфяниках, затем доставлялся прямо на электростанции. При всей кажущейся простоте технологии, его добывали относительно немного из-за высокой опасности: такой торф способен к самовозгоранию. Он мог загореться в любом месте, в любое время – в бурте, в шаланде, на складе электростанции. Тушить горящий торф очень сложно.
Основной способ добычи торфа на этом предприятии был гидравлический, который заинтересовал в свое время еще Ленина. Торфяные поля размываются мощными водяными пушками – гидромониторами. Пушка стоит на лафете, толстая струя воды высокого давления на десятки и сотни метров вокруг размывает залежи торфа, превращая его в жидкую кашицу – пульпу. Сила струи такая, что разбивает в щепки даже пни деревьев. Пульпу огромные электронасосы по трубам перекачивают на хорошо выровненные поля, где она подсыхает. Гусеничные трактора специальными траками на гусеницах прессуют и нарезают на брикеты, размером с большой батон, застывшую массу торфа. Дальше, увы – вручную, сотни женщин переворачивают брикеты, чтобы они равномерно сохли, затем большими корзинами подносят брикеты к ленте длинных конвейеров, которые загружают их в шаланды узкоколейки. Понятно, что вся тяжелая техника, линии и кабели электроснабжения должны постоянно передвигаться по мере выработки торфяных полей. Почти все передвижения – по железной узкоколейной дороге. Строится и убирается такая дорога очень просто и быстро, не то что тяжелая обычная ширококолейка. Почти игрушечные паровозики и мотовозы перевозят огромное количество грузов по прогибающимся рельсам, шпалы которых положены прямо на торф или грунт.
Все машины, насосы и установки предприятия потребляют огромное количество электроэнергии. Она поступала из Иваново по воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 тысяч вольт (киловольт, кВ) на главную подстанцию. Там мощные трансформаторы понижали напряжение до 10 кВ и уже по более простым ЛЭП направляли энергию на участки. На участках стояли трансформаторные подстанции (ТП), которые понижали напряжение до «съедобных» для машин и быта 380/220 вольт. К передвижным потребителям энергия поступала по гибким кабелям в резиновой изоляции.
За все это огромное и опасное хозяйство, на котором работали сотни людей, отвечал главный электрик – дядя Антон. Когда можно было, он брал меня с собой. Я впервые видел наяву совершенно незнакомый мир электричества, если не считать бердичевского опыта, когда я впервые попал под напряжение, схватив голый провод на земле. Я засыпал бедного дядю сотней немыслимых по глупости вопросов, на которые он терпеливо отвечал. Особенно меня интересовали отличия фаз – красной, зеленой и желтой. На главной подстанции сложная защита с множеством приборов на щитах должна была мгновенно отключать высокое напряжение при обрыве, например, провода. Он не должен даже долететь до земли, а напряжение уже должно быть выключено. Автоматически выключаться линия должна также при коротком замыкании, при пробое фазы на землю и т. д. (Возможно, успею написать, как я воочию наблюдал действие всех защит при аварии на ЛЭП в Киеве в 1954 году).
В бытовом электричестве меня, как профессионала, интересовала добыча огня и кипячение воды: способ кресала и серных спичек казался мне несколько медленным. Действительно, огонь электричеством добывался быстрее, но тоже непросто. В фитиль бензиновой зажигалки был включен проводок. При касании фитиля ручкой с другим проводом возникала искра, зажигающая бензин. Но при этом зачем-то вспыхивала 200-ваттная лампа. «Зачем?» – допытывался я. Дядя мне долго объяснял насчет сопротивления, тока, мощности. Усёк я только истину, что чем меньше сопротивление, тем больше ток и, следовательно, мощность.
Вновь приобретенные знания я решил немедленно поставить на службу народу. Мое внимание привлекло самодельное чудо военной экономики – кипятильник из двух жестяных пластинок. Эти пластинки подключались к розетке, опускались в воду. Через слой воды 4–5 мм проходил небольшой ток, и вода потихоньку закипала. Мне казалось – очень потихоньку. Я решил уменьшить сопротивление, чтобы, ясное дело, все шло быстрее. Из жести я изготовил U-образный кипятильник, примостил к нему провода со штепселем, и воткнул изобретенный снаряд в розетку… Последующий громкий взрыв розетки показал, что в теории и практике Новейшего Мощного Кипятильника имеются некоторые пробелы. Старинные фарфоровые розетки, конечно, были созданы для изобретателей моего класса: они имели собственные предохранители. Если бы не эта мелочь – от нашего большого деревянного дома могла остаться очень маленькая кучка головешек…
На дороге я нашел кусок алюминиевой проволоки. Изгибая ее в руках, я понял, что она с успехом могла бы заменить свинцовые пульки при заклепывании дырок в кастрюлях. Опять же – цветной металл, криминальными поисками которого я был озабочен совсем недавно. Через пару дней все укромные уголки небольшого жилища были заполнены кусочками алюминиевой и медной проволоки разных диаметров. Зацепившись за эти ценности, дядя вежливо поинтересовался у меня конечным назначением сокровищ. Я скромно поведал ему о своих успехах в реставрации металлической тары и остром дефиците материалов, требуемых для этих благородных деяний. Дядя молча взял меня за руку и повел к огромному бараку, который приказал открыть. Так остолбенеть, как я, мог бы только Аладдин, впервые увидев пещеру разбойников. Большое пространство было заполнено великанскими барабанами, на которых были намотаны блестящие алюминиевые и медные провода самых различных размеров. Внимательно рассмотрев мой открытый рот, дядя твердо пообещал, что если я столкнусь с необходимостью заделки отверстий, он лично, и при моем непременном присутствии, добудет для меня кусочек нужного из этой сокровищницы… Тетя Тася была очень довольна, глядя, как я удаляю запасы цветмета из ее владений.
Перечитывая последние абзацы, можно меня представить в виде энергичного и неугомонного тинейджера, занятого абсурдными заскоками. Увы, в действительности было все не так, как на самом деле. И дядя, и тетя были удивлены, что мы с Тамилой – дети-старики: не бегаем, не смеемся, задумчивы, стремимся не двигаться вообще без крайней необходимости. Лишь потом мы поняли, что это сама природа экономила наши силы, если они не поступали с пищей долгое время. А мы ведь голодали довольно умеренно, не смертельно…
Вставка из будущего – о голодных детях. К какой-то годовщине прорыва блокады Ленинграда в году 2007–2008 по ТВ шел широко разрекламированный сериал о жизни ленинградцев в дни блокады. Кино сделано было очень профессионально. Были затрачены огромные средства, очень правдоподобно изображены пожары, разрушенные бомбами и артобстрелами дома, потери людей от голода и холода, их упорство и массовый героизм. Со второй или третьей серии я не смог смотреть это кино из-за «пустяка», из-за одной фальшивой ноты. Фальшь была только в движениях людей – детей и взрослых. Они ходили, разговаривали, плакали и смеялись, поворачивали головы, открывали и закрывали глаза – как обычные люди, пользующиеся обычным полноценным питанием. Было ясно, что ни режиссер, ни актеры никогда не видели и не могли себе даже представить экономные движения давно голодающих людей, тем более – смертельно голодающих…
Теперь наше положение, конечно, улучшилось, но не так, чтоб очень. Мама пошла работать стрелочницей на железную дорогу, – местную узкоколейку. Ей было положено по карточкам 600 граммов хлеба в день, нам с Тамилой – по 300. Кусок хлеба 1200 грамм можно было проглотить нечаянно по пути из магазина. Еще маме был положен обед, за которым мы ходили в столовую. Обед состоял из маленькой тарелки белесой жидкости, в которой возможно варились макароны, и столовой ложки горохового пюре. Этот драгоценный продукт (это не шутка) можно было в одиночку проглотить в один глоток. Еще были положены какие-то граммы перловых круп и картошки, которыми мы и спасались. Делалось это так. В окрестностях росли целые поля щавеля. Молодой щавель мы собирали большими мешками. Он промывался и засыпался в огромную литров на 12 кастрюлю. Туда же шли одна-две картофелины и стакан перловых круп. Полученное варево очень напоминало овощной диетический суп, точнее – зеленую кашу. Мы его потребляли даже сверх физической возможности. Почему-то после такого обжорства очень хотелось есть, несмотря на переполненный живот.
Был еще один источник поступления жизненной энергии. В школе ученики получали по 50 граммов хлеба ежедневно. Поскольку взвешивание 50 грамм возможно только на аналитических весах, то выдавали по 100 грамм, но через день. Соответственно учебные дни делились на белые, когда выдавали черный хлеб, и черные, когда его вообще не выдавали.
Я еще ни слова не сказал о школе, дела с которой у меня обстояли отнюдь не блестяще. В шестом классе, учеником которого я должен был быть, я почти не учился. В Казахстане не было многих учителей, и вообще мы сидели на чемоданах (фактически – на мешках). Затем много времени было потрачено на переезд. До конца учебного года оставалось около полутора месяцев, а в программах 6-го класса ни конь, ни я лично, не валялись. На вече родных с моим участием было принято решение, чтобы я попытался взять этот барьер без разбега. Пришлось засесть за учебники. С логическими предметами – математикой, физикой – проблем особых не было. С историей, где надо было знать и помнить события и, главное, даты – полное фиаско. Какая-то у меня особенная память: не могу запоминать даты. Помню сотни телефонов, в институте помнил даже логарифмы основных чисел, а вот с датами – только по чеховской «Живой хронологии»: требуется привязка к чему-нибудь известному. Ну, например: знаю, что Пушкин родился в 1799 году. А что произошло в 1801-м? Конечно – Пушкину исполнилось два года. Появились первые сожаления о гороховой стрельбе по умной голове Берина. Тогда еще я не знал, что они будут преследовать меня всю оставшуюся жизнь…
Все же за месяц упорного труда я кое-что усвоил и к экзаменам был допущен. Интересно, что мама требовала от меня неустанных занятий с книгами после всех уроков и обязательных работ (например – сбора щавеля). Дядя же считал, что надо отвлекаться, и водил нас с Тамилой иногда в кино. Там мы впервые увидели английскую военно-шпионскую комедию «Джордж из Динки-джаза» и смеялись до болей в животе. Как ни странно, после этого учение действительно шло легче.
Медведи на лесозаготовках. Пионерский откорм
Экзамены я сдал. Мое блеяние было оценено в целом положительно, и я был переведен в седьмой класс. На следующий день весь класс новеньких семиклассников уже дружно трудился в лесу: каждый ученик должен был заготовить для отопления школы по одному кубометру дров. Мы вполне самостоятельно валили деревья, обрубали сучья, распиливали стволы на метровые бревна и складывали их в размерные поленницы. На таких совместных работах очень быстро идет оценка и переоценка людей. Выявляется, что человек, которого ты раньше просто не замечал, – настоящий труженик, работник, друг. Некоторые, бывшие раньше лидерами и хорошими парнями, оказываются лодырями и неумехами, и племя предает их настоящему остракизму. Так же было и в нашей бригаде (я перестал уважать это слово после сволочного, широко разрекламированного, телесериала с одноименным названием). Например, трудности в общении с «племенем» возникли у Володи Ермаковича, который любил отлынивать от работ и ныть не по делу. Я пытался его защищать, но, по-видимому, слабовато: «племя» было неумолимо. А настоящим лидером – умным, распорядительным и немногословным, стал мой сосед по дому Олег Торбенко.
Думаю, что кроме выяснения «кто есть кто» и благ в виде дров, такое мероприятие воспитывало в наших лоботрясовских головах чрезвычайно бережное отношение к школе. Разве можно разбить окно в школе, которая отапливается нарубленными лично тобой дровами? Наверное, и я бы не смог шлепать на стенах революционные лозунги «Долой школу!», если бы перед этим лично их штукатурил!
После заготовки дров для школы дядя Антон добыл одну путевку в пионерский лагерь. На откорм было решено отправить меня из-за предыдущих перегрузок в областях науки и лесоповала. В лагерь, расположенный в лесу на берегу речки, толпа хмурых, голодных и утомленных жизнью подростков прибыла под вечер. Вечерний чай с микроскопической булочкой не произвел у нас впечатления, что мы уже начинаем откармливаться. Нам выдали одеяла, подушки и простыни и провели в большой барак, где уже стояли Х-образные раскладушки, в которых вместо сетки натягивалась парусина. Эта парусина казалась мягкой и ласковой, поэтому каждый, накинув на нее простыню, накрылся одеялом и лег спать. Посреди ночи все население барака сидело на своих раскладушках, завернувшись в одеяла, и стучало зубами. Ночной холод добрался к нашим телам, не отягощенным защитным жировым слоем, снизу! К следующей ночи, по настойчивым просьбам (и воплям) трудящихся, нам выдали матрацы.
Подъем, зарядка, умывание и утреннее построение с подъемом флага, поздравлениями и обращениями руководства, нам показались пустым затягиванием времени перед завтраком. Но завтрак был великолепен и заставил забыть обо всех страданиях! Каждому на столе был приготовлен приличных размеров параллелепипед желтого настоящего омлета из яичного порошка! Кроме него на столе была увесистая краюха белого (!) хлеба и кусочек сливочного (!) масла. На подносике были также два непонятных коричневых стручка. Нетерпеливые лизнули – сладко, отважные укусили – внутри твердо. Знатоки выдохнули: «Финики!!!». Слово уважительно прошелестело среди неофитов. На нас пахнуло далекими тропическими островами, отважными и благородными искателями награбленных пиратских сокровищ… На фоне этого гастрономического великолепия поданная манная каша и ячменный кофе с молоком уже производили впечатление излишеств, но были немедленно и решительно сметены, как и все предыдущие ингредиенты этого неслыханного пиршества. По-видимому, тогда детям отдавали все, что положено…
Война все равно была рядом. В ближнем лесу начиналась полоса елок, у которых макушки были срублены все ниже и ниже. По сторонам образовавшейся просеки мы собирали разбросанные блестящие детали самолета с надписями на иностранном языке. В конце просеки была свежая могила со скромной мраморной плитой с красной звездой. За плитой вместо креста стоял покореженный самолетный винт – пропеллер, как говорили тогда. По рассказам, здесь был похоронен летчик, Герой Советского Союза. Он получил новый истребитель. Прощаясь с матерью и невестой, он показывал им фигуры высшего пилотажа. Из последнего пике почему-то он вышел слишком поздно… Возле могилы летчика все пацаны затихали и суровели не по годам. Молча укладывали собранные детали вокруг могилы и, постояв немного, так же молча уходили…
Человек очень быстро приспосабливается к хорошему, и ему начинает казаться, что этого хорошего неплохо бы еще добавить. Конечно, скупых военных норм не хватало для бурно растущих подростков. Кстати: я не мог вспомнить, были ли в лагере девочки. Это тоже, кажется, недостаток питания…
Тем не менее, наш «ограниченный контингент» значительно ожил. Построениями и мероприятиями вожатые нас не особенно донимали. У нас распространились два основных вида развлечений: бои на шпагах и ловля раков. Шпаги – прямой прут строго оговоренной длины, – росли в лесу везде. Сражения а-ля Д-Артаньян тоже происходили везде, индивидуальные и групповые, с чествованием победителей и перевязками побежденных. Второе развлечение было еще интересней и имело ярко выраженный прикладной характер. В зарослях водорослей мелкой, но широкой речушки обитало великое множество этих полезных животных(?) насекомых(?) рыб(?), – короче: раков. Ловить их было не так просто, а иногда и больно. Но быстро росли кадры специалистов: за два-три часа бригада могла наловить ведро раков. Они сдавались на кухню и затем равномерно распределялись между всеми. Ведущим ловцам их доля выдавалась разве что более крупными экземплярами.
Однако был еще один, сугубо индивидуальный, вид деятельности. Каждый из «откармливающихся» чувствовал, наверное, какой-то комплекс вины перед недоедающими родными и близкими. Очень хотелось поделиться с ними, угостить их чем-нибудь с нашего роскошного стола. Единственным пригодным для этой цели продуктом были финики. Каждый с первых дней стал припрятывать это лакомство для своих. Некоторые ребята вообще сами перестали есть финики: все отправляли в копилку. Сокровища складывались в лакированные картонные коробочки из-под американского яичного порошка. Сами коробочки хранились в не закрывающихся тумбочках. Руководство лагеря прекрасно знало о хранении в тумбочках недозволенных пищевых продуктов, но понимало заботы своих подопечных и закрывало глаза на нарушение правил.
И вот однажды после завтрака, когда подошло время «закладки» фиников на временное хранение, наш барак (он официально назывался, кажется, отряд) целиком «стал на уши». Примерно у половины ребят финики исчезли совсем или частично. Опрос дежурных и показания случайных очевидцев сразу выявил одного виновника – незаметного парнишку, который даже на нашем фоне вечно голодных выделялся прожорливостью. Ревизия его тумбочки показала избыток фиников по сравнению с выданными за весь срок, хотя всем было известно, что он их сразу жадно поедал, ничего не оставляя родным. Общество загудело, как потревоженный улей. Найденные финики были конфискованы и распределены пропорционально потерям. Но это было потом. А линчевание было начато сразу, жестокое и с участием всех, даже тех, которые не пострадали непосредственно. Только приход вожатой спас этого вора от верной гибели или инвалидности: он уже лежал весь в крови… Позже в «Золотом теленке» я прочитал фразу: «…вкладывая в удары вековую ненависть собственника к грабителю…». Мне кажется, что в этом справедливом линчевании были более высокие мотивы, чем чувство собственника.
Через три недели, действительно окрепший, побывавший наконец на отдыхе в пионерском детстве, я вернулся к своим. Великую ценность – финики – я довез все. Попробовав и похвалив сладкое заморское чудо, все взрослые присудили все оставшееся Тамиле…
Мама стала настоящей железнодорожницей, хотя она была простой стрелочницей, которые, как известно, всегда виноваты. С возмущением, не свойственным учителям математики, она рассказывала, как ей пришлось догонять медленно ползущий торфяной поезд с уснувшим в окне паровозика машинистом. Несмотря на сигнал, паровозик готовился «разрезать» стрелку и совершить крушение. Мама его догнала и разбудила машиниста «вежливым» ударом железным фонарем. Проснувшийся успел нажать на все рычаги и остолбенеть за два метра от стрелки, после чего получил от мамы большую дозу непарламентских характеристик своей усталой личности…
Однако нас уже звала дорога. Домой! Домой! Домой! Винницкая область была уже свободна от оккупантов, война уже большей частью переместилась на землю врагов. Никаких гуманистических сожалений! Пусть теперь они узнают, как знаем мы, что такое война, которую они начали! Мы начали активно готовиться к возвращению.
Нужны были деньги. Они изрядно обесценились, но их не стало больше. Их хватало, чтобы выкупить скудные продуктовые пайки и другие товары (одежду, обувь, ткани), которые выдавались по карточкам.
Отступление, почти лирическое. Возможно, слова «одежда, обувь, ткани» могут у кого-нибудь вызвать видения роскошных современных «шопов» с их изобилием и сработанной дизайнерами раскладкой товаров. Тогда все было проще. Скажем, иждивенцам – Тамиле и мне – по карточкам положено было по одной паре обуви на полгода или год, по два метра сатина, три метра х/б более плотной ткани (точные цифры не помню) для пошива верхней одежды, мыло и еще что-то, – это и выдавалось в соответствующих магазинах-распределителях, – за плату, но строго по карточкам. Конечно, совместить «до последней ниточки» количество, размеры и качество товаров с количеством и запросами владельцев карточек было невозможно, поэтому была таблица узаконенных замен. Вот анекдот – быль тех времен. Скажем, у вас есть карточки на сено для лошадей. Лошадей вы давно съели, а сено есть не можете. Но, по таблицам возможных замен, вы можете обменять сено на фуражное зерно. При отсутствии фуражного зерна, допускается его замена на продовольственное зерно. Такое зерно уже можно заменить мукой, которую уже можно заменить макаронами. Затем такая цепочка замен: макароны – кондитерские изделия – сахар – конфеты – шоколад. Сена вы не едите, но шоколад-то вам нравится? Нам тоже нравился шоколад, но обувь нужна была еще больше. Мама «отоварила» для меня зеленые парусиновые туфли с картонными стельками и подошвами из «искожи», «кожимита». (Компьютер тоже не знает этих слов, и подчеркнул их красной волнистой чертой. Они обозначали «искусственную кожу», кожзаменители, имитирующие кожу, в общем – эрзацы). Если современные эрзацы – синтетические материалы далеко превосходят натуральные, то те, военного времени, были просто никудышными. Кроме того, удивительным было само изделие: оно было сработано по марсианским колодкам – ширина пятки значительно превышала ширину ступни. О том, что такие ноги бывают только у марсиан, я додумался значительно позже, когда начал получать офицерскую обувь из прекрасной хромовой кожи, но построенную по тем же марсианским меркам – колодкам. Один раз в жизни я испытал невыразимое блаженство: надев ботинки, в которых сразу почувствовал себя «как дома». Это были купленные на толкучке немецкие солдатские ботинки со стальными шестигранными шипами на подошве. А вот из-за родной «марсианской» обуви я чуть не потерял жену, о чем – позже.
С деньгами было туго: несмотря на помощь дяди, их не хватало даже на билеты. Мы с Тамилой нашли выход: бросились в леса за черникой и голубикой. За несколько часов мы набирали почти ведро, затем продавали на маленьком базарчике. Тонкий стакан черники расхватывали по 10 рублей, и мы почти сказочно обогатились. Не знаю, почему мы не брали грибов, возможно на них не было спроса. Там на островках среди торфяных искусственных озер матово-коричневые шляпки с ярко-желтой изнанкой стояли так плотно, что их можно было косить косой как траву.
Вторая моя забота – изготовление веревок из отходов текстильной промышленности, которые использовались как ветошь. Я скручивал и заплетал рыхлые толстые нити в разных вариантах. В конце концов, мои изделия стали настолько приличными, что даже тетя Тася попросила изготовить несколько штук веревок для своего козьего отделения (трех козлят я не могу обозвать словом «стадо»).
Теперь – на Юго-Запад!
Нас подгоняло нетерпение. Наконец был сделан запас сухарей на дорогу, все упаковано, получены все необходимые документы, и мы тронулись. Дядя посадил нас в пассажирский поезд, в Москве мы уже привычно сделали пересадку на поезд Москва – Киев.
Вскоре после Москвы поезд пошел по земле, по которой недавно прокатился каток войны, иногда – по несколько раз. На откосах железнодорожного полотна ржавели остова взорванных и сожженных вагонов, цистерн, платформ, автомашин, танков. Все здания на станциях были разбиты, редкие уцелевшие стояли со стенами, изрешеченными осколками и почерневшими от копоти пожаров. Вдали проплывали деревни, раньше утопающие в садах. Их можно было узнать только по редким уцелевшим дымовым трубам и обгорелым фруктовым деревьям, окружающим невысокие кучки пожарищ. Большинство железнодорожных мостов было взорвано. Их искореженные останки лежали вблизи, а поезд ощупью пробирался по недавно построенным из бревен и камней переправам. Многие опушки лесов состояли из деревьев, на которых почти вся крона была срезана осколками, и земли, изрытой большими и малыми воронками. Можно было представить тот ад, который совсем недавно здесь бушевал…
В Киев мы приехали ранним утром. Поезд подошел к расчищенному перрону возле величественной громады развалин, которые раньше были вокзалом. Строгие военные патрули тщательно проверяли документы у всех прибывших, кое-кого уводили. Остальные, отягощенные пожитками, двинулись к вокзалу. Узенькие тропинки среди обломков бетона и торчащей арматуры вели к остаткам помещений, часть стен которых была зашита досками. Надписи со стрелками: «Военная комендатура», «Билетные кассы» направили нас в нужное место. Часа через два, отстояв очереди в комендатуру и кассы, мама закомпостировала наши билеты от Тейково до Рахнов на товарно-пассажирский поезд, который должен отправиться со второго (низкого) перрона уже через несколько часов. За нашими плечами был опыт посадки в Арыси, и мы поторопились раскинуть свой бивуак непосредственно на перроне, не надеясь на сервис носильщиков, которых не было вообще. Патруль хотел было нас прогнать, но, посмотрев на жалобную мордашку Тамилы, махнул рукой.
Киев тогда я не увидел: он был скрыт от нас громадой разрушенного вокзала. Да и зачем голодному и измученному пацану его надо было особенно разглядывать? Разве тогда, возле взорванного вокзала одного из разрушенных городов, можно было представить, что всего через пять лет этот прекрасный город станет мне родным, наполнится дорогими друзьями, и я здесь проведу целых пять счастливейших и плодотворных лет своей жизни?
Наконец подошел наш поезд. Наш вагон оказался теплушкой образца 1941 года, от которого мы уже порядком отвыкли. Быстренько, хотя и не очень, загрузились с толпой таких же бедолаг, как сами. Перрон был низкий, а пол товарного вагона – почти в мой рост. Помогали друг другу с веселыми прибаутками: до Нашего Дома оставалось чуть больше 200 километров, – это несколько часов пути! На правах первых мы заняли угол вагона; было просторно и удобно.
Поезд почему-то долго не отправляли. Затем прямо на перрон подъехал грузовик. Оттуда в наш вагон начал загружаться взвод десантников с парашютами, рациями и оружием – автоматами ППС, цинками патронов и гранатами. Вагон сразу оказался забитым до предела, а мы накрепко заперты в своем, казавшемся таким уютным, углу. Бравые десантники отправлялись в тыл врага на опасное задание (по их рассказам), были сильно навеселе и продолжили процесс увеселения в вагоне. Немедленно все женщины помоложе, в том числе мама, были окружены потрясающей, несколько настырной, галантностью. Нам предстояло узнать веселый, точнее – пьяный, лик Войны. Часа через два движения, когда на дворе была уже глубокая ночь, а наш ковчег освещали два керосиновых фонаря, веселье достигло неимоверных градусов. Мама и другие женщины с трудом отбивалась от назойливых рук, взывая к совести и чести. Тамила вжалась в угол и тихо плакала. Я старался вдвинуться между мамой и галантными вояками… Наконец, количество принятого на грудь начало переходить в качество: большинство отвалились и начали храпеть, в том числе оба «наших». Я решил использовать творческую паузу и сходить «до ветру», о чем давно уже мечтал. Кое-как выбравшись, я спрыгнул с вагона, когда поезд остановился на глухом полустанке. Возвращаясь, я попытался влезть опять в вагон, но на моем пути несокрушимой преградой встал один из не успевших захрапеть вояк. Я ему стал объяснять, что я из этого вагона. Он только покачивался, держась за перекладину в дверях. Паровоз дал гудок, лязг буферов побежал от паровоза к последнему вагону, затем поезд медленно тронулся. Я опять попытался влезть в высокий вагон. Тогда доблестный защитник Отечества лениво, но со всей силы, пнул меня сапогом в грудь. Я упал на насыпь и не мог вдохнуть несколько секунд. Сознание того, что поезд с мамой и Тамилой уходит, и я остаюсь один в ночи и неизвестно где, заставило меня вскочить. Поезд уже набрал приличную скорость. Уцепиться за товарный вагон было нереально. К счастью, в нашем поезде был один, последний, пассажирский вагон со спускающимися вниз подножками. Увы, на первой подножке уже висели два человека, и я побежал за последней, на которой был только один, точнее, – одна. Удалось ухватиться одной рукой и стать на ступеньку краешком ступни. Внезапно я почувствовал острую боль в уцепившейся руке. Это моя милая попутчица, можно сказать – коллега, пыталась меня сбить с завоеванных позиций, ударяя тяжелым двухлитровым бидоном по руке, несущей мое бренное тело. Деревенская наивность была налицо: для достижения моего сваливания следовало бить не по руке, а по голове. Я дико заорал что-то типа: «Зарежу, как собаку!!!», после чего моя спутница испуганно прижалась к двери и убрала свой смертоносный бидон. Это позволило мне закрепиться на достигнутых позициях. Дева оказалась совсем юной и толстоморденькой. Убедившись, что я ее не зарежу, она поведала мне, что страшно боится шпаны, которая совсем недавно и т. д. Услышав мою историю, немедленно прониклась сочувствием и заботливо поддерживала меня, когда я, засыпая, готов был свалиться под откос. Мы, наверное, обменялись бы визитными карточками, если бы они у нас были. На очередной стоянке я беспрепятственно влез в свою теплушку, – все вояки дружно храпели, не выставив сторожевого охранения. Парашюты и оружие можно было спокойно сгрузить с вагона… Сколько жизней отдано было из-за слабых командиров, «отрывающихся» до потери чувств вместе со своими подчиненными! Я это понял значительно позже, о чем речь впереди…
Около 10 часов утра мы выгрузились в Рахнах. Стояло погожее августовское утро. Никаких, ну – совершенно никаких, следов войны не было видно. Все дышало миром и довоенным спокойствием. Вдоль перрона сидели несколько чистеньких бабушек и торговали большими яблоками и грушами, красиво разложенными по кучкам. Неудержимо захотелось впиться зубами в эту почти забытую ароматную сочность. Последний раз мы видели маленькие зеленые яблочки на рынке в Ново Леушино. Стоила эта фруктина 30 рублей за штуку и была, конечно, недоступна. «Здесь, наверное, дешевле», – подумал я и, похрустев в кармане немногочисленными бумажками, отважно ринулся удовлетворять наши необузданные желания.
– Сколько? – спросил я, показывая на самые маленькие среди красавцев-великанов яблоки.
– Два рубля десяток, сынок, – радушно ответила бабушка. Я подумал, что ослышался, и переспросил, не веря своему счастью:
– Десять рублей две штуки?.
– Та ни, сынку, два карбованця десяток!.
Это была больше, чем фантастика. За стакан проданной черники, мы могли съесть целых пятьдесят спелых – ароматных – красивых – бесподобно вкусных – яблок!!! Мы втроем немедленно приступили к безудержному яблочно-грушевому чревоугодию, стараясь наверстать все прошлые воздержания. И некому нас было опомнить: через два часа мы уже не могли смотреть на эти удивительные фрукты…
На нанятой телеге мы ехали назад той же дорогой, которой бежали в 1941 году. Прошло чуть больше трех лет. С нами уже нет, и никогда не будет, нашего папы. Мы втроем выжили. Мы не просто стали старше, – мы стали другие…
06. Мы вернулись домой
Когда я вернусь,
– засвистят в феврале соловьи…
(А. Галич)Вред и польза от оккупантов
И мир вокруг тоже изменился, хотя здесь кажется, что войны совсем не было. С жадностью вглядываемся в знакомые пейзажи, дома, деревья, дороги. На первый взгляд – все как было три года назад. Только небольшая зеленая станция Рахны превращена в огромный склад оружия. Рядом с железной дорогой километра два занимают непрерывные штабели стрелкового оружия, немецкого и нашего, различных боеприпасов, пушек разной величины. На платформах зенитных установок, как на карусели, катаются мальчишки. Наверное, это был не настоящий склад, а некий пункт, на который свозили все трофейное и поврежденное оружие. Эта пещера Аладдина существовала около года после нашего возвращения и почему-то никем не охранялась. Только божьим промыслом я и близкие друзья остались живы рядом с такими сокровищами. А многие погибли или стали калеками. Но об использовании военной техники и оружия в мирной жизни речь еще впереди.
Все так же величественно и привольно стоят могучие липы вдоль шоссе. Не сразу замечаешь, что одна из многих наполовину сгорела и возле нее горелый остов автомобиля, еще дальше – могучий ствол разворочен взрывом, и липа погибла. Вне шоссе никаких следов войны не было. Даже наоборот: некогда грунтовая дорога была весьма прилично засыпана шлаком и укатана. Вокруг завода появилась высокая ограда из неизвестного материала. Позже выяснили, что ограда, как и многие сооружения, отлиты по технологии оккупантов из того же шлака и извести. На железнодорожной ветке, идущей к сахарному заводу, посредине появился третий рельс. Теперь по этой дороге могли ходить не только обычные, но и узкоколейные поезда…
О других изменениях мне придется рассказать, суммируя и повторяя рассказы очевидцев. В 1941 году после ухода из села Советской власти (оккупанты еще не пришли) самая активная часть трудолюбивого крестьянства приступила к тотальному разграблению сельмага и сахарного завода. Те, которые не успели к дележу самого лакомого, принялись за родные колхозы. И это происходило на моей Украине, где слово «злодiй», эквивалентное русскому «вор», а отнюдь не «злодей», считается самым позорным! Это на Украине, где хаты запирались деревянным запором рукой через дырку в стене, и только для того, чтобы туда не вскочил поросенок, и чтобы показать посетителям, что хозяев нет дома. Почему проснулись темные инстинкты? Может быть, это общее свойство человека, – стоит вспомнить грабежи и погромы в Нью-Йорке, когда там была энергетическая авария и везде погасло освещение? Может быть, потому, что «общее» – это «ничье»? А может потому, что на Украине слишком хорошо еще помнили раскулачивание и коллективизацию, когда была уничтожена самая трудолюбивая и самая трудоспособная часть крестьянства? А может быть потому, что совсем недавно был великий голод 1933 года, когда весь хлеб просто отняли? Скорей всего – действовали все причины одновременно. Понять – значит простить…
Моей малой родине несказанно повезло, причем несколько раз. Первый раз – оккупация произошла без боев. Где-то далеко замкнулся мешок окружения, и власть сама упала, как перезревший плод. Второй раз – она попала в румынскую зону оккупации. Беззаботные румыны поставили в Деребчине комендатуру из нескольких человек, которые воспринимали свою миссию весьма своеобразно. Утром, рассказывают, можно было видеть вооруженного румына, который провел ночь у любезной вдовы. Румын был сыт, пьян в стельку, волочил свою винтовку по пыльной дороге и распевал во весь голос румынский национальный гимн. Гимн этот разучивали в школе, и даже я от своих рассказчиков знал несколько строк. В немецкой зоне оккупации о таких либеральных порядках и думать было нельзя. А немецкая зона оккупации была совсем рядом: в Виннице, как мы узнали и увидели потом, находилась ставка Гитлера. Третий раз Деребчину повезло при освобождении. Отделение бойцов без единого выстрела разоружило пьяную румынскую комендатуру и своим ходом отправило ее сдаваться в плен. Случайно застрявшее в хате на окраине отделение немецких солдат начало было отстреливаться, но их просто забросали гранатами и пошли дальше. Был 1944 год. Воевать уже научились смело и размашисто…
Румыны, кроме пьянства, все-таки занимались и делами. Это они заставили улучшить дороги шлаком, показали способы строительства из смеси извести и шлака – шлакобетона, поставили третий рельс на широкую колею, чтобы не перегружать узкоколейные вагоны с сахарной свеклой. Они сохранили колхозы, как самую удобную форму хозяйства, у которой можно забрать весь производимый продукт. Работал также сахарный завод под их управлением. Самое занимательное состоит в том, что работающему населению они ничего не платили. Поэтому банальное воровство ставало не только единственным способом выжить, но и патриотическим долгом ослабления оккупантов. Однако народ так размахался на этой ниве, что уже не мог остановиться. Когда вернулась советская власть, многие попали под действие так называемых «законов о трех колосках», когда за, можно сказать – микрокражи, людей приговаривали к длительным срокам отсидки. Анекдот-быль тех времен. Многодетную мать судят за хищение 100 граммов сахара, по закону ей причитается большой срок заключения. Женщина-судья, сама мать, чуть не плача, спрашивает подсудимую:
– Ну, зачем, зачем Вы это сделали?
– Ой, пани судья, если бы Вы видели, какая там большая куча, Вы бы сами взяли!
Свои стены, свое имущество
В свою хату мы вселились через неделю: кого-то оттуда выселяли. Соседи и знакомые нас радостно приветствовали и вернули нам оставленное имущество (оставленное – ими, для возвращения – нам): детали будильника, завернутые в тряпочку, и книгу – Библию. Остальное имущество – одежда, обувь, посуда, мебель, огромная библиотека и много другого – было безнадежно «приватизировано» неизвестными, говоря современным языком.
Особенно меня обрадовала Библия, которую раньше никогда не приходилось читать. Это была старинная книга, отпечатанная в две колонки мельчайшим, очень четким шрифтом. Книга включала в себя Ветхий и Новый Заветы, Евангелие, псалтыри, Жития святых и еще много вещей, которых я уже не помню. Каждую свободную минуту я использовал для чтения. Передо мной открывался новый, совершенно незнакомый мир образов и идей. Ставали понятными многие книги, картины. Библию надо было знать, даже будучи атеистом, если хочешь быть просто грамотным человеком, – решил я про себя. К сожалению, саму эту драгоценную книгу у меня подло украли, когда я дал почитать ее своей однокласснице – Зое Полуектовой. Мне не хватило характера пристать к ней «с ножом к горлу», требуя возвращения книги. Конечно, сейчас у меня есть новое издание Библии, может быть, даже более полное, с приложением карт, – ее купила за большие деньги и подарила мне дорогая моя теща. Но ту старую, отцовскую, чудесным образом пережившую войну, до сих пор не могу забыть и простить вора.
У будильника, шестеренки которого нам вернули в тряпочке, тоже была яркая судьба. Путем многочисленных проб и ошибок мне удалось его собрать, но на последней операции повредилась спиральная пружинка балансира. Очень долго пытался ее завить «как надо», но не смог. Отчаявшись, рассмотрел чужие «ходики» с маятником, и припаял самодельный маятник к балансиру будильника вместо пружинки. Часы, на удивление даже «творцу», пошли, но потребовали точного положения по вертикали. Я сделал специальную подставку на стене, и круглый стандартный будильник начал весело отсчитывать наше время, удивляя знакомых. Внизу будильника необычайно быстро качался маятник, вырезанный из банки американской свиной тушенки. Заводить будильник раз в сутки и правильно устанавливать его на «насест» могли только я и Тамила. Поскольку и часы, и собственно будильник, работали очень точно, мама с уважением смотрела на своих механиков, напоминая: «Пора заводить!», если мы забывали об этом. Часы эти работали несколько лет, пока маме на день рождения коллеги не подарили более удобные часы. Мы с Тамилой не без доли злорадства отметили, что ходят они не так точно, как наши, а звонят вообще противным голосом…
Надо было обживаться по-новому на старом месте: жить, одеваться, питаться, отапливаться и освещаться, ходить в школу. С харчами стало немного легче: картошка, во всяком случае, была, кое-что удалось собрать на оставленном нам огороде. Очень, например, нам помог большой урожай слив, от которых мы давно отвыкли. Яблоки, груши можно было купить очень дешево, и мы начали их сушить по казахстанскому опыту.
Дефицит всего остального, требуемого для жизни, был беспросветный, и не только у нас. Первое дело – одежда. Тканей не было никаких. Оккупанты перед бегством завезли большое количество мешков для затаривания награбленного сахара и зерна. Это богатство очень пригодилось изобретательным землякам. Из рогожных мешков, сделанных с немецкой добротностью, получались отличные костюмы. Никого не смущало то, что на заднице или рукаве при этом мог красоваться несмываемый немецкий орел со свастикой, или кусок надписи на вражеском языке. У тех, кто не имел доступа к вражеской таре (в их числе были и мы), и на парадной и на повседневной одежде продолжали множиться заплатки. Вся изношенная одежда не выбрасывалась: она пряталась, чтобы в надлежащий момент превратиться в заплату, которая была бы «в тонус», как говаривала одна дама, латаемой одежде. Крафт-мешки из нескольких слоев плотной коричневой бумаги тоже очень ценились и в прямом назначении и как неиссякаемый источник писчей бумаги. Чернила не расходились на плотной бумаге, из мешков изготовлялись отличные тетради. Писать на такой бумаге, по сравнению с письмом поверх газетного или книжного текста, было одно удовольствие, хотя толщина листов навевала воспоминания о письме на египетских папирусах.
Топливо все так же оставалось главной заботой, теперь уже персонально моей, как профессионального Лесоруба и Конструктора транспортных средств доставки. Увы, лес был очень далеко. Кроме того, бесхозного бурелома там просто не было – трудолюбивые бабули подбирали каждую упавшую веточку и транспортировали их на персональных горбах к семейным очагам. Нельзя было собирать и кизяк, как в Казахстане: весь навоз шел на огороды, да и сохнуть ему быстро не позволял климат.
Оставался единственный выход: лесозаготовки. Сельсовет проводил рубки на выделенных участках грабовых лесов. После валки все деревья тут же разделывались. Ствол распиливался на бревна длиной полтора метра и складывался между кольев. Это были «стосОвые» дрова, принадлежащие сельсовету. Они предназначались для отопления больницы, школ и т. п. Ветки («гиляки») тоже складывались в кучи высотой один метр между столбами с таким же расстоянием, образуя «складометр». Все «складометры» дров принадлежали лесорубам, которым больше ничего не платили. Мне удалось устроиться в бригаду лесорубов, благодаря хорошей памяти об отце. Меня по малолетству не очень хотели брать, но один из лесорубов сказал: «Так это же сынок Трохыма Ивановича!», – и вопрос мгновенно решился. Я очень старался не уронить высокое звание «сынка», кроме того сказался опыт ивановских лесозаготовок: топором и пилой я пользовался почти как ложкой – без страха и уверенно.
За десяток дней работы от зари до зари я получил персональных два «складометра» отличных дров. В виде награды за ударный труд мужики в мои складометры, впрочем – как и в свои, напихали достаточно нестандартных бревен. А вот телегу для доставки дров мама выпросила в колхозе, заплатив символическую сумму. Вознице был обещан «магарыч». Дед произнес: «Само собой. Только не бери самогон у Параски: разводит водой, зараза!». На двух лошадках мы за день сделали две ходки, и вопрос топлива на зиму был закрыт. Лошадки, кстати, были «электрифицированные»: их упряжь была искусно сплетена из немецких телефонных проводов с разноцветной виниловой изоляцией.
Друзья старые и новые
В первые же дни после приезда я с радостью встретился со своими довоенными друзьями: Витей Бондарчуком, Броником, Васей Войчуком. Все они были мои «годки». После первых встреч, разговоров, воспоминаний, – мне стало казаться, что они маленькие еще, а я уже старый, и говорим мы на разных языках. Мне было интересней с ребятами старше меня: Колей Пинчуком, Витей Вусинским. Да, пожалуй, дело было даже не в возрасте: просто это были очень яркие увлеченные люди. Оба ушли очень молодыми. Возможно, у меня хватит времени рассказать хоть немного о них.
Самым близким другом на много лет мне стал Толя Размысловский. Он старше меня на два года. Наша дружба началась в 1944-м, и продолжается до сих пор. Я еще не раз напишу о нем. Толя выделялся из сельского общества своей начитанностью и грамотностью. Книги он глотал все, которые можно было добыть. Его речь в то время казалась какой-то сложной, напыщенной, изобиловала сложными оборотами и старинными полузабытыми словами. Очевидно, это был слепок с какого-нибудь понравившегося ему романа. Его несомненный юмор был настолько тонок, замысловат и вычурен, что сельские ребята, не отягощенные образованием, его просто не понимали, за что и уважали. Характер у него тогда был замкнутый, но за внешней суровостью и нелюдимостью скрывалась легкоранимая и чувствительная, даже сентиментальная, натура. Он обладал великолепным слухом, легко запоминал мелодии и звуки чужой речи. Я от него научился петь многие неизвестные и известные песни. Когда он изображал немцев с их выговором, я думал, что это пародия. Значительно позже я понял, что именно так говорят настоящие немцы. Одним словом, Толя имел все задатки, чтобы стать выдающимся гуманитарием, знатоком литературы, языков, искусства, культуры… Он стал паровозным машинистом. Водил тяжелые поезда в Сибири и на Украине. На пенсии обосновался в зеленом городке Коростень, недалеко от Чернобыля, мирно растил дочек и огурцы. Во время чернобыльской катастрофы оказалось, что только старинные паровозы могут вплотную подойти к пылающему реактору. А паровозные машинисты уже вымерли как класс. И вот пенсионер Анатолий Николаевич Размысловский расконсервировал стоящий в госрезерве паровоз и стал почти круглосуточно подвозить материалы прямо в атомное пекло для укрощения пылающего реактора…
Анатолий Размысловский в 1949 г.
Одно событие далекого 1937 года изменило возможную судьбу моего друга. Его отца, крупного хозяйственника(?), арестовали как «врага народа» и расстреляли. Мать осталась с тремя детьми (Толя – средний) без всяких средств к существованию. Нищета была потрясающая. Хорошо, что осталось хоть жилье: власти оттяпали только половину большого дома под «железной» крышей в центре Деребчина. Только мать знает, как ей удалось сохранить и вырастить троих детей: никто не был сдан в детдом, не пошел в бандиты или на паперть. Но дорога в ВУЗ для них была закрыта по определению. Хорошо еще, что сами не загремели в один из лагерей для семей врагов народа. Вот что написал мне по почте в Интернете мой друг Толя Размысловский в 2006 году:
По поводу отца. Я себя начал помнить с того момента, как на улицах по утрам находили трупы. Это было в Мурафе, и это был год 1933-й. Отец работал каким-то специнспектором в Шаргородском райпотребсоюзе, контора которого находилась почему-то не в Шаргороде, а в Мурафе. Что он был этим самым инспектором, я узнал из фотографий тех времён, где под его фото была надпись «специнспектор Размысловский Н. И.».
Затем, уже где-то в году 1936, его перевели в Деребчин главным бухгалтером местного сельпо. Оттуда его и забрало НКВД в декабре 1937 года. Дом он купил у одного еврея (кажется, Аарона). У отца была библиотека. Но всё это было конфисковано, и дом тоже. Но дом нам потом в 1939-м году возвратили. Обвинили отца в том, что он был в войсках Украинской Народной Республики (т. е. у Петлюры).
Это потом оказалось ложью, но пока это всё всплыло наружу, много таких, как он, успели расстрелять в Виннице.
Вот и всё, что я об этом знаю. Мне кажется, что в те времена была тенденция избавляться от людей грамотных, интеллигентных под любым предлогом. Ибо эти люди видели просчёты власть имущих в деле строительства «светлого будущего». Вождь всех времён и народов избавлялся от своего окружения. Вожди помельче – от своего. Ладно, не будем об этом.
В седьмом классе, в котором я начал учиться в сентябре 1944 года, почти все были переростками: три румынских «класса» не засчитывались. Два парня уже были покалечены войной, в основном из-за неумеренного любопытства к взрывоопасным предметам. Общество собралось разношерстное, вполне взрослое и любознательное. Например, такая сценка: молодая симпатичная учительница Зоя Столярчук вдруг замечает, что вся мужская часть класса спряталась под парты. Через какое-то время она начинает понимать, что именно она «интересно» сидит, и класс с восторгом разглядывает ее прелести. Зоя становится пунцовой, садится по-другому, урок продолжается.
В седьмом классе нас поразила эпидемия чтения на уроках. Кто-то из наших ребят на чердаке тетушки нашел огромные залежи «Нивы» и приложений к ней. Главные писатели в приложениях, как мы тогда определили, были Дюма, Фенимор Купер, Генрих Сенкевич. Тетка выдавала по одной книге. На «Королеву Марго», «Графиню Монсоро», «Сорок пять», «Прерия», «Следопыт», «Последний из могикан» и другие книги был установлен жесткий график, который часто, увы, срывался: времени уроков не хватало, а дома хватало других занятий, да и скорость чтения у всех была различной. И вот кто-то из нас придумал смелое решение: разодрать книгу на мелкие пронумерованные тетради. Способ был варварский, но сверхэффективный: теперь весь класс одновременно мог читать одну книгу. За некоторые «тягомотные» уроки можно было прочесть 2–3 тетради. Чтобы прочесть недостающую часть трилогии Сенкевича «Огнем и мечом», пришлось даже слегка изучить польский алфавит и язык (многие польские слова становятся понятными, если их правильно прочесть).
Конечно, читалось не на всех уроках. Необъяснимым образом ученики мгновенно «тестировали» учителя и определяли свою линию в дальнейшем общении. Выстрелов шариками по лысине учителя уже не было: все стали старше, но предаваться упоительному чтению на «пустых» уроках – святое дело. Очень хорошо проходили уроки у мамы. Она преподавала алгебру так интересно, что почти все полюбили эту науку. Помню начало. После переклички, мама предложила решить задачку. Встречается гусь со стаей и здоровается:
– Здравствуйте, сто гусей!
Те отвечают:
– Нас не сто. Вот если бы еще столько, да еще полстолько, да еще четверть столько, да ты с нами, – вот тогда бы была сотня!
Так сколько же было гусей? Класс углубился в перебор вариантов, но ничего не получалось. Тогда учительница Евгения Семеновна, очень доходчиво обозначив число гусей через икс, прибавила к нему все высказанное стаей. Решить такое уравнение – уже детская задача.
Кстати об уравнениях. Через год, когда я уже работал на заводе, мой друг и учитель премудростям кузнечного и литейного дела Миша Беспятко с деланно безразличным видом задал мне задачку на тему: если я тебе отдам одно яблоко, то будет…, а если ты мне отдашь два, то станет… Сам он решал эту задачку несколько дней, решил ее, и очень этим гордился. Он заранее предвкушал, как я буду мучиться, и как он придет мне на помощь, открыв Истину, как бывало обычно, когда он учил меня рабочим премудростям. Я на клочке бумаги написал два уравнения, решил их и через несколько секунд выдал ему ответ. Миша начал меня разглядывать с каким-то ужасом, как будто у меня вместо одной головы выросли три. «Как ты это сделал?», – наконец смог он спросить. Я объяснил. «Ты меня научишь?». «Конечно, Миша, ты ведь меня тоже учишь!». О Мише, интересном и талантливом человеке, я еще напишу.
Одним из наших учителей в школе был еще довоенный, работавший вместе с отцом, учитель Ялонецкий. Теперь я даже не помню, что он нам преподавал, кажется, – немецкий язык и еще что-то. Он был участником еще той войны, когда мы освобождали Западную Украину. Тогда по глупости я все добивался от него «боевых эпизодов». Великую Отечественную он как-то благополучно «проскользнул» и возвратился на круги своя. Запомнился он своими речами, например:
– Сядь, голубе, та сядь, голубе! Ти ж дурний, та ти ж дурний, як сало без хлiба, та як сало без хлiба!».
Может, он ничему нас не научил, зато я на всю оставшуюся жизнь запомнил, что сало без хлеба – «дурне».
Самой колоритной и незабываемой фигурой в нашей школе, несомненно, был военрук Василий Леонтьевич. Я очень умышленно не называю фамилии, опасаясь мести его потомков, или его самого, дай бог ему здоровья, если жив. Василий Леонтьевич (Лявонтиевич) был из сержантов, то есть рядовых, воевавших честно и инициативно. Образование у него было незаконченно-неполно-среднее. Жил бы он спокойно и размножался с аппетитом, если бы сам Диавол не толкнул его на педагогическое поприще, на котором он основательно истрепал нервы и пошатнул собственное, дотоле крепкое, здоровье. Поскольку мы с Толей были главными «шатальщиками» его здоровья, то начать придется издалека.
Вооружаемся. Наш военрук – лучший в мире
Мы зачастили в Рахны. Неохраняемый двухкилометровый склад оружия нас неудержимо притягивал. Из боеприпасов нас привлекали толстые макароны артиллерийских порохов: ими можно было отлично растапливать печку. Капсюли-детонаторы мы использовали вместо хлопушек. Их надо было завернуть в тлеющий материал и оставить на пути следования того, кого желаешь развеселить. Очень хороши были снарядики от авиационной пушки. Трассирующие удобно было бросать в костер: они давали яркую красную вспышку. А вот в бронебойных среди свинца был очень полезный инструмент – твердый стальной сердечник, которым можно было накернить или пробить любую железяку. (Мне такой инструмент был очень нужен: я отремонтировал один замок и немедленно был завален соседскими поломанными замками). Часами бродили мы по складу, выбирая себе достойное личное оружие. Артиллерийские и зенитные системы мы сразу отвергли, как недостаточно компактные для наших жилищных условий. Хотели было заиметь немецкие пулеметы Maschinengewehr, к которым даже была уйма запасных стволов, но уразумели, что у нас будут трудности со снабжением боеприпасами. Аналогичное положение было и с автоматами и пистолетами, которые, кроме того, все оказались неисправными.
Наши игрушки
Как люди практичные, мы остановили свой выбор на русской трехлинейной винтовке Мосина, образца 1891/30 года. Боеприпасов к ней было вдоволь, конструкция известная мне до боли еще по начальной школе в Казахстане, где мы часами разбирали – собирали затворы. Устраивал также магазин из пяти патронов: война кончалась, и незачем было палить очередями. Известные тяжесть и громоздкость оружия мы решили исправить собственными конструкторскими доработками, что и было проделано на чердаке у Толика. Стволы были решительно укорочены на две трети. Из деревянных приклада и ложи остался лишь небольшой кусочек с ложбинками, где винтовку поддерживают левой рукой. Вместо шейки приклада были изготовлены рукоятки как у автомата ППС. Получилось весьма компактное оружие, размером и весом не намного больше маузера. Боевые испытания показали, что стреляет оно оглушительно, пробивная способность пули на расстоянии 100 метров выше всяких похвал. Вскоре оружие нам остро понадобилось, но об этом чуть после: надо окончить рассказ о военруке.
Он стал нам читать развернутые лекции! На разные военные темы, одна другой лучше. Началось с отравляющих веществ. Водя пальцем по изысканному где-то плакату, читая чуть ли не по слогам, он нам пересказывал сведения из плаката, заодно умудряясь их перевирать!
– Иприт имеет запах прелого сена, – торжественно провозглашает он.
– Чеснока, – бурчу я, не отрывая глаз от «Королевы Марго» под партой.
– Нет, прелого сена! – взвивается военный руководитель, тыча пальцем в плакат. К учительскому столу выходит Толя, находит графу «Иприт» и громко, по слогам, читает:
– Иприт имеет запах чеснока. Запах прелого(?) сена имеет люизит.
Класс стает на уши. Кто-то задает вопрос, какой идиот, понюхав иприта и люизита, смог рассказать оставшимся жить об их запахах? Начинается такой базар, что малыши, через класс которых мы проходим в свой, прекращают урок и, не слушая растерявшуюся учительницу, прилипают к стеклянным дверям.
Следующую тему о Красной Армии наш несравненный военрук решил рассказать своими словами, не доверяя трудно читаемым плакатам.
– В 1940 году финны забрались на сопку Заозерную и начали оттуда обстреливать Ленинград и Сталинград, – начал он лекцию. Класс притих и дружно раскрыл рты.
– А что Сталинград и Ленинград недалеко друг от друга? – смог кто-то выдохнуть.
– Да, они рядом, – уверенно заявляет наш стратег.
– А где же тогда Саратов? – спрашивает Толя первое, что приходит на язык.
– А Саратов – вовсе на финской территории, – без тени сомнения заявляет наш военный руководитель.
Финны на сопке Заозерной
Класс взревел так, что малыши из проходного класса просто ввалились в наш и, раскрыв рты, созерцали, как катаются по партам «взрослые дяди»…(Во все это трудно поверить, но я пишу не юмористические рассказы, а автобиографию, и у меня есть свидетели). И вот этот редкостный знаток военного дела заявляет, что на следующем занятии мы будем изучать мины. «Надо, по крайней мере, обеспечить учебный процесс наглядными пособиями», – подумал я.
Очень скоро, по совершеннейшей глупости, я начал осуществлять задуманное. В Рахнах я прихватил снаряженную взрывателем 120-миллиметровую мину и потащил ее в Деребчин. Мина весила килограммов 6–8, нести ее под рукой было тяжело, черный нос взрывателя с прозрачным донышком угрожающе наклонялся к земле. Тогда я снял рубашку, довольно ветхую, положил туда мину и так донес ее до дома, прячась от мамы и Тамилы. Везет не только пьяным, но и дуракам: мина не выскользнула и не размазала меня в пространстве.
На следующий день я пришел в школу пораньше и положил мину под парту. Она спокойно лежала там несколько уроков, дожидаясь лекции нашего военного ученого. Когда он начал объяснять, что мины бывают и для миномета, я вытащил из-под парты свое наглядное пособие и положил его бывшему сержанту на стол.
Такого эффекта не мог предвидеть никто. Едва взглянув на взрыватель, наш доблестный военный руководитель рванул к окну, распахнул его одним ударом, вскочил на подоконник и сиганул вниз с довольно приличной высоты бельэтажа. Все случилось настолько быстро, что все замерли с открытыми ртами.
Эффект наглядного пособия
Сначала до меня начал доходить комизм случившегося, от которого хотелось ржать, затем – невероятная глупость содеянного и опасности для всех, отчего хотелось, по крайней мере, задуматься. Что я делал первым, что вторым – не помню. Военрук внизу не просматривался, значит, приземление прошло удачно. Направление его движения было неизвестно, что нам делать после его бегства – тоже непонятно. Класс молчал, с опаской поглядывая на хвостатую смерть. Через минут десять вошел директор Редько и расставил всех по местам: меня – в учительскую, учеников – по домам, мину – какому-то военному представителю.
Надо мной опять нависла угроза исключения из школы. Я искренне покаялся и был прощен. Васю-сержанта куда-то убрали. Мама говорила, что мои выходки ей добавили много седых волос. Одна Тамила втайне гордилась мной, рассказывая подружкам, что ее любимый Колька хотел взорвать школу…
Взгляд из будущего. Где-то в конце шестидесятых годов на военном «козлике» я объезжал ракетные старты, которыми мы усеяли всю Прибалтику. Тогда массовые ракеты не летали еще далеко, и мы их натыкали как можно ближе к границам НАТО. Переезжая в Латвии через мостик маленькой речушки, я заметил в руках мальчика некий знакомый предмет. Я велел водителю остановиться, выскочил из машины, очень спокойно поздоровался с ребятами и попросил их подарить или продать мне ЭТУ штуку. Малыш охотно подарил мне вымазанную илом мину и предложил мне взять еще, если они мне так нравятся. Я оглянулся. На бережке просыхали еще десяток хвостатых 50-ти мм мин, которые ребята выуживали из ила под мостом. Я велел ребятам идти по домам, они беспрекословно повиновались (на мне была черная морская форма, весьма напоминающая эсэсовскую) и послал водителя за властями, чтобы разминировать опасное место. Надеюсь, в небесной канцелярии мне хоть частично скостили мой долг за деребчинскую мину…
А вот наше стрелковое оружие чуть не выстрелило еще громче. Ходили мы с Толей на станцию, где разгружали уголь для завода. Уголь был из Силезии, курной, и хорошо горел в обыкновенных печках. На путях и рядом после разгрузки можно было собрать пару ведер угля, совсем не лишнего в холодную зиму. Не брезговали мы и крупными кусками из еще неразгруженных платформ. Однажды за таким занятием нас застукал хромой Илюша Шевченко, какой-то начальник в заводской охране. Несмотря на наше сопротивление, он затащил нас в комнату охраны. Держал там нас он несколько часов, затем избил и пинками здоровой ноги вышвырнул из помещения.
Решение наше было единодушным и непреклонным: убить гада. План был тщательно разработан. Гад (по другому теперь мы его не называли) всегда возвращался домой поздно вечером, после кино в заводском клубе, через мост вблизи Толиного дома. Засада была предусмотрена в близких кустах с обеих сторон дороги. Намечен был видный ночью камень на дороге, по достижении которого Гад отправлялся в мир иной одновременными выстрелами с двух сторон. Промах почти исключался из-за близкого расстояния, но было предусмотрено и добивание двумя выстрелами в упор. Были разработаны пути ухода и, на всякий случай, – перепрятывание оружия. О том, чтобы его, по примеру современных киллеров, бросить, – и мысли не возникало: потеря оружия, знали мы, – тягчайший грех.
Намеченные обстоятельства: кино и присутствие на нем Гада, произошли уже через несколько дней. Мы, не досмотрев фильм, смылись раньше, вооружились и залегли в облюбованных точках. Шаги хромого Гада («рупь – двадцать» по нашим дразнилкам) мы услышали издалека, но на этот раз он шел не один: его под ручки вели две женщины. Стрелять было нельзя, и мы скрепя сердце отложили казнь. Следующее совпадение обстоятельств произошло через пару месяцев, но к тому времени мы немного остыли, а главное – стали старше на целых два месяца и великодушно разрешили инвалиду Великой Отечественной Илье Шевченко продолжать жить.
Взгляд из будущего. Через несколько лет, уже будучи студентом, я со смехом рассказал Илье, на каком тонком волоске висела тогда его жизнь. Он задним числом испугался и сказал: «Вот так иметь дело с пацанами!», и попросил прощения за прошлое свое недомыслие. Однако Илье видно было в книге судеб записано погибнуть насильственной смертью: его из ревности зарубила топором собственная жена. Спи спокойно, Илюша, ты был не самым плохим человеком, защищая Родину и сберегая социалистическую собственность. Спасибо тебе, Господи, что Ты не допустил, чтобы Твоя воля исполнилась руками двух юных олухов!
Комсомол – школа молодых
Где-то к началу декабря в школе появился инструктор райкома комсомола – молодая симпатичная девушка и завизжала от удовольствия: у нас был «большой контингент неохваченных», т. е. таких, которые по возрасту могли быть комсомольцами, но таковыми не были. Она – охватила. Приняли сразу человек 10, чтобы создать свою организацию. Почему-то, когда возник вопрос: кому рулить – большинство показало пальцами на меня. Я вяло отнекивался, но тщеславие распирало меня: доверили. В дальнейшей моей жизни меня часто ловили на удочку особого, личного и т. д. доверия, чтобы навесить на горб еще какую-нибудь ношу (однажды мне поручили даже стать банкиром!)…
Правда, тогда комсомол гремел всякими подвигами – и на войне, и в труде. Да, и вообще, – все интересное и боевое было в комсомоле. Если молодой человек не в комсомоле, не со всем народом, – значит он контрик, баптист или имеет еще какую-нибудь неведомую ущербность. Просто без этого нельзя было тогда жить.
Я начал крутиться в новой должности: проводил собрания, кого-то «разбирали» за плохую успеваемость, кого-то – за дисциплину. Запомнилось такое комсомольское поручение райкома: собрать куриные яйца для детдомов. Со товарищи мы развернули бурную деятельность и набрали две корзины, что было очень непросто в то голодное время. Хранить их долго было негде. Вдвоем с одной девушкой мы на собственном горбу, пешком, понесли эти две корзины за 22 км в райком. Основную ношу, естественно, тащил я, как человек облеченный доверием. Было голодно, но съесть пару яиц для собственного подкрепления, – и мысли не возникало. В райкоме мы добавили наши две корзины к большой куче и с чувством исполненного долга налегке отправились в обратный путь.
Мы свято верили, что райком так же переправит драгоценный харч по назначению, а не превратит его в яичницу для собственного потребления. О таком разложении, которое позже показали в кино «ЧП районного масштаба» и подумать было нельзя: партия бдительно смотрела за своим молодым резервом, отбирала инициативных, грамотных, работоспособных, – затем растила и двигала их все выше и выше…
Взгляд из будущего – обзор моих подвигов на политическом поприще
В принципе – все так и было, наверное, пока сама партия не начала загнивать – с головы, конечно. Когда я перечислял требования к отбору лидеров, которые производила партия, я лукаво упустил один из самых главных: покорность, полная управляемость этих «выдвиженцев». У меня с этим делом было туго. По некоторым качествам я «выдвигался», избирался на довольно высокие места в комсомольской и, позже – партийной иерархии. Затем, с неотвратимой регулярностью, я восставал против какой-нибудь тупорылости или подлости, и система низвергала меня обратно в нулевое состояние. Я надеюсь рассказать еще об этих метаморфозах… Был бы умнее, – дослужился бы до Генсека районного масштаба.
Отца уже нет в живых…
В трудах и заботах прошла зима 1944 – 45 годов. Нам перестали выплачивать пособие как семье красноармейца. На наш запрос в Москву, оттуда пришло извещение, что ответ будет дан через военкомат. В военкомате сообщили, что отец осужден Военным трибуналом, без всяких подробностей и причин. К тому времени его уже не было в живых… Какие-либо попытки, узнать хоть что-нибудь о его судьбе, неизменно оканчивались ничем.
Передо мной и Тамилой закрывались все двери будущего. На семейном совете было принято такое решение: везде, всегда, во всех анкетах, которых тогда заполнялось великое множество по любому поводу, писать одно: «отец ушел воевать в 1941 году, сведений о нем не имею». Этим мы не отрекались от тебя, дорогой наш папа. Просто мы знали, как приходится жить детям «врагов народа» и таким наивным способом пытались защититься. В целом наше утверждение соответствовало истине: никаких официальных сведений о судьбе отца мы действительно не имели. Не имею их и теперь – я, единственный пока живой из нашей семьи. На запрос полковника Мельниченко Н. Т. о судьбе рядового Мельниченко Т. И. архив родного Министерства Обороны ответил, что сведения не сохранились… Что же – мы жили в стране, где миллионы людей исчезали бесследно…
Взгляд из будущего, некоторые аналогии. Мой кузен Володя Мельниченко, ныне капитан первого ранга в отставке, где-то в году 1965 блестяще оканчивал ВВМУРЭ. Практику он проходил в Москве в ГРУ и имел 100 %-ную уверенность, что туда получит и назначение. Однако просунулась чья-то «волосатая рука», и это назначение получил «средненький» товарищ, а Володя – на Северный флот. В знак протеста Володя порвал чертежи дипломного проекта, тянувшего на кандидатскую, и на следующий день готовился перед строем демонстративно сорвать только что врученные лейтенантские погоны. К счастью, он пришел ко мне, уже подполковнику, поделиться своими планами. Его глаза горели, он уже отчетливо представлял эффект своих действий. «Ну и что будет дальше после твоего идиотского представления?», – спросил я его. И объяснил, что двери будущего закроются не только перед ним, что было бы вполне справедливо за проявленную глупость, но и перед его детьми и внуками, которые уж точно ни в чем не виноваты… Я ему сделал такое «вливание», что он в течение ночи при помощи друзей восстановил чертежи, прошел защиту дипломного проекта и все построения – поздравления – вручения. Жизнь и карьера его сложилась вполне благополучно, хотя он чуть не утонул вместе с подводной лодкой подо льдами Северного полюса. Его сын – молодой ученый…
Пришла долгожданная весна Победы – конец Великой Войны – время больших надежд на лучшую жизнь. Сам День Победы мне почему-то не запомнился: радио не было, и про капитуляцию Германии мы узнали только на второй или на третий день.
Приближалось окончание школы. О сдаче экзаменов за седьмой класс ничего не помню: то ли они прошли без всякого напряжения, то ли нам просто поставили в аттестат оценки за четверть. Все мысли были о будущем. Бывшая наша средняя школа после войны превратилась в НСШ – неполно-среднюю. Восьмого класса уже не было, так как не было ни учителей, ни учеников, ни штатов. Несколько моих одноклассников отправились продолжать учебу в Мурафу – местечко километров за 12 от Деребчина. Там они снимали углы или комнаты, продукты возили из дома. Такой вариант для меня исключался: ни денег, ни одежды, ни продуктов для содержания оторванного от дома студента без всякой стипендии – у нас не было. Мама получала копейки, маленькую Тамилу еще надо было поднимать.
Оставался один выход – идти на работу. В разваленный до основания колхоз идти было бессмысленно: пока палочки трудодней превратятся в нечто съедобное – уже некому будет кусать. Оставался сахарный завод. Платили там, таким как я «черным специалистам», – копейки, но и они были нужны. Но главное – на заводе по карточкам рабочим давали по 500 граммов хлеба, от которого мы опять стали отвыкать после ивановских торфяников. И еще: рабочим ежемесячно выдавали стимул. Загадочным иностранным словом обозначались отходы сахарного производства – патока, в которой уже не было сахара. Мне известно только одно (но какое!) применение этого «стимула»: изготовление самогона. В принципе – самогон можно добывать из чего угодно, даже из табуреток. Мои земляки добывали его из производных сахара. Низший сорт самогона «бурячанка» изготовлялся из сахарной свеклы, высший – из драгоценного сахара. Из патоки изготовлялись промежуточные сорта самогона, но знатоки ценили их даже выше сахарных за особый аромат. Поэтому «стимул» являлся всегда ликвидным продуктом и даже свободно конвертируемой местной валютой. На заводе стимул выдавали почему-то в старинных пудах: минимум – полпуда (8 кг), максимум – полтора пуда –24 кг. Из килограмма патоки получалось две пол-литровые бутылки самогона (исчисление конечного продукта велось только в полулитрах).
На следующий день после прощания со школой я уже работал на заводе. Ко дню официального перехода из детства в рабочий класс мне уже исполнилось 13 лет и 10 месяцев.
Уже во время работы на заводе я где-то прочитал объявление о наборе учеников в КВАСШ. За такой, прямо скажем, – неблагозвучной аббревиатурой скрывалась Киевская военно-артиллерийская средняя школа. Воспитанники (кадеты? курсанты? ученики?) этой самой КВАСШ находились три года на полном государственном обеспечении, затем направлялись(?) в военные училища. Маме не очень нравилось такое мое будущее, даже глядя на успешного артиллериста И. А. Редько. Но грядущее «обут – одет – накормлен» – вдохновляло.
Я колебался: по слухам в Киеве была такая же КВАСШ, только авиационная. Как-то небо было желаннее, чем гром канонады. Я начал собирать документы. Кроме школьных бумаг требовались еще комсомольская характеристика. Я уже догадывался, что начальство, даже комсомольское, не должно само составлять бумаги, а только подписывать. Вспомнив свои яичные подвиги, я написал сам себе умеренно-теплую характеристику предельно доступным мне каллиграфическим почерком и сбегал за 22 км в районный Шаргород. В райкоме меня признали, чему я несказанно удивился. Главный районный комсомолец Музыко, по слухам – контуженый офицер, пробежал мою бумагу, произнес: «Это делается не так!». Через несколько минут застучал Ундервуд секретарши. Подпись Райгенсека, печать, регистрация, расписка, – и я счастливый обладатель Первой Официальной Бумаги с Печатью, где я назван по имени – отчеству и где указаны мои заслуги!!!
Обратную дорогу я летел на крыльях. С такой Бумагой – мне везде дорога! В ней, правда, были две неточности: для краткости проигнорированы три года восточной жизни и добавлен один год моей жизни: по правилам я не мог окончить семь классов в столь юном возрасте.
С дрожью отправлял я в Киев драгоценную бумагу вместе с другими. Ответ пришел неожиданно быстро. К моим бумагам КВАСШ приложила свою: школа комплектуется детьми погибших офицеров через военкоматы. Лично для меня ничего сделать нельзя, т. к. она – КВАСШ – уже наполнена до краев… С Киевом мне определенно не везло: это уже был второй «отлуп», – при первом меня не приняли в писатели. Ничего не оставалось, кроме как произнести классическое: «И не очень хотелось!», тем более, что и в самом деле – не очень.
07. Завод
В действительности все не так, как на самом деле…
Шаберы бывают разные
Для работы на заводе нужна была «спецовка». В конце рабочего дня завод выплескивал на главную улицу Деребчина толпу людей с замурзанными лицами в черной пропитанной маслом одежде. Они расходились по домам и уже там отмывались и переодевались. В моих глазах такая промасленная спецовка была похожа на рыцарские доспехи, а степень ее загрязнения была равна толщине и качеству брони на латах. Конечно, требуемого снаряжения у меня не было. Мама, вняла моим жалобным намекам об отсутствии нужной экипировки и изготовила мне брюки из детского байкового одеяла, которое из-за длительного употребления и многих стирок весьма утончилось и приобрело цвет неба во время длительной засухи. Вместо куртки была использована старая рубашка, отреставрированная по последней моде новыми заплатками. Я гордо прошагал в своих доспехах задолго до начала рабочего дня, который начинался в 7 часов. Однако контора начинала работать только в 8 часов, и мне пришлось долго томиться перед закрытой дверью отдела кадров. Прием на работу мне уже был обеспечен «по блату»: отец моего хорошего приятеля Бори Пастухова работал на заводе инженером и «замолвил словечко». Пастуховы за полгода до этого приехали в Деребчин. Борис окончил вместе со мной седьмой класс, восьмой класс планировал оканчивать в Мурафе: наши дороги расходились.
После короткой процедуры занесения в списки славной когорты Рабочего Класса, Выдачи Хлебных Карточек, ознакомления с распорядком трудового дня и инструктажем по технике безопасности вообще, я был представлен своему главному начальнику – бригадиру слесарей Задорожному Петру Ивановичу. Кстати, продолжительность рабочего дня составляла во время ремонта завода 10,5 часов, начало в 7часов, окончание – в 18, с получасовым обеденным перерывом. За опоздание на работу свыше 15 минут по закону уже полагался суд. Выходной – воскресенье. Суббота – обычный рабочий день. Чтобы не возникало проблем с моими 13 годами, росчерком пера мне был прибавлен один год жизни. (Эти сведения я привожу специально для читателей, развращенных двумя выходными и невыносимо гуманной охраной труда несовершеннолетних, коими считаются рослые ребята, подумывающие об оформлении де-юре существующего де-факто брака).
Фото на заводском пропуске
Бригадир хмуро оглядел меня с головы до пяток и записал мои ФИО в замасленную тетрадку. Затем вручил мне круглую железку, расклепанную с обоих концов, указал на груду серых камней и на блестящий краник замысловатой формы. Оказалось, что серые камни и блестящий краник – это одно и то же изделие: второе получалось из первого после отделения толстенного слоя накипи. При помощи выданной мне железяки, которая называлась «шабер», я и должен был выполнять это чудесное превращение. Я уселся на свободный ящик из-под болтов, принял на свои небесно-голубые колени серый камень краника и начал прилежно трудиться, исподволь оглядывая окрестности и людей.
Участок нашей бригады размещался на обособленном пятачке внутри огромного закопченного здания котельной. Основную часть внутреннего объема помещения занимал ряд из нескольких котлов, каждый размером с двух– трехэтажный дом. Все котлы были опутаны различными трубами: изолированными и голыми, круглыми и прямоугольными, тонкими и толстыми. На фронтальной стороне котлов внизу были большие чугунные дверцы топок с множеством всяких люков, ручек, труб больших и малых. Все котлы объединяла узкая металлическая эстакада, идущая на уровне третьего этажа. На уровне этой эстакады и размещались те многочисленные краники водомерных рамок – стекол и манометров, которые мне предстояло возвратить к жизни.
Технический взгляд на прошлое. Позже я узнал, что весь мой трудовой героизм первых месяцев работы был вызван неправильной эксплуатацией паровых котлов: очень жесткую воду для питания котлов не «умягчали», и все минеральные примеси в воде намертво прикипали к горячим деталям котла. Толщина накипи внутри нагреваемых труб достигала 10 миллиметров. Сжигаемый уголь на 80 % вылетал в трубу, не в силах испарить изолированную накипью воду.
Бригада приглядывалась к своему слегка «блатному» новичку, а я исподтишка разглядывал людей, с которыми начинал официальную трудовую жизнь. Бригадир Задорожный выглядел как обычный сельский «дядько» лет пятидесяти: слегка небритый и давно не стриженный, до смерти замученный растущим клубком повседневных хлопот. Сдержанным и суровым выглядел Степан Гаврылюк, мужик лет 40 с Западной Украины. Треугольное лицо аскета с резкими чертами страдающего на распятии Христа было снабжено глазами, подтверждающими невыносимость этих страданий.
Этот довольно мрачный бригадный пейзаж скрашивал Толя Цымбал, веселый словоохотливый мужик лет 45-ти, всегда чисто выбритый и опрятно одетый, с черными маслинами озорных глаз и густой шапкой совершенно седых волос. Первую байку, которую я услышал в его изложении, нельзя назвать высоконравственной. Во время работы завода Цымбал был бригадиром кочегаров, а кочегарами – необученные девчата из окрестных сел. Иной бы взвыл от такой ситуации, когда завод непрерывно требовал горячего пара, а кочегары – неумехи. А вот Цымбал рассказывал, какое это наслаждение – рассматривать оголившиеся ножки сельских красавиц, когда они, наклоняясь до предела, шуруют в топках котлов тяжелым кайлом. Дальше шла вообще поэма, когда он начинал учить красавицу, как именно надо двигать кайлом, стоя сзади и положив для лучшей усвояемости свои руки на ее…
По-видимому, вариации этих историй исполнялись Цымбалом не первый раз: бригадир улыбался краем рта, не отрываясь от записи работ, которые надо включать в наряды для начисления нам всем зарплаты. Гаврылюк сумрачно слушал, прогоняя резьбу на поврежденном болте. Так что все байки были направлены на меня, прилежно отскребающего от накипи свои краники… Безотносительно к содержанию баек, работать ставало как-то легче, свободнее. Позже я понял, как нужны в любом коллективе такие «баснописцы», не позволяющие вышеозначенному коллективу закиснуть от невыносимого усердия…
Однако у меня дела продвигались не так быстро, хотя я приобрел некоторую сноровку. Вскоре я понял, что меня тормозит несовершенство моего инструмента: он имел только прямые грани, что требовало больших усилий при их внедрении в накипь, имеющую твердость камня. Я сбегал в заводскую мастерскую к своему другу Мише Беспятко. Он подвел меня к станку с огромным наждачным кругом и показал, как он включается. За минуту я изменил профиль своего инструмента и вернулся на свой ящик. Как я и ожидал, работа значительно ускорилась. Довольный своей сообразительностью, я продолжал трудиться с особым рвением, ожидая похвалы от подошедшего бригадира. Внезапно он завопил не совсем поощрительным голосом:
– Ты посмотри, что он сделал! Единственный приличный плоский шабер он заточил на стамеску!
Я был уничтожен. Мои робкие оправдания, что так лучше, только разжигали справедливое негодование бригадира по поводу потери драгоценного плоского шабера. Поскольку потери были все-таки обратимы – еще оставался второй, не переточенный, конец шабера, да и стамеску можно было переточить, – бригадир потихоньку успокоился. Я с утроенным рвением принялся использовать свое незаконнорожденное дитя.
Незаметно подошел обед. Гаврылюк ушел (он жил в заводском близком бараке), бригадир и Цымбал развернули взятые из дома «тормозки», не уходя с замасленных рабочих мест. У меня ничего не было, и я продолжал свою творческую деятельность на благо Родины. Первым откликнулся бригадир, очевидно, желая подвести черту под шаберно-стамесочным инцидентом, он отвалил мне целую вареную картофелину. Вслед за ним, горько стеная по поводу отсутствия у него в данный момент четверти самогона и сала с чесночком, отрезал половину соленого огурца Цымбал. Мой обед прошел на славу, и я опять заступил на трудовую вахту.
К концу первого рабочего дня я понял, что мои небесные одеяния вымазались только на коленях, а «морда лица» оставалась почти чистой. Короче: мой облик не соответствовал образу заводского труженика, отдавшего все силы Родине. Чтобы ликвидировать это несоответствие, я забрался за котел и густо натер сажей лицо и штаны, которые навсегда лишились небесной голубизны. С сатанинской гордостью прошествовал я по главной улице Малой Родины в свое поместье…
В дальнейшем, – вполне естественной грязи – хватало с большим избытком, тем более, что мыло все эти годы находилось в числе сверхдефицитных товаров. В Казахстане для мытья можно было хоть использовать невзрачную травку, дающую при трении в воде некое подобие мыльной пены. На Украине эта травка не росла. Мыло – белые кусочки с синими прожилками неясного происхождения – покупали только на дому у еврейских «дилеров». Для стирки и для мытья головы, снабженной длинными волосами, обычно использовались «щелоки»– процеженный раствор золы. Зола имела градации по качеству в зависимости от происхождения: выше всех стояла зола шляпок подсолнухов.
Работа в бригаде шла успешно. Я узнал массу новых слов, среди которых особенно изысканно звучало «шнайтыза», обозначавшее раздвижную лерку. Все резьбы у нас были дюймовые. Для подручного слесаря, каковым я был официально, было непростительным грехом перепутать болты 3/8 с полудюймовыми, или, не дай Бог, – с 5/8 дюйма. Так же строго обстояло дело с прокладками – паронитовыми и клингеритовыми, маслом – обычным и «вареным». При совместных работах, подручный слесарь не должен ждать команд с открытым ртом, а молча подавать и делать то, что надо в данный момент ведущему. Это приравнивает труд подручного слесаря к высокоинтеллектуальным занятиям: надо было понимать и дело и психологию ведущего. В дальнейшей моей бешеной карьере подручного слесаря на ремонте завода было несколько учителей, о которых хочется рассказать.
Хмурый дед Николай Ипатьевич Грабарь терпеть не мог, когда по зубилу ударяли молотком дважды: первый удар был «пристрелочным». Он требовал, чтобы удар наносился сразу полный, с размахом из-за плеча. При этом смотреть надо не туда, куда бьешь молотком, а на изделие, которое рубишь. Если молоток, чтобы уменьшить возможность промаха, несчастный обучаемый держал слишком близко к бойку, Николай Ипатьевич заботливо предупреждал: «Задушишь молоток!». После нескольких заживаний разбитых пальцев левой руки, удерживающей зубило, начинаешь понимать эффективность освоенной так болезненно технологии.
На следующее лето настоящим учителем слесарных премудростей для меня стал Йосиф Матвеевич Веркштейн, принадлежащий к рабочей аристократии завода. Его бригада, в которой состоял и я, ремонтировала трансмиссии и насосы. Бригадир охотно отвечал на мои бесконечные «почему» и показывал «как». Единственной женщине в нашей бригаде, кстати, имеющей высокий пятый разряд, он мог сказать:
– Анечка, продиферь эту машинку. Мы с Николаем Трофимовичем(!) пошли портить баб!
Это значило, что Аня должна отмыть керосином очередной огромный насос перед разборкой на ремонт, а мы с бригадиром уходим в мастерскую заливать баббитом огромные подшипники для трансмиссий – длинных вращающихся валов со многими шкивами для приводных ремней. Подшипники затем монтировались на опорах, баббитовый слой трехгранным шабером подгонялся так, чтобы вал касался его не менее чем в 12 точках на квадратный сантиметр по всей поверхности заливки. Такая же точная работа требовалась для притирки к гнездам больших бронзовых клапанов. На притертый клапан карандашом наносилось много рисок. При небольшом повороте клапана в гнезде все до единой риски должны быть стерты…
«Ничто на земле не проходит бесследно». Наверное, и эта учеба – не прошла, хотя электропривод заменил трансмиссии. Баббит сейчас, кажется, тоже не заливают… О своих учителях при работе завода я, надеюсь, еще расскажу.
Бабкок, да еще и Вилькокс – это звучит!
Но это все было потом. Сейчас бригада Задорожного, и я в том числе, ремонтировала котлы Бабкок Вилькокс, загнанные в доску прошлым сезоном. Дошла очередь до водогрейных труб, десятки которых наклонно расположены прямо в топке котла. Каждая шестиметровая труба открывалась отдельным лючком, расположенным в коллекторах на фронте котла, – чуть ниже эстакады. Открыли лючки и ужаснулись. Внутри 80-мм трубы оставался просвет чуть больше 50 мм, таким толстым слоем накипи каменной твердости она была покрыта изнутри. Изготовили оснастку для удаления накипи. На эстакаде по рельсам надо было катать тележку. На тележке стоял электродвигатель, вращавший толстый гибкий вал в кожухе-оболочке. На конце вала вращалась шорошка с множеством каленых острозубых шестеренок – «звездочек». Они вращались по накипи и разрушали ее. Образующийся шлам смывался струей воды в нижний барабан котла и в канализацию.
Работенка была та еще. Один человек медленно катил по рельсам тележку с воющим двигателем. Я сидел на краю эстакады, удерживая в руках вибрирующую и рвущуюся из рук оболочку гибкого вала, и направлял ее Гаврылюку. Он медленно и равномерно вдвигал прыгающий вал в трубу и направлял туда струю воды. На чистку одной трубы у нас могло уйти от 20 минут до целого часа: если накипь была очень прочной, то приходилось проходить два-три раза. Часто оси, на которых сидели звездочки, изнашивались и разрушались, детали шорошки с грохотом сыпались в нижний барабан, наполовину заполненный водой и, отнюдь не целебным, илом. После этого все останавливалось, и зов трубы звучал только мне – персонально. Я быстренько снимал с себя все вериги, кроме трусов, и через небольшой люк вползал в ил нижнего барабана, внутри которого взрослому можно было только лежать. Я в барабане мог стоять на четвереньках, точнее – на трех точках. Одна рука наощупь в иле должна была найти звездочки и другие детали шорошки. Задним ходом я доставлял найденные сокровища во внешний мир. Оси менялись, на них нанизывались звездочки. Все опять возвращалось на круги своя.
Мы уже с нетерпением подсчитывали оставшиеся без нашего благородного влияния трубы, чтобы вскоре осчастливить и их. Однако маленькое происшествие чуть не лишило нас этого удовольствия… Обычно телегу с двигателем возил Цымбал. Приближаясь к нам с Гаврылюком, когда шорошка ревела глубоко в недрах котла и можно было разговаривать, он успевал нам рассказать анекдот или свою очередную историю, очень похожую на анекдот. Даже страдальческое лицо Гаврылюка прояснялось, а я откровенно ржал. Начальство разрушило эту идиллию: Цымбала ожидала работа посложнее. Вместо него нам дали здоровую румяную деваху, только что принятую на работу и преисполненную рвения, как я в первые дни. Она с трепетом взобралась к нам на высоченную эстакаду. Гаврылюк ее проинструктировал, как оказалось позже, – слишком лапидарно:
– Вот здесь включишь двигатель и будешь катать тележку туда – сюда.
Дева преданно посмотрела в усталые глаза Гаврылюка и с энтузиазмом начала действовать точно по инструктажу. Включив двигатель и услышав рев гибкого вала, она легкой трусцой двинула тележку вперед. Гибкий вал, которому некуда было деваться, вздыбился и выскочил за ограждение эстакады, отбросив к ограждению эстакады и меня. Гаврылюк не смог удержать шорошку, почти не заправленную в трубу, и она проревела всеми шестеренками, не ограниченными тесным пространством трубы, возле его головы и начала бешено высекать искры из эстакады. Прижатый к ограждению, я с трудом удерживал беснующийся вал, на конце которого так ярко погибала шорошка, разбрасывая с высоты драгоценные звездочки по всей котельной. К счастью, наша деваха решила выполнить инструктаж полностью: ведь ей было сказано катать не только «туда», но и «сюда». Она также бегом, причем – задним ходом, потащила тележку обратно. Выпрямившийся вал плюхнулся с ограды на пол эстакады и почти успокоился, жалобно рыча по металлу тем местом, где еще недавно красовалась великолепная шорошка. Наша дева тем временем готовилась к очередному броску вперед, но тут опомнившийся Гаврылюк нечеловеческим голосом завопил:
– Выключай!!! – что, после некоторого раздумья, и было исполнено.
После разбора полетов, которые наша трудолюбивая девушка выслушала со слезами на довольно красивых глазах, – все пошло прежним порядком. Темп наших работ возрастал: близились сдача завода госкомиссии и начало сезона сахароварения. Наш завод объявлен дежурным. Это означало, что мы будем работать очень долго, подбирая все остатки сырья – сахарной свеклы, – которые не успели переработать другие, рано остановившиеся, сахарные заводы. Для нас, ремонтирующих завод, – это дополнительные требования по качеству и надежности ремонта. Я все больше осваивал тонкости наших работ, и Задорожный все больше на меня их наваливал. Правда, и «стимула» мне он теперь выписывал наравне с другими членами бригады. Некоторые работы были только «моими». В основном это было проникновение в такие дырки (по-техническому – отверстия, люки-лазы и др.), куда остальные уже не могли пролезть. Потихоньку ко мне перешли и верхолазные сборки-разборки: все-таки я был намного моложе и легче моих «дедовьев». Ну и, конечно, – сбегать за чем-нибудь мне было сподручней, тем более, что моя должность – подручный слесарь. «Что-нибудь» чаще всего оказывалось махоркой, которую «на стаканЫ» продавали бабули за проходной завода. Надо было выбрать махорку оптимальную по параметрам «цена – качество». Если цена определялась очень просто, то тайны качества пришлось изучать по-настоящему. Когда бригада после особенно тяжелой работы устраивала «перекур», я чувствовал себя неуютно, пока тоже не воткнул в зубы самокрутку. Через несколько «сеансов» я навсегда стал «табакозависимым».
Медицинское отступление. «Нет ничего легче, чем бросить курить. Я делаю это по много раз за день», – говаривал, бывало, Марк Твен. Я тоже несколько раз порывался это сделать. Держался по месяцу и более; один раз – целых двенадцать(!) лет. Не могу сказать, что стал намного здоровее, но толще и тяжелее, – несомненно. В конце концов, я опять «задымил». Сначала – для своего оправдания я придумал «теорию перегруженной плоскодонки», которую сравнил со здоровьем. Позже я понял, что эта теория имеет право на жизнь и более широкое применение. Любое резкое изменение обычного курса и даже подъем одной части лодки, приводит к нарушению равновесия и последующему «заливанию и утонутию». Эта простенькая истина особенно изящно сформулирована в Третьем Постулате Басни о Мороженом Воробье, который осмелюсь изложить в этой «дикой» автобиографии. Итак: летел Воробей. Замерз. Упал. Шла корова, положила на него «лепешку». Воробей оттаял и зачирикал. Шел Кот. Вытащил Воробья – и скушал. Выводы, они же – постулаты. 1. Не каждый тот враг, кто на тебя …(наложит лепешку). 2. Не каждый тот друг, который тебя оттуда вытащит. 3. Попал в г…о, – сиди и не чирикай!
Котам – масленица
В воскресенье мы встретились с Толей Размысловским. Он мне рассказал вещи, после которых я подобрался как кот, увидевший мышку. После репрессирования главы семьи у Размысловских отняли половину большого дома. Недавно там разместили молочарню — молокосливной пункт, куда селяне, имеющие коров, приносили по утрам и вечерам натуральный налог в виде молока. В молочарне его разделяли на сливки и обезжиренное молоко – обрат. Сливки отправляли на маслозавод в Мурафу; из обрата делали казеин для пуговиц и клея, частично отдавали селянам для выращивания телят. Так вот, Толя обнаружил две вещи: первая – подвал под его частью дома и молочарней – сообщающиеся «сосуды», вторая – сливки с вечернего молока хранятся в 40-литровых бидонах в подвале до утренней отправки. Однако, похитить немного вожделенных сливок для употребления было невозможно: струя из сепаратора на их поверхности образовывала воздушную пену, которая разрушалась при малейшем прикосновении, однозначно указывая на криминальное посягательство.
Закоренелый рационализатор, сумевший сокрушить даже плоский шабер (я), задумался. Путем дальнейших расспросов подельника удалось выяснить, что эта пена целомудрия имеет ахиллесову пятку: в центре сохранялся небольшой пятачок поверхности, не покрытый пеной. Именно здесь стратеги наметили участок прорыва. Из алюминиевой гильзы патрона от ракетницы я изготовил спецчерпак емкостью около трети стакана, длинная рукоятка которого являлась продолжением гильзы. Края гильзы были украшены надрезами, чтобы поступление продукта начиналось плавно при углублении снаряда в ахиллово зеркало вожделенного продукта.
Толя провел производственные испытания снаряда, которые полностью подтвердили расчеты. Если не жадничать и отбирать с бидона не более одного литра, то коварная пена плавно опускалась, не разрушаясь, вместе с новым уровнем сливок. Толя бережно сохранил результат Первого Отбора до моего прихода, и мы во вторых заброшенных сенях его дома трепетно вкусили продукт. Он успел слегка загустеть, но все было безумно вкусно и питательно. Как водится, обнаружились и слабые места. Для развития дела нужна была посуда: Толя предупредил, что мать скоро хватится неизвестно куда девавшейся кастрюльки. Кроме того, мы не смогли пить жирные сливки просто как воду, точнее – могли, но не так много, как у нас было в наличии. Увы, – нельзя было подкармливать похищенным продуктом своих родных: мы были бы немедленно разоблачены.
По всем затруднениям были приняты радикальные и исчерпывающие меры. На базаре были закуплены несколько глиняных кувшинов – гладущикiв, казалось специально сделанных для хранения ворованных сливок с их последующим распитием непосредственно из горлА. По второму затруднению решение принял я сам. Я перестал обедать с хлебом. Положенные мне по карточке 500 граммов, я получал вечером, уходя с работы. В чулане хлеб делился пополам. Одна половина была для мамы и Тамилы. Вторую мы еще раз делили пополам и приступали к трапезе. У Толи был только один продукт, но в большом ассортименте: сливки – свежие, вчерашние, загустевшие, очень загустевшие, сбившиеся в масло. Наша задача была очень простой: максимальное потребление сливок при минимальном потреблении хлеба.
Котам – масленица
Мной овладела навязчивая идея – накормить Тамилу, но так, чтобы она ни о чем не догадалась. Мама вскоре уехала к брату Борису в Смоленскую область, поручив нас заботам бабки Фрасины. Я уговорил ее устроить званый обед с варениками, объявив, что у Толи есть творог и сметана – помощь от родственников. Добыли немного муки, сварили вареники, густо сдобрили бабушкину долю, а свои порции унесли в другую комнату в большом тазике. Туда втайне от бабки вылили полный кувшин свежих сливок. Тамила благоговейно смотрела на наши камлания, ничего не понимая. Гоняться в тазике ложкой за редкими варениками в сливках было неудобно, и мы взялись за чашки. Дело пошло веселей. Тамила наелась до «не хочу», – я был счастлив. Только бабушка недоверчиво посматривала на меня: с чего бы мы уединялись со своими варениками, «а не Їли, як всi люди».
Жировали мы около месяца. Слегка поправились, окрепли, уже реже мучил постоянный голод. Наверное, на молочарне что-то заподозрили. Толя, спустившись в свою часть подвала, наткнулся на свежую стену. Все в этом мире кончается. Спасибо судьбе и за эту подкормку: мы крали у общества не больше, чем могли съесть…
Еще один раз я кормил Тамилу, скажем так, – нетрадиционными продуктами. Случайно добыл несколько патронов, выпросил в школе малокалиберную винтовку и подстрелил трех черных здоровенных грачей. Правда, после ошпаривания, ощипывания и разделки они уже не выглядели такими большими. Я их сварил и представил Тамиле как недоразвитых цыплят. Запах был не совсем цыплячий, но мы дружно схарчили этих пернатых, прости нас, Господи. Но это было уже позже – в голодном 1947 году.
Кое-что горит и в воде
Деребчинский сахарный комбинат (именно таким было его полное название) был самодостаточным предприятием. Дело не только в наличии у Комбината своего совхоза, выращивающего для колхозов семена сахарной свеклы. Я имею в виду, прежде всего заводскую мастерскую, которая могла делать почти все, как небольшой машиностроительный завод. Кроме почти полного набора металлообрабатывающих станков, мастерская имела кузницу и литейную с небольшой вагранкой. По собственным моделям заводская мастерская могла отливать детали из чугуна, бронзы и алюминия, делать поковки из стали и латуни.
В кузнице и литейной одновременно работал мой друг Миша Беспятко, который был старше меня всего года на три. Этот талантливый человек начал работу в колхозной кузнице, затем перешел на завод, где очень быстро стал незаменимым мастером на все руки: кузнецом, литейщиком, слесарем, жестянщиком, токарем и, Бог знает, – кем еще. Он шутя овладевал тонкостями любой профессии. Миша был красивым, рослым и мускулистым парнем, с нежной, и даже сентиментальной, душой. Например: он не мог удержаться от слез, когда смотрел кино «Без вины виноватые» с Аллой Тарасовой. Сельские кинофикаторы обычно переезжали с одним фильмом по ближайшим населенным пунктам. Так Миша смотрел этот фильм раз 10, посещая вечерние сеансы во всех ближних и дальних селах. Это был подвиг во имя культуры, если знать, что расстояния 10–15 километров в один конец преодолевались пешком после длинного и нелегкого трудового дня. Ранним утром ведь надо было опять идти на работу.
Я охотно трудился в мастерской, выполняя задания для бригады, например – сверление фланцев. Кстати, это была не такая уж простая работа, учитывая, что сверла делали мы сами из углеродистой (а не быстрорежущей) стали. Чтобы не сжечь такое сверло, надо его затачивать очень точно, подбирать нужные обороты и обильно поливать водой при сверлении. Миша учил меня всем премудростям очень охотно: ему явно не хватало учеников, которым было бы все интересно. Обеденный перерыв у нас был теперь целый час. Наши младшенькие сестры приносили нам горячего супца, по паре картофелин, иногда – молоко. Мы проглатывали все в течение пяти минут, отпускали домой наших сестренок и начинали «зарабатывать на жизнь». Для натурального обмена на продукты (бартерные отношения!) изготовляли напильники, ножи, алюминиевые «чугунки», лудили оловом котлы и делали много других полезных вещей, на которые после войны был страшный дефицит.
Чтобы изготовить хороший напильник (само собой – вручную), надо было иметь руки хирурга или музыканта. Отпущенная (мягкая) болванка из высокоуглеродистой стали тщательно шлифовалась. Острым зубилом по всем сторонам болванки делались зарубки – одна возле другой. Искусство состояло в том, чтобы они были одинаковой глубины и шага. Зубило опиралось на еле заметный заусенец после предыдущего удара; удары молотка должны быть строго одинаковыми, – от них зависела глубина и равномерность насечки. Поскольку насечек – тысячи, работать надо было со скоростью автомата. Напильник был готовым товаром после термообработки – закалки до высокой твердости.
Расскажу о двух случаях, когда уже поверженный Гитлер, точнее – его техника, нас чуть не погубили. Ножи для дома и для работы мы обычно ковали из клапанов для двигателей. Миша работал кузнецом, я – молотобойцем, так как вытянуть металл жаростойкого клапана до формы ножа – довольно длительная процедура. На этот раз мы делали нож из «давальческого сырья», – заказчик с гордостью сообщил, что эти клапаны из мотора немецкого самолета. Как обычно, Миша нагрел заготовку и взял в руки кузнечное зубило с длинной рукояткой, чтобы отрубить тарелку клапана. Как обычно, я несильно ударил молотом по зубилу. Внезапно огненная струя просвистела возле моих глаз, достигла бака с водой, в котором начались взрывы, и загорелась… вода! Часть струи горела на политом водой бетонном полу. Мы оба красиво остолбенели. С трудом уяснив, что неизвестная субстанция загорается при встрече с водой, мы начали засыпать пол песком, оставив в покое бак с водой, в котором носились горящие частицы Чего-то. Вскоре все утихло. Мы с Мишей чесали необразованные репы и гадали: что это было? Позже я выяснил, что для улучшения теплоотвода немцы заполняли ножку клапана металлическим натрием. Натрий же при соприкосновении с водой – загорается. Чего хорошего можно было ожидать от врагов?
Кстати, с водой хорошо горит и магний. У нас валялось колесо от немецкого самолета из магниевого сплава. Если от колеса отломать кусочек и расплавить его, то на поверхности расплава появляются яркие вспышки магния. Теперь расплав надо вылить на мокрую землю, – магний вспыхивает белым огнем. После этого по огню надо ударить тяжелым плоским предметом и получить звук подобный пушечному выстрелу. Чтобы обрадовать наших кормилиц – младших сестер – мы с Мишей несколько раз проделывали этот фокус, когда вблизи руководство не просматривалось. Когда на взрыв сбегался народ, мы делали непонимающие лица и говорили, что «бухнуло» что-то и «где-то», а не у нас. Так что о магнии и его свойствах мы кое-что знали. Как показали последующие события, – знали не все.
Один «левый» клиент заказал нам большой котел из алюминия и притащил для этого много лома. Миша заформовал в литейную опоку утвержденную модель, и мы перед обедом начали плавить в тигле металл, чтобы в обед сделать отливку. Когда металл весь расплавился, по его поверхности начали бегать белые вспышки. Мы поняли, что там много магния, и отливка не получится. Чтобы сохранить чужой металл, Миша в куче формовочной земли – специально обработанного песка – сделал деревянным цилиндром вместительное углубление, куда мы залили литров 5 расплавленного металла, и засыпали той же землей, чтобы отливка спокойно остыла. Окончив труды, мы приступили к трапезе: наши кормилицы уже все разложили. Мы были страшно довольны собой, что вовремя разоблачили «давальца материала», живо обсуждали, что мы ему скажем, когда он придет за готовым котлом, и мы ему предъявим болванку из его некачественного металла.
Несмотря на разговоры, мы исправно работали ложками. Внезапный взгляд на литейную остановил ложки на полпути: в окне полыхал белый столб огня, достающий до высоких деревянных стропил литейной! Через мгновение мы были там и начали понимать ужас случившегося: фонтан огня и ярких искр исходил от нашей болванки. Формовочная земля была сырой! Металл подогревал сам себя, начинал кипеть и растекаться по всей куче формовочной земли, не переставая фонтанировать к стропилам. Засыпать его влажным песком было не только бесполезно, – опасно. Миша схватил большую совковую лопату, вонзил ее в пылающее ядро. К содержимому лопаты я добавил еще растекающегося металла с периферии. Выскочив из литейной через другой вход, Миша огляделся, – куда бы деть пылающее содержимое лопаты. Девать особенно было некуда: дорога, за ней пустырь с засохшим бурьяном. И тут его взгляд упал на огромный бак с водой возле вагранки. Миша решил покончить с огнем одним ударом и бросил пылающее содержимое лопаты в бак. Раздался мощный взрыв, в воздух взлетели горящие белым огнем куски расплава. Один из них застрял между пальцев босой ступни Миши. Он запрыгал на одной ноге и заорал. Я бросился его спасать, вытолкнул лучинкой горящий металл и начал поливать ступню водой. Вдруг мой пациент вырвался и с криком: «Крыша горит!» взлетел по высокой лестнице возле вагранки на крышу мастерской. Кровля из просмоленного рубероида горела в нескольких местах. «Воды!!!», – требовал Миша. Я набирал ведро из бака, взлетал по лестнице. Пока спускался вниз, – уже опорожненное ведро плюхалось в бак с водой, и я повторил рейсы вверх – вниз несколько раз. Взрыв и последующая наша неумеренная суета в тихий час обеденного отдыха привлекли толпу зевак, пытающихся отгадать: что происходит? Прибежал главный инженер завода, и, хотя огонь мы уже потушили и весь магний сгорел, дал кому-то указание вызвать заводскую пожарную команду.
Минут через 5 – 10 раздался звон колокольчиков, и к мастерской лихо подкатила пожарная телега на тяге двух рысаков. Резко осадив возле мастерской, расчет брезентовых дядек в сверкающих медных касках бегом начал раскатывать тоже брезентовые ленты шлангов. Один из них, быстро оценив обстановку, воткнул гофрированный хобот насоса все в тот же несчастный бак, в котором после взрыва и моих трудов все еще оставалась вода. Два самых мощных огнеборца уже стояли на платформе, положив руки на деревянные рукоятки ручного насоса. Как только все шланги были проброшены, дядьки начали работать в бешеном темпе. Как кузнецы в игрушке: когда один поднимался – другой приседал. Однако – насос не хрюкал, ленты шлангов оставались плоскими, как камбала после голодовки. Собралась уже изрядная толпа, которая сначала тихо хихикала, затем начала откровенно ржать. Главный багровел:
– Колотов, а завод горит!!! – проревел он.
На Колотова – грозного начальника охраны завода, жалко было смотреть: он беспорядочно суетился и не по делу орал на своих пожарников-охранников…
Мы поняли, что уже не являемся главными на этом празднике, и быстренько смылись доедать свои давно остывшие обеды. Наши сестры смотрели на нас со смесью ужаса и восхищения…
Оргвыводы были только по пожарникам: их столь наглядные успехи в тушении пожаров совсем затмили наши подвиги.
Печальная вставка из далекого будущего. С тех пор, когда я «ударился в воспоминания», много раз я пытался узнать о судьбе моего друга и учителя. Из космоса американская программа GoogleEarth показывала мне малую родину с высоты, но людей там было не различить… Сейчас в Киеве живут «деребчане»: Леня Колосовский, Павел Гриневич, Боря Стрелец. Иногда они бывали в Деребчине, вести оттуда приходили общие и плохие: завод развален и не работает, нет уже никаких колхозов, нет работы и др. Но о судьбе Миши Беспятко никто ничего не знал… Сегодня, 05.12.2008 года, листая страницы интернетовской Википедии, я набрел на статью «Деребчин», где среди скупых данных был телефон сельсовета. С четвертого раза мне ответил молодой женский голос. Первый мой вопрос о Мише. «Давно умер» – был ответ. Я еще перечислил несколько знакомых ребят моего возраста: все уже ушли в мир иной… Все там будем.
Прорыв к самому синему в мире
Самое синее в мире
Черное море мое…
В начале августа мы вместе с Борей Пастуховым предприняли отчаянную попытку прорваться в более высокий класс общества. Боря сказал, что он хочет поступить в среднюю мореходку в Одессе, где у него был адресок хороших друзей отца. Позвал меня с собой. Его отец договорился, чтобы меня отпустили на недельку, на всякий случай, – не увольняя с работы. Мы поехали. Денег на возвращение (конечно, если не удастся поступить), мы решили добыть торговлей: захватили по рюкзаку картошки, которая, по слухам, в Одессе была очень дорогой. За бесценок в Рахнах у поездного ворюги приобрели отличный женский сапожок, рассчитывая в далекой Одессе сторицей вернуть затраченные средства.
В Одессу мы приехали ранним утром, продали картошку и сапог перекупщикам, – увы, – почти без прибыли. Налегке двинулись в вожделенную Среднюю Мореходку. Балдели от курсантов в форменках, гюйсах и клешах, – представляя и себя в таком упакованном виде, от чего замирала душа. Чуть позже выяснилось, что набор уже давно закончен, и нам нет места на этом празднике жизни… Уныло поплелись мы в порт. Я впервые в жизни увидел море, – бесконечно голубую огромную, сверкающую на солнце, массу воды. Даже мусор на воде в порту, ободранные буксирчики и шаланды, обнаруженные при близком рассмотрении, не смогли испортить впечатления от Моря. Желание влиться в ряды тружеников моря (носящих Морскую Форму!) вспыхнуло в нас с новой силой. Мы пошли по второму кругу – по мореходкам классом пониже, что-то типа морских ПТУ. Мы рвались пополнить собой стройные колонны радистов, в крайнем случае, – мотористов. Увы, – там все уже было заполнено. Оставался набор на должности кочегаров. Мы сразу вспоминали о «воде, опресненной нечистой» и «упал, больше сердце не билось», – и двигались в очередное училище. День близился к концу, мореходок было еще много. Пора подумать о ночлеге. Из расспросов аборигенов мы выяснили, что улицы, указанной в заветном адресе, – никто не знает. Мы выбрали близкую по звучанию, долго туда ехали трамваем и шли пешком, – это уже был пригород. Увы, – такого дома там не было. Двинулись в обратный путь к центру всего сущего – вокзалу. Туда двух замурзанных пацанов не пустили: не было билетов на поезд. Неудержимо захотелось в туалет, но вокруг были только большие дома, хоть и изрядно ободранные недавней войной. Мы заметались в настоящей панике по ближним переулкам. Наконец мы увидели разбомбленный дом и от души благословили неизвестных летчиков, – наших или немецких. В этом доме сохранилась коробка и даже марши мраморных лестниц. Внутри все было заполнено отходами человеческой жизнедеятельности, и передвигаться можно было, только перепрыгивая по кирпичам и консервным банкам. Самые совестливые (или терпеливые) взбирались вверх по мраморной лестнице, но и там оставалось все меньше свободного пространства, куда могла ступить нога человека…
После невыразимого «чувства глубокого удовлетворения», возобладало чувство не менее глубокого голода. Чтобы удовлетворить и его, мы вложили почти всю свою наличность в некие, румяные на вид, пирожки с белыми шариками (т. н. «саго») внутри. Этими безумными затратами мы отрезали себе дорогу обратно: денег на билеты уже не было. Тыняясь вокруг неприступного вокзала, мы узрели почти пустой трамвай. Всего за 15 копеек, сидя в тепле и свете, мы почти час ехали куда-то к Лонжерону(?). Слева загадочно светилось море с лунной дорожкой и редкими огнями чего-то плывущего. Обратной дорогой мы откровенно спали. Сердобольная кондукторша разбудила нас возле вокзала и сказала, что вагон направляется в парк. Остаток ночи мы проспали все-таки на полу вокзала, проскользнув возле бдительной охраны. Ранним утром оттуда нас выгнали вместе со всеми: предстояла уборка и дезинфекция вокзала. Мы отправились по оставшимся адресам морских учебных заведений. Спеси у нас поубавилось, но кочегарами мы ставать по-прежнему не хотели. Были еще вакансии юнг, но для этого мы были уже, увы, старыми. Ничего другого весь флот СССР предложить своим замурзанным сыновьям не мог.
Домой мы возвращались на крышах поезда Одесса – Киев. Народа нашего типа там было достаточно, но и «плацкарты» были широкими. Главное здесь было не уснуть и не свалиться с покатой крыши, когда вагоны начинали раскачиваться на стрелках и ухабах железной дороги. На станциях надо было распластаться так, чтобы не было видно и слышно с земли. Зато на перегонах мы, сидя в обнимку с вентиляционными трубами, распевали песни и подставляли лица знакомому запаху и гари паровозной трубы.
В Рахнах мы облегченно скатились с крыши. Мы были дома. Все вернулось на круги своя. Морская (как оказалось, – не последняя) страница моей биографии закрылась.
08. Мы делаем сахар
Зарыты в нашу память на века
и даты, и события и лица…
(В. В.)Последние мазки перед стартом
Петух пробуждается рано, но злодей еще раньше.
(К. П. № 83)На заводе спешно оканчивался ремонт, все принаряжалось, окрашивалось, готовилось к предъявлению Государственной комиссии. Завод потряс один случай. Была предъявлена к сдаче группа поршневых насосов, перекачивающих вязкую патоку. Насосы сверкали свежей краской. Все болты были надежно затянуты. Вдруг одному из членов комиссии из Винницкого Сахтреста захотелось посмотреть на клапан насоса. Этот клапан представлял собой отшлифованный бронзовый шар, весом в добрых полпуда. У нашего завода не было круглошлифовальных станков, поэтому наши «черновые» отливки где-то долго мусолили и прислали, наконец, перед пуском завода. Член комиссии участвовал в бумажной суете вокруг этих клапанов и захотел воочию увидеть предмет своих забот. Сдающая бригада очень неохотно начала вскрывать чугунный горшок клапана, предупредив, что придется менять прокладку, а паронит уже кончился и т. д. и т. п. Сняли тяжелую чугунную крышку горшка. Внутри на дне одиноко отсвечивало только бронзовое кольцо седла. Сверкающего шара не было. Не доверяя своим глазам, бригадир ремонтников залез в горшок рукой. Рука тоже не обнаружила ничего. Ошарашенные члены комиссии и рабочие начали осматривать насос со всех сторон: не спрятался ли проказник шар где-то рядом. Все было чисто, в смысле – чисто от шара. Вскрыли еще один горшок. И там шар-клапан блистательно отсутствовал. Теперь уже без всяких понуканий рабочие лихорадочно начали вскрывать оставшиеся два десятка горшков на всех насосах. Ни в одном горшке обнаружить клапаны не удалось.
Сцена последнего акта «Ревизора» меркнет по сравнению с этой. Комиссия просто остолбенела. На заводское начальство жалко было смотреть. Срыв пуска завода, когда колхозы и совхозы уже полным ходом начали завозить свеклу, грозил расстрельными статьями. На новую отливку и обработку такого количества шаров понадобилось бы не менее месяца, уйма дефицитного металла и еще Бог знает чего.
Прямо у насосов начался разбор полетов: кто, когда закрывал горшки, где была охрана, и т. д. и т. п. Большинство вопросов сыпались на бригадира ремонтников, который, с белым как мел лицом, бормотал только:
– Да все же было… все же ставили по уму… да куда же все девалось???
Версии о пропаже выдвигались самые фантастические, вплоть до мести немецких прихвостней и вмешательства потусторонних сил. Робкий голос одного из слесарей, предлагавшего «посмотреть у Хаима», который возле базара держал конуру по приему ветоши, костей и макулатуры, сначала не был услышан. После отсеивания инопланетных версий, за эту ухватились, как за соломинку: она была единственной, которую можно было проверить, причем – немедленно. К Хаиму срочно двинулась солидная делегация. Хаим в замызганной фуфайке перебирал тряпье в своей лавочке. Увидев перед собой столько известного в Деребчине начальства, Хаим ничего не спрашивая, сдернул старое одеяло с одной кучи. Конура озарилась золотым светом: один к одному там лежало два десятка сверкающих бронзовых шаров. Один шар был на четверть разрезан ножовкой: осторожный старьевщик от вора требовал доказательств, что шар полностью бронзовый, а не чугунный внутри.
– Я таки думаю, что такие важные люди пришли за этим! – приговаривал Хаим. Он еще ничего не заплатил вору, сославшись на отсутствие сейчас такой крупной суммы, и тихо радовался, что не дал себя облапошить…
Завод изнутри
Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты
И хрипят табуны, стервенея внизу.
(В. В.)Котельная, в которой я начинал свой пролетарский путь, была как бы пристройкой к основному корпусу завода. Основное здание завода состояло из нескольких этажей, насыщенных аппаратами, трубами, насосами и разными транспортерами. Посредине огромного помещения был проем от пола до ферм кровли. На дне этого проема красовались рядом три большие паровые машины с красными тяжелыми маховиками диаметром каждый более трех метров. Толстые канаты передавали вращение от маховиков на главную трансмиссию – мощный вал, тянущийся в обе стороны через весь завод. От главной трансмиссии широкими резинотканевыми ремнями вращение передавалось на валы помельче, а уже оттуда – на отдельные агрегаты. Трансмиссии вращались постоянно. Чтобы выключить какой-нибудь агрегат, надо было бешено бегущий ремень перевести на холостой шкив, расположенный рядом с приводным. Вся эта система ревела, стонала, шумела, хлюпала и издавала другие звуки, которые были основными на заводе. На новичка она производила неизгладимое впечатление сложности и мощи завода. Самыми востребованными специалистами на заводе были шорники – люди, сшивающие и ремонтирующие ремни. Самыми желанными техническими отходами завода были куски ремней и транспортеров: из них умельцы изготовляли подошвы и подметки для ремонта обуви.
Взгляд из очень близкого будущего. Через несколько месяцев на соседней станции мы перегружали с широкой колеи на узкую сахарный завод из Германии, вывезенный оттуда в счет репараций. Завод должны были построить в Джурине, куда вела только узкоколейка. Кроме огромных аппаратов – сосудов, все остальное оборудование было тщательно упаковано в деревянные ящики с четкими номерами и надписями. Было много электродвигателей; совсем не было ремней и валов трансмиссий. Мы начали прозревать, что все ревущее великолепие родного завода – это прошлый век, и радовались, что Джурин получит для своего завода первоклассный электропривод на все станки, злорадствовали над немцами, потерявшими такое ценное имущество. Гораздо позже я уразумел, что плакать надо было нам, а не немцам: они отдавали морально и физически устаревшую технику и тем «консервировали» нас, расчищая у себя место для новых эффективных техники и технологии. В наше оправдание можно добавить, что завод в Джурине так и не построили. Среди картошки селянских огородов ряд лет нелепо высились громады фашистских аппаратов выпарки и вакуум– аппаратов. Медь с электродвигателей, я думаю, досталась таки Хаиму…
Высокая должность
Я попал в смену, где начальником был отец моего друга Бори Пастухова. Первая моя должность располагалась под самыми фермами крыши, – выше меня был только заводской гудок. Кстати, о гудке. Питался он паром высокого давления от котлов, ремонт которых был первой вехой моей официальной трудовой биографии. Смены непрерывно работающего завода менялись через 8 часов: в 6 утра, в 2 дня и в 10 часов вечера. За полчаса до начала смены гудок ревел один раз; за 15 минут – два раза. Точно в час заступления новой смены троекратный рев гудка оповещал население Деребчина и всех сёл в радиусе 20 километров о точном времени. По этому гудку народ подтягивал гири уцелевших в военном лихолетье ходиков и пальцами переводил своевольные стрелки в нужное положение. Я подробно описываю эти детали, поскольку они имели значительное влияние на мою жизнь, по крайней мере, – два раза.
Мое высокое рабочее место было связано с не менее высокими обязанностями. Вымытую свеклу из подполья завода грохочущий цепной элеватор с ковшами-карманами поднимал на эту высоту, наполняя корнеплодами вместительный ящик автоматических весов «Хронос». Когда вес свеклы в ящике весов достигал 500 кг (5-ти центнеров, т. к. на заводе и свекла и сахар учитывались в центнерах), поток свеклы перекрывался на несколько секунд, а ящик с грохотом опрокидывал свое содержимое в чрево свеклорезки. Внутри свеклорезки бешено вращалась карусель с зубчатыми ножами в рамках, разрезающими свеклу на тонкие трехгранные макаронины. Так вот, вместе со свеклой элеватор часто поднимал булыжники, внешне очень похожие на свеклу, и не осевшие почему-либо в камнеловушке, – чаще всего из-за переполнения ниш ловушки другими камнями и песком. Моей задачей было в грохочущем потоке свеклы узреть камень и выхватить его из ящика весов, прежде чем он опрокинется в свеклорезку. Если я не успевал этого сделать, камень мгновенно выводил из строя все ножи свеклорезки. Всё останавливалось на 15–20 минут. Чертыхаясь, ремонтники меняли блоки ножей на запасные. Раздавленный ответственностью, я часами напряженно вглядывался в грохочущий поток свеклы, наклонившись над ящиком весов. Выхваченные камни складировались рядом на полу. За смену их набиралось до двух десятков. Если я видел камень, но не смог его сразу ухватить, то надо было кратковременно остановить элеватор и вытащить камень, разгребая свеклу. При такой работе отлучиться по естественным надобностям было проблемой. Дома во сне я видел только грохочущий поток свеклы, который вдруг превращался в камнепад, и я не успевал их вытаскивать.
Однажды я напряженно вглядывался в поток свеклы, когда рядом с моей головой вдруг материализовалась голова Мефистофеля. Узкое клиновидное лицо, с такой же бородкой и хищным крючковатым носом. Прищуренные глаза в упор и глубоко проникали мне в душу. Я отодвинулся и заметил, что у головы было также тело в полувоенной одежде и хромовых сапогах. Немного полегчало.
– Ты нажимал ногой??? – грозно спросила Голова.
– Куда? – холодея, спросил я. Голова, не отвечая, молча разглядывала меня.
– Смотри у меня. Будешь нажимать, – загремишь в Сибирь! – угрожающе произнесла Голова и величественно удалилась вместе с приданным ей телом. В полном смятении я начал соображать: куда мне следовало нажать, чтобы вызвать такие ужасные последствия. Я по очереди нажимал ногой на доски пола и другие выступающие части. Ничего не происходило достойного сибирской ссылки. В отчаянии я пнул ногой ящик со свеклой. И тут произошло чудо: неполный ящик бодро опрокинулся, а на счетчике весов добавилось 5 центнеров. Теперь уже я пнул ногой совершенно пустой ящик, – эффект был точно такой же. Я стал Могучим Повелителем Процентов! Одним движением ноги я добавлял своей смене пять центнеров переработанной свеклы! Все три смены соревновались. Ежедневно на специальной доске вписывались мелом показатели работы каждой смены – количество переработанной свеклы и выпущенного сахара. Цикл от мытья свеклы до выгрузки сахара занимал от 12 до 30 часов, все усреднялось и «виртуальная» свекла не могла быть обнаружена немедленно. Зато при общем подсчете недоставало сахара, следовательно, – где-то были его большие потери, за что уже отвечал главный технолог завода по фамилии Равич… Именно ему принадлежала так напугавшая меня голова Мефистофеля. Однако она принесла мне и знания! Своим могуществом я не злоупотреблял, только иногда добавляя своей смене недостающие центнеры…
В работе я приобрел опыт: уже точно знал по многим признакам, когда камней не будет и можно расслабиться, а когда надо неусыпно бдеть. Однако труба позвала меня дальше, в смысле – ниже двумя этажами, но выше по уровню работы. Смене не хватало квалифицированных кадров. Я таковым тоже не был, но подавал некие признаки понимания при обучении. На мое высоко стоящее место прислали девочку из деревни, напуганную до смерти грохотом завода. Я, как мог, передал ей «тайны профессии» и даже показал, как давить ножкой, не забыв упомянуть о Сибири и Равиче.
Следующим моим «кабинетом» стало весьма теплое, даже – слишком, местечко на «решоферах». Это были две толстенные колонны-теплообменники с тяжелыми ребристыми крышками, каждая из которых зажималась 12-ю откидными болтами. Через множество маленьких трубок внутри аппарата проходил сироп. Пар, омывавший трубки с сиропом, нагревал его до 120–130 градусов. Такой горячий сироп дальше шел в целую шеренгу выпарок – больших вертикальных баков со стеклянными иллюминаторами. В выпарках давление ступенями понижалось, и сироп все время бурно кипел, теряя воду и одновременно охлаждаясь. Так вот, на трубках моих решоферов, при нагревании сиропа, оседала некая вязкая бяка, тормозившая поток и нагрев. Бяку надо было соскребать с трубок дважды в смену. На время чистки одного решофера поток сиропа и пара переключался на другой – процесс ведь шел непрерывно. Таким образом, за восьмичасовую смену мне надо было провести четыре чистки. Это происходило так. Пар и сироп переключались раскаленными вентилями на только что очищенный аппарат. Отключенному надо было остыть хотя бы минут двадцать, чтобы можно было притронуться к крышкам. Затем я спускался на «бельэтаж» завода. Именно здесь вращались маховики центральных паровых машин и под потолком вращались основные трансмиссии. По узкой металлической лестнице я поднимался на открытый, без каких-либо ограждений, решетчатый настил под нижними крышками подведомственных мне аппаратов. Внизу под настилом вращались шкивы, ревели ремни и быстро бегали туда-сюда ползуны поршневых насосов. Через маленькие краники я сливал в ведро «мертвый» остаток сиропа и приступал к самой тяжелой операции: отвинчиванию 12-ти больших гаек, уютно спрятавшихся в горячих ребрах крышки. Резьба была покрыта запекшимся сиропом, ключ был обыкновенный и, чтобы ухватить гайку, его приходилось держать под углом. Еще мне надо было пригибать голову, чтобы не обжечь ее горячей крышкой и держаться за что-нибудь холодное, чтобы не загреметь прямо на насосы. Ключ часто срывался, кисть проходила по горячим ребрам крышки (о применении рукавиц у меня воспоминаний не сохранилось). Сахарный сироп, попадая на сбитые костяшки пальцев, превращает их в «долгоиграющие», т. е. – в долгозаживающие.
Взгляд из будущего. Теперь я знаю, что администрация завода грубо попирала охрану труда и технику безопасности. Конечно, и время было такое, что об этом особенно не задумывались: совсем недавно легли костьми миллионы. Тем не менее, в случае моего увечья или гибели, у администрации были бы огорчения, хотя, как показал последующий опыт, о котором я надеюсь еще рассказать, – не очень большие. Тогда же, с точки зрения 14-летнего пацана родом из Великой Отечественной, – работа может быть разной, в том числе – опасной, и ее просто надо делать.
Открывание верхней крышки, где все видно и доступно, казалось легким развлечением. После ее открывания, я хватал трехметровый шомпол с упругим пятачком на конце и, стоя на все еще горячей трубной доске, с энтузиазмом прочищал полсотни трубок. Затем начинался обратный процесс сборки, который шел гораздо быстрее: все уже было холодным. Потоки пара, а после прогрева аппарата – и сиропа, переключались на очищенный аппарат, и все начиналось сначала.
Несмотря на все трудности моей новой должности, у нее было одно существенное достоинство: свободное время, – пока остывали или нагревались мои решоферы. Рядом, на батарее диффузионных аппаратов бурлила неведомая жизнь, к которой с интересом я начал приглядываться. Бегали люди, закрывали и открывали множество вентилей и краников, засыпали стружку сахарной свеклы с широкой ленты транспортера по очереди в большие отверстия в полу, закрывая их затем тяжелыми крышками. Командовал всей этой колготней бригадир Юлик Посмитюха, высокий симпатичный парень, всего лет на 5–6 старше меня. Кое-что я уже начал понимать самостоятельно, но несколько невыясненных вопросов мучили меня, и я обратился с вопросами «почему» и «как» к самому Юлику. Он насмешливо оглядел меня с ног до головы и ответил вопросом:
– А ты, сынок, случаем, не немецкий шпион?
– Не-а, – смутился я.
– А справка у тебя есть? – продолжал наступать Юлик. Я собрался с силами и серьезно ответил:
– Конечно, есть. Даже – две. Одну подписал Риббентроп, другую – сам Гитлер.
– Ну, тогда тебе можно кое-что рассказать, – смягчился Юлик, но внезапно спохватился. Слушай, сынок, не ты ли бомбил с немецкими самолетами мастерскую, когда она загорелась?
– Нет, я тогда служил в пехоте, – скромно потупился я.
Высоко оценив мою скромность и убедившись в моей лояльности, Юлик стал моим настоящим учителем: он глубоко знал и понимал завод. Отвечал он на мои бесчисленные «почему», «как», «что это» с непередаваемым лукавым юмором, но обстоятельно и понятно.
Диффузионная батарея – желудок сахарного завода. Именно здесь из настроганной свеклы извлекается сахар в виде водного раствора – сиропа. Батарея состоит из 12-ти «кастрюль», между двумя рядами которых проходит лента транспортера, несущего стружку свеклы после резки. Каждая вытянутая в виде яйца «кастрюлька» имеет объем 40 кубических метров и открывающиеся дно и крышку, диаметром по полтора метра. Кастрюлька доверху заполняется стружкой свеклы, герметично закрывается. Снизу, через всю массу стружки, под большим давлением проходит горячая вода, вымывающая сахар. Сироп на выходе подогревается паром в специальном теплообменнике – бойлере и направляется на следующий диффузор – «кастрюлю». В таком последовательном соединении обычно находится 10 диффузоров из 12-ти. Из оставшихся двух, по выражению Юлика, первый – «кушает», а последний – «какает». Когда полностью заряженный первый диффузор подключается к горячей воде, бывший ранее первым стает последний, и его начинают наполнять стружкой, предпоследний – очищается, – и так без конца. Чтобы выполнить эту схему, надо было отрывать и закрывать каждый раз десятки вентилей и вентильков, расположенных на полу возле верхних крышек диффузоров. Что в данный момент открывать, а что – закрывать, – можно было легко понять, зная принцип работы всей системы. Но с общими понятиями у бригады Юлика, состоящих из необученных селян, в основном – женщин, были проблемы. Я, как мог, помогал учителю. Через несколько смен я уже почти самостоятельно мог стоять вахту вместо него, что позволило Юлику одновременно выполнять работу заболевшего выпарщика и бригадира фильтр-прессов…
Отходы диффузионной батареи – жом – это лишенная сахара стружка сахарной свеклы. Жом насосами перекачивается в специальную мощеную яму, размером больше футбольного поля. Это ценный корм для скота, и там всегда тесно от подвод и автомобилей, вывозящих свежий жом. Через несколько дней жом прокисает. Этот жом по запаху уже мало напоминает Шанель № 5, но коровы, незнакомые с французской косметикой, его поедают, как будто, еще более охотно. К весне остатки прокисшего жома совсем загнивают, и запах жомовой ямы перекрывает все запахи в округе. Людей, живущих вблизи ямы, можно распознать метров за 100… В том немецком заводе, который мы перегружали с широкой колеи на узкую, якобы предусмотрена была технология высушивания жома и расфасовки его в бумажные мешки. Но такое немецкое чистоплюйство превышает пределы нашего понимания. Это стало, наверное, еще одной причиной, по которым дармовой завод по репарациям так никогда и не был построен.
Я не рассказал еще об одном важном технологическом процессе, без которого будет непонятно дальнейшее, а главное – не получится сахара. Прежде чем попасть на решоферы для подогрева, сироп смешивался с известковым раствором – «молоком». При этом известь отнимала у сиропа некие вещества, кажется, – пектины, которые мешали дальнейшему процессу сахароварения. Известь с захваченной бякой выделялась на фильтр-прессах, на плоских чугунных рамах которых были натянуты чехлы из плотной ткани, – весьма вожделенного материала для послевоенных обносившихся модников. Отработанную известь с прессов смешивали с водой и перекачивали в дальний сборник, километра за два от завода. Эта известь была желтоватая и непригодная для строительства, но являлась прекрасным удобрением, особенно для кислых почв. (Думаю, что практичные немцы извлекали из такой извести еще и примесь-бяку и делали из нее какие-нибудь пряники).
Я – «любимчик командира»
Мой сменный инженер Пастухов всю смену носился по заводу и бурячной. Везде что-нибудь случалось, что требовало немедленного вмешательства, чтобы завод не остановился. В основном это была нехватка людей. Люди болели, их дети – тоже. Кроме того, – каждому надо было один раз в неделю давать выходной. Ломка смен, то есть переход смены на другое время работы, происходила каждую неделю, что тоже вносило проблемы. Зияющие дыры надо было кем-то немедленно закрывать, выдав инструктаж длиной не более 60 секунд. По-видимому, я годился для этой роли. Постепенно я потерял свое постоянное рабочее место, приобретя должность «рабочего на выходных». В понятие «выходные», очевидно, входили всякие «нештатные ситуации», для расшивки которых требовались люди. Вся смена еще нежилась в комнате отдыха, а мы вместе со сменным инженером уже носились по заводу. Первым делом изучались запасы свеклы, доставленной гидротранспортером в ближний к заводу отстойник. Затем вдвоем при помощи тяжелого кайла из узкоколейного рельса взламывали и очищали камнеловушку (она называлась «камнеловушкой Рауде», – безвестный изобретатель поставил себе памятник на века, если кто-нибудь не придумает для ловли камешков более гуманное устройство). На весах «Хронос» – моем первом рабочем месте – снимались показания счетчика предыдущей смены, то есть начало нашего отсчета. Проносились по котельной, выясняли запасы угля и давление пара. Одной из болевых точек была «коза» – огромный вращающийся барабан, где непрерывно гасилась известь, образуя известковое «молоко».
Увы, как любая коза, наша тоже производила отходы, которые вызывали сильную головную боль у руководства. Отходы состояли из крупного песка и гальки, почти всегда присутствующих в обжигаемом в печи известняке. Эти отходы, в принципе, – прекрасный строительный материал, охотно забираемый для строительства. Проблема состояла в транспорте, точнее – в его отсутствии. «Коза» находилась в отдельной пристройке возле обжиговой печи, похожей на небольшую домну. Отходы «козы» загружались в вагонетку и выгружались неподалеку на площадку. Площадка уже заполнилась, отходы ссыпались рядом с рельсами, затем – под рельсы. Площадка поднималась. Наконец, подъем достиг такой крутизны, что вагонетку не могли выкатить даже трое мужиков. Тогда пришлось перейти на одноколесные тачки малой грузоподъемности. По проложенной доске груженую тачку еще можно было выкатить на вершину рукотворной горы и там разгрузить. При этой операции, правда, требовались изрядные сила и сноровка, а главное – отсутствие боязни заработать грыжу или радикулит. И этим требованиям я тогда удовлетворял.
Любимчик командира
Еще одна «убойная» операция того времени – погрузка сахара, затаренного в мешки. Стандартный вес мешка с сахаром в те времена составлял 90 килограммов (сейчас – всего 50 кг). На плечи грузчика такой груз укладывали обычно двое других. Подняв несколько раз по прогибающемуся трапу такой «кулек», начинаешь понимать, что «дрожь в коленках» – не только литературная фраза.
Я стал «любимчиком командира». Это понятие своего положения при руководстве возникло у меня гораздо позже – после просмотра одноименного югославского кино. «Любимчик» вовсе не означало трогательной любви начальства. Оно обозначало только веру начальства, что вышеупомянутый «любимчик» сможет справиться с любым заданием в любой, даже самой неблагоприятной, ситуации. Поскольку такие ситуации на производстве возникают непрерывной чередой, то «любимчики» используются руководством на 150 %. Меня всегда тяготила однообразная «тупая» работа. Работа «на выходных» мне нравилась своим разнообразием и непрерывным постижением завода, что было похоже на чтение интересной книги.
В зиму 45–46 года наш завод работал более полугода: с сентября по апрель. За это время я освоил очень многие специальности на производстве; правда, многие из них были простыми как репа и не интересными, типа «бери больше – таскай дальше». Неразгаданной тайной и недосягаемой мечтой оставалась одна специальность – вакуумщика, человека который ставит последнюю точку (иногда – запятую) в изготовлении сахара. Расскажу о ней.
Сахарный сироп, проходя через несколько выпарных аппаратов, теряет влагу и постепенно охлаждается. В вакуум-аппарат после еще одной фильтрации поступает бурая, довольно вязкая жидкость. В аппарате давление гораздо ниже атмосферного, поэтому даже при температуре около 50-ти градусов жидкость продолжает бурно кипеть и терять воду. Вакуумщик посматривает на приборы и напряженно наблюдает за кипящей поверхностью через иллюминатор на уровне глаз. Наступает некий момент истины, ведомый только Мастеру. В нишу вакуумного краника он насыпает несколько щепоток сахарной пудры – размолотого сахара. Поворот краника – и пудра немедленно высасывается разрежением аппарата, распыляясь над кипящим слоем. Тут же мгновенно зарождаются бесчисленные миллиарды кристаллов сахара. Кристаллы быстро растут, забирая из сиропа весь растворенный там сахар. Теперь Мастер по множеству каких-то признаков определяет конец кристаллизации. И недодержка, и передержка – ведут к потере сахара. Если кристаллы не удались, – очень мелкие, желтые, а в патоке полно сахара, значит изготовлен утфель— продукт второго сорта, который может быть только добавлен в сироп для повторной варки в вакуум-аппаратах. Нормально сваренный сахар – это прозрачные кристаллы сахара, наполняющие бурую массу патоки.
Правда, прозрачными кристаллы стают только после отделения патоки на мощных центрифугах – вестонках и промывки водой и паром.
Чайные церемонии
Работа вестонщиков находится под пристальным вниманием всех работающих на заводе, так как имеет много трагикомических эффектов. Но, чтобы они были понятны, непосвященным следует сначала рассказать о чаепитии на сахарном заводе в то время.
Чая, предназначенного для заварки в красивых маленьких чайниках, давно никто не видел. Ну, может, кто-то и видел, а некоторые – даже употребляли, но «широких слоев трудящихся» это не касалось. Чая не было. Некие травки, завариваемые нами в Казахстане, в счет не идут: здесь их тоже не было. Тем не менее, – не пить чай на заводе, вырабатывающем сахар для этого чая, – голодному человеку невозможно.
Народные умельцы изобрели альтернативную заварку – тоже из сахара. Его просто надо было поджарить в жестянке до коричневого состояния и вылить в кипящую воду. Дьявол, как всегда, был в деталях: сколько брать сахара, и до какого состояния его жарить, чтобы получить напиток высшего качества не только по чайному цвету, но и по аромату и вкусу. Шаг влево, шаг вправо – брак. Признанные мастера заварки чая пользовались на заводе всенародной любовью и уважением. Чай такого разлива обычно заваривался в ведре кипятка без добавления обычного сахара для простой сладости, это была «прерогатива» рядового потребителя, – материал в буквальном смысле лежал под ногами (правда, не везде).
Один-два раза за смену доверенные лица разносили чай в ведрах по рабочим местам; добывались из «тормозков» «домашние заготовки», – у кого они были. Начинались чайные церемонии. Стаканы не употреблялись из-за хрупкости и недостаточности объема. Большинство, в том числе – я, в качестве чайных сервизов употребляло жестяные банки из-под американской свиной тушенки емкостью литр и более. Опытным путем было установлено, что если в чай добавить более трех чайных ложечек сахара (в пересчете, конечно, на обычный стакан чая), то напиток царапает по горлу и становится «труднопоглощаемым». Этот неумолимый закон природы научились очень просто обходить. Сначала в «чайную» банку на три четверти ее объема засыпался сахарный песок, затем до полного уровня доливался чай. После размешивания такой чай уже можно было употреблять, быстренько восстанавливая калории, затраченные на общественно полезную работу.
И все-таки этот вид чая был не совсем полноценным: в горле начинало першить после полулитра. (Кстати: самый дефицитный продукт на сахарном заводе – соленые огурцы). Все мечтали о легендарной белой патоке, которую можно пить как воду в любых количествах. Эта патока могла быть изготовлена только на вестонках.
Сладкая-сладкая, белая-белая патока
Все, что есть хорошего в нашей жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
(WWW)Вестонки – центрифуги для очистки кристаллов сахара от патоки. На нижней части вертикального вала вестонки закреплен цилиндр диаметром более метра и с загнутыми внутрь краями. Внутри цилиндр облицован мельчайшей латунной сеткой, не пропускающей кристаллы сахара. Вал и цилиндр центрифуги раскручиваются до 30 тысяч оборотов в минуту. Туда вливается продукт – сахар с бурой патокой. Огромная центробежная сила размазывает продукт по вертикальной поверхности сетки и выгоняет наружу вязкую патоку. По наружному кожуху бурая патока, в которой почти нет сахара, стекает к насосами перекачивается ими в резервуары хранения. Однако сахар еще желтоватый. Его отбеливают, обдавая паром, затем поливая горячей водой. Когда цвет патоки меняется на светлый, центрифугу выключают и сахар выгружают на движущуюся внизу ленту конвейера.
Вестонок на заводе стояло в один ряд больше 10-ти. Работать на них могли только очень крепкие мужики: невыносимая жара, все заглушающий рев центрифуг, непрерывная тяжелая работа, требующая предельного внимания. Но главное: если сахар немного передержать («пересушить»), то удаление его из центрифуги – работа не для слабеньких. Вестонщиком во время производства работал мой друг и учитель Миша Беспятко. Я видел, в каком состоянии бывал после смены этот могучий парень…
Очень большое значение для нашего рассказа имеет одна маленькая техническая деталь. Чтобы можно было следить за цветом патоки и знать, когда сахар будет готов, на боку кожуха приделана тоненькая смотровая трубочка. Выходящая из нее патока, прежде чем попасть в воронку и влиться в общий поток, – видна и осязаема. Все знали, что если продолжить поливать уже чистый сахар во вращающейся центрифуге горячей водой, то на выходе, вместо бурой патоки, будет идти белая – некий коллоидный раствор сахара и воды. Эта патока по цвету – светлый мед, по консистенции – сливки. Ее можно выпить очень много: почему-то она не дерет горло, чрезвычайно вкусна, замечательно утоляет голод и восстанавливает силы.
Вся беда была в том, что взять белую патоку можно было только из тоненькой смотровой трубочки. Чтобы изготовить литр белой патоки, надо было вылить на уже чистый сахар ведра полтора-два горячей воды, и тем самым отправить в отходы около пуда сахара. Этот пуд заметно повышал сладость бурой патоки в хранилищах. Это было очень хорошо для будущих самогонщиков, но вызывало сильную головную боль у технологов и администрации. Поэтому «промысел» белой патоки категорически запрещался. Сменный инженер еще мог закрыть глаза, если это делали к концу смены выжатые как лимон вестонщики, иногда угощая и его, тоже замученного.
Известна сладость запретного плода, тем более – действительно очень сладкого. У вестонщиков сразу находится масса друзей и знакомых, которые просто жаждут белой патоки. Конечно, очень старых друзей, вместе с которыми создавали, а затем – тушили пожары, удовлетворяют превентивно, без всяких просьб с их стороны… Однако, находятся, ну, очень назойливые и нудные «дальние товарищи», которые прилипают со своими просьбами намертво, подобно банному листу. Тогда в действие приводится проверенная годами акция, которую можно назвать «просвещение назойливых» или, например, – «очищение тела и души».
В горячую воду, которой поливают сахар в центрифуге, добавляют пол-литра машинного масла «веретенки». Полученную белую патоку, вкус которой никак не меняется, вручают избранному. Он с радостным урчанием удаляется на рабочее место, где сначала тайком предается потреблению запретного плода, и уже потом приступает к исполнению своих служебных обязанностей, ну, например, – крутит вентили. Завод уже все знает, и со всех этажей за избранным с интересом наблюдают. Через очень короткое время движения объекта становятся задумчивыми, затем – нервными. Наконец он начинает двигаться к ближайшему туалету. Медленные сначала шаги – ускоряются, затем переходят в бег. Объект долго не виден, но работа требует его усилий. Теперь уже бегом подопытный выскакивает из туалета. На рабочем месте быстро крутит свои вентили и опять же бегом уносится в туалет. Наблюдатели живо комментируют события и заключают пари, сколько ходок успеет сделать несчастный до конца смены… Как правило, страсть к белой патоке у страдальца резко идет на убыль. Это почти невинное развлечение повторяется несколько раз в сезон. Зрителей винить нельзя: телевидения не было, а кино привозили очень редко.
ЧП первое, увы, – не последнее
Всегда держись начеку!
(К. П. № 129)Завод несколько дней был на простое, – чего-то не хватало для плановой работы. Обычно на это время большинству рабочих дают выходные, кое-кто грузит кое-что или убирает где-то чего-то. Меня Пастухов пристегнул к своей доверенной женщине проверять и пересчитывать конверты (рубашки) на вторых тонких фильтрах. Эти фильтры стояли непосредственно перед вакуумными аппаратами. Но самое главное их свойство было иным. Конверты этих фильтров изготовлялись из плотной, но очень мягкой белой ткани. Из двух-трех конвертов (а было их сотни две в пяти корпусах) можно было пошить костюм хоть для свадьбы, настолько хороша была ткань. Во время простоя модники запросто могли вскрыть корпуса фильтров и приватизировать часть конвертов. Наша задача – открыть крышки фильтров и пересчитать конверты, а возможно, – оставшиеся конверты.
Ребристая горизонтальная крышка фильтра весила килограммов 100; одной стороной к корпусу она крепилась шарнирами. На противоположной стороне было кольцо, за которое для подъема крышки надо было зацепить тонкий трос. Над каждой крышкой на низкой ферме был блочок, через который надо было пропустить трос. Ручная тяговая лебедка, тянущая трос при подъеме крышки, была далеко внизу. При одном ударе по металлу я начинал медленно вращать лебедку, пока не следовал двойной стук, который означал: «Стоп». Три стука означали «Назад». Мы уже по такой методе подняли две крышки: после каждого подъема Женя (она носила мрачноватую фамилию Порубайло) пересчитывала конверты, затем я крутил лебедку назад, крышка опускалась. Трос переносился на следующий блочок, и все начиналось сначала. При подъеме третьей крышки после одного оборота лебедки усилие резко возросло. Я подумал, что шарнир крышки поворачивается очень туго, и продолжал медленно вращать лебедку, потому что сигнала «стоп» не было. Внезапно трос лопнул, оборванный конец со свистом пролетел возле меня. Наверху раздался крик. Я вылетел по двум трапам наверх. Женщина стояла, согнувшись возле фильтра, ее волосы были защемлены крышкой; затылок, лицо и руки по локоть были залиты кровью. Палкой, которой надо было страховать крышку после подъема, я каким-то образом приподнял крышку, освобождая волосы. Женщина упала. Ее лицо была сплошная кровавая маска. Я опять слетел вниз к телефону и вызвал дежурного и врача, – что кричал – не помню. Прибежали с носилками, унесли стонущую женщину…
Со мной начался «разбор полетов». Оказывается, дело было так: женщина зацепила трос за третью крышку, не перенося трос с блока над второй. При натяжении троса для подъема крышка немного приподнялась, пока не образовала с тросом прямую линию. Больше крышка подниматься не могла. Добросовестная женщина, стремясь быстрее окончить работу и не дав сигнала «стоп», – крышка ведь почти не поднялась, – сунула голову и руки в «крокодилову» пасть, и начала на ощупь пересчитывать рамы. Когда лопнул трос и пасть крокодила захлопнулась, она выдернула голову и руки, снимая скальпы со всех сторон…
Комиссия признала меня невиновным, воздав, наверное, бедному Пастухову, может быть – еще кому-нибудь. Я бы воздал на полную катушку недоразвитому инженеру, который поставил мощную лебедку с тоненьким тросиком для подъема удаленных невидимых тяжестей. Да еще по системе, требующей перестановки этого тросика на различные блоки. Поднимать эти проклятые крышки ведь будут люди, еще не до конца освоившие глубины теоретической механики и сопромата.
Я же считаю виновным себя до сих пор: если бы я тогда остановился… Женю Порубайло подлатали в местной больнице, увы, – не те доктора, которые без видимых швов натягивают кожу на лицах некоторых звезд, например – Л. Гурченко. (Признаюсь, – я разлюбил ее после разухабистого исполнения песен Великой Войны, – песен до боли, до каждой нотки и паузы знакомых и любимых). На лице и руках Жени Порубайло, до ЧП – миловидной сорокалетней женщины, – остались большие белые рубцы… При встрече с ней я не могу удержаться от сострадательного взгляда, а она – отворачивает лицо. Значит, считает меня виновным и она…
Ощупывание – как метод сохранения социалистической собственности
Чтобы жить по-человечески, надо чтобы платили по-божески.
(WWW)Половина завода буквально ходит по сахару, который, как известно, является ценным пищевым продуктом. После центрифуг сахар идет на досушивание в огромный вращающийся барабан. Барабан выдает отходы – окатыши затвердевшего сахара, сахарную пыль (кстати, пыль сахара в воздухе – взрывоопасна) и сухой сахар-песок, который должен затариваться в мешки. Мешков часто нет, и сахар ссыпается в кучу, огороженную валами из наполненных мешков в ангаре размером с футбольное поле. Высота куч – с двухэтажный дом. Периодически, когда поступают мешки, мы авралим в этом ангаре: разбиваем ломами успевший слежаться сахар, наполняем и перетаскиваем мешки. Мы попираем ногами ценный продукт. Сами мы пропитались запахом горячей патоки и сахара, и сахаром питаться можем только, чтобы утолить нестерпимый голод.
Но дома у каждого есть голодные близкие, которым очень хочется принести, – нет, не пищу – просто гостинец, конфетку. Хотя бы те желтоватые окатыши – отходы сушильного барабана. Нельзя, никак нельзя. Периодически в клубе устраиваются показательные суды. Судят в основном женщин, которые несли сахар голодным детям. На выходе из завода всех тщательно ощупывают, мужчин – охранник, женщин – целых две охранницы. Ищут в потайных местах, поясах, за пазухой, тщательно проверяют сумки. Народ не безмолвствует, и часто вместо унылого «шмона» получается первоклассный балаган. Кое-кто заходится якобы от щекотки. Чернявая молодица вдруг вырывается из рук охранницы:
– Ну и надоели мне твои ласки, зараза! У меня сегодня день рождения, хОчу чтобы меня Васыль пощупав! Правда, Вася, ты ж хочешь меня пощупать?
Молоденький охранник Вася краснеет до корней волос и говорит:
– Та не положено же.
– Так давай я тебя пощупаю! – добивает бедного Васю веселая молодайка, делая к нему решительный шаг. Вася в ужасе отступает, народ от души потешается, призывая к решительным действиям, кто – Васю, кто – Марусю…
Толпа потихоньку процеживается из помещения досмотра в холодную ночь, или такое же темное утро. Многие отлучаются в сторону. Мешочек (торбу) или банку с сахаром они вынесли и припрятали во время смены, когда одиночек, идущих по делам, не ощупывают. Шумная толпа вытягивается по территории завода к входным воротам. Охрана, которая там стоит, уже досматривает только глазами: не несет ли кто стандартный мешок весом 90 кг. Покинув ворота и ступив на бурковку, можешь считать себя вольным казаком: малая толика от социалистической собственности – уже навеки твоя.
Однако бывает проруха. Широкие ворота закрыты. Выход только через узкую калитку, где досмотр производит лично начальник охраны завода и особо доверенная, беспощадная к расхитителям соцсобственности, охранница. Тут уже не до шуток. Притихшая толпа молча, по одному, просачивается между рукастыми Сциллой и ХарибдоМ (начальник – мужчина). Все проходит благополучно. На том месте, где толпа ожидала досмотра, грязь на мостовой становится покрытой снегом. При более близком разглядывании – снег оказывается сахаром…
Вот все волнения позади и… забыты. Толпа движется по еле видимой мостовой в полной ночи. Только кое-где светятся одинокие тусклые огоньки керосиновых ламп. В толпе происходит некая непонятная постороннему перегруппировка. И вдруг ночную темень пронзает тоскующий и радостный, высокий и вибрирующий девичий голос.
В полi криниця,
В полi глибока…
Ладный хор в полный голос, где басы оттеняются высокими заливистыми первыми голосами, естественно входит в темноту ночи, полностью поглощает ее, делая незаметной.
А в нiй холо-о-дная вода-а-а…
Его люблю я, по нем страдаю
И не забуду никогда!
Никого не смущает, что половина слов на украинском языке, половина – на русском. Просто, это значит – песня народная, новая, – так мы говорим. Мелодия же такая, что позволяет петь полным голосом, а запевалам – оканчивать каждую строку высокими долго звучащими голосами.
Ой, надоĭли менi цвiточки,
Ой, то сади, то поливай,
Ой, надоĭли всi ухажори:
Ой, то люби, то забувай!
Одна песня сменяется другой, голоса далеко разносятся в ночи. Село, то ли – еще, то ли – уже сонное, слушает с благоговением: «гарно спiвають дiвчата!».
Що ти робиш, Галю?
Бурячки сапаю.
Як вечiр настане
Василя чекаю…
Однако, пора расставаться, толпа уже здорово уменьшилась в пути. Очищенные песней, с повлажневшими глазами, люди расходятся по обыденности и повседневным заботам. Только где-то глубоко спрятана радость: завтра опять будет этот, ни с чем не сравнимый, праздник души…
Тревога! Тревога!
– Скажите, а где тут поезд на Одессу?
– Уже ушел.
– Вот здрасьте! А куда?
(WWW)Я каждый день работаю на новом рабочем месте. Знаю уже почти всех рабочих и все дыры на заводе. Больше всего приходится работать на диффузионной батарее: Юлик иногда теряет юмор из-за недостатка людей. Ему дают «годных, необученных». Недавно такой кадр отправил в отходы 40 кубометров свежей свекловичной стружки. То-то, коровы радовались!
Рядом с диффузионной батареей стоят вертикальные корпуса выпарок с круглыми иллюминаторами на уровне глаз. Выпарщик, пожилой убеленный сединами человек, знал еще отца и явно благоволит мне. Я засыпаю его по своей дурацкой привычке вопросами: «что, как, почему». Он не сердится, подробно объясняет. Он меня даже допустил к своему священному месту – ГУДКУ! Рядом с выпарками стоял помост. Там на хорошо изолированной трубе размещается вентиль заводского Гудка, который расположен высоко над крышей. Рев гудка слышен в радиусе 20 километров, по нему сверяют часы. Большой круглый хронометр с римскими цифрами, по которому «дают» гудок, висит на стенке недалеко от помоста. Гудок открывать надо «с умом». Сначала вентиль открывается очень медленно: в трубе может остаться конденсат, и выстреленная давлением пара вода просто оторвет саму «гуделку». После «пробулькивания» вентиль открывается уже быстро. Могучий рев заполняет все вокруг. Теперь, кроме этого рева, не слышно ничего. Если гудков два или три, то на время паузы вентиль быстро закрывается до полного умолкания и открывается спустя несколько секунд.
Выпарщик (к сожалению, я не помню имени этого пострадавшего за меня человека) научил меня «пускать» гудок в знак особого расположения. Я самонадеянно полагал – за мои заслуги. Мы вдвоем стояли на помосте, ожидая точного совпадения стрелок хронометра. Первый раз он держал свою руку на маховике вентиля, чтобы я не сорвал гудок. Убедившись, что я действую «с понятием», он стал мне доверять полностью. Когда время «Ч» приближалось, он издали кивал мне головой. Я взбирался на помост и напряженно следил за стрелками часов, в нужный момент делая все как надо.
Реветь с такой силой – величайшее наслаждение, несравнимое даже со стрельбой. Кроме того, все люди моего поколения читали и восхищались неоконченным романом Николая Островского «Рожденные бурей». Там главный герой Андрей тоже «ревел гудком», запершись в обстреливаемой котельной. Производя такой могучий звук, никто не мешал тебе вообразить, что завод обстреливается, или ты стоишь (конечно, в должности капитана) на ходовом мостике океанского парохода…
В ту ночную смену я успел совершить массу полезных дел. В начале смены я вместе с Пастуховым вычистил камни в камнеловушке. Затем был брошен на прорыв в котельной: там увеличилось расстояние до запасов угля, и кочегары не успевали его подвозить вагонетками. Затем прекратилась подача свеклы на завод, и почти до конца смены я участвовал в разборке завала. Было очень холодно и сыро: завал был за территорией завода на открытой площадке. Я мог бы прямо с этой площадки уйти домой, но у нас после окончания смены в 6 утра было назначено собрание, на котором непременно надо было присутствовать. Примерно в 5:15 я пришел в завод погреться. Наша смена еще работала, и я, в ожидании конца смены, заслуженно растянулся на теплом помосте гудка, рассчитывая, что если даже усну, – рев гудка меня уж наверняка сможет разбудить. Первый гудок я слышал. Решил понежиться в тепле еще 15 минут. Когда я открыл глаза, часы показывали ровно без четверти шесть. Стрелка часов уже начала переваливаться на 46 минуту, а к вентилю гудка никто не подходил. Тогда я подумал, что должен действовать сам, и начал медленно продувать трубу гудка. Наконец могучий рев заглушил все вокруг. Уверенно я прервал гудок и начал реветь второй раз: во время «без четверти» положено было давать два гудка. Когда с чувством исполненного долга я повернулся, то увидел, что к моему подиуму бежит весь завод, причем – все незнакомые люди. Правда, одного я узнал. Это был начальник другой смены толстый Мультан. С побелевшим лицом он приблизился ко мне и выдохнул: «Ты что делаешь?». Я величественно показал на часы и произнес что-то типа «время гудеть». Мультан молча взял меня за руку и повел поближе к часам. Часы показывали шесть часов 45 минут. «Без четверти» было уже не шесть, а семь часов. Я проспал один час 15 минут и не слышал второго и третьего гудков.
Как ошпаренный я побежал в комнату ожидания, где должно было проходить собрание нашей смены. Оттуда бежали уже люди нашей смены с одним вопросом: «Что случилось на заводе? Авария? Пожар?». Я, как знающий истину, успокоил их:
– Да один дурачок там спросонок включил гудок, все в порядке.
У меня еще хватило наглости посидеть на концовке собрания. Правда, о чем там говорилось, – помню смутно.
Такое большое (и – громкое) шило, конечно, в мешке не утаишь. «Из достоверных источников» стало известно вот что. Наша директорша – несгибаемая царь-баба (рост – метр девяносто, вес – за 130 кг, потребляемое курево – махорка, тембр голоса – бас) Мария Петровна Черкасова в 6:45 завтракала картошкой с солеными огурцами. При звуках гудка надкушенный огурец застрял у нее во рту. Когда гудок взревел во второй раз, она бросила свои 130 кг к окну, опасаясь увидеть зарево пожара или полную темень крупной аварии. Окна завода горели по-прежнему, завод издавал специфический гул нормально работающих механизмов. Маруся протолкнула огурец вглубь туловища и схватила телефон сменного. Что ей сказал Мультан, и что она говорила немедленно вызванному на ковер Пастухову, – можно только предполагать.
А в окрестностях радиусом 20 км творились тоже события, внешне может быть заметные только по массовому появлению огоньков в окнах, доселе темных. Если бы существовал некий прибор, измеряющий мозговую активность широких слоев трудящихся, то он зафиксировал бы необычайный всплеск таковой у аборигенов этого обширного пространства. Большинство кинулось к своим приборам времени – хронометрам по имени «ходики», и начали внеурочно подтягивать гири и пальцем переводить стрелки. У трудящихся, более уверенных в своих часах, вихрем стали проноситься мысли о вселенских катастрофах: «Налет вражеской авиации? Пожар в жомовой яме? Забастовка? Смерть вождя???». Народ замер, ожидая следующих звуковых подтверждений своих самых худших опасений и вглядываясь в ночную мглу по направлению Гудка. Подтверждений не было, и аборигены в недоумении возвращались к повседневным скучным делам…
На следующий вечер Пастухов встретил меня мрачнее тучи.
– Немедленно! На бурачную! На пост регулировки! – произнес он, ошпаривая меня свирепым взглядом. Я молча повиновался: блеять какие-либо оправдания было бессмысленно. Согревала мысль, что я по-прежнему оставался любимчиком командира: он бросил меня на самый трудный участок. В тот поздний вечер (это было начало ночной смены) Пастухов в гордом одиночестве яростно вертел узкоколейным рельсом, очищая камнеловушку имени Великого, но безвестного, Изобретателя Рауде…
Жизнь Постового в изгнании
Жизнь не фонтан, но как бьет!
(WWW)Чтобы почувствовать аромат жизни рабочего на бурячной, и в частности – на посту регулировки, надо рассказать об этих важных объектах. Меня все время тянет нарисовать эскиз объекта и не упражняться в красноречивых описаниях. Огромным усилием воли я сдерживаю себя, подпирая слабеющую волю такими мыслями: «А вдруг эти записки станет читать Гуманитарий, незнакомый с ортогональными проекциями и размерными линиями? А что, если он не догадывается, что линии разной толщины и обозначают разные вещи? А вдруг…?», – такими гуманными соображениями я удерживаю себя от технических картинок в этом опусе – своей автобиографии. Хорошо бы нарисовать все красиво и понятно, со смешными человечками, – как у Жана Эффеля. Но, увы, это мне не дано, хоть и любимо.
Так вот: на расстоянии полукилометра от завода, на более высоком месте, расположено десятка полтора кагат. Кагаты – это глубокие V-образные рвы, с облицованными бетоном или досками стенками, длиной метров по 300–500, куда подъезжающие самосвалы ссыпают сахарную свеклу – буряки. На дне кагаты, то есть в нижней части буквы V, находится полуметровый лоток, по форме уже вполне славянской буквы П, правда – опрокинутой вверх ногами. Перед загрузкой в кагаты свеклы зияющую щель опрокинутой буквы П закрывают поперек множеством толстых дубовых досок – плашек. Это мероприятие, весьма разорительное для дубовых рощ Родины, не позволяет своевольным бурякам заполнить лоток, который предназначен для более высокой роли гидротранспортера. Из толстой трубы в начале кагаты, т. е. в самой его высшей точке, в лоток вливается поток воды, который под толщей буряков в кагате и – далее просто по открытым магистральным лоткам – самотеком устремляется к заводу. Если в конце кагаты специальной киркой с двумя острыми зубцами выдернуть крайнюю плашку или две, то слой свеклы, находящийся над ними, обрушивается в лоток. Свеклу подхватывает поток воды и несет в завод, попутно отмывая от грязи. (Я выделяю слова «начало» и «конец» кагаты, чтобы потом можно было понятно рассказать, как начало моей глупости, чуть не привело к моему же концу).
Но это было потом. Сейчас же я занял почетную должность Регулировщика на Посту, короче – Постового. Регулировать надо было поток свеклы, идущей к заводу. Если ее было мало, – завод задыхался от голода. Если много – питание застревало в горле – широком лотке отстойника непосредственно перед заводом, – и вода гидротранспортера не в силах была сдвинуть огромную массу буряков. (Из этой схемы ясно, насколько важным является правильное питание, – даже для заводов).
Для выполнения своих важных задач у меня было несколько орудий труда. Главное орудие – тяжелый шибер с рычагом, которым я мог на время перекрыть лоток с потоком свеклы. Если этот поток был очень большим, то при длительной задержке я мог образовать затор свеклы в подводящем лотке, особенно неприятном под мостами, где лотки проходили под дорогами. Тогда в действие надо было приводить другие, вспомогательные, орудия труда: руки, ноги и лом, при помощи которых ликвидировались заторы. Если заторы или дефицит ставали хроническими, в ход пускалось последнее средство – здоровая глотка. Я добегал к кагатам, и там объяснял работающим, что я лично об них думаю, настойчиво призывая их к подвигам или воздержанию от таковых.
Мое главное орудие труда – шибер – располагалось в дворце размером 2 на 2 метра с толстыми шлакобетонными стенами. Такие стены аборигенов научили воздвигать румынские оккупанты, отливая в опалубку тесто из бросового шлака и извести. В моем дворце были два окна с видами на управляемые лотки и двери для вхождения в должностное место. Правда, – окна были не застеклены, даже рамы не предусматривались. Рама двери и сама дверь тоже блистательно отсутствовали. Такие особенности архитектуры, возможно, были сделаны для лучшей вентиляции и комфорта летом. С другой стороны – эта предусмотрительность оставалась непонятной, поскольку завод летом не работает. Возможен и другой вариант: все окна и дверь были когда-то, но аборигены их изъяли (прихватизировали) для более насущных нужд в личном хозяйстве. В морозные зимние ночи шлакобетон ненавистных оккупантов явно притягивал к себе холод, вызывая неудержимые позывы к танцам возле руководящего рычага. На вторую ночь, исчерпав все известные па своих танцев, я занялся другим делом.
Запасенными зубилом и молотком я выдолбил в толстой стене великолепную нишу, имеющую выход наружу. В этот выход был вставлен отрезок трубы. Полученное сооружение было помесью камина Луя 14-го и казахстанской кабыци в земле. Когда в моем гибридном устройстве запылал огонь, то иней на стенах заискрился как бриллиантовый. На огонек забрели гости с кагат и жомовой ямы: оказывается, им тоже не хватало чего-то такого в суровых буднях. Общими усилиями осколками стекла заделали оба оконных проема, а на дверной – навесили рогожу; из досок получились сиденья. Стало тепло и уютно: света печурки вполне хватало, чтобы свернуть «цыгарку» и там же прикурить ее. Ночной клуб «На посту» начал исправно действовать. Вступительный взнос принимался чурками и щепками. Фирменные блюда в меню: обогрев, перекур, треп. В своей должности постового я стал кое-что соображать, и начал предвидеть всякие «суффиксы», не допуская их.
Блаженство длилось дней (и ночей) недели две, затем труба опять позвала меня на завод. Не то, чтобы я был прощен: просто я оставался «любимчиком командира», а амбразур, требующих немедленного закрытия грудью, у него было более чем достаточно.
Косая пахнет гнилыми буряками
… Трудно дышать, не отыскать
Воздух и свет…
Словно в час пик, всюду тупик
Выхода нет!
(В. В.)Пока у гипотетического читателя этих заметок еще хранится в памяти устройство кагат и гидротранспортера, следует рассказать еще об одном случае на этой территории.
Наш завод был дежурным; вместо обычных 3–4 месяцев производства, мы работали более полугода. Мы влезли в весну, подбирая остатки свеклы со всех остановившихся заводов. В последней большой кагате уже была не обычная свекла, а некая бурая слежавшаяся масса, источающая густой дурманящий запах плохого самогона. Даже после очень трудного вырыва плашек над лотком, спрессованная масса бывшей свеклы не хотела падать в лоток. Ее надо было «отколупывать» ломами маленькими кусочками. Завод не мог работать с таким мизерным питанием. На бурячную были брошены все силы, однако увеличение числа «колупающих» помогало мало: их просто негде было разместить в кагате. Тогда руководство приняло рискованное решение: работать на кагате одновременно с двух концов. Это означало, что свекла, сброшенная в лоток в начале кагаты, проходила под толщей слежавшейся свеклы на всем протяжении кагаты. В случае затора потока где-то по пути, пришлось бы раздалбывать, выгребать и чем-то вывозить несколько тысяч тонн спрессованной свеклы со всей 300-метровой кагаты.
В тот день Пастухов придал мне группу женщин и велел работать в недавно открытом начале кагаты, вблизи подводящих воду труб. Мы распределились и бодро начали работу: я вырывал киркой плашки, мои бабоньки ковыряли ломиками слежавшиеся буряки.
Вдруг одна из них добыла большую гирлянду из двух десятков нанизанных на стальную проволоку свеклин. Пытаясь удержать гирлянду, я схватил за одну из них, скользкий овощ выскользнул из рук, вся гирлянда оказалась в лотке, была немедленно подхвачена струей воды и затянута под нависающую громаду кагаты. Через несколько секунд вода вздыбилась и начала заполнять выработанное пространство кагаты.
Все произошло очень быстро. Мои женщины стояли с открытыми глазами, еще не понимая трагедии случившегося. Я бросился к вентилю подачи воды и перекрыл его. Поступление воды прекратилось, ее уровень в лотке начал медленно понижаться. С нижнего конца кагаты донеслись крики: «Воды нет!»; работа там, конечно, тоже остановилась.
Скоро остановится весь завод. Для меня это будет похлеще внеурочного гудка. Я начал медленно стаскивать с себя фуфайку, напряженно решая задачу: далеко ли успела вода затянуть проклятую гирлянду, смогу ли я достать ее? Судя по малому времени остановки потока – она должна быть близко…
Вода со скользкой свеклой заполняла уже только треть лотка. Я лег на дно лотка, наполовину погрузившись в воду. Вода была не очень холодной: ее подогревали перед подачей в кагаты, Конечно – не для моего удобства, а чтобы не замерзла. Отгребая руками и ногами скользкую свеклу, упираясь головой в плашки, я вползал в темень лотка все дальше и дальше. «Надо было все-таки привязать к ногам веревку», – подумал я. Такое предложение было, не было веревки и времени на ее поиски. «А что если гирлянду унесло на половину длины кагаты?» – думал я, продолжая вползать в щель лотка.
Наконец я нащупал руками проволоку и хотел с облегчением вздохнуть. С ужасом понял, что дышать стало очень трудно: вместо воздуха был только дурманящий аромат полугнилой свеклы. Я схватил одной рукой проволоку и попытался двинуться «задним ходом». Зажатая свеклой проволока не поддавалась, кроме того, мне не от чего было оттолкнуться: скользкая свекла просто скользила по мокрому лотку. Вертикальные стенки лотка, почти зажавшие меня, были совершенно гладкие и скользкие.
Мелькнула отчетливая мысль: погибаю. Вместо того чтобы быстренько прокрутить в сознании прожитые годы, мне почему-то представилось, как будет суетиться Пастухов, командуя добычей моего тела из-под толщи полугнилой свеклы. Эта картина наполнила злостью, я сосредоточился и начал кое-что соображать. Еще подергал проволоку, она немного поддалась, хотя каждый рывок меня тоже вдвигал вглубь лотка. Тогда я изменил тактику и начал перед гирляндой отгребать свеклу и переносить ее назад, рискуя замуровать себя. Гирлянда пошла легче, и я продвинул ее на полметра назад. Сообразил лечь на бок. Теперь я руками и плечами упирался в стены лотка, выталкивая ногами свеклу по дну лотка впереди себя. Дело пошло веселее, но на моем пути отступления вырастала куча свеклы, почти перекрывающая лоток.
Двигать ее и дышать ставало все труднее, и моя «расклинка» начала проскальзывать. Неожиданно пришло облегчение. Это женщины, обеспокоенные моим долгим отсутствием, увидели некие толчки свеклы, и начали ее усиленно отгребать назад от входа в преисподнюю. Когда они увидели мою ногу, то быстренько вытащили меня за нее вместе со злополучной гирляндой, которую я не выпускал из рук.
Первое, что я сделал «на воле» – открыл вентиль подачи воды и убедился, что она свободно проходит по лотку. Несколько минут сидел и вдыхал воздух, только слегка разбавленный запахом «бродивших» буряков, не чувствуя ни холода, ни мокрой одежды.
Женщина, добывшая гирлянду, тихо плакала, глядя на меня. Не знаю, сколько длилась моя операция: для меня время остановилось. На заводе ничего не заметили: знали, что последняя кагата подает свеклу с трудом. Кстати: из такой свеклы сварить белый сахар уже невозможно, и завод гнал утфель – мелкий желтый сахар пополам с патокой. Его можно, наверное, употреблять для изготовления каких-нибудь пряников, или в следующем году добавлять в сироп при изготовлении настоящего сахара.
Выдохся завод, выдохлись люди, кончилась даже гнилая свекла. Завод прекратил работу, уже очень «дерганную» в конце сезона. Начинался ремонт.
Расставание с заводом. Техника и музыка – народу
Дорогие вы мои,
Планы выполнимые!
(В. В.)Я был включен в ремонтную бригаду Иосифа Матвеевича Веркштейна, о котором уже немного рассказывал. Он принадлежал к рабочей аристократии завода и все умел и знал. Меня он начал учить по-настоящему. Человек он был юморной, любил подшучивать и разыгрывать людей, но его уроки слесарного мастерства были строги и деловиты. Не знаю, что он рассказывал обо мне у себя дома, но его дочка Маечка – ровесница и одноклассница Тамилы – восхищенно смотрела на меня как на восходящее слесарное светило.
Иосиф Матвеевич (ИМ) совершенно игнорировал присвоенные его рабочим разряды. Мы ремонтировали трансмиссии, вращающиеся в огромных баббитовых подшипниках, большие паровые вентили и насосы. Первая и самая грязная работа – их разборка и чистка. Бригадир без зазрения совести приставлял к этому делу («продиферить» насосики) всех, кроме себя и меня, числящегося все еще «подручным слесарем». Сейчас, во всяком случае, до 1988 года, когда я вынужден был заглядывать в Единый тарифно-квалификационный справочник, – такой специальности нет вообще. Поэтому моя профессия, вписанная в трудовую книжку, – либо атавизм, либо местное изобретение. Мы с бригадиром уходили «к бабцам», – заливать баббитом и затем «шабрить» подшипники, ползуны насосов и притирать большие бронзовые клапана. ИМ никогда не ругал меня, величал только по имени-отчеству, только иногда позволяя себе исторические пассажи, если я проявлял недомыслие или неумение. Если подшипник «не шел», значит, валу в нем было «так же хреново, как Наполеону на реке Березине» или «фюреру под Москвой». Если все «срасталось», – значит, мы это «разделали как бог черепаху» или как «немцев под Сталинградом». Мне было интересно работать с ИМ. Возможно, ему было интересно учить.
Дома жизнь была довольно беспросветной, хотя и с надеждами на будущее улучшение. Не хватало пищи. Одежда и обувь состояли в основном из заплат. Дома приходилось бывать не так много: для ремонтников рабочий день опять стал 10-ти часовым, при одном выходном. Надо было ухаживать за огородом, добывать и рубить дрова и выполнять еще тысячу дел по хозяйству. Конечно, мама и Тамила не все могли делать, а у меня не хватало вечеров и воскресенья. Да и работа липла ко мне, как блохи к собаке. Например, сломался замок. Я его починил, мама похвалилась соседке, какой у нее сын рукодельник. Немедленно у меня появилась гора допотопных поломанных запоров, которые надо было ремонтировать.
Меня стал заботить свет, точнее – освещение по вечерам. У керосиновой лампы было уязвимое место – стекло. Оно почему-то трескалось или разбивалось, лишая нас вечеров, когда можно было читать. Я, как крупный спец по коротким замыканиям, хотел решить проблему капитально: устроить автономное электрическое освещение. Для этого у местного умельца Серветника был приобретен источник тока – генератор с велосипеда. Я, уже знавший, что ток бывает переменный и постоянный, почему-то возжелал последнего, возможно, я мечтал о зарядке аккумуляторов на период безветрия. «Постоянный, постоянный, – если крутить постоянно», – развеял мои сомнения относительно рода тока сельский умелец.
Я начал строить ветроэлектростанцию. Из разрезанных вдоль трубок я изготовил шесть лопастей. Вместе с Витей Вусинским из дубовой чурки выточили на его станке ступицу; в ее косые пропилы я вставил и закрепил лопасти. Колесо ветряка получилось диаметром больше метра. Все это я насадил на вал. Большой шкив на валу передавал вращение маленькому на генераторе. Устройство, кроме ветряка, конечно, было размещено в ящике, снабженном мощным хвостом – флюгером, который должен был разворачивать ветряк против ветра. Поток электроэнергии снимался с контактных колец, не мешающих повороту ветряка. Настоящий ветряк я видел в брошенном совхозе в 1941-м. Высоко, на решетчатой колонне вращалось многолопастное колесо. Только там ветряк качал воду. Шток в центре колонны ходил вверх – вниз. Мы с Вилей Редько цеплялись за него – без какого-либо напряжения шток поднимал и опускал нас обоих. Такая машина снилась мне по ночам…
Постройку отдельной мачты мне было не осилить: не было подходящих материалов, да и как поднять ее – я себе не мог представить. Придумал такой вариант: стойку для своей электростанции я протыкаю сквозь соломенную кровлю, и закрепляю на стропилах.
Все уже было почти построено. Когда поднялся сильный ветер, я решил на земле испытать ветряк. Он лихо раскрутился, а меня начало трясти и мотать так, что я не мог его удержать. С чего бы это? Лопасти и колесо в целом были тщательно отбалансированы по весу. Одно было понятно: если это поставить на хату, она рухнет раньше, чем ток по проводам добежит до лампочки Ильича, которая должна ее озарить изнутри. Даже ничего не зная о динамической балансировке, можно было предвидеть тяжелые последствия от ее отсутствия. Да и освещение было дохлым: только вполнакала светилась крохотная лампочка от фонарика даже при бешеном вращении моей электростанции… Так что и этот мой проект рухнул под грузом технического невежества. В свое оправдание могу сказать, что даже спустя более полувека проблема получения энергии от ветра остается актуальной, хотя технические возможности ее осуществления неизмеримо выросли.
Технический взгляд из будущего. Когда в садоводстве в очередной раз вырубают свет, мне хочется вернуться к своей наивной детской мечте: построить ветроэлектростанцию. Только теперь, отягощенный технической мудростью, я твердо знаю, сколько всяких сложных устройств и автоматов надо установить, чтобы все это работало. Технически я мог бы все это сделать, пожалуй. Многое можно приобрести по отдельным элементам из других изделий: например генератор и регулятор напряжения с автомобиля. Но кроме мачты, ветряка – нужна еще батарея аккумуляторов, инвертор, превращающий постоянный ток в переменный и т. д. и т. п. Начинаешь сравнивать время отпущенной жизни (гипотетическое, конечно) и время, требующееся для решения такого, в общем, – небольшого вопроса, и терпишь, пока свет не включат. Сейчас, правда, продаются изящные японские электростанции с бензиновым двигателем, но эту прелесть придется возить с собой: утащат за милую душу.
Немного позже мне удался один «проект», который имел и дальнейшие последствие. Мной овладело радио. По описанию в каком-то журнальчике типа «Юный Техник» я построил детекторный приемник, в котором все детали, кроме наушников, были самодельными: катушка контура, переменный конденсатор и даже полупроводниковый (!) диод – детектор. Из всех полупроводниковых приборов (даже слов таких тогда не было) был известен «кристадин Лосева», – насколько я понимаю, предшественник транзистора. А вот полупроводниковые диоды – детекторы – я изготовлял лично еще в сороковые годы и успешно их применял. Делалось это так: свинец сплавлялся с серой. Кристаллический столбик разбивался. Если теперь к свежему излому слегка прижать заостренную пружинку, то можно найти такое ее положение, когда радио заработает. В наушниках все было хорошо слышно – без какой-либо дополнительной энергии. Правда, требовалась мощная антенна, которую я построил через весь огород на самых высоких деревьях.
Это было чудо. Я слушал киевскую длинноволновую станцию – все, что передавали. В перерыве говорил «Киев – РАТАУ», – там отчетливый женский голос по слогам диктовал дозу последних известий для районных газет. Не особенно надеясь на грамотность записывающих этот диктант сотрудников, женщина «с центра» отчетливо выговаривала и повторяла каждый слог и буковку. Я слушал все, часто засыпая с наушниками. Во сне чувствовал неслыханное облегчение: это мама или Тамила снимали с меня наушники.
Вскоре я «нащупал» еще одну мощную радиостанцию – Маяк. Мой приемник не позволял определить длину волны или частоту, и я до сих пор не знаю, где работал этот настоящий «Маяк». Современный «аптечный» Маяк, по которому без конца крутят рекламу фармакопеи, который без конца сам себя расхваливает, ни в какое сравнение не идет с тем старым Маяком. Тогда по Маяку непрерывным потоком, без всяких пауз лилась музыка и популярные песни. На этот поток с интервалом в десяток секунд накладывались позывные: несколько точек-тире, которые совсем не портили впечатление от музыки. Говорят, – это действительно был приводной маяк, позволявший брать пеленг движущимся самолетам и судам, когда сила и непрерывность сигнала имеют решающее значение.
К этому Маяку я «прикипел» душой. Любимые песни повторялись, что давало возможность записать слова и распевать их вместе с Толей, – я уже говорил, что у него был поразительный музыкальный слух. Особенно нам нравилась оперетта Мокроусова (?) «Роза ветров», песни и арии из которой мы горланили «в лицах». Я вопил басом: «Из моего гарема невольница бежала, сюда ведут ее следы, ал-ла. Она как злобный демон вдруг на меня бросалась, и клок волос из бороды рвала…». Толя отвечал строго по тексту женским голосом. Так мы проигрывали всю оперетту, которую по Маяку передавали несколько раз в исполнении Московского театра.
Экскурсия в музыкальное будущее. Через несколько лет, когда мы оба учились в Киеве, Толя часто меня «таскал» в свою любимую Музкомедию (?). Этот легкий жанр мне сначала тоже нравился, хотя пластинки я уже покупал с оперными ариями, а заслушивался пением Бориса Гмыри. Но вот появился анонс: в театре Музкомедии через месяц – наша любимая «Роза ветров»! Предвкушая неземное наслаждение от живого спектакля, мы ждали с нетерпением, билеты на премьеру добыли с большим трудом и за немалые для нас деньги. Уже первые звуки оркестра заставили нас вздрогнуть: музыка из самодельного радио звучала намного лучше, даже для нас непросвещенных! После первых арий наши уши завяли, а мы были в состоянии легкого ступора. Мы мужественно выдержали один акт: с первых рядов было неудобно уходить. Больше никогда в жизни мы не бывали в театре Музкомедии… Возможно, нам просто не повезло: в «Вечернем Киеве» вскоре появился фельетон. Заслуженная оперная дива Зинаида Старченко (?) правдами и неправдами пристроила в Музкомедию своего мужа. Слова из фельетона: «Когда он запел, то даже видавший виды оркестр Музкомедии дрогнул». Так вот на премьере одну из главных ролей исполнял этот самый муж…
Пришла радостная весть: в Деребчинской НСШ открывался восьмой класс! Мама настойчиво предлагала мне покинуть ряды пролетариата, в котором я уже естественно обитал как рыба в воде, и пополнить собой ряды учащейся молодежи, за которой будущее. На мои унылые возражения на тему: «как жить будем?», мама отвечала категорически и загадочно: «Якось стягнемося». Тамила тоже была «за». Мои заработки на заводе были не ахти, даже с учетом самогонного стимула. При мне главный инженер завода (отец моего будущего приятеля Алика Спивака) высчитывал, что мне надо работать лет пять, при этом не есть и не пить, чтобы накопить себе на приличный костюм. Так что кормильцем семьи в таком статусе я был неважным. Ну, освоил бы я еще несколько, оставшихся непокоренными, профессий на заводе, – а дальше что? Короче: я согласился с доводами родных и решительно поменял «статус-кво»: выскочил из рядов рабочего класса. 20 августа 1946 года я был уволен с завода – «в связи с уходом на учебу», как записано в трудовой книжке. В тот же день я написал заявление с просьбой о зачислении меня учеником восьмого класса.
Взгляд из пенсионного будущего. Обратно в рабочий класс я вернулся официально только спустя 42 года, в 1988 году, хотя всегда себя чувствовал рабочим, если не по званию, то по духу. Мне кажется, что это мне давало большую свободу, когда приходилось приказывать подчиненным выполнить какую-нибудь работу, часто – невероятно тяжелую и опасную. Я мог ее сделать сам, а иногда – и делал. И тут дело не только в каких-то особых трудовых навыках, приобретенных на заводе, хотя и это нужно. Просто важно иметь моральную готовность сделать это самому, лично. После завода это было просто.
09. Средняя школа
Нельзя войти в одну и ту же реку дважды…
Второй заход в среднюю школу. Опять голод
После завода оказаться в некогда привычных стенах школы – не так просто. Все необычно и непривычно. Чистый класс, свежеокрашенные парты, звонки через 45 минут, торопливые перекуры на переменках. Пожалуй, самая главная непривычность: сидеть почти неподвижно за партами, ставшими почему-то тесными, и чему-либо напряженно внимать.
Через несколько дней все «устаканивается» и становится привычным. Парты оказываются немного просторнее, под свежей краской на них проявляются вырезанные предыдущими поколениями имена. Курение через 45 минут, иногда только на большой переменке – очень гуманный режим, особенно если не торопиться. На многих уроках можно вполне расслабиться и читать увлекательную книжку, на других – с интересом слушать или решать задачи. Ну и главное: в классе появляется общество, коллектив, который живет по своим законам. Определяется «кто есть кто», сплачиваются группы и группки, объединенные школьными и другими интересами. Жизнь стает разнообразней и интересней, на переменках не затихает смех.
Однако смех этот ставал все сдержанней. На Украине выдалось чрезвычайно засушливое лето, хлеба колхозы собрали очень мало. Как водится, все подчистую сдали государству: обязательные поставки и т. н. «натуроплата МТС». МТС – государственные машинно-тракторные станции, которые за эту самую натуроплату выполняли в колхозах все машинные работы – от вспашки – до молотьбы и вывозки хлеба. На заработанные в колхозе «палочки» – так назывались записываемые в ведомости «трудодни», по которым в конце года должны были выдать оплату натурой – зерном и другими продуктами, – колхозники не получили вообще ничего. Был закон, по которому колхозник был обязан отработать в колхозе довольно высокий минимум этих самых трудодней, такой, что трудиться на своем огороде, с которого в основном кормились, было некогда. Дело в том, что этот минимум колхозу требовался не в любое время, а тогда же, что и личному огороду. Кроме того, сельхозналог натурой, т. е. собранным урожаем, полагалось сдать и с этого самого огорода, с каждой яблоньки, с каждого плодового куста.
Взгляд из близкого будущего на сельхозналоги и партийную семантику. Посетив родные пенаты после окончания института, я очень удивился, что крестьяне выделяют из всех и свято чтят память одного из «верных сталинцев» – Г. М. Маленкова, который, на мой взгляд, ничем особенным из общей массы «соратников вождя» не выделялся. Оказывается, за короткое время своего царствования, до того как попасть в «антипартийную группу», разгромленную Хрущевым, Маленков успел отменить этот натуральный сельхозналог, чем заслужил вечную благодарность и память народа. Эти поборы натурой были такими весомыми и омерзительными, что фруктовые деревья и всякую ягоду-малину на клочках земли возле хат просто вырубали. Может быть, именно этим объясняется полное отсутствие чего-нибудь растущего возле домов в тамбовской деревне Мельгуны, которое так нас поразило в 1941-м? Кстати, об «антипартийной группе». В постановлении ЦК она была обозначена перечислением фамилий (кажется, это были Ворошилов, Маленков, кто-то еще – я не хочу рыться в энциклопедии, изданной при Хрущеве). Фамилии всегда и везде – в газетах, по радио, во всех выступлениях – перечислялись строго в указанной последовательности. Забавно то, что в конце списка неизменно добавлялось: «и примкнувший к ним Шепилов». Из памяти людей моего поколения уже давно выветрились первые лица списка, но навеки врубился в сознание слоган «ипримкнувшийкнимШепилов» (по анекдоту – самая длинная русская фамилия). Именно так антипартийная группа «числится» в Малой Советской энциклопедии. Такова великая сила истинно партийного слова, придуманного Первым Лицом, таково похвальное единообразие миллионов.
Ну и еще два слова об этой «Малой Советской энциклопедии». До войны все внимательно следили за жизнью станции «Северный полюс» (СП-1), впервые в мире живущей на дрейфующей льдине в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Интерес всей страны к отважной четверке исследователей можно сравнить, пожалуй, только с интересом и всенародной любовью к первым космонавтам. Мы знали всех поименно: Папанина, Ширшова, Федорова, Кренкеля. Особой любовью народа пользовался Иван Дмитриевич Папанин, начальник станции. Собственно, и называли коллектив станции даже в прессе не официально, а просто – папанинцами. Вся страна, да и весь мир, затаив дыхание, следили за их борьбой и спасением, когда льдина двинулась на юг и стала раскалываться… И. Д. Папанин, отважный полярник, дважды Герой Советского Союза, доктор наук, контр-адмирал, начальник Главсевморпути в 1941–1946 годах, одновременно уполномоченный ГКО по перевозкам на Севере во время войны. Только высшим орденом Ленина Папанин награжден восемь (!) раз. Именем Папанина назван мыс на Таймыре, горы в Антарктиде, подводная гора в Тихом океане. Каждый может понять, как много сделал этот человек для Родины.
Однажды для какого-то доклада мне надо было уточнить время дрейфа станции СП-1. Естественно, я начал искать в энциклопедии Папанина, начальника СП-1. Там его фамилии не было. Не веря глазам своим, я несколько раз пролистал страницы. Были: Папа Римский, греки Пападиамандис и Папаригас, физики Папалекси и Папен, даже артист Папазян. Папанина не было. Тогда в других томах я начал искать Федорова, Ширшова, Кренкеля. Все трое были на месте, участие в СП-1 отмечено у каждого, как одна из главных заслуг. Папанин не упоминается нигде. Только позже я узнал причину такой неосведомленности составителей энциклопедии. Иван Дмитриевич осмелился возразить Хрущеву, чуть ли не по вопросу выращивания кукурузы на дрейфующих льдинах. И все. Уничтожить физически такого человека уже было невозможно: его знал и любил весь мир. Попытались уничтожить имя. Возможно, это сделал даже не лично Хрущев. Сверхисполнительных товарищей, специалистов попу-лизации, было воспитано достаточно, они синхронно колебались вместе с Первым Лицом…
Между тем уже осенью начался голод. В ту зиму умерло от голода много людей: стариков, детей, женщин, потерявших силы и способность бороться. Самые оборотистые прорывались в Западную Украину, там меняли свои товары на хлеб, или зарабатывали его, – тем спасали свои семьи. Умерла сорокалетняя дочь бабки Фрасины и ее двухлетний ребенок, нажитый от пленного узбека. Вскоре от горя и голода вслед ушла и наша бабка Фрасина…
Мама, Тамила и я выжили. У нас не было никаких источников доходов (нищенскую зарплату мамы можно было не брать в расчет: цены на продаваемые на рынке продукты были доступны только миллионерам). Я думаю, что нам помог казахстанский опыт выживания. За конец 1944 и весь 1945 годы мы, увы, мало что растеряли из этого опыта… Когда стало ясно, что надвигается настоящий голод, мы начали готовиться к нему. Во второй половине нашей хаты, предназначавшейся для скота, я отрыл небольшой погреб, куда мы ссыпали тщательно собранную и подготовленную картошку со своего огорода. Учителям давали еще по несколько соток «дальних» огородов. Там весной мы посеяли просо. Собранный урожай вручную очистили, перебрали и изготовили на крупорушке сельского умельца Вицка пшено – наш стратегический резерв. Осенью еще можно было почти за бесценок купить фрукты, да и на нашем огороде росло несколько слив. Все превращалось в сушеню – сухофрукты.
Был еще один источник помощи, о котором нас очень скоро заставили неблагодарно забыть: помощь Соединенных Штатов Америки. Это была совершенно необходимая нам тотальная помощь – продуктами, одеждой, автомобилями, оружием, материалами и еще Бог знает чем. Сразу после войны мы постарались забыть это, хотя все буряки на завод подвозили по немыслимым дорогам только сказочные машины «Студебеккеры» (я надеюсь еще рассказать об этих машинах). Вся армия и изрядная часть мирного населения питалась американской свиной тушенкой. Пустая тара от тушенки высоко ценилась в качестве чайных и иных сервизов. Из пожертвованной одежды даже Тамиле досталось пальтишко с удивительной подкладкой, переливавшейся всеми цветами радуги… Мне, слесаренку, в последние дни работы на заводе выдали продуктовый набор. Это был тщательно упакованный ящик из гофрированного картона с массой непонятных надписей и вполне понятных картинок с инструкциями по вскрытию сокровищ. Кроме нескольких банок свиной тушенки, там была двухлитровая прямоугольная жестянка с колбасами, залитыми смальцем – топленым жиром. Все это мы потребляли очень долго, растягивая время относительной сытости. А вот смалец мама слила в отдельную банку «на черные дни». Ее любимая поговорка в те времена, когда мы с Тамилой щелкали зубами и готовы были съесть все сейчас, немедленно: «Бiльше днiв, як ковбас!». Затем мама решительно пресекала наше пиршество, думая о грядущих днях, которых оказалось действительно больше, чем колбас. Кстати об американских посылках (скорее всего, это были остатки военных поставок по ленд-лизу). По объему, а главное – по качеству, они намного превышали современную продуктовую «помощь», получаемую нами сразу после развала СССР от Европы. Даже не говорю о воровстве и продаже за наличные этой «безвозмездной» помощи… Так вот, в той помощи, американской, были на выбор еще и посылки с деликатесами: вареньем, галетами, сигаретами “Camel” и Лаки страйк. Пахли они потрясающе. При курении, после крепкой махорки, они мне показались пресными, где вместо табака была бумага. Однако их дым, особенно если рядом дымили махрой, давал аромат непередаваемой прелести. Что-то у современных «Верблюдов» я не встречал такого аромата, – возможно потому, что рядом никто не курит махорку…
К весне, как ни старалась мама растянуть наши «ковбасы» на все дни, у нас уже ничего не осталось. Даже не сдав все многочисленные тогда экзамены за восьмой класс, я отправился на заработки, которые единственные позволяли выжить нашей семье. В колхозе имени Молотова за полный рабочий день (около 12 часов) сразу же выдавали целых 400 граммов (фунт) настоящей кукурузной муки, потребив которую могут не умереть от голода три человека.
Однако до этого момента произошли некоторые события. О них стоит рассказать, чтобы хоть как-то придерживаться хронологии, которую автор без конца нарушает своими дурацкими вставками из будущего, легкомысленно перемещаясь во времени туда – сюда, как будто он житель не Деребчина, а Амбера из фентези Желязны. Там жители силой воображения создавали себе любой мир и время, в которых хотели быть.
Моя свободолюбивая бабушка. Я – Наследник
Поздней осенью 1946 года мы получили письмо от дяди Антона. Бабушке Анастасии – матери отца – было плохо, и Антон решил забрать ее к себе. Мне предлагалось прибыть в родовое гнездо, в котором я ни разу в сознательном возрасте не был, для дележа наследства, – как представителю своего отца. Я поехал. Село Озаринцы находится в 10 километрах от Могилева-Подольского, стоящего, как известно, на Днестре, по которому проходит граница с Молдавией. До 1939 года она была также государственной границей СССР, на правом берегу была Бессарабия. Добирался я на перекладных, долго и нудно. В Озаринцах путем расспроса аборигенов нашел хату, где родился и рос отец. Из долины, по которой протекала небольшая речушка, надо было подниматься на каменистую возвышенность. Хата была как хата, правда, – довольно большая, стены были сложены из плит известняка, оштукатурены и побелены. Во дворе стоял обширный сарай – стодола. Состояние ворот и забора сразу выдавали отсутствие в доме мужиков: все обветшало и потихоньку разваливалось, все заплатки были выполнены явно неумелой рукой из подручных материалов – веток и лозы.
Встретил меня дядя Антон, в хате подвел к бабушке.
– Це синок Трохима – Коля, мамо, – представил меня дядя.
– А Трохима нема, – как-то отрешенно сказала бабушка, внимательно оглядела меня светлыми глазами и поцеловала в лоб. Я молча поклонился ей и поцеловал натруженную руку, пальцы которой были замотаны бинтами. Бабушке было уже более восьмидесяти лет, но лицо было моложавое, без особых морщин, глаза живые.
Из последующих рассказов дядьев (кроме Антона был еще Михаил) выяснилось следующая картина. Последние годы бабушка жила совершенно одна. Она обрабатывала свой огород (ей помогали только вскопать его), держала несколько коз, а главное – ткала очень красивые дорожки, которые во всем округе пользовались неограниченным спросом. Платили ей селяне в основном продуктами, которыми она делилась с детьми и внуками своей падчерицы – тоже, кажется, Анастасии. Большой ткацкий станок занимал целую комнату в чистой, хорошо прибранной хате. Так, что голод бабушке был не очень страшен: она могла прокормить не только себя, но и еще нескольких голодных, – у нее всегда были запасы.
Все изменилось поздним осенним вечером, когда в ее, никогда не запирающуюся, хату нагрянули трое грабителей в масках. Бабушка молча смотрела, как они сгребали кукурузу, пшено, муку – все ее запасы на зиму – в свои мешки. Но, когда они начали бить глиняные горшки в поисках спрятанных денег, – бабушка не выдержала:
– Совiстi у вас нема, поганi злодiϊ! А я ж твойому батьковi, Данило, допомагала, як вiн голодний i босий прийшов до мене! А тобi, Василю? Ви думаєте, як одягнули тi намордники, то вас нiхто не взнає? Бог вас за все спитає!
Поняв, что разоблачены бесстрашной бабушкой, грабители набросились на нее и стали ломать ей пальцы, пообещав убить, если она кому-нибудь расскажет об ограблении…
С тех пор в моей бабушке что-то надломилось. Она не испугалась угроз мерзавцев, через пару дней их «повязали»… Но бабушка как-то сразу постарела, все ей стало безразлично, привычная работа выполнялась с большим трудом. Она уже не могла жить одна. По моим незрелым наблюдениям, кроме отца, дядя Антон был самым совестливым, что ли, среди других братьев, он всегда заботился и переживал за всю родню. Только дядя Антон почему-то принял и нас, и родную мать, хотя у других, живущих на Украине, и условия были лучше, и бабушке, наверняка, было бы лучше. Впрочем, я знаю очень мало, и я им не судья…
К дядьям прибавилась еще тетка Анастасия. Предстояло делить дом, сарай, двор, ткацкий станок, утварь… Я, как полноправный представитель своего отца, сразу отказался от какого-либо наследства в пользу дяди Антона. В дальнейших переговорах, происходящих при обильных самогонных возлияниях, я не участвовал. Поскольку дядя Антон – непьющий, то вся тяжесть потребления зелья легла на плечи, точнее – внутренности Михаила, – он почти всегда был хорош.
Если сейчас не заскочу в будущее, то потом забуду! В Ленинграде на Краснопутиловской мы принимали гостей: дядю Михаила и тетю Шуру. Они приехали в гости к нам, чтобы заодно посетить сына Володю, курсанта ВВМУРЭ. Вечером, после встречи, мы хорошо «посидели». Утром, собираясь на работу, Эмма, будучи радушной хозяйкой, все выспрашивала гостей, что они едят на завтрак: кашу или яичницу, пьют чай или кофе. Гости переглядывались и не понимали, о чем их спрашивают. А мы не понимали, чего не понимают они. Наконец главный гость спросил: «А где бутылка?» Мы были посрамлены: у нас на утро были только чай и кофе. Хорошо, что у них «с собой было». Они быстренько исправили наше недомыслие (по стаканУ), после чего мы прямым путем двинулись к консенсусу. Они были настоящие народные учителя, а не какая-нибудь хлипкая интеллигенция…
Освободившись от дележа наследства, я с интересом вглядывался в места, где прошла юность отца, и изучал устройство ткацкого станка. Бабушка по станку мне все объясняла, подарила на память о себе небольшой, очень красивый шерстяной коврик. Очень мне понравился топор деда – сокира. Это был тяжеленный кованый снаряд с узким лезвием, – таким с одного маху можно перерубить небольшое дерево. Бабушка сказала: «Вiзьми його, синок собi, вiн менi вже не потрiбний». Я с сожалением снял топор с длинного отполированного топорища, которое не влезало в мой «сидор» (так тогда народ называл небольшие вещевые мешки с одной веревкой, используемые на манер рюкзака).
Хату, хозяйство и утварь оставили тетке Анастасии. Вряд ли дядья получили за этот подарок какую-нибудь компенсацию: что могли дать сирые и убогие? Тогда этим я не интересовался, а сейчас – спросить некого… Наконец назначен был день отъезда: у Антона кончался отпуск. Сесть на поезд до Жмеринки мы должны были утром на станции Вендичаны, где поезд стоял только три минуты.
Моя милиция меня бережет. Косая теперь внизу
Только неминуемая гибель спасла его от смерти
(из докладной)Поезд ожидался с большим опозданием, и нанятую телегу с провожающими пришлось отпустить. Наконец пришел поезд, но нумерация вагонов оказалась не с той стороны. Пока мы перемещали бабушку и несколько мешков пожитков метров на 100, – поезд ушел. Следующий – через сутки. Дядя Антон чуть не плакал: в этих, забытых Богом, Вендычанах не было даже маленького вокзальчика. Стоял уже приличный морозец, и бабушка, одетая в плюшевый кафтан на рыбьем меху, начала замерзать. Один из сердобольных железнодорожников сказал нам, что стоящий на запасных путях товарный поезд, скоро должен пойти в Жмеринку. Бабушка проявила чудеса героизма. Нам с дядей удалось поднять ее через буфер и сцепку на товарную платформу с высокими бортами, но без крыши, заполненную доверху толстыми бревнами. На маленькой площадке между буферами и торцами бревен мы и разместились.
Со всеми остановками, маневрами и сменой паровозов до Жмеринки мы ехали около четырех часов, превратившись в закопченные сосульки. На всех остановках мы вжимались в торцы спасительных бревен, чтобы нас не заметили и не лишили наших плацкартных мест. Наконец, по обилию железнодорожных путей мы поняли, что находимся уже в Жмеринке, и, не ожидая сигнала проводника, приступили к высадке – прямо среди множества путей и движущихся по ним паровозов. Выгрузка прошла благополучно. Не успели мы радостно вздохнуть и определить азимут дальнейшего движения, как к нам подошел человек с наганом в форме железнодорожной милиции и выбрал для нас этот самый азимут простыми словами: «Следуйте за мной!». Мы с дядей загрузили на свои горбы багаж, взяли за руки совсем закоченевшую бабушку и начали «следовать», спотыкаясь о рельсы. Конец следования привел нас в милицейский вагон, стоящий в одном из тупиков.
Бабушку усадили на узкую скамеечку в коридоре, я – остался стоять, а дядя ушел в купе к начальству – разбираться. Через некоторое время он вышел оттуда «без лица». Оказывается, за неделю до нашего путешествия был опубликован очередной Указ, «завинчивающий гайки». По Указу за езду на товарных поездах полагался один год отсидки. Кроме того, при обыске у дяди за голенищем милиция обнаружила холодное оружие – финский нож, который по военной привычке дядя всегда носил с собой. Эта статья тянула на еще больший срок.
Бабушка, наконец, согрелась и спокойно подремывала на своей скамеечке. Дядя несколько раз заходил в купе к начальству договариваться, – все было безуспешно. В один из его выходов бабушка спросила его:
– Тут добре, тепло. Але чого ми так довго не їдемо? Оказывается, бабушка думала, что заботливый милиционер посадил нас на нужный поезд…
Часа через три, после очередного захода в купе начальства, дядя вышел несколько успокоенный, и мы начали собираться: до отхода поезда на Москву оставалось мало времени, а еще надо было закомпостировать билеты. Милиция сжалилась: по-видимому, они просто не знали, что делать с бабушкой и со мной. В качестве наказания они изъяли у дяди финку, а, заодно – все имеющиеся деньги, так что у него их не осталось даже на чай в дороге. Я отсчитал себе на билет до Рахнов и все небольшие деньги, которые у меня были, отдал дяде. Вскоре к перрону подошел поезд, я посадил их уже на нормальную плацкарту и простился.
Бабушку я видел в последний раз. Она не смогла выдержать праздной жизни в теплой квартире дяди, скучала по родной Украине и своему хозяйству. Она не болела, – просто молча таяла и весной умерла. Ее похоронили в ивановских торфяниках, далеко от дорогих ей мест и могил…
Проводив дядю и бабушку, я купил билет на «пятьсот веселый» — так народ называл рабочие поезда – и, ощущая свою возросшую подвижность, спокойно и законно продолжал греться на вокзале, наблюдая пеструю вокзальную жизнь. Короткий зимний день уже давно кончился, но вокзал был залит ярким светом, от которого я уже изрядно отвык. Минут за десять до отхода поезда, я с сожалением покинул вокзал и пошел на перрон.
Наказание за свою самоуверенность и беспечность я увидел воочию. Теплушки поезда, пол которых был вровень с высоким перроном, были набиты так, что не только яблоку негде было упасть, – в плотную массу стоящих людей нельзя было бы поместить и спичку. Крыши и буфера тоже были уже заполнены народом. Попытки как-то вдавить массу с целью создания для себя места в дверях, были безуспешными. Не было места и на буферах. Отойдя от вагона, я заметил свободное местечко на крыше, но взлететь туда мне мешал мой драгоценный «сидор» с наследством. Встретившись взглядом с мужичком на крыше, я со словами «Подержи, дядя!» метнул ему свои сокровища и начал влезать на крышу по редким скобам.
Внезапно меня оторвали от них крепкие руки и отшвырнули от вагона.
– Отойти всем от вагонов, поезд отправляется! – кричали милиционеры. Чтобы закрыть двери теплушки, они вдвоем-втроем прессовали людей внутрь вагона, еще один с трудом задвигал тяжелую дверь. Дядя с моим мешком, увидев, что я вынужден остаться, стал пробираться по лежащим людям на невидимую мне сторону крыши. Мной овладело отчаяние и паника, но весь опыт прошлой жизни учил меня, что им нельзя поддаваться. Я сосредоточился.
– Ну-ка, козлик, брось сюда этот мешочек!», – спокойным, даже безучастным, голосом обратился я к большому мужику, которому было лет 45–50. Он заколебался: слушаться ли малолетнего пацана, отсеченного милицией. Я не суетился, ничего больше не говорил, спокойно наблюдая за мужиком. Мужик колебался. Овладение чужим могло окончиться для него плачевно: уж очень этот пацан спокоен, наверняка он не один… Подумав несколько секунд, мужик бросил мне мой мешок с наследством. Я только успел его надеть на плечо, как поезд действительно тронулся.
Не совсем понимая, что делаю, я догнал вагон и стал на узкую стальную полосу, по которой откатывалась дверь теплушки. Сзади заверещали свистки милиционеров, но было уже поздно: перрон кончился, и поезд набирал скорость по станционным путям. Я распластался на стенке теплушки, правая рука, на которой висел мешок со спасенным наследством, держалась за угол теплушки, левая – за ребро стального уголка на стенке.
Я ехал. Все было бы очень хорошо, если бы вагон не раскачивался на стрелочных переходах и неровной колее. Если толчок влево прижимал меня к спасительной стенке, то правый – отрывал от нее, заставляя со всех сил сжимать пальцами гладкие ребра вагона. Черная земля, утыканная невидимыми опасностями, теперь проносилась где-то далеко внизу. Морозный ветер быстрого движения выдул все тепло из моих пальцев, и я перестал чувствовать, есть ли у меня пальцы и держат ли они еще …
С ревом пронесся встречный поезд. Тугая волна воздуха чудом не оторвала меня от стенки. Я испугался. В расчетах своего падения я боялся только стрелок, способных проткнуть человека, и поломанных рук-ног на длинном перегоне. Тогда бы меня могли найти только случайно, и то – через несколько дней. Теперь я понял, что наличие встречных поездов сводит мои шансы на выживание к нулю. Принял решение держаться до последнего. До ближайшей станции, где поезд должен остановиться, было еще далеко…
Внезапно слева и выше меня с грохотом откинулся люк и женский голос произнес:
– Ой, бідна дитина! Розіб΄ється зовсім! – Этот голос был слаще ангельского, а открывшийся люк – лучше райских ворот! Собрав остатки сил, я как-то перенес «сидор» на левую руку и подкинул вверх. Женщина поймала его и втянула в вагон. Сделав отчаянный рывок, я схватился за низ проема левой рукой, затем – правой. Подтянувшись, я вполз в люк. Люди стояли так плотно, что в вагон я мог влезть только вниз головой, мне активно помогала моя спасительница. Естественно, – в итоге внедрения моя голова оказалась внизу – среди спрессованных ног и обуви счастливцев теплушки, моя же обутка – на уровне их лиц, что было не очень им (лицам) удобно. Поворот на 180 градусов занял достаточно времени и очень отдаленно походил на изящные сальто над батутом. Народ, стоявший вдали от окна, не переставал удивляться пронырливости шпаны, которая через маленькие дырки влезает в вагон на ходу поезда.
Я сохранил фамильное наследство и даже собственную жизнь. Опять меня спасла женщина…
Бабушкин коврик долго украшал своими яркими цветами стенку нашего жилища. К своей сокире (это украинское слово ближе всех стоит к образу боевой секиры; назвать ее топором — язык не поднимается) я соорудил отполированное топорище, даже длиннее бывшего раньше. Сокира на несколько лет стала моим самым любимым орудием не только труда, но и развлечений. На спор я одним ударом мог перерубить толстенную ветку, расколоть неподдающийся комель или поцеловать обушок, удерживая снаряд за конец топорища кончиками пальцев перевернутой ладони. Разве это чудо-наследство хуже какого-нибудь несчастного дворца, обычно – требующего ремонта?
Обжорство – страшный грех!
Наскоро сдав последний экзамен, я отправился в ближайший колхоз имени Молотова. В Деребчине их было целых пять: кроме Сталина, были «охвачены» Молотов, Ворошилов, Калинин и кто-то еще, – кажется, неизвестный мне Петровский. Крепкие до войны хозяйства теперь влачили жалкое существование. Подобие жизни в них поддерживали только бесчисленные «уполномоченные» райкома партии, терзающие председателя и бригадиров. Те, в свою очередь, ласками и сказками, а чаще – угрозами, выгоняли на поля «трудолюбиМых колхозничков» (так обозначил колхозное крестьянство мой довоенный приятель Коля Зелинский).
В колхозе, где остро не хватало рабочих рук, выдавали после каждого трудового дня 400 граммов полноценной кукурузной муки. Из нее можно было варить мамалыгу– плотную кукурузную кашу. Это было очень сытное, но разорительное блюдо: на него уходило много муки, а объем готового продукта был мал и проглатывался в один заход. Кроме того, сама мамалыга требовала еще чего-нибудь экзотического, например: поджаренных шкварок или молока. Более экономичное блюдо – бевка. По сути, это была та же мамалыга, но сильно разбавленная водой до состояния киселя. Бевка имела кучу достоинств: заменяла первое и второе блюда, наполняла желудок приятным давлением. В бевку можно было добавлять картошку, появляющуюся зелень, и вообще – любые съедобные вещества, – жидкие или твердые.
В школе тем временем назревали многообещающие для желудка события: выпуск 7-го класса. Несмотря на образование восьмого класса, школа все еще считалась неполно-средней, и седьмой класс был выпускным. Меня и Славку Яковлева пригласили на выпуск, как выдающихся личностей школы: мы были членами какого-то «кома»: то ли учкома, то ли комсомольского «кома», а может быть и потому, что мы были под рукой. Выпуск же, по нашим расчетам, должен был быть «съедобным», потому что среди выпускников были дети верхушки завода: директора (Лида Клочко), главбуха (Ира Мазур), одного председателя колхоза и еще нескольких крупных товарищей помельче. Такие выдающиеся люди Деребчина просто не имели права ударить лицом в грязь, выпуская своих чад в большую жизнь.
Действительность превзошла все наши самые смелые ожидания. После официальной тягомотины все присутствующие были приглашены в самый большой класс, где столы уже ломились от яств. Точнее было бы сказать: «от яства», – оно было одно: винегрет. Но зато, – в каком количестве и как оформлено! Мелко нарезанная картошечка, красная свекла, фасоль, морковка, соленые огурчики были украшены кружочками лука и политы настоящим подсолнечным маслом, источающим аромат поджаренных семечек! Но и это еще не все: если очень внимательно приглядеться, то среди красной массы винегрета можно было заметить очень маленькие кусочки мяса! Все это великолепие было наложено высокими курганами в длинные блюда, предназначенные их создателями, наверное, для больших рыбин или еще чего-то. Десяток таких курганов стояли посредине столов, сдвинутых в прямоугольное каре с разрывом для прохода. В каждый винегретный курган была воткнута большая деревянная ложка; для каждого едока была предназначена пустая тарелка и алюминиевая ложка. По замыслу создателей пиршества ближайшие индивидуумы должны были деревянной ложкой полОжить себе в тарелку яство, после чего приступить к трапезе, но уже своей алюминиевой ложкой.
Изредка стояли большие бутылки с розовым ситро и гранеными стаканами. Стол для VIP-персон демократично был накрыт так же, только бутылки отличались менее насыщенными оттенками розового, – для них, очевидно, уже не хватило красителя. Картина была бы неполной, если не сказать о дизайне пиршества: через каждые полметра столы были уставлены для красоты букетами цветов. Аборигены были еще не знакомы с утонченными изысками худосочной заморской икебаны, и букеты творили по древним образцам. Различные цветы формировались в плотные снопы значительного диаметра, которые устанавливались в подходящую тару, объемом от двух литров до ведра, залитая туда вода понижала центр тяжести и придавала устойчивость букету.
Когда VIP-персоны заняли свои места, директор дал отмашку, и двери были открыты для виновников торжества и приглашенных, вроде Славки и меня. Все ворвались в зал и немедленно приступили к пиршеству, не ожидая каких-либо тостов и понуканий. Сразу же выявился просчет организаторов: деревянная ложка была только одна на 5–6 человек. Пока первый интеллигентно наполнял свою тарелку, остальные, чтобы не скучать, приникли своими алюминиевыми ложками непосредственно к первоисточнику пищи – блюду. Первый, захвативший большую ложку, понял, что он теряет время на ненужную перегрузку продукта, и начал большой ложкой «загружаться» напрямую с общего блюда.
Пока VIP-персоны разливали розовую жидкость по стаканам, на остальных столах все было уже кончено. Народ начал скучать и уже потянулся к выходу. Чтобы не допустить неприличного сокращения важного мероприятия, директор распорядился запустить патефон и начать танцы. Девочки-выпускницы начали кружиться в основном с учителями и VIP-ами: свои парни явно не дотягивали до требуемого стандарта.
Мы со Славкой заскучали. Танцы нам были ни к чему. Иру Мазур, которой через несколько месяцев я буду посвящать все свои дневники, тогда я в упор не видел. Наспех проглоченный винегрет добавил только энергии на поиск новых источников пищи, – не более. После обзора местности мы поняли, что возможности еще имеются: на столе VIP-персон оставались почти не тронутые горы винегрета в огромных ладьях-тарелках. После короткого совещания мы выработали план и приступили к делу. Во-первых, в свой угол мы собрали несколько букетов и создали надежный заслон от нескромных взглядов. Славка прошел возле стола VIP-ов и незаметно сместил ладью с винегретом на скамейку, по которой я благополучно транспортировал ее в наше убежище. В этой ладье было почти ведро ёдова!
Первую треть еды мы проглотили очень быстро, вторую – с раздумьями. Последнюю часть мы съели только из-за принципа: не бросать же добро. Выползали мы из своего укрытия как удавы, проглотившие по большому барану…
Три дня я болел, работал в родном колхозе с большим трудом; три месяца меня коробило при одном взгляде на винегрет. Любовь с моей любовью Ирой Мазур – не получилась, несмотря на все мои старания. Возможно, потому что моя пассия видела, как я ел винегрет.
Из грязи – в князи и обратно
В природе, а значит – и в колхозе, – виды на урожай были неплохие, что давало надежду, что тиски хронического голода ослабеют. В колхозе меня сначала послали в бригаду трактористов – прицепщиком. На тракторах проводилась обработка сахарной свеклы и какая-то вспашка. Сидеть в пыли на плуге или культиваторе и управлять ими по 10–12 часов в день – задачка не для нервных. Трактористы это понимали и предоставляли отдых-поощрение: сажали за руль или рычаги своего грохочущего чуда. Недели через две я уже весьма прилично мог водить и колесные и гусеничные трактора. Часто что-то ломалось, и мы вместе с трактористом «загорали», разбираясь, например, с заморочками магнето, которое чаще всего и отказывало. С созревающих колосьев пшеницы снимали несколько хлебных жуков, которых казнили искрой от магнето.
Начинались жнива — страда деревенская. Комбайнов почти нет, кроме того, – они дают большие потери зерна. Долгожданный хлеб – пшеницу и рожь (жито) – убирают почти дедовскими способами. В зависимости от качества хлебного поля его жнут вручную серпами либо косят косой или машиной – лобогрейкой. Скошенный хлеб связывают в снопы и устанавливают для дозревания и сушки в копы — хитрое сооружение из нескольких снопов, которому не страшен дождь. Снопы различались по величине, следовательно, – и по весу. На некоторых полях плата (трудодни) рассчитывалась по количеству связанных снопов, – тогда они были маленькими и аккуратными. В основном расчет был по убранной площади, поэтому снопы были огромными.
Я, как обычно, – любимчик бригадира. Вместе с моими персональными вилами, бригадир каждый день бросает меня на участки прорыва. Скошенный и связанный в снопы хлеб мы нагружаем на телеги – корабли, которые свозят снопы на ток, где будет работать затем молотилка. Вилы с длиннющей полированной ручкой – щедрый подарок соседа (что-то я помог ему сделать), – моя гордость. Только этими вилами можно было забросить на вершину высоко нагруженной телеги тяжелый сноп. Даже мои заслуженные вилы трещали, не говоря уже о руках. К вечеру они уже еле ворочали тяжести. Но, – удивительное дело – следующим утром в руках появлялась необычайная сила, и тяжелые снопы летали как перышки. Самая тяжелая работа ставала в радость, тело просто требовало нагрузки.
Однако судьбе было угодно предоставить мне более интеллектуальные развлечения. Меня вызвали в райком комсомола. Райгенсек поставил меня в известность, что райкомом комсомола принято решение, которое утвердил райком КП(б)У (!), назначить меня в колхозе им. Молотова весовщиком от МТС. Мне полагались: твердая зарплата от МТС, часть из которой будет оплачена натурой – зерном, бесплатное трехразовое питание от колхоза и еще какие-то преимущества и льготы. Круглосуточный рабочий день на время молотьбы тоже гарантировался. Я до сих пор не знаю, кем и почему я был «выдвинут».
Чтобы постперестроечный читатель мог что-нибудь понять в этой информации, нужны пояснения. МТС – это не мобильная телефонная связь, тем более – не Московская телефонная сеть, а машинно-тракторная станция, государственное предприятие на селе, оказывающее колхозам обязательные услуги – машинами, людьми и советами. КП(б)У – Коммунистическая партия (большевиков) Украины, райком которой был полновластным хозяином в районе. Без ведома райкома не только не снимались и назначались различные «головы» (председатели), но даже каждый волосок на этих головах.
Казалось бы, какое дело вершителям судеб до чисто технической должности какого-то весовщика? Так вот: хлеб в коллективном хозяйстве (колхозе) – свободном объединении крестьян, – имела право молотить только МТС и никто больше. Колхозный хлеб от молотилки, принадлежащей МТС, принимал и взвешивал только весовщик от МТС. Его Цифра ставала законом для колхоза, которому давалось всего 2 % на последующие потери зерна при обработке и транспортировке – очистку, усушку и утруску. О всяких других изъятиях собственного зерна, которое вырастил и собрал колхоз, – и речи не могло быть. Комсомольский райгенсек, естественно, мне всего этого не объяснял, но многократно повторял о моей личной ответственности за соблюдение интересов государства, а вовсе не «трудолюбиМых колхозничков». Моего согласия на исполнение должности никто не спрашивал: мне было «оказано доверие», и я мог только «оправдать» его. С тем я и отбыл к исполнению новой, такой важной должности.
Важность должности я почувствовал сразу. Председатель колхоза, ранее в упор не видевший меня, стал первым тянуть руку, здороваясь. Уполномоченный райкома партии (была и такая должность в каждом колхозе) неряшливый Гиммельфарб, с вечными белыми «заїдами» в уголках рта, начал меня знакомить со своими планами лучшего сохранения социалистической собственности и жалобами (!) на председателя колхоза, который не спешит выполнять его, Гиммельфарба, предписания. Некоторые пожилые женщины вдруг стали меня величать по имени-отчеству. Правда, это я принял как их признательность за мою безотказную загрузку тех необъятных снопов, которые они вязали…
Колхоз готовился к молотьбе. Примерно посреди полей, но недалеко от дороги оборудовали ток с навесами для защиты зерна от дождей. Росла скирда, на которую свозили снопы со всех полей. МТС притащила старинную молотилку, которая называлась БДО-34. Сначала хотели вращать молотилку от парового локомобиля, который топился соломой. Однако чудовищу на четырех колесах требовалось очень много соломы, а главное – и воды, которую надо было непрерывно и издалека подвозить. МТС извернулась и добыла американский колесный трактор «Formall», который имел отдельный шкив для привода разных сельхозмашин. Я, как официальный представитель МТС, начал «обживать» новую технику. Тракторист доверил мне руль, и я немного поездил по скошенному полю. Маленький красный тракторишка казался шаловливым ребенком среди наших гремящих чудовищ с железными колесами, но лихо и мягко носился по полю, а поворачиваться мог вообще на одном месте: на каждом заднем колесе была своя муфта сцепления и тормоз. Мне очень понравился этот маленький трудяга, которого поставили на колодки, чтобы крутить молотилку через приводной ремень.
Наконец все было готово к молотьбе. Главный в толпе начальства дал отмашку, заурчал трактор, завертелась молотилка, издавая высокий воющий звук. Первый развязанный сноп в ее пасти «гавкнул», на мгновение понизив тональность воя барабана. Снопы подавались на высокий «стол» молотилки, одна женщина развязывала снопы, другая подавала их в ненасытное жерло молотилки. Посыпалось первое зерно, – первый хлеб, по которому все так истосковались. Люди далеко не сентиментальные зачерпывали его полными ладонями, лаская, пропускали живые струи сквозь пальцы. «Мои» рабочие, наполнив ящик-носилки зерном, бегом отнесли его на весы. Я взвесил первое зерно и сделал первую запись в рабочем блокноте. То же самое сделала весовщик колхоза – моя ровесница Неля Сулковская, – красивая девушка с иссиня-черными волосами, такими же глазами и темным пушком над сочными губами. К концу дня по этим записям будет выписана накладная на зерно, переданное в этот день на хранение и переработку колхозному весовщику.
Молотьба – коллективное действие, требующее полной отдачи сил от каждого. Солому от молотилки отгребают двое и загружают ее в некое подобие железного невода – «линку». По сигналу два вола тросом вытягивают линку на вершину скирды, где его раскладывают и расправляют опытные скирдоправы. Плохо сложенная скирда перекосится, промокнет под дождем, а может вообще завалиться набок.
Под навесом мои рабочие насыпали уже изрядную кучу зерна. Неля уже хлопочет там. Зерно начинают очищать на снарядах «триер» и веялка. Все они с ручным приводом, и женщины, меняясь, вращают тяжелые рукоятки. Все звуки на току перекрывает прерывистый вой молотилки. Со временем все к нему привыкают. Когда он по какой-либо причине умолкает, уже тишина кажется ненормальной.
Вот все глохнет. Обеденный перерыв. Все разбредаются, достают припасенные нехитрые харчи, среди которых преобладают зеленые огурцы и редиска со своих огородов. Хлеба нет, мясо можно увидеть только во сне. Нас, нескольких работников МТС, – кормят по полной программе. Женщина-кухарка подвозит на телеге хлеб, термоса с наваристым борщом, кашей, какими-то салатами и даже компотом. Наливает нам в тарелки, забирает пустые, предлагает добавку, спрашивает – вкусно ли, и что бы мы хотели на завтра. Меня мучает совесть, я знаю, что многие питаются все еще бевкой.
Как рыба в воде чувствует себя только машинист Гриша Бойко. Это худощавый сорокалетний мужчина, с трехдневной щетиной на лице и круглыми без блеска темными глазами. Личность в Деребчине известная и легендарная. Будучи частенько навеселе, он мог стучать в любую хату, требуя выпивки. Когда ему отказывали, он злился и кричал:
– С вами разговаривает Сын Родины, гвардии сержант Григорий Бойко!
Когда наливали, он начинал рассказывать о своих подвигах:
– Вы знаете, кто брал Берлин? Первым в Берлин ворвался Жуков, вторым – Буденный, третьим был я, гвардии сержант Григорий Бойко!!!
Таких «безбашенных» сержантов было много после совсем недавней войны. Очень может быть, что они неплохо, возможно – геройски, воевали. Но, кто знает, – когда и от чего они стали «безбашенными» и посмешищем для всех… Сейчас Гриша чувствует себя главным на этом празднике: от грамотных действий машиниста действительно зависит все. Благосклонно принимая ухаживания кухарки, Гриша развалился за столом и провоцирует меня.
– Вот ты, Мельниченко, грамотный, – произносит он с сарказмом. – Скажи, как расшифровать «ООН»?
– Организация Объединенных наций, – отвечаю я, поглощая давно не виданную краюху. Наш хлеб очень белый и очень желтый: он наполовину состоит из кукурузы.
– Ни хрена ты не знаешь! Это Общество Отомной Нергии! – «срезает» он меня, победоносно поглядывая почему-то на нашу кухарку. Они оба смеются, радуясь моей неграмотности. Такие диспуты происходят у нас на каждом перерыве. Я веду себя совершенно спокойно, незадолго до этого я наизусть заучил лермонтовские строки: «Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной – все то же, что черпать воду решетом; от сих троих избавь нас, Боже». Ни я, ни «сын Родины» не знаем, что всего через 9 лет я по самые уши буду сидеть в этой «отомной нергие»…
В своей работе я провел некую рационализацию. Зачем взвешивать каждый ящик зерна, если при одинаковом заполнении его вес остается постоянным? Достаточно отмечать только количество ящиков; затем, владея умножением в столбик, весь дневной намолот очень просто вычисляется. Однако просто стоять и ставить палочки – мне тоже было невмоготу.
Одна из рабочих, загружающих зерно из молотилки, была Молка – молодая рослая девушка, дочка портного Фавеля, который в 1941 году стерег немецкие авиабомбы. Молка была работящей, исключительно серьезной, молчаливой и неулыбчивой девушкой. Она, оказывается, сама по себе считала загруженные ящики!
– Какой это ящик, Молка? – спрашивал иногда я.
– Тридцать пятый! – без колебаний и запинки отвечала она. Проверив несколько раз, я убедился, что Молка считает гораздо надежней, чем весы Хронос, которые я недавно обманывал на заводе. Начальник может отсутствовать, если он хорошо организовал дело! И я блистательно отсутствовал, правда, – не уходя далеко от рабочего места. Колхоз меня кормил, как большого, и совесть не позволяла мне только взвешивать зерно, произведенное другими. У меня было два-три рабочих места, где я отдыхал от «канцелярской» работы. Непрерывная подача подвозимых снопов на высокий стол молотилки – очень тяжелая, совсем не женская работа. Я перехватывал вилы у одной из усталых женщин. Вторая тоже могла отдыхать в то время, пока я один создавал запас снопов на столе. Второе рабочее место было чисто спортивным и было мне милей других.
Очищенное зерно затаривали в мешки по 50–70 кг. Это было уже хозяйство Нели. Подъезжал трофейный «Ситроен» с небывало длиннющим кузовом. Мешками его загружали три мужика: двое снимали мешок с низких весов и поднимали на платформу грузовика с опущенным задним бортом, третий оттаскивал мешок поближе к кабине. Дело двигалось медленно, водитель «Ситроена» нервничал. Я предложил ему новую технологию. Машина отъехала от весов на один метр. Вдвоем с ним мы прямо с весов сорвали мешок и, без раскачки и подъема, забросили его сразу на половину длины кузова. Наблюдавшие женщины начали отпускать шуточки по поводу немощи штатных грузчиков. Те обозлились и по нашей технологии забросили свой мешок дальше нашего. Теперь уже выслушивать шуточки пришлось нам. Мы изловчились и забросили очередной мешок почти к кабине, одновременно сбив с ног замешкавшегося в кузове третьего грузчика. Зрители упали от хохота. Неудачник спрыгнул с кузова и вдвоем с самым сильным грузчиком начал швырять мешки, явно не дотягивая до нашего рекорда. Зрительницы – женщины, работающие на очистке и затаривании зерна, – разделились на два лагеря болельщиков, подбадривая своих и насмехаясь над чужими. Через пару минут оказалось, что кончились наполненные мешки, и болельщицы, спохватившись, бросились наверстывать упущенное. Тут уже грузчики пустились в рассуждения, что трепаться гораздо легче, чем работать руками…
С тех пор загрузка «Ситроена» проходила как спортивный праздник при массе болельщиков и участников. «Сын Родины» однажды тоже пожелал принять участие в соревнованиях, но организм, ослабленный алкоголем и недавним сытным обедом, не позволил ему дотянуть и до половины нашего броска. Свалив всю вину на напарника, гвардии сержант величаво удалился и более не участвовал в «детских забавах», как он назвал наши соревнования.
Но я немного забежал вперед. До этого веселья состоялись события не столь веселые. На второй или третий день молотьбы меня окружила группа людей во главе с бригадиром, который командовал всем током. Народ как-то странно посматривал на меня и переминался с ноги на ногу. Я ничего не мог понять.
– Николай Трофимович, – обратился вдруг ко мне бригадир. Я был всего лишь пятнадцатилетний пацан и от такого обращения чуть не упал. – Николай Трофимович, – продолжал бригадир. – Народ оголодал. Народ просит вашего разрешения, чтобы, значит, сварить и чтобы, значит, подхарчиться…
Я, наконец, понял: делегация колхозников просила меня разрешить им взять частичку посеянного и выращенного ими хлеба, чтобы иметь силы еще работать. Что-то горячее полоснуло меня по глазам и груди. Я начисто забыл все райкомовские инструкции.
– Это ваш хлеб, вы его посеяли и вырастили. Кто я такой, чтобы запрещать вам взять то, что принадлежит вам? Если речь идет о том, чтобы не подводить Нелю, – не волнуйтесь…
Наверное я говорил не так связно, но все всё поняли. Через пару часов на треногах стоял огромный чугунный котел, в котором варилась кутья на полсотни человек.
Возможно, это зерно не совсем еще разварилось, но люди так изголодались по настоящей еде, что не стали ждать. Каждый набирал в подходящую посуду сколько хотел, и ел, ел, ел. Ток замер, все работы остановились. Гриша Бойко уже начал набирать в грудь воздух, чтобы выразить свое недовольство, но его неожиданно жестко пресек, обычно очень вежливый, бригадир:
– Дай людям спокойно поесть, им не носят, как тебе!
Продолжение, к сожалению, было не таким радостным. Многие, с непривычки к такому количеству, а возможно – и качеству – пищи, просто заболели, – как мы со Славкой после ведра винегрета. Многим не хватало времени добежать до весьма отдаленного отхожего места. Ночью прошел сильный дождь, и мы с бригадиром грустно наблюдали кучки чистой пшеницы вокруг скирды.
– Надо варить хотя бы затеруху и печь хлеб, – грустно сказал бригадир. Но это надо везти на мельницу… А туда надо много. Остапенко (председатель) поймет, а вот Гиммельфарба тебе, сынок, надо бояться.
Я согласно кивнул головой. Вечером Молка доложила мне, что за день мы намолотили 155 ящиков.
– Ты ошиблась, Молка. Сегодня мы намолотили 140 ящиков.
Молка, удивленная моим недоверием, на мгновение широко открыла глаза, но уже через секунду глаза стали обычными.
– Конечно, сто сорок.
Через пару дней на току варилась каша для всех работающих и выдавался давно не виданный людьми свежий пахучий хлеб из зерна нового урожая.
С точки зрения власти я совершил преступление, превысил свои полномочия и т. д. Не посадили меня тогда, возможно, – случайно. Если бы начали раскручивать это дело, то наверняка бы оказалось, что часть этого хлеба прилипла ко многим рукам, через которые он проходил. Мне бы это доказали, показали бы наглядно, как я способствовал расхитителям социалистической собственности. Но никто бы и не вспомнил, что была решена главная задача: накормлены работающие на этом хлебе голодные люди. И что решение о таком необходимом и естественном деле, вместо высоких чинов, обязанных это делать, вынужден был принимать маленький человек. А высокие – то ли забыли о своем долге, то ли боятся, что им лично может стать хуже…
Наверное, примерно так я думал тогда, кипя благородным негодованием и представляя себя спасителем трудящихся. С годами я понял, что может быть и другой взгляд.
Сократительное отступление. Дальше следовали две страницы философических размышлений, показывающих, как в течение жизни плохие люди заставляли меня прозревать. Прочитав все это на трезвую голову, я выделил эти страницы, и нажал клавишу «Delete». Поэт уже давно сказал об этом, причем, – короче и понятнее.
Блажен, кто смолоду был молод.
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел.
И, все-таки: голодных работающих людей надо кормить, даже если по молодости еще не совсем созрел тот, кто может это сделать. Аминь.
Архивно-литературное отступление, почти отменяющее предыдущее. Эти пушкинские строки известны мне с младых ногтей. Они казались мудростью в последней инстанции, незыблемой и точно сформулированной. Текст «до» и «после» – не отложился, казался несущественным рядом с Истиной. Страсть к точности повела меня к первоисточнику: правильно ли передаю буквы Великого. Вник. И не мог оторваться. Буквы были переданы почти правильно, а вот дух – с точностью до наоборот. Поэт смеялся надо мной. Этим строкам предшествовали, оказывается, строки, ставящие под сомнения выученные:
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?
А после приведенных запомнившихся классических строк следовали иронические:
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.
И совсем уже добивал поэт читателя своими сожалениями о гибели благих порывов молодости:
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Такие вот не постигнутые вовремя глубины открываются дилетантам. Тем не менее, даже не понимая поэзии, – голодных работающих надо кормить всегда. Теперь уже точно: аминь.
Молотьба кончилась, через несколько дней уже надо было идти в школу. Без ставшего привычным рева молотилки я ходил как потерянный. Забрел на ток. Там еще группа женщин очищала и засыпала в мешки оставшееся зерно. Возле них хлопотала моя колхозная коллега Неля. Внезапно я разглядел ее: до чего же красивая девушка! Столько дней и ночей работали совсем рядом, и я не видел этого. Нужно, оказывается, иногда безделье, чтобы прозреть! У многих моих ровесников были свои девушки, у меня же – никого. Выяснив, что Неля в воскресенье будет дома, я задумчиво побрел с поля. Собрав все наличные, я отправился в сельпо и купил очень дорогую бутылку с красивым розовым напитком и яркими наклейками. Я представлял, как будем мы вдвоем с Нелей распивать этот неведомый, но наверняка прекрасный напиток. Это было чрезвычайно интеллигентно и красиво: ребята, когда шли «до дівки», не мудрствуя, тащили самогон, закрытый кукурузным початком.
Заявился я к «объекту» пополудни. Неля хозяйничала, старшей сестры, с которой они жили вдвоем, не было дома. Поговорили о делах, как обычно на работе. Разговор не клеился. Предвидя такой ход событий, я добыл из кармана злодейку с наклейкой. Неля сразу же стала суровой и официальной. Большие черные глаза, опушенные ресницами, превратились в щелочки.
– Немедленно забери! Никогда не смей этого делать!
Я пытался блеять нечто примирительное, но Неля запихнула мой интеллигентный выпивон мне в карман и заявила, что она меня проводит. Почти силой вытолкала меня из хаты. По пути Неля что-то говорила, но мне было скучно, и я ничего не слышал. Так мы дошли до каменного мостика, отделяющего «большой Деребчин» от Мазуривки, где жила Неля.
– Ну, все, мне надо возвращаться, до свидания.
Я вытащил бутылку из кармана и силой бросил ее в каменный бордюр. Нечто розовое и пахучее брызнуло во все стороны. Я повернулся и ушел, не оглядываясь. Неля что-то говорила вслед, но меня больше всего терзала мысль: что за напиток все-таки был в этой бутылке? Ну, нечем было ее открыть, чтобы попробовать, прежде чем шмякнуть о камень…
Закончилось длинное лето голодного 1947 года. Впереди – опять школа.
Мы – лицедеи
У всякого портного свой взгляд на искусство.
(К. П. № 45)К старости кажется, что время течет очень быстро, потому что ничего не успеваешь сделать, а уже тянет на отдых. Короче: проснулся утром – хочется прилечь. Когда начинаешь вспоминать молодость, то поневоле удивляешься самому себе: как много всего тогда успевалось. Конечно, сутки были такими же: просто сил было неизмеримо больше.
Сейчас телевидение, компьютерные игры и масс-медиа поглощают все свободное время молодых. У нашего поколения ничего этого не было. Зато мы много читали. И это были не комиксы, а вполне добротная литература. А еще мы играли спектакли. Сейчас их тоже играют на телевидении, – например в КВН, разнообразных фабриках звезд (!) и «последних героях». Там все отработано очень профессионально и лишено наивности и непосредственности, которая бывает у неофитов, особенно – у провинциальных. Впрочем, не мне судить о столь высоких материях, особенно в автобиографии, которую я пишу, часто и нелепо сбиваясь с прямых рельсов «былого» в извилистые огороды рассуждений и «дум».
Как тогда называли – «художественная самодеятельность» была наша утеха и любовь. В школе учитель математики Татарский организовал хор. Мы оставались после уроков и пели разные песни. Обязательный официоз – песня о Сталине, лучше – две.
Із-за гір, та за високих
Сизокрил орел летить.
Не зламати крил широких,
Того льоту не спинить.
……………………………
Шляхом сонячним орлиним
Мудрий вождь усіх веде!
Это было надо. Обязательно перед началом какого-нибудь торжественного собрания выходила наша штатная кликуха Зоя Полуэктова и специально отработанным дурным голосом (как Пельш, только без неприличных завываний в конце) орала:
– Предлагаю избрать в Почетный Президиум нашего собрания (конференции, совещания) Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с Великим Сталиным!
Дальше шли бурные аплодисменты, все вставали. После чего открывающий собрание VІP говорил:
– Разрешите считать ваши аплодисменты одобрением поступившего предложения.
Затем опять звучали аплодисменты и все садились. После таких же продуктивных обсуждений вопросов повестки дня, объявлялся, наконец, концерт. В его начале опять следовало объявление дурным голосом Пельша:
– Песня о Сталине! Слова Рыльского! Музыка Ревуцкого! Исполняет хор Деребчинской средней школы под управлением товарища Татарского!».
Все эти официозы рассматривались нами, примерно, как мытье рук в детском садике, – неприятно, но надо. Затем начинался праздник души. Пели песни разные и много – народные, военные, русские и украинские. Впервые Татарский научил нас осознанно, а не интуитивно, различать партии первых и вторых голосов. (К великому сожалению, я не запомнил имя-отчество этого энтузиаста песни. Замечательно то, что нашу с женой любимую передачу «Встреча с песней» вел тоже Татарский). Особенно запомнилась забавная песенка:
Кучерява Катерина чіплялася до Мартина.
Ой, Мартине добродію сватай мене у неділю!
Всю вторую строчку басы растягивали только: “Ой, Мартине”, что создавало очень красивый эффект. Но нам хотелось большего.
Мы начали очень серьезно работать над “Наталкой Полтавкой” Котляревского. По количеству включенных туда песен, то ли народных, то ли ставших народными, – это была целая опера, хотя там много говорят и прозой. Роли учили серьезно, наизусть. Наталку играла наша вездесущая Зоя Полуектова, ее любимым Петром был назначен импозантный Боря Стрелец. Поскольку Борису медведь наступил пяткой на слуховой орган, то его песни передоверили СлавкеЯковлеву, который играл Мыколу, друга Петра. Мне досталась роль старого крючкотвора – Возного, – это какой-то юридический чиновник на старой Украине. Возному очень нравилась Наталка, и он, пока отсутствовал Петро, прилагал все силы, чтобы взять ее в жены. Возный разговаривал на жуткой смеси русского, украинского, славянского и юридического языков: «Ежели б я имел стільки язиків, скільки артикулів у Статуті, ілі скільки запятих у Магденбургськім Правє, то і сих не довліло би на восхваленіє ліпоти твоєї». Возный пел только одну сольную арию, но какую:
Всякого рот дере ложка суха.
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?
Со временем мы перенесли репетиции в заводской клуб, где некоторые роли отдали энтузиастам из завода: мать Наталки стала играть Зося, старшая сестра Славки, появился поющий Петро.
«Наталку Полтавку» ставили в заводском клубе при сверханшлаге: мальчишки, не обремененные наличностью, пролезали под ногами и через немыслимые щели. Они, кстати, были самыми отзывчивыми, смешливыми и благодарными зрителями. Такой штрих: позже мы поставили пьесу украинского драматурга Карпенко-Карого. Я играл там какую-то не очень большую роль. Все до одного реплики мой герой начинал словами: «Покійний землемір Харитон Харитонович Кацавейченко говорив…» Я роль эту помню только потому, что пацаны еще год бегали за мной и орали эту сакраментальную фразу, так она запала им в душу…
Успех «Наталки» был оглушительный. В финале, когда хитрый интриган Возный отступается от Наталки и она воссоединяется со своим Петром, весь зал стоя орал вместе с артистами:
Де згода в сімействі, де мир і тишина —
Щасливі там люди, блаженна сторона.
Їм Бог допомагає, добро їм посилає,
І з ними вік живе, і з ними вік живе!
На спектакле присутствовали, кроме всего бомонда Деребчина, также все учителя нашей школы. Учителя приняли решение самим ставить «Наталку». Возможно, им захотелось исправить наши недоработки, а может ими двигала черная зависть к нашему успеху, – не знаю. Я был приглашен суфлером, поскольку знал наизусть не только длиннющие монологи Возного, – их я помню даже сейчас, – но и всю пьесу. У педагогов Петра играл невысокий, кругленький как колобок, преподаватель украинской литературы Иван Иванович. Голова у Ивана Ивановича была такой формы, как у гоголевского Ивана Никифоровича, то есть как редька хвостом вверх. Все знали, что он неравнодушен к большеглазой учительнице младших классов Анне, такой же кругленькой, как он. Репетиции происходили в пустом классе после уроков. Эти двое появлялись первыми.
– От що, Мельниченко (ко всем ученикам Иван Иванович обращался только по фамилии). Поки не надійшли учасники, прорепетуємо останню дію.
В этом последнем действии у действующих лиц было всего по одному слову: Петро вскрикивал “Наталка!”, а Наталка вскрикивала “Петро!”. Я важно открывал пьесу на нужной странице и начинал суфлировать, для приличия серьезно изучая текст. После моих подсказок герои произносили свои слова и бросались в объятия. Через пару минут молчаливого блаженства Петро с видимым усилием отрывался от Наталки и произносил:
– Ет, щось не те. Будь ласка, спочатку, Мельниченко…
Эту сценку они могли репетировать бесконечно, пока приход остальных участников не переводил стрелку на другие сцены.
Учительский спектакль, кажется, не состоялся, во всяком случае, на нем я не суфлировал. Зато бледная и худая Вера, жена Ивана Ивановича, вскоре забеременела и благополучно родила сына. Все знали, что эти двое стариков (им было уже по 30–35 лет!) давно хотели иметь детей, но у них не получалось. Счастливый отец мог запросто забыть о всяких репетициях. Его Вера поправилась и расцвела неброской счастливой красотой.
На праздники мы «давали» спектакли для малышей из младших классов прямо в школе. Сцена условно выделялась в том же углу большого класса, где мы со Славкой Яковлевым наслаждались винегретом. Дети плотной массой располагались прямо на полу и напряженно внимали разворачивающемуся действу. Однажды меня, – то ли полицая переодетого партизаном, то ли наоборот, – угощала жена лесника, которую играла смешливая Люда Окремая. Самоотверженная девушка притащила из дома кастрюльку с завидным харчем – голубцами – и открыла это великолепие перед сотней голодных глаз. Я неаккуратно потянул голубец, и он распеленался. Люда зашлась смехом, я тоже откровенно заржал. Сосредоточенно и молча за нами наблюдали десятки глаз, в полной уверенности, что так и надо. Затолкав капусту в рот, к авторскому тексту пришлось добавить: «Ну и бешеные у тебя голубцы, хозяйка!» Действо продолжалось.
Однажды мы чуть не погорели очень крупно. Прошла послевоенная денежная реформа, когда имеющуюся наличность меняли 10 к одному. Новых денег ни у кого не было, и мы решили их заработать. Собрались у Славки Яковлева и решили ставить пьесу «Шельменко-денщик» Григория Квитки-Основьяненко. Полистали пьесу, распределили роли, и уже через день в субботу решили ставить в заводском клубе. Заготовили красочную афишу. Намеченная еще одна репетиция сорвалась, так как все были заняты поисками реквизита для себя. Текста никто совершенно не знал, полагались только на импровизацию, суфлера не было: он был бесполезен. Зоя Полуэктова играла хозяйку (я даже не помню, как ее звали), роли простодушных селян исполняли Славка и Боря Стрелец. Я играл заглавного героя – хитрого солдата. Из реквизита мне удалось добыть ярко зеленую румынскую шинель. Для придания ей видимости военной формы старых времен, наскоро пришили непонятные петлички из красной ленты. К арендованной малокалиберной винтовке прикрепили деревянный штык за пять минут до начала спектакля.
Поскольку мы уже обладали репутацией, зал заполнил весь бомонд, и, как обычно, набилось полно пацанов.
Началось «действо». Мы носились по сцене и безбожно врали, не допуская пауз. Если бы в зале присутствовали Станиславский и Немирович-Данченко, – два инфаркта Деребчину были бы обеспечены; мне до сих пор стыдно за ту халтуру. Зато мы «заработали» по 35 рублей новых денег, это было неслыханное богатство!
Неприятности начались на следующий день. Оказывается, в зале присутствовал начальник Днепропетровского управления МГБ, приехавший в гости к кому-то из заводских. Ему чрезвычайно не понравились слова: «проклятый москаль», «упрямый хохол» и еще какие-то. Незадолго до этого, оказывается, компетентными органами был «доведен для исполнения» огромный список запрещенных пьес и книг. Директору школы и нам, лицедеям, грозило «политическое» дело. Тогда такие дела назывались еще не «антисоветскими», а попросту: «контрреволюционными». Специальный гонец был послан в райцентр, чтобы привезти этот огромный список запрещенной «бяки». Важные люди водили пальцами по списку, отыскивая нашего Шельменка. Но пройдоха-солдат и здесь проскользнул! Его в черных списках не оказалось!
Бдительный чин из МГБ уехал ни с чем. Мы получили, кроме бешеных заработков и изрядного стресса, также ценные сведения о некоторых неведомых нам произведениях, упомянутых в черном списке. Например, я узнал о романе «Людоловы» украинской «националистки» Зинаиды Тулуб. Мой одноклассник Боря Погонец немедленно притащил эту книгу из огромной семейной библиотеки, и весь класс с удовольствием прочитал эту яркую вещь об отношениях запорожских казаков, Крымской орды, Польши и Москвы в начале 17 века. Со значительными купюрами (возможно – с «редактированием») эта книга была переиздана в Москве в 1962 году под названием «Сагайдачный».
Не чурались мы и того, что теперь называют «чёсом», – выездных спектаклей для заработков. Конечно, эти самые заработки были ничтожны, но появлялась масса знакомств и новых впечатлений.
Запомнилась поездка в Мурафу. Там мы «дали» большой концерт с самодельным конферансом и пьесу (скетч?) «Балтийский мичман». Уж не знаю, как там концерт, а этот скетч мы сыграли сверхреалистично. Некий предатель (Славка) выдает Господину в сером (я) – якобы важному немцу, – секретные сведения о партизанском отряде. Но Господин в сером сбрасывает плащ – под ним тельняшка! Он – неуловимый Балтийский Мичман. С диким криком прозревший предатель бросается на мичмана, но, по сценарию, – «был повержен точным ударом в челюсть» мичманского кулака. Дальше мичман должен был спокойно связать предателя, – то ли для производства харакири, то ли для передачи «правоохранительным органам». Славка в артистическом рвении действительно напоролся на мой условно выставленный кулак, но не упал, а слегка озверел и кинулся на меня как бешеный. Мне перед лицом сотни зрителей и сценария ничего не осталось, как вступить с ним в настоящую борьбу. Первый раз Славка вырвался и смазал меня по фейсу. Пришлось его обхватить и шмякнуть об пол по-настоящему. Славка взвыл, но я навалился на него, заломил руки назад. Связать их Славка позволил только после угрожающего шепота: «Сделаю больно!». Наградой герою с окровавленной «мордой лица» были бурные аплодисменты и девушка, мгновенно разлюбившая предателя и полюбившая Мичмана. (Имея смутное представления о флотских званиях, мы полагали, что «мичман» – это морской генерал).
Большинство наших встреч, обсуждений и даже репетиций происходили в проходной комнате маленькой двухкомнатной квартирки Яковлевых. Их жилище размещалось в доме совсем близко от заводской проходной и недалеко от заводского клуба. Славкин отец, с пушистыми усами, немногословный и добрый Афанасий Николаевич, наш «дядя Таня», – был кадровым рабочим завода. Мать – Людвига Донатовна – хлопотунья – домохозяйка; сестра Зося, старше нас, работала в заводоуправлении и часто принимала участие в наших делах. Так вот, в яковлевской квартире всегда было полно молодежи, всегда звучал смех и споры. Именно там мы впервые встретились с Эммой. Часто Людвига Донатовна ставила на стол блюдо с горячей картошкой, солеными огурчиками, которые мы жадно поглощали, даже не думая, как это может быть накладно для хозяев. Часто мы засиживались допоздна. Наверное, я теперь это понимаю, мы очень стесняли своим неугомонным присутствием хозяев. Но ни разу эти добрые, по-настоящему интеллигентные люди, – ни словом, ни намеком не дали нам знак, что нам пора уходить: мы у них были как дома. А приходили мы в этот дом всегда с полной головой и, увы, – пустыми руками…
Давно уже нет в живых добрых стариков. Пусть земля вам будет пухом, а торсионные поля этого письма пусть донесут до ваших благородных душ мои запоздалые извинения за наш молодой эгоизм и недомыслие. Мы очень любили вас, но никогда не говорили вам этого. Простите нас за все.
Дневники. Конец ученичества – начало учебы
Со 2 декабря 1948 года я начал писать дневники – на половине разрезанной пополам тетради в клеточку очень мелким убористым почерком. Таких инвалидных тетрадей набралось пять; последняя запись 2 июля 1950 года. Время дневников перекрывало период окончания школы (почти весь 10-й класс) и весь первый курс института. Это время для меня было очень насыщенным и, как теперь говорят, – судьбоносным.
Эти упакованные листочки хранились более полувека нетронутыми. Где-то в подсознании я помнил о них и, открывая тетрадки уже в 21 веке, радовался, что у меня бесценный материал о середине прошлого века. Увы, там почти ничего не было. Там была только нескончаемая песня о Ней, о Первой Любви. Я был глубоко разочарован своим юношеским недомыслием и наивностью.
Однако, просматривая дневники второй и третий раз, я попробовал вникнуть в это «почти». Во-первых, там оказалась весьма ценная привязка некоторых событий ко времени. Во-вторых, даже намеки о событиях позволяют вспомнить и воссоздать их, зная о их последующей «судьбоносности». Короче: надо попробовать прочесть юношеские дневники рентгеновскими глазами старца на восьмом десятке лет, выжать из них лабуду и прояснить сущее.
Вот, что стало понятно из первой тетради – начало 02. 12. 1948. конец – 09. 03. 1949 г. Дневник – не хроника, а размышления обо всем. Писать буду под порывами вдохновения. Отвращение к подготовке к урокам. Читаю много случайных книг, все нравятся, некоторые – очень. По книге Д. Стейбека «Гроздья гнева» – гневные же рассуждения и недоумения: почему американские фермеры не делают революции? Пламенная надежда, что скоро сделают. Прорезаются некие намеки на влюбленность: что сказала, что написала и как посмотрела Она.
Дальше – больше. Цитата от 14. 02. 49 г.: «Сижу за столом, смотрю в книгу и вижу фигу, притом – историческую, т. к. гляжу в «Историю». Мои мысли… кружатся… вокруг одной сияющей точки. Я будто бы в блестящем (?) тумане, который освещает всего одно солнце…», и т. д. и т. п. Читаю «Хождение по мукам» А. Толстого. Она, конечно, – Даша. Она то подает надежду, то отталкивает. Я – мучаюсь. Среди этого невнятного лепета, вдруг живая сценка.
Возле доски решает задачу по физике Соня Мугерман. Тяжко задумалась: сколько будет ½ + ½. Соня – девушка с точеной фигуркой, большими и грустными семитскими глазами.
– Ну, сколько будет: половинка и еще половинка? – вежливо интересуется Петр Сидорович, наш учитель математики и физики, по прозвищу «Зверь Сидорович». Он бывший офицер, контужен на войне, терпеть не может слабо соображающих.
– Одна вторая, – нерешительно отвечает Соня. Весь класс поднимает по одному пальцу так, как будто определяет направление ветра на парусных гонках.
– Смотрите, я дал Вам полкулака, затем – еще полкулака. Сколько я Вам дал кулаков? – подбирает «Зверь» совсем не педагогический пример. Неясно также, как может раздвоиться его кулак?
– Н-ну, половину, – шепчет Соня, испуганно глядя на обладателя кулака. ПС совсем взбеленился:
– Вот с-с-спичка, я ее переломил. Даю Вам полспички, затем – еще полспички. Сколько я Вам дал спичек??? – исправил делимое ПС, и почти надвинулся на бедную Соню.
– Ну, – половину, – прошептала она, обреченно глядя на ПС снизу вверх. ПС в изнеможении разводит руками и вытирает холодный пот со лба. Собравшись с силами, он находит еще один педагогический способ.
– Даю вам полсотни рублей, – усталым голосом раздает он деньгу. – Потом – еще полсотни. Сколько я Вам дал денег?
– Сотню! – уверенно и как-то грозно отвечает Соня, глядя на «Зверя» сверху вниз. Класс грохнул. ПС не выдерживает и ржет вместе с народом.
Дальше в дневнике – опять сплошные сопли про любовь, что сказала она, пришла или не пришла, что я думаю по этому поводу, немыслимо сложные рассуждения по поводу загадочности девичьего сердца. Как будто тогда я мог думать. Объяснения с Борей Стрельцом: «до того» с Ирой «дружил» он.
А вот и объективные данные. Учить ничего не хочется. Денег – нет, не хватает на табак, кино и лезвия для бритья. Впрочем, это все мои расходы. Пропадаю допоздна в заводе, – мама сердится. Райком комсомола поручает мне провести проверку комсомольской организации в Семеновке, – это небольшая деревушка с колхозом километра за два от завода. Я с радостью хватаюсь за это мероприятие: Ира живет прямо на территории завода; я мечтаю увлечь ее с собой в эту Семеновку. От щенячьего восторга перехожу на немецкий с ошибками: «Мой далекий прекрасный девушка! Ich immer mit dir! Du immer mit mir!». Увы, немецкий мы знаем чуть хуже нашей учительницы – старой девы. А она умеет только спрягать «ich habe gehabt haben, du hast gehabt haben…» – und so weiter. А ведь немецкий придется сдавать… С тоской вспоминаю о стрельбе по умной голове казахстанского Берина и предпринимаю отчаянные попытки овладеть чужим языком по учебникам для средней школы. Кроме «Anna und Marta baden» с блеском овладеваю высокой ступенью: «Wir fahren nach Anapa», дальше дело стопорится.
Второй том записок (14.03.49–11.05.49) открывается велеречивым недовольством собой на тему: «хочется – получается». Получается – «пошло, глупо, натянуто». Привлекается в помощь Лермонтов: «… но как враги избегали признанья и встречи, и были пусты и хладны их краткие речи».
Запись: «Очень мало готовлюсь к урокам». Зато: прочитал: «Евгений Онегин», «Остров голубых песцов» Ильницкого, «Казаки» Толстого, «Избранные философские сочинения» Белинского, «Два капитана» Каверина, «Герой нашего времени» Лермонтова (пятый раз), «Посмертные записки Пиквикского клуба» Диккенса. Да еще «погружаюсь в Нирвану» для осмысления прочитанного. «Меньше спишь – меньше спать хочется».
«Новый директор ПС выгнал из школы за пение песен во время свободного урока. ПС – ишак: душит таланты». (В действительности «Зверь Сидорович» Кириченко любит и как-то выделяет меня, я это чувствую. Разглядывая мои мышцы у пруда, он обратился ко мне на «ты», сказал, что мне надо заниматься гимнастикой. Сам он запросто крутит солнце на турнике. Прощаясь на выпуске из школы, он подарил мне драгоценную, необычайно точную, логарифмическую линейку. Эта линейка ездила со мной везде, хранится и используется до сих пор. Дарителя уже давно нет в живых, – он еще молодым просто сгорел на работе. Да и военная контузия видно даром не прошла. Пусть земля тебе будет пухом, живой, неугомонный человек… Пусть твой, успевший родиться сын будет таким же, как ты).
В Семеновку моя пассия не пошла, а я сам неожиданно увлекся и зачастил туда. Организовал собрание колхозной молодежи, выступил там с пламенной речухой о том, что нам, молодым, строить этот мир. Опять собрание – уже комсомольское, приняли в комсомол двух человек. Задача новой организации была поставлена не слабая: восстановить комсомольское молодежное звено со звеньевой Верой Слойко. Веру «ушли», так как она отбила мужа у другой звеньевой, у которой был контакт с бригадиром. У меня хватало тогда невежества и наглости, чтобы разбираться во всех этих отношениях и чего-то требовать. Сейчас-то я твердо знаю, что в этих делах, отношениях между мужчиной и женщиной, – даже Господь Бог не может быть советчиком и руководителем. Тогда же я уповал всего лишь на комсомольскую дисциплину…
Кстати, о комсомольской и школьной дисциплине. Живем мы по драконовским правилам для учащихся, недавно «внедренных». Все ученики средней школы по этим правилам приравнены, пожалуй, к несмышленышам из детского сада, частично – к девочкам из благородного пансионата. Я не помню всех нелепостей правил, кроме одной: мы должны быть дома и в постели не позже 22 часов. (Заметим в скобках, что три-четыре года назад, – несомненно, я был тогда еще моложе, – у меня в это время начиналась ночная смена на заводе. То-то бы удивился мой сменный, узнав, что в это время, спустя четыре года, меня законодательно будут укладывать в постель!).
Но это присказка, сказка – впереди. Вышла книга А. Фадеева «Молодая гвардия», самое первое издание. Книгу давали по разнарядке в райкоме комсомола, на школу – всего два экземпляра: один «комсомольскому генсеку» школы (мне), другой – в библиотеку. Книга о войне, любви, трагедии, гибели – потрясала: это была талантливо написанная поэма о нас самих. Читали ее взахлеб, по жесткому графику. Наш драмкружок даже начал репетировать пьесу по книге: я был Олегом Кошевым, Зоя Полуэктова – Любой Шевцовой, Славка Яковлев – Сережей Тюлениным. И вот на экраны выходит фильм «Молодая гвардия», где главных героев – молодогвардейцев Краснодона, – играют совсем юные Нона Мордюкова, Сергей Гурзо, Инна Макарова. Кино в Деребчине в то время – важнейшее культурное событие. Тем более – такой фильм. Тем более – для нас. Естественно, что билеты на всех наших ребят были закуплены заранее, на самые лучшие места. Кино, обычно начинавшееся в 20 часов, по каким-то причинам было назначено на 21 час. Я пришел в заводской клуб минут за 15 до начала. В фойе увидел всех наших ребят, возмущенно гудевших. Их вышиб из зала Редько – директор школы. Он им заявил, что они не имеют права смотреть кино, оканчивающееся поздно, так как в 22 часа, согласно школьным правилам, должны быть дома в теплой постельке. Народ выжидательно смотрел на меня. Подчиниться этому маразму я просто не имел морального права, хотя меня уже дважды исключали из школы.
– Вперед, за мной, – дал я команду и двинулся в зал первым, за мной все наши. Редько, стоя в стороне, наблюдал за нашей демонстрацией, желваки играли на его скулах. Он был неглупый человек и понял, что может нарваться на открытое неповиновение при большом числе зрителей. Я подумал, что он «затаил некоторое хамство», как говаривал Зощенко, и разделается со мной позже. Однако, никаких «оргвыводов» не последовало. Очевидно, Редько понял, что наш прорыв выглядел в глазах начальства лучше, чем его буквоедство.
Еще о литературе. Конечно, – отступление. Фадеева за «Молодую гвардию» подвергли жестокой критике: он показал комсомол и молодых комсомольцев действующих самостоятельно. А где у вас, товарищ Фадеев, руководящая роль Партии? Несчастный писатель искромсал всю книгу, цельную и поэтическую, чтобы показать эту самую роль. Заодно сделал большой шаг навстречу своему грядущему суициду…
А еще мы тогда читали выступления Жданова и постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», где впервые, хотя бы в цитатах, познакомились с «пошляком Зощенко», «блудницей Ахматовой» и некоторыми другими. Стихи Хазина(?), описывающего пушкинским стихом приключения Евгения Онегина в советском Ленинграде я помню до сих пор:
В трамвай садится наш Евгений.
О, бедный милый человек!
Таких телопередвижений
Не знал его непросвещенный век.
Судьба Онегина хранила:
Ему лишь ногу отдавили,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!».
Он вспомнил давние порядки,
Решил дуэлью кончить спор.
Полез в карман он, – взять перчатки,
Но их давно уж кто-то спёр.
За неименьем таковых,
Смолчал Онегин и притих.
А вот две записи в дневнике о моих мечтах и планах, которые никогда уже не будут выполнены, во всяком случае, – так, как тогда хотелось. Первое – мечта о небе. Неизвестно, откуда она возникла, до сих пор я не поднимался в небо выше скирды, откуда и упал. Подъем выше в казахстанских горах вряд ли можно считать полетом ввысь. Военкомат послал всех допризывников в Жмеринку на рентген и медкомиссию. По моим настойчивым вопросам, комиссия признала меня годным к службе в авиации без ограничений, т. е. – в летно-подъемном составе. Я «дико размечтался» о небе; сорвалась когда-то авиационная спецшкола, – теперь открывался путь прямо в летное училище.
Вторая мечта была, пожалуй, еще объемнее, что ли. Я мечтал написать «хорошую книгу». Путаные рассуждения на эту тему занимают целых две страницы в дневнике.
Разочарованный взгляд из будущего. Мечты, мечты… Как-то они исполнялись, но не совсем полноценно, что ли. В небо я, например, все-таки поднялся, но не для того, чтобы летать в нем как орел, а чтобы падать, как камень. Книгу я тоже написал, только вместо интересных людей она населена всякими железяками, и вряд ли ее можно читать как «Трех мушкетеров»…
Вот одно время мечтал я стать моряком. Как будто и стал им: 33 годика черная шинель военного моряка давила на мои плечи. Но не пришлось мне вращать штурвал на океанских просторах, все больше пассажиром плавал, один месяц вообще в трюме жил, когда корабль долбил арктические льды. Правда, позвоночник себе я повредил навсегда во время жестокого шторма в Баренцевом море, спасая своих матросов…
С Той, о которой фактически все дневники, тоже ничего не сложилось. Последняя запись в последней тетрадке – последнее письмо к ней с объявлением разрыва. Там есть душераздирающие строки: «Только память о розовой бумажке, в которую ты обвернула свою фотокарточку, заставляет меня писать. Ира, любовь моя, а я ведь ни разу не поцеловал тебя… Я рад, что во мне нашлись силы покончить со всем сразу… Желаю тебе много хорошего и светлого счастья, Ирина».
На этой фотокарточке в розовой бумажке была подпись, как водится в провинции:
Не беда, что здесь нет красоты —
Это образ души одинокой.
Но быть может и эти черты
Тебе вспомнят о дружбе глубокой.
(Верно, кажется: «Вам напомнят», но нельзя же ко всякой выхухоли обращаться на «Вы»).
И фотокарточку, и розовую бумажку нашла в архиве и разорвала на мелкие клочки моя юная любимая жена. Это было ее законное право наглухо закрыть эту страницу моей жизни. Силой компьютера я смог восстановить образ прежних воздыханий только из групповых фото. Кстати, о подписях с обратной стороны фото. Приведенная выше – не самая крутая. Еще один воздыхатель Иры подарил ей фото с простенькой, но со вкусом, надписью:
Пусть мертвый взор твоих очей
Коснется памяти моей.
Нечто, столь же роковое, наверное, написал и я на своем «портрете». Его наверняка постигла участь фото в розовой бумажке.
Наш класс. Немного учимся и выходим, наконец, на большую развилку
Налево и направо пойдешь – плохо, а прямо – еще хуже.
Стоять – тоже нельзя.
(Былины)Если о какой-либо серьезной учебе в школе мне что-то не вспоминается, то людей вокруг помню очень хорошо. О некоторых учителях я уже писал, теперь хочу добавить. Многих их уже давно нет. Довоенный друг отца Павел Михайлович Бондарчук преподавал русский язык и литературу. И если Иван Иванович (фамилию я запамятовал) на украинской литературе нас долбал бесчисленными характеристиками «образов», то ПМ приходил на урок и начинал нам просто читать первоисточники: Пушкина, Лермонтова, Толстого, Загоскина, Блока, Маяковского, поэтов серебряного века. Он читал, конечно, отдельные места, коротко пересказывая содержание «до того», если это было нужно. Читал он ровным, совсем не драматическим голосом. Только иногда в самых напряженных местах чтения, тембр его голоса менялся, он снимал для протирки очки, незаметно протирая и повлажневшие глаза. Он просто любил то, что читал. Вместе с ним – любили и мы. Кое-что читаем сверх программы. Запомнились стихи кого-то из футуристов:
И под кнутом воспоминанья
Я вижу призраки охот.
Лиловых грез несутся своры…и т. д.
На этот опус критик пишет: «Желал бы, чтобы авторы подобных творений в будущем писали не «под кнутом воспоминанья», а под «воспоминанием кнута».
– Ну, характеристики образов вы сами прочитаете в учебнике, – обычно говорил Павел Михайлович. Он совершенно не заботился о дисциплине в классе: в этом не было никакой необходимости.
В старой «Ниве» я прочитал исследование одного учителя. Он доказал, что бесконечные анализы «образов», начисто могут убить любовь даже к таким первоисточникам, как Пушкин. И многие приходят к пониманию Пушкина спустя долгие годы, преодолевая отвращение от привитых в школе штампов. Наш ПМ сохранил у нас горячую любовь к самим авторам.
Очень доходчиво и интересно вел экономическую географию И. А. Редько – наш старый знакомый, о котором я уже писал более чем достаточно. Историка – не помню совершенно. В этой науке школьники должны знать массу фактов и дат; не имеющих почти никакого логического обоснования. Такая информация испаряется из моей головы очень быстро. Кое-что вспоминается по книгам. Хорошо, что Загоскин озаглавил книгу «Юрий Милославский, или русские в 1612 году», это мощный вертел, на который можно нанизать массу фактов, танцуя от известной даты «1612». Знаем мы некоторых французских Луев по романам Дюма, но здесь промахнуться на 100–200 лет – не проблема. В общем, даты я опознаю по «живой хронологии» Чехова или по вычислениям. Даже даты этой биографии я восстанавливаю, нарисовав шкалу времени, на которой сначала отмечаю события, даты которых невозможно забыть, затем уже расставляю и остальные.
А в целом – учебой мы особенно не занимались: на то и школа – «очень средняя». Все понемногу и как-нибудь. Соответственно и учителя больше помнятся как обычные люди, а не светочи знаний, которые ведут за собой стадо баранов к высшему понятию сути вещей.
Выборная «элита» средней школы
Класс у нас подобрался весьма яркий. Достаточно сказать, что из нашего класса двое – Боря Стрелец и Леня Колосовский – потом стали первыми замами министров Украины.
Очень рано ушел Петя Зацепа – его свел в могилу туберкулез, хотя он выглядел широкоплечим здоровым парнем. (В Деребчине была большая семья Фартушняков, где шестеро братьев вырастали «как дубы» – здоровые рослые парубки. Никто из них не прожил более 25 лет: все умерли от туберкулеза).
Дима Лапчевский – веснушчатый, рыжий и веселый, душа любой компании, погиб трагически из-за любви к книгам. Почему-то у него загорелась соломенная крыша хаты. Ну, вся семья начала спасать имущество. Все самое ценное успели вынести, но Дима вспомнил, что осталась книга, которую он очень любил. Он уже возвращался с этой книгой, когда обрушились горящие снопы крыши. Глиняное перекрытие хаты спокойно выдержало кучу горящей соломы, но Дима в это время находился под большим открытым люком в сенях и получил смертельные ожоги. Провожали мы его в последний путь в этой же хате, в которой все пожитки, даже окна, остались совершенно целыми. Как не поверить в судьбу…
Алик Спивак – сын главного инженера сахарного завода, – мой заклятый друг. Мы с ним дружили как-то периодически. Я бывал у него в доме, – это была шикарная служебная квартира прямо на территории завода. Однажды мы с ним проводили эксперимент по добыче самогона непосредственно из молока, зарывали в землю бутылки со смесью молока с чем-то. Это Алик вычитал в какой-то книжке. К сожалению, мой здоровый скепсис на эту затею подтвердился: ничем спиртным в вырытых образцах и не пахло.
Одевался Алик лучше всех. Где-то он добыл «мичманку» – фуражку морского офицера с настоящим звездным «крабом». Он долго разгуливал в ней, пока его не перехватил на дороге бывший фронтовик – главстаршина в остатках флотской формы. «Я пятнадцать лет во флоте трубил, и не дослужился до такой фуражки! А ты, сопляк, уже напялил!». Главстаршина бережно оторвал краба и положил себе в карман. Надев кастрированную фуражку на владельца по самые уши, яростный моряк дал Алику еще хорошего пенделя под зад. Все зрители были с ним согласны: нечего носить чужие ордена!
Алик был мастером всяких интрижек, он знал все обо всех, всегда говорил с неподражаемым апломбом. С девушками нашего круга, во всяком случае, – из заводской «элиты», он вечно о чем-то шептался, многозначительно перемигивался. В эту «элиту» входила дочка нового директора завода Лида Клочко, дочка главного бухгалтера – моя пассия – Ира Мазур, Галя Бойчук, Зоя Полуэктова и еще несколько.
Алик был весьма неглупым и амбициозным человеком, но лентяем неимоверным. Учеба ему казалась огромной трудностью. Труда на учебу он, как и почти все, затрачивал немного, но его незнания проявлялись очень уж наглядно. Обычная картина, например. Пишем контрольную. Алик сидит за моей спиной и тщательно через мое плечо все копирует. Я задумался, – у него тоже пауза, во время которой он даже не пытается что-либо сделать, даже – просто подумать. Иногда после размышлений я нахожу ошибку, или более прямой путь решения. Я просто перечеркиваю сделанное, и начинаю сначала, – «ведомый» точно повторяет мои действия.
Правда, на выпускном экзамене по математике нам из Киева дали, среди нескольких задач, одну двусмысленную, в которой не могли сначала разобраться даже наши математики Татарский и Петр Сидорович. Они долго дебатировали за закрытыми дверями. Все ученики остолбенели. Тогда вошел Татарский и прямо на доске написал решение задачи и объяснил, что к чему. Все, в том числе наша круглая отличница Циля Фаберман, и, конечно же, – Алик, добросовестно перекатали написанное. Мне это решение показалось непонятным и неубедительным, и я написал все по-другому, так, как понятно было мне. Оказалось, что только я решил задачу правильно, и всему классу пришлось тайно переписывать свои работы. Алик тогда горько сожалел, что он изменил своей привычке. Возможно, это и стало причиной событий, сыгравших решающую роль в моей жизни. Но об этом позже.
Леня Колосовский – здоровенный красивый парубок с раскидистыми черными бровями. Наверное, по нему сохла не одна дивчина. Леня жил на Мазуривке; где на усадьбе родителей была очень приличная пасека. Иногда мы собирались у Лени дома, там пили самогон и закусывали малосольными огурчиками с медом, – такое сочетание нам предложил Леня, и оно оказалось восхитительным. Кстати, о распитии самогона. Пить «казенку», может быть, было и ненамного дороже, но у нас считалось дикостью и даже неким извращением. Ну, например, как выпивка экзотического вина урожая 1800-затертого года. Леня после пединститута прошел по высоким ступеням партийной иерархии в Житомире, затем обосновался в столице Украины в высоких должностях.
Трудяга Боря Погонец проживал в далекой Михайловке, и каждый день ему добавлялась нагрузка около 15-ти километров пешего пути туда и обратно, что требовало времени. Боря окончил институт инженеров ГВФ. Позже мы с ним встречались в аэропорту Винницы.
Наши девушки «невестились» где-то на стороне и в наш круг не входили, за исключением Зои Полуэктовой, весьма заводной девчонки. У нее был какой-то штатный воздыхатель – парень с совхоза, который ходил к ней домой. Однажды подвыпивший папА Полуэктов, бухгалтер, взял воздыхателя за грудки и проревел: «Моей Зойке орел нужен, а ты – мокрая курица!», после чего должность воздыхателя освободилась. Зоя после школы закружилась в многочисленных романах – сначала в Виннице, затем в Киеве…
В нашем классе училась по-настоящему только, пожалуй, Циля Фаберман. У нее была большая семья с отцом-инвалидом. Циля скрупулезно изучала всю преподаваемую нам муть. Не было случая, чтобы Циля не выполнила домашнего задания или не ответила на уроке: она дома по несколько раз все уже проработала и пересказала сама себе этот урок. Круглая отличница в течение всех лет учебы, она была верным кандидатом на золотую медаль, которая тогда давала большие преимущества при поступлении в вуз.
Учебно-философическое и неуместное отступление. Известно, что многие школьные круглые отличники и медалисты «заваливаются» в вузах. Считается, что в школе их «тянули» и их высокие оценки были незаслуженными. После первого курса института я прозрел и понял, что это не так. Школьных отличников просто губит добросовестность. Они ведь привыкли все изучать и выполнять медленно и с толком, повторять, пересказывать, – делать все для лучшего «усвоения» учебного материала. Продолжая так же работать с неизмеримо выросшими объемами этого материала в вузе, они перегорают: им элементарно не хватает времени на добросовестную зубрежку в лучшем понятии этого слова. Тяжелый стресс от первых неудач, отставание от тех, кто работает хуже, но быстрее, их вообще выбивает из колеи. У нестойких могут совсем опуститься руки, если они не найдут сил и не перестроятся. А ведь Владимир Ильич, бывало, говаривал: «Найди в цепи главное звено и, только дергая за него, вытащишь всю цепь» из чего-то там.
В школе на уроках и переменках у нас очень дружественная атмосфера. На большой переменке большинство старшеклассников удаляется за «удобства во дворе». Там открывается чудесный вид на туземные огороды, но, увы, – туда нас влечет табакокурение и треп с анекдотами, которые не расскажешь в светском обществе. На малых переменках мы занимаемся неким «стулобилдингом», как его назвали бы теперь. Берешь рукой стул за самый низ передней ножки и поднимаешь его на вытянутой руке. Оценивается количество и качество подъемов: стул во время подъема не должен отклоняться в сторону. Второе упражнение нашего «билдинга» – пронос поджатых ног над сиденьем стула вперед и назад, опираясь одной рукой на спинку, второй – на сиденье стула. После колхозных снопов мне все удается легко. Очень хорошо поддерживают физические кондиции также наследственный топор, лопата и самодельный деревянный турник. На нем я могу подтягиваться одной рукой и сбиваюсь со счета, подтягиваясь двумя. Солнце на моем турнике крутить нельзя: ноги упираются в соседнюю хату, да и жердь не выдержит.
Заглядываю в свой неполноценный дневник, надеясь найти какие-либо воспоминания об учебе, хотя бы в последние два месяца перед выпускными госэкзаменами. 10 апреля – воскресенье, вернулись с олимпиады в Джурине: «дурачились там очень много». Во вторник пойдем на комиссию в военкомат. Читал «Пиквикский Клуб», «Счастье» Павленко, «Далеко от Москвы» Ажаева, перечитывал «Герой нашего времени». Читал Твардовского. Все безумно нравится, о чем пространно рассуждаю. Ага, вот: не понравилось собрание сочинений (!) Леонова. «Слишком заумно, напоминает мистику Леонида Андреева». Сажаем деревья по сталинскому плану создания во всех малолесных районах СССР лесозащитных полос. Я посадил 130 деревьев, – в дневнике гордость за благое дело. (Эти лесные полосы позже разрослись, действительно улучшили климат и жизнь в степных районах, где бывшие леса успели истребить. Кстати, чем не национальная идея, которую безуспешно ищут сейчас?).
Наконец, про учебу – целая сценка. Иван Иванович:
– Мельниченко… Дайте характеристику ранньої творчості Коцюбинського, та творчості Коцюбинського, от що.
– Гм… Коцюбинського я якраз не повторював, от що.
– Ага… В такому разі, дайте, от що… характеризуйте мені радянський фольклор.
Уже нельзя сказать, что этого тоже я не выучил, и я начинаю высоким стилем крутиться вокруг да около. ИИ созерцает мой дебют с улыбочкой. На одной, особо патетической ноте, я не выдерживаю, и начинаю бессовестно ржать. ИИ смеется вместе со всеми, но не обижатся, за что я его люблю.
Завтра – 1 Мая, но праздновать будем на поле вместе с долгоносиками, которых нужно уничтожить как класс силами средней школы. Последнее время… наша школа… копает, сажает, строит, рисует лозунги, прыгает в длину и высоту, бегает…
Первого Мая мы на долгоносика – злейшего врага сахарной свеклы – все же не пошли: была объявлена мобилизация старших школьников на первомайский парад. Я неизменно краснею, когда вспоминаю наш гордый видок на том параде. Дело в том, что накануне в сельпо «выбросили» неведомо какими путями попавшие в Деребчин атрибуты морской славы – тельняшки. Используя связи, удалось добыть на класс целых четыре тельняшки: Боре Стрельцу, Славке, Пете Зацепе и мне. Мы их и напялили, чтобы покрасоваться. Наше начальство, видя такую единообразную красоту, обязало нас прибыть на первомайский парад и поставило нас четверых во главе колонны. Мы гордо прошествовали, вызывая зависть всех пацанов и аборигенов, удивлявшихся морским нашествием в Деребчин. Откуда тогда нам было знать, что красовались мы в морской исподней одежде, так сказать – в нижнем белье. Хорошо, что на флоте не придумали кальсон оригинальной расцветки…
Кстати, об одежде. Наша одежда в плачевном состоянии. Современный читатель подумает сразу об устаревших фасонах, которые надо бы сменить более модными «прикидами». Все проще. Речь идет об элементарных заплатках на этом прикиде, на которые надо ставить уже заплатки следующих поколений. Конечно, заплаты оживляют внешний вид, особенно при их разноцветности, – это сейчас знает любой молодой модник (боюсь назвать течения новых модников, чтобы не перепутать и ненароком не оскорбить их). Нам тогда хотелось стать попроще и избавиться от заплаток. На базаре в Джурине мы с мамой купили серую солдатскую шинель, из тех, которые сворачиваются в колбаску, именуемую скаткой. Скатка в виде косого хомута надевается на бойца, если ему жарко. Когда похолодает, – колбаска превращается в верхнюю одежду, очень напоминающую пальто. Если очень захочется спать на сырой земле, то одна половина бывшего пальто превращается в матрац с простынями, а вторая – в одеяло с пододеяльником. Такую замечательную вещь мы отдали сельскому умельцу. Через некоторое время обратно мы получили уже офицерскую шинель, которая начисто была лишена гуманных свойств родительницы. Жесткие наплечники и лацканы не позволяли свернуть ее в податливую скатку, тем более превратить в спальные принадлежности. Но на ней сияли пуговицы со звездами, и в ней можно было красоваться! Портной слегка промахнулся: мои плечи в шинель входили с трудом. Спец успокоил маму, заявив, что такие плечи любую шинель приведут в чувство.
Еще зимой мама явила настоящее чудо. При стечении толп народа в лице Тамилы и меня, она добыла сверток, развернула его, и мы дружно ахнули. Это был отрез прекрасной довоенной темно-серой шерстяной ткани. Мама всплакнула, сказала нам, что перед самой войной они хотели пошить папе костюм. Не пришлось. И вот теперь она дарит отрез мне, чтобы я был «не гірший, як люди».
Каким чудом мама могла сохранить этот отрез почти 10 лет, не продав его, не выменяв на продукты, когда нам приходилось совсем туго? Это был драгоценный дар от родителей… Портного мы выбирали очень тщательно. Костюм получился на славу. Впервые на выпуске я почувствовал себя полным «comme il faut». Костюм был моим парадным все годы учебы в институте…
Чуть раньше, в апреле, получил в военкомате приписное свидетельство: «подлежит призыву в очередном 1949 году». Запись в дневнике: «Есть возможность пойти в военные училища, но поступать в летное – большой риск, другие – не прельщают. Придется, все-таки, идти в институт».
20 мая начинаются выпускные экзамены. Первый – сочинение по украинской литературе. «Болит голова. Взялся за первую тему– вижу, что мало ее знаю. Начал работать над второй (Шевченко), написал страницу черновика, но обнаружил, что пишу идиотским стилем, и не могу вспомнить ни одной цитаты из хорошо знакомых стихов. Оставил все и взялся писать третью тему: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». Все писали вторую тему. В итоге: напутал, отвлекся от основной темы, вообще «писал, как публицист» (?), как сказал Редько».
За сочинение я получил 4, ни одной пятерки не было. Для Ц. Фаберман это трагедия, для меня – раскрепощение. Дело в том, что непременное условие получение медали, даже серебряной, – отличная оценка по родному языку. (Ну, для меня он родной, действительно, но Циле-то могли бы сделать скидку!)
Экзаменов сдаем уйму, впрочем, – без особого напряжения. Украинский устный, алгебру, где я оказался в гордом одиночестве, устную алгебру, геометрию, немецкий язык, русский сочинение и устный, что-то еще, – всего 13 экзаменов. Каким-то образом мне удалось сдать все на 5. Педсовет тогда возвратился к моей украинской письменной работе. Теперь им мой стиль понравился больше, и мне решили поставить 5. У Цили завал: 4 по алгебре и по русскому сочинению, медаль отпадает. У меня появляется шанс убить медведя и поступить, куда хочу, без экзаменов. Дальше цитаты из дневника.
«Был выпуск, была пьянка. … Аттестат задержали до 12 июля: область срезала один балл по украинской (литературе) вместе с медалью. На выпуске учителя (главное – Редько) знали, что никакой медали нет, но зачитывали … что нет, мол, результатов из Винницы. … они были известны, правда – неофициально.»
Дальше я качу бочку на Редько, мол, это его козни. Наверное, я был не прав: ему тоже хотелось иметь в первом выпуске хоть одного медалиста для поднятия престижа школы; возможно, он даже боролся за это и надеялся до последнего. Гораздо позже я узнал о существовании лимита на медали. Конечно, общеизвестно, как распределяется лимит, спущенный сверху. В целом, никакой неожиданности не было, появилась на минутку надежда, которая оказалась ложной, – вот и все. Чистая психология, так сказать, – контрастный моральный душ. Надо было решать, что дальше делать.
На семейном совете думали и гадали – мама, Тамила и я. О жутких конкурсах ходили жуткие слухи. Я твердо не хотел идти ни в пед, ни в мед. Авиационные училища – огромный конкурс, плюс опасения за анкету. Обычные «балетно-пехотные» прельщали не очень, но я понимал, что там я буду «одет-обут-накормлен». Чаша весов резко качнулась в военную сторону. Неожиданно мне попадается на глаза газета с объявлением о наборе студентов на 1-й курс Криворожского горно-рудного института. Высокая стипендия, бесплатное форменное обмундирование и общежитие, еще куча каких-то льгот. Судя по их количеству, – конкурса там вообще не бывает. То, что надо! Решено: иду в горные инженеры! Семейный совет утверждает решение. Начинаю собирать в кучу все документы, чтобы отправить завтра все в Кривой Рог. Большинство ребят пока на распутье. Объявляю им о своем решении: я определился. Первый поморщился Алик Спивак:
– Да ты что? Уж если тонуть, то на глубоком месте! Поехали в КПИ!
– А что такое «КПИ»? Почему не знаю? – передразнил я Василия Ивановича.
Алик воззрился на меня как на папуаса, прибывшего из джунглей.
– Это же знаменитый Политехнический в Киеве! А объявлений о наборе он никогда не публикует, о нем и так все знают. Это же Киев, а не задолбанный Кривой Рог!
– Ну, конечно: в столице можно булькнуть очень-очень глубоко! – возразил я, вспоминая довоенный «писательский» отлуп и поездку из Киева с пьяными десантниками в 1944 году. – Да мне там и приткнуться негде.
Но Алика уже понесло. Может быть, он вспомнил, что списывать можно и в институте, а может серьезно захотел меня вытащить из железорудных шахт.
– Поедем туда заводской машиной. В Киеве у меня живет дядя, так что ночлег нам всегда обеспечен.
Его доводы меня сразили. Я оставил мечты о подземных норах, где добывают столь нужные стране полезные ископаемые, и ринулся с Аликом тонуть в глубоком месте. Мама, узнав об изменении согласованного решения, только покачала головой:
– Дивись, Коля, щоб гірше не було…
Я промолчал: тогда еще я не знал еврейского анекдота, в котором на угрозу «хуже будет!» отвечают: «А что может быть хуже?» – перечисляют все немыслимые беды в поезде, а кончают: «И вообще мы не в ту сторону едем».
Не могу не рассказать о событиях перед выпускным вечером, которые (это я понял гораздо позже) наложили неизгладимый отпечаток неудачника на всю мою дальнейшую жизнь, – по крайней мере, – в одном вопросе. Мы с ребятами озаботились, чем украсить наш выпускной вечер? Кажется, Славке пришла в голову идея наловить рыбы в колхозном пруду села Арыставка.
Сказано – сделано. Добыта сеть, – гибрид волейбольной сетки и подвесного шезлонга с деревянными поперечинами на краях. В ближайшую ночь мы втроем отправляемся к пруду. Он охраняется сторожем с берданкой, который иногда даже по ночам наведывается к колхозным богатствам: там подрастают зеркальные карпы.
Луны нет, темно, только в воде отражается более светлое небо. Раздеваемся вдвоем с Борисом Стрельцом и лезем с сетью в воду. Славка на берегу – «на стреме». Глубина пруда – по плечи. Натягиваем сетку под водой и начинаем медленное движение, процеживая глубину вод сквозь сетку. Ощущаем несколько несильных толчков. Поднимаем сетку над водой. В ней, как в гамаке, бьются три огромных карпа! Пока неумело вытягиваем их из сетки, – один уходит в родную стихию. Доставляем их на берег, где Славка прыгает от нетерпения: «Я, я пойду», – шепчет он, но мы не реагируем и продолжаем таскать огромных карпов. Их уже больше десятка. Славка прыгает на берегу совсем остервенело. Я сдаюсь, и заменяю его на посту. Моя зона повышенного внимания – гряда на другом берегу пруда со стороны села. На фоне светлого неба я сразу бы увидел приближающуюся опасность – сторожа с берданкой. Рыба прибывает, опасность – пока нет. Внезапно я слышу шелест листьев кустарника и шаги совершенно с другой стороны – с темной низины справа. На мой тихий свист об опасности Борис и Славка не реагируют: чтобы не терять времени, они взяли с собой мешок для рыбы, и увлеченно бороздят воды уже далековато от берега. Почему сторож идет с другой стороны? Если подойдет сюда – мы пропали. Я поднимаюсь и громко топаю в темноту навстречу шагам. Мои намерения – отвести подальше сторожа от нашей базы, чтобы ребята услыхали и успели вынуть себя из пруда и собрать одежду и «улики».
Противник останавливается, его шагов больше не слышно, но я продолжаю двигаться вперед. Внезапно я слышу такой шум, что понимаю: мой «сторож» улепетывает от меня со всех ног. С облегчением возвращаюсь на свой пост; рыбаки и не заметили опасности. Преступная рыбалка благополучно заканчивается. На выпускном вечере жареный карп был коронным блюдом.
Увы, каждая медаль имеет две стороны: рыбий бог отомстил мне. За всю жизнь мне не удалось поймать больше ни одной рыбешки, даже захудалого пескаря. Впервые проказы рыбьего бога я почувствовал в Виннице. Я гостил у дяди Антона; к тому времени он переехал в Винницу, работал на ТЭЦ и жил в доме на берегу Буга. Его приемный сын Виктор сидел с удочкой и непрерывно выдергивал мелких рыбешек, тьма которых клубилась возле теплых стоков электростанции. Я взял у него удочку, наживил червячка и опустил снаряд в гущу стаи. Ничего не происходило, поплавок стоял как вкопанный. Виктор заинтересовался этим безобразием, решил, что это влияние запаха табака на моих руках. Он самолично сменил червяка на крючке, – все осталось по-прежнему. Виктор взял удочку в свои руки, немедленно начался прямо-таки бешеный клев. Когда удочка переходила в мои руки, – все сразу прекращалось: ни одной рыбки я не смог выудить.
Я был свидетелем нескольких небывалых рыбалок мастеров в Латвии и на Новой Земле; возможно, мне удастся рассказать о них. Но на мои собственные крючки ни одна рыбка не попалась. С годами я понял, что это просто месть рыбьего бога за незаконный лов карпов в колхозном пруду. Еще я понял, что раки этому богу не подчиняются: добыча раков у меня всегда проходила успешно. Хорошо также, что рыбный приговор не распространяется на потомков: Сережа – умелый и удачливый рыбак.
10. Киев
То ль дело Киев! Что за край!
Валятся сами в рот галушки…
(из оперы)Прощай, Київ, торбу – виїв!
(из оперетты)Опять выбор. Сплошные моменты истины
Иные настойчиво утверждают, что жизнь каждого записана в книге Бытия.
(К. П. № 148)14 июля 1949 года вместе с Аликом Спиваком мы прибыли в столицу Советской Украины. Заводская машина, увы, довезла нас только до Рахнов. Еще в поезде Алик начал рассказывать мне, какая у дяди маленькая комната и как ему, Алику, даже одному, будет тяжело стеснять дядю и тетю. Я, конечно, со всем соглашался, очень сочувствовал бедным родственникам и радовался, что у них такой заботливый племянник. О прежних планах освоения Киева под дядиным крылом и речи быть не могло. Закаленный одесскими ночевками, я не унывал. Расстались мы на вокзале; Алик двинулся к родичам, я начал осваивать Киев.
Сияющий внутри и серый снаружи трезубец вокзала мало напоминал груду развалин 1944 года. Только в правом крыле еще что-то строили. В сиреневой дымке идущей вниз улицы виднелась громада незнакомого города. Путем опроса аборигенов (планы и карты городов, по-видимому, тогда были строго засекречены), я сел на трамвай и двинулся на Брест-Литовское шоссе, 39 – это был официальный адрес КПИ. Остановка трамвая так и называлась. Ехали недолго, жадно вглядываюсь в незнакомый, очень зеленый и чистый город. Вышел, увидел вывеску «Зоопарк». Быстренько сообразил, что мне туда не надо. С противоположной стороны был лес. Пригляделся, обнаружил неширокие ворота в ограде и снующую молодежь. Двинулся следом.
Вскоре перед глазами во всем великолепии предстал розовато-желтый огромный главный корпус КПИ со всеми необходимыми, отлитыми в металле, лейблами на парадном входе. В широченных коридорах первого этажа, с огромными окнами во двор, роилась молодежь, деловито проталкивались лица постарше. Народ с испуганными лицами (абитуриенты – таков наш официальный статус) кучковался и что-то записывал возле больших, красочно оформленных щитов: каждый из 10 факультетов имел свой отдельный «сайт», как сказали бы теперь.
Я вынул ручку, блокнот и присоединился к сонму испуганных, жадно поглощая информацию со щитов. Мне предстояло решить маленький вопросик, который, по Маяковскому, дети решают в дошкольном возрасте: кем быть?
Факультеты инженерно-педагогический, два химических, сварочный и еще какие-то были мной отвергнуты сразу. Химию и педагогику я не любил, о сварочном я подумал вопросом, который потом мне часто задавали люди, слывшие умными: «Ну есть на заводе сварщик Вася Стопа. Он варит. А зачем ему еще инженер?». Забегая вперед, скажу, что среди студентов в ходу была пословица: «Курица – не птица, баба – не человек, сварщик – не инженер». Не зря там платят повышенную стипендию… (Кстати, сам Вася Стопа, гигант с глазами небесной синевы, потом жадно расспрашивал меня, студента, о загадках нашей профессии, которые он не мог объяснить самостоятельно).
Возле щита горного факультета я долго крутился в тяжелых раздумьях мышки, видящей сыр, но помнящей о мышеловке. Высокая стипендия, блестящая форма с золотыми эполетами, не хуже морской, от которой блондинки падают налево, а брюнетки – наоборот. Но мне, светолюбивому юноше, мечтавшему о небе, как-то перестали нравиться темные подземные норы.
Сосредоточился я на инженерно-физическом, радио, механическом и электротехническом факультетах. Записал из щитов желаемые группы: внутри факультетов была еще более узкая специализация. Над этими записками еще можно было думать примерно половину суток. В 10 утра следующего дня мы встречаемся с Аликом, подаем документы, я возвращаюсь в Деребчин.
Еще часик я погулял по институту, поражаясь его размерами, обилию кафедр и лабораторий, одни названия которых вселяли ужас своей научной таинственностью. Это и было то глубокое место, где мне предстояло утонуть.
Надо было провести где-то уйму времени, в том числе – ночь. Я двинулся в город, прошел пешком от Евбаза почти весь бульвар Шевченко. Завернул к Оперному театру. Там московский театр имени Моссовета давал спектакль «Свадьба Кречинского». Узнав, что самый дешевый билет стоит 6 рублей, я нанес глубокую рану своему бюджету и взял его. Приобщение к искусству было ценным не столько само по себе, сколько возможностью скоротать длинные вечерние часы в чужом городе. По Прорезной спустился на Крещатик. Часть домов на окружающих улицах была еще в развалинах, некоторые отстраивались. Зелень и высаженные везде клумбы и цветы делали город уютным и красивым. По Крещатику фланировали хорошо одетые, беззаботные толпы молодого народа, которые просто гуляли и никуда не спешили. Я влился в их ряды, оставаясь одиноким. Хотелось есть, но после безумных затрат на искусство, я мог себе позволить только газированную воду без сиропа. Тележки с водой стояли через каждые 20 метров. Стеклянные цилиндры с делениями, указывающие объем вливаемого в стакан сиропа, были закреплены на тележке, на каждом виде сиропа была своя цена. Продавщица вежливо спрашивала: «Вам с сиропом – да, или с сиропом – без?». Стакан «с сиропом – без» стоил 3 копейки, с «одним сиропом» – 30–40, с двойным – безумное расточительство, – в два раза дороже. Я несколько раз сэкономил на сиропе и решил часть средств направить на собственное тестирование – оно стоило 20 копеек. Так же часто, как водопои, на Крещатике стояли медицинские весы с измерителями силы кисти. Я вывалил 20 копеек только за силомер. Без особых усилий сжал его до конца шкалы – 90 кг и дальше, рискуя сломать. Женщина у весов с уважением посмотрела на меня и вернула 20 копеек. Не понимая ее действий, я вопросительно уставился на нее. «Мы не берем деньги с тех, кто выжимает больше 80 килограмм», – объяснила она. Тогда слабой левой рукой я тоже бесплатно выжал 90 кг и двинулся дальше. С садистским удовольствием, не минуя ни одной силомерной точки на Крещатике, я вынимал 20 копеек, зашкаливал силомер, показывал его служительнице у весов, прятал монету и гордо шествовал дальше.
У самой площади Сталина я наткнулся еще на один испытательный тест, возле которого толпилась группа мужиков. Здесь испытания стоили уже 50 копеек. Резиновым молотом надо было ударять по наковальне. Вверх по высокой рейке с делениями взлетала стрелка, которая показывала силу удара. До «бесплатного уровня» в верхней части рейки только приближались некоторые. Они требовали еще попыток. Рубли в кассу шли потоком, многие платили сразу за два удара. Ставка для меня была слишком серьезной, и я начал приглядываться, почему у них не получается. За моими плечами были колхозные снопы-мешки, опыт молотобойца у Миши Беспятко и наука бригадиров завода. Здесь удар у всех мужиков был очень коротким, – молот отлетал от массивной наковальни. Удар был и слишком слабым: одну руку на рукоятке они держали слишком близко к молоту (мой бригадир, бывало, говаривал: «задушишь молоток»). Кроме того, в ударе участвовали только руки, корпус «битоков» оставался почти неподвижным. Учтя все это, я отдал «крупье» полтинник, поплевал на ладони и взялся за молот с надеждой вернуть кровные. Умная стрелка превысила барьер оплаты, вылетела за пределы рейки и не хотела возвращаться. Служитель, чертыхаясь, начал исправлять механизм, но восхищенные поломкой болельщики потребовали сначала вернуть мне деньги.
До начала культурных развлечений оставалась еще уйма времени. Чтобы не утомлять себя зрелищами и запахами съедобного и заодно приобщиться к истории, я отправился к памятнику Крестителю Руси на Владимирской горке. В тени деревьев возле памятника присел на удобной скамейке. Мое внимание привлек белый предмет в развилке дерева. Поднялся, подошел к нему. Завернутый в газету предмет оказался большим белым батоном, разрезанным на две ковриги, между которых желтел толстый слой сливочного масла. Не мешкая, я приступил к столь желанной трапезе. Само Провидение помогало мне. Я обнаглел и почувствовал, что все будет хорошо.
Во время антракта зрители галерки в театре Оперы выходят прямо на крышу вестибюля, чтобы покурить и полюбоваться с высоты огнями города. К симпатичному пареньку из небольшой группы я обратился с расспросами о самом длинном трамвайном маршруте в Киеве, намереваясь коротать там ночь. Ребята оказались из строительного техникума. Их общежитие было полупустым: многие уехали на практику. Уяснив смысл моих трамвайных вопросов, они взяли меня с собой, и ночь я провел более чем комфортно. (Позже я нашел этих ребят, и мы задним числом, но весьма достойно, отметили мою первую ночь в Киеве). Полоса везения все еще меня везла.
На следующий день все произошло почти по намеченному плану. Я решил пройтись еще раз возле щитов избранных факультетов, чтобы окончательно решить: кем стать (если поступлю, конечно). В ряду щитов третьим висел щит сварочного факультета. В центре экспозиции была непонятная громоздкая машина на маленьких колесиках. На двух круглых дисках над приземистым корпусом была натыкана уйма приборов и кнопок. Я остановился. Внимательно прочитал все на щите. И решительно вывел в заявлении недостающее название факультета «сварочный». Больше я никуда не ходил и ничего не смотрел.
Алик разочарованно присвистнул: он думал, что мы будем сдавать экзамены вместе. Они с дядей из каких-то стратегических, далеко идущих соображений, нацелились на механический факультет. К счастью, я не наслаждался комфортом дядиного жилища, поэтому ни малейших угрызений совести у меня не было: я никому ничего не был должен.
Позже я задавал себе вопрос: почему вопреки всему выбрал сварочный факультет? Ведь «до тогО» я ничего не знал о сварке и из великого множества сварок видел только ручную дуговую, и то издали, в виде мерцающей ослепительной точки. Неужели меня прельстил вид «чуда техники» на стенде? Позже я узнал, что эта тяжеленная химера, с не показанными на снимке двумя большими шкафами управления, набитыми хитрыми устройствами, – сварочный трактор (автомат) АДС – 1000, пригодный только для лабораторий и показухи. В промышленности «пахали» патоновские малыши всего с пятью кнопками управления – легкие, простые и надежные. Но за их простотой стояла глубокая теория, описанная десятками дифференциальных уравнений.
Ни разу в жизни я не пожалел о своем выборе. Если у меня хватит сил, – в конце своей биографии, я напишу оду профессии инженера-сварщика. Она требует широкого кругозора и глубоких знаний в очень далеких друг от друга областях. «Оптимизмом невежества» в сварке осенены тысячи и тысячи катастроф и аварий с гибелью людей. Моя профессия заставляет непрерывно учиться. Учиться и знать, чтобы принимать решения, часто – очень важные для будущего…
Дальше я начал было писать возвышенным слогом некую чушь, величавую и патетическую. Грешен: очень хотел спать. На утреннюю голову, слава Богу, вспомнил великого Кузьму: «Специалист подобен флюсу: его полнота односторонняя». По предыдущим строкам можно понять, что специалист-сварщик должен быть утыкан флюсами со всех сторон, как «рогатая» морская мина взрывателями. В теории – так оно и есть. Но: многая знания – многая печали. В жизни чаще бывает, что даже маленький флюсик специалиста, выросший при срочном составлении шпаргалок перед экзаменом, – в дальнейшем бесследно рассасывается, не доставляя его обладателю никаких неудобств и печалей…
Отдал заявление и документы в приемную комиссию института, получил вызов на экзамены на конец июля. Задачи первого посещения были выполнены, надо было возвращаться. Алик оставался в Киеве, – с его ресурсами можно было расслабляться и в столице. Я же просто походил по этой столице, коротая время до одесского поезда.
На вокзале меня ожидал сюрприз: билетов не было. Памятуя, что я в полосе везения, прорвался на перрон. Успел уговорить симпатичную проводницу взять меня «за так». Она согласилась, с тем чтобы в Фастове я взял билет и чтобы не напоролся на контролеров. Я из окна тамбура скромно созерцал родные просторы, когда запахло опасностью: надвигались ревизоры. Мой ищущий взор упал на дверцу с табличкой «Отопление». Удалось открыть ее, – там был котелок, опутанный трубами. На всей технике лежал сантиметровый слой грязи и пыли, Я вписался в свободное пространство, не касаясь «мебели», и задвинул за собой дверь, поглядывая в тамбур через дырочки вентиляции. Выйти в Фастове за билетом я не мог: бригадир контролеров стоял прямо у моей дверцы. Я даже отвел глаза, чтобы он не почувствовал мой взгляд. Поезд все шел, я теперь мечтал так доехать до Рахнов. Однако перед Жмеринкой меня обнаружили. «Открой, выходи!» – потребовал контролер. «Возьмешь билет и заплатишь штраф!». «Ну, тогда мы это сделаем в Одессе!» – обнаглел я, не позволяя открыть дверь. Поезд подошел к Жмеринке. «Уходи, чтоб я тебя не видел!» – завопил контролер. Вдвоем мы еле открыли неподатливую дверь, причем только потому, что контролер следовал моим советам, где нажимать. С достоинством я вышел на жмеринский перрон. Руки были в мазуте, но на моем драгоценном костюме не было ни пылинки. Я сэкономил уйму денег и имел моральное право на сатисфакцию за часы, проведенные в позе статуи. Кажется, впервые в жизни я отведал настоящего твердого сыра и запивал его настоящим «Жигулевским» из бочки. Дальнейшая поездка до Рахнов на «пятьсот-веселом» не была экстремальной, и вскоре я уже был дома.
Чистилище
– Девушки – направо, женщины – налево!
– А мне куда? Я девушка легкого поведения!
– В президиум!!!
(быль времен Фурцевой)Приехавшим на экзамены иногородним абитуриентам институт предоставлял общежитие. Это было очень здорово, иначе Киев был бы наводнен толпами молодых бомжей. В нашей комнате – четверо из разных факультетов; двоим или троим по статистике – суждено вылететь. Конкурс на сварочном – один из самых низких, всего 3,5 человека на место. На некоторых других, например, инженерно-физическом и радио – более 10-ти. Но страха и уныния нет. Живем весело, травим анекдоты, варим чай кипятильником ивановской конструкции, которую мне удалось соорудить «в металле» почти без инструментов.
За время экзаменов посетил зоопарк, выставку трофейного оружия, Печерскую Лавру, многие киевские улицы и парки. В Лавре вывел из равновесия монаха вопросом, почему мощи святых такие короткие? Монах долго бурчал на тему «не наше это дело, главное, что люди эти святые», затем не выдержал и объяснил по-человечески: «Доживешь до их лет, еще короче будешь!». (На восьмом десятке лет я понимаю: монах прав). В пещерах, где раньше было электрическое освещение, – темно, все покупают очень дорогие свечки. Пришлось украсть два огарка. Надеюсь, мои грехи будут списаны: при большом стечении народа четверть часа громко и «с выражением» читал историю Лавр.
У Алика Спивака крушение. Его вышибли за шпаргалку на первом же экзамене. В память о нем остались его запасы сала и сахара, что несколько смягчает горечь потери. По слухам, он пытался «устроиться» в другие институты, но, в конце концов, оказался в Одесском мукомольном. По этому поводу Толя Размысловский (он вернулся в Киев из практики, мы часто встречаемся) сочинил стихи:
Мукомольный институт —
Вот где лодырей берут.
Но чтоб сдать туда экзамен,
Надо ехать вместе с мамой и т. д.
У меня дела более-менее успешны, хотя и не блестящи, как могли бы быть. Первый экзамен был письменная работа по математике. Сдавали в Большой химической аудитории около 200 человек. Задачи были пустяковые, я их решил, проверил, записал ответы для повторной проверки. Дальше делать было нечего и, хотя все еще сидели, я пошел сдавать работу. Институтский математик профессор Горделадзе надел пенсне и вопросительно уставил на меня бородку клинышком: он подумал, что я не сдаю, а сдаюсь. Однако, пробежав работу, успокоился, спросил, не из 29-й ли я школы. Когда узнал, что я «из глубинки», – даже растрогался и пожелал мне дальнейших успехов. Сверив ответы на задачи, я был вполне уверен, что получу пятерку. Моя самоуверенность была жестоко наказана: в ведомости против моей фамилии стояло 4.
– Почему? Ведь я не сделал ошибок? – перехватил я профессора в коридоре.
– Наверное, ошибка была несущественной, возможно – грамматическая, – ответил профессор. – За большие ошибки мы не ставим четверок.
По инерции четверку поставили и на устном экзамене по математике. Таким образом, совершенно по-глупому я потерял два балла на самых простых для себя предметах. Надо было сосредоточиться. На сочинении по русскому я озверел и выбрал тему «Безумству храбрых поем мы песню». Другие темы лучше было писать, имея под руками первоисточники, чтобы оттуда дергать нужные цитаты. А здесь можно было писать, что хочешь.
Наглость была неожиданно вознаграждена: я получил 5. На устном экзамене сначала все шло тоже очень хорошо. Основной вопрос: ранний романтизм Горького. Эти вещи Горького я знал и любил, поэтому разливался соловьем. Чтобы заткнуть мой фонтан, экзаменатор(ша?) спросила:
– Как зовут цыгана в рассказе «Макар Чудра»?.
Я этого подлого цыгана знал очень хорошо, но почему-то именно сейчас его имя вылетело из головы и не хотело туда возвращаться. Женщина покачала головой, дескать, треплешься, а первоисточников не читаешь, и поставила мне четверку в экзаменационный лист и свою ведомость. Не дойдя до двери, я обернулся к ней: «Лойко Зобар!». Женщина с сожалением развела руками, – дескать «дело сделано, его ничем не исправить, и это единственное утешение, – как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следует».
На физике я мог элементарно утонуть, если бы поддался панике. По тепловым задачам я не знал ничего, то есть – вообще ничего. Мы (а может только – я) этого не проходили. Из условий задачи и размерности данных я понял, что есть такое понятие «теплоемкость». Интуитивно, дедуктивно, – черт знает как, составил уравнение и решил задачу. Преподаватель удивился, что обозначения в формуле написаны совсем другими буквами, а не общепринятыми. Я сослался на старого учителя, который нас так учил.
Чтобы вывести формулу сферического зеркала, мне пришлось сначала вывести и доказать для себя теорему по геометрии. И, все-таки, – не стыковалось. Ключевое слово мне подкинул сосед – Виталий Колиснык, наш будущий факультетский оригинал. Это было слово «приблизительно». Тогда все стало ясно, формула «вывелась» на белый свет. Получил четверку, только за то, что долго готовился. Последний экзамен – немецкий, – тоже сдал на 4: это было очень крупное личное достижение в лингвистике.
Официальные списки зачисленных на первый курс будут вывешены только 25 августа. Судя по количеству сгоревших на вступительных экзаменах, – можно считать, что я прошел, причем – со стипендией. В деканате абитуриентов опекает мама родная для всех студентов – секретарь факультета Нина Ивановна Ткаченко, она каждому уже все объяснила.
Стипендия у нас, сварщиков, большая: 395 рублей на первом курсе, 500 – на последнем, отличникам – плюс 25 %, но ежели у тебя есть тройка, хотя бы одна, – извини-подвинься… Сумма стипендии – очень приличная: за месяц первокурсник может на стипендию купить и съесть 840 кг ливерной колбасы по 47 копеек за килограмм, что составляет около 700 метров, то есть по 23 метра на день! Такую уйму колбасы потребить невозможно, поэтому, ограничив колбасу, можно покупать еще кефир, хлеб, сахар, чай; каждый день обедать в столовой, платить 15 рублей за общежитие, ходить в баню и кино, покупать чертежную бумагу, тетради, карандаши «Кохинор», тушь и всякую мелочевку, отдавать в стирку белье – короче, жить! Главное: у меня есть такая стипендия и мне, среди немногих первокурсников, дали общежитие!
У Бори Стрельца и Славки Яковлева дела похуже. Они поступали в гидромелиоративный институт. Оба получили по двойке на математике. У Бориса есть шанс еще пересдать, а Славка перешел в Горный техникум. Живут они в снимаемой за большие деньги клетушке на задворках Киева – Батыевой Горе. Боря Погонец вполне нормально сдает в институт инженеров ГВФ. Непонятно где, но в Киеве, крутится Зоя Полуэктова. Условились встретиться первого сентября на Крещатике.
Унылый взгляд из прошлого в настоящее. Сейчас, чтобы учиться даже в приличной средней школе, надо платить и платить. Чтобы заниматься на платном отделении престижного вуза, кроме огромной платы за обучение, надо еще заплатить кое-кому неподъемные суммы. Как пробьются к вершинам знаний будущие Ньютоны, Ломоносовы, Менделеевы, умные инженеры, врачи, учителя, если они живут в глубинке и у них нет богатых родителей или спонсоров? Бывшее обязательным тогда среднее образование стало сейчас уже фактически платным. Бесплатное – хуже некуда. Приходят к точным и умным машинам, к оружию небывалой мощи, молодые люди, не умеющие не только думать, но и читать. Что будет с державой, в которой знания доступны только тому, чьи родители могут платить?
Современный родитель не может сказать: «Вчися, синку, дуже добре, та читай багато, бо ти дурнем останешся, а я – твоїм татом!», потому, что продвинутый сын сразу же ответит: «Деньги давай!». Если бы тогда все было, как теперь, – пас бы я коров в колхозе. Правда, сыну, возможно, удалось бы выучиться на шофера. Зато – на свежем воздухе. Ну, а самогонный аппарат мы вдвоем все равно бы сделали самый лучший, и самогон у нас всегда был бы свой…
В райских кущах. Общежитие
И общежитие наше – не пристань, а море,
Где плавали мы, молодые дельфины.
Как и условились, все деребчинские киевляне встретились 1 сентября. В общем, кроме Алика Спивака, все поступили, правда, Славка не туда, куда хотел. Зойка темнит: на собственном жакете пришиты непонятные петлички. В общежитиях живем только я и Толя Размысловский. Ну, он человек полувоенный – железнодорожный машинист, а мне просто повезло. Очень скоро я пойму, что студенческое общежитие, это не только помещение, в котором живут и спят. Мне не нравится, когда несведущие люди презрительно произносят «общага», имея в виду нечто темное и пьяное. Не то и: «общежитие – пристань моя путевая». Дескать, притомился человек в жизненном море, причалил к пристани – передохнуть. Мое общежитие – это непрерывно живущий улей, где, как было раньше в Греции, а сейчас в Интернете: есть все.
В обычное время общежитие является неким санаторием, где все отдыхающие очень весело проводят свой отдых. Для многих, правда, это отдых с любимым хобби. Кто-то запоем читает книги, другие носятся по Киеву, кинотеатрам, выставкам, концертам. Вечерние киносеансы в открытых зеленых театрах стоят копейки, многие концерты вообще бесплатны. Кто-то бегает на стадионе или качает мускулы в спортзалах. Во многих комнатах общежитий включены паяльники, и целая армия радиолюбителей корпит над замысловатыми схемами. Стипендии запросто оставляются на киевской толкучке, где можно купить все – от редкой трофейной радиолампы, до супермощного динамика. Мелочевкой – конденсаторами и резисторами (тогда говорили – сопротивлениями) радиолюбители просто обмениваются: у каждого их не меряно. С красными глазами ходят фотолюбители: ночи напролет они колдуют над фотографиями. К утру окна их комнат напоминают фотовыставку ТАСС: на оконных стеклах глянцуется все, произведенное ночью.
В выходные и по праздникам в общежитии танцы, концерты и т. п. Умолкают маленькие «радиОлыки» в окнах радиолюбителей, звучит музыка одна для всего общежития, в бывшей рабочей комнате и на этажных верандах кружатся пары.
Учебных заданий очень много. Многие добросовестно посвящают им все свое время, большинство – время свободное от других занятий. Некоторые, с прозорливостью страуса, зарывающего при опасности голову в песок, – откладывают все «на потом».
Вот приближается зачетная и экзаменационная сессии. Мое общежитие плавно переходит в режим круглосуточного улья, где трудолюбивые пчелки берут свои взяткИ (не путать со взЯтками!) где только могут: из книг, из своих и чужих конспектов, из консультаций преподавателей и друзей. Эти взяткИ, этот мед откладываются непосредственно в сером веществе, часто – в хитроумных шпаргалках. Собственноручно составленной, короткой и ясной шпаргалке надо бы воспеть оду: ее владелец постиг материал. Чужая шпаргалка – это тяжеленный спасательный круг. Очень возможно, что спасаемый утонет прежде, чем разберется что к чему, и камнем на шее будет именно чужая шпаргалка.
После сессии общежитие расслаивается согласно полученным оценкам. Успешные наверстывают упущенные радости, неудачники – продолжают учиться, посыпая свою голову пеплом сожалений. Некоторым приходится расставаться с «альма-матер».
Наша комната в общежитии
В общежитии мне еще раз везет. Поселяют меня четвертым в комнату к трем ребятам из второго курса. Миша Дрыга самый старший, мускулистый брюнет из города Поти, женатый. Он деловит, собран, замкнут. У него какие-то сложные взаимоотношения с женой, о которых он не распространяется. Учеба ему дается нелегко, он очень много работает. Коля Кайдаш – наш хлопец из Полтавской губернии. Родственники и знакомые без конца передают ему посылки и посылочки с продуктами, которыми он слегка делится и с нами. Сам Коля, невысокий и кругленький, весьма озабочен прореживанием остатков своей шевелюры. В борьбе с облысением он применяет всякие снадобья и примочки, что для нас – неистощимый материал для подначек. Коля смеется вместе с нами, хотя ему совсем не смешно: ранняя лысина для него – крушение каких-то надежд. Третий в нашей комнате – Цезарий Владимирович Шабан. Редкому имени он обязан своей польской родословной. Он – истинный сварщик во втором поколении: его отец сварщик-универсал в городке Городок Каменец-Подольской области. Очень скоро мы с ним подружились и дружим уже более полувека.
Ц.В. Шабан
Имя «Цезарий» слишком торжественно для студенческих ушей, «Цезик» – легкомысленно. Я стал его величать «Цэ Вэ», и бренд, он же – слоган, он же – партийная кличка, вполне привился не только в нашей комнате, но на целом факультете. Кстати, о партийных кличках. Серега Бережницкий, по одному ему ведомым ассоциациям (небритая борода – шкипер), присвоил мне имя «Майк», которое тоже сопровождало меня очень долго.
Характер у ЦВ соткан из противоречий. Он чрезвычайно деликатный, мягкий и добрый человек, иногда стает жестким, непримиримым и неуступчивым, когда речь идет о неких базовых принципах, которые он считает правильными и справедливыми. Он готов всех понять и простить, кроме себя. В своих действиях и возможностях он вечно сомневается: как бы не причинить неудобства кому-нибудь другому, «по Сеньке» ли ему эта шапка. Цезария посещает студентка пединститута Валя, обаятельная и подтянутая, с которой они учились вместе все школьные годы. Валя заботится о ЦВ как мать и хорошая жена одновременно: ухаживает за ним, водит его в кино и театры, «выгуливает», чтобы развеять хандру.
Перед самым выпуском ЦВ вдруг засомневался: имеет ли он моральное право связывать жизнь такой девушке, как Валя своей незавидной судьбой рядового инженера с окладом аж 880 рублей? Начал даже действия по прекращению давних отношений. Валя была в недоумении и тревоге: что случилось с ее Цезиком? Я его обругал последними словами, но ЦВ был неумолим в своей скромности, которая паче гордыни. Тогда я задал ему вопрос: а что теперь делать Вале? ЦВ был сражен. Он не мог причинить вред близким, как робот Айзека Азимова людям. Конечно, он пришел бы к такому же выводу и без меня, просто я ему обнажил суть проблемы.
Горестная вставка из далекого будущего. После распределения они уехали вдвоем в Калининград, где в любви и согласии прожили долгие годы и вырастили двоих детей. Мы иногда посещали друг друга, когда я бывал в Калининграде, а ЦВ – в Ленинграде, часто переписывались. В 2002 году Валя умерла, и мой старый друг почувствовал себя совсем потерянным и одиноким. Калининград к этому времени стал «анклавом», отделенным от России недружественными государствами; почта стала работать хуже, чем при Иване Грозном. Обеспокоенный долгим молчанием, перед Новым 2004 годом, я вызвал ЦВ на телефонный разговор, опасаясь услышать «а в ответ – тишина». К счастью, все было лучше. ЦВ потихоньку оправляется, по выходным собирает детей и внуков, готовит им угощения. Они вместе вспоминают свою ушедшую маму, бабушку, подругу. Мы проговорили 20 минут. Письмо, которое ЦВ отправил мне за несколько дней до разговора идет уже второй месяц…
Это все будет потом. Надо вернуться в 1949 год. Конечно, мне повезло с соседями по комнате. Они уже учились второй год, знали всех и все. Теперь соседи наперебой обучали желторотого первокурсника, стараясь уберечь его от синяков и шишек, которых сами достаточно нахватали на первом курсе. Постепенно я знакомлюсь со многими ребятами из второго и старших курсов. Среди них много ярких неординарных личностей. Миша Терех – инвалид войны с изуродованной кистью, язвительный и желчный. Миша – непревзойденный художник-карикатурист. Благодаря ему, возле стенгазет нашего факультета вечно толпится ржущая толпа. Свежих стенгазет ожидают как праздника. У входа в общежитие висит обычная школьная доска, на которой цветными мелками нарисованы животрепещущие сцены из нашей жизни. Один раз героем этой доски побывал и я – за «трансляцию» песен Петра Лещенко. В красках и лицах была изображена тема песен «Маша чай мне наливает, взор ее так много обещает…» и «Дуня, люблю твои блины… твоих блинов съесть много я берусь…».
Другой «хохмач» – длинный Вовочка Нестеришин. Он жил в комнате с одним албанцем, – тогда мы очень дружили с Албанией: нам была нужна база в Средиземном море. Вовочка с албанцем подсчитали, что питание будет гораздо дешевле, если закупать продукты и готовить в общежитии. Было заключено «международное» соглашение, закуплены посуда, макароны и другие продукты. Первый обед, который приготовил собственноручно сам албанец, удался на славу: за небольшие деньги нужно было ослаблять ремни на подтянутых до того животах. Дальше многообещающий проект зашел в идейный тупик: кому мыть посуду? Албанец считал, что если готовил он, то посуду должен мыть Вовочка, сам Вовочка считал наоборот. Во время длительных переговоров посуда закисла и начала издавать запахи. Соседи по комнате предъявили ультиматум. Тогда Вовочка собрал и выбросил всю посуду, и вопрос был закрыт раз и навсегда.
Местом вечернего моциона для общежитий КПИ был близлежащий парк имени Пушкина, где у входа был большой Дом культуры завода «Большевик». На главной аллее парка долго была выставка трофейных немецких «тигров», «пантер», «фердинандов», шестиствольных минометов и других смертоубийственных предметов. В тенистых боковых аллеях с довольно редкими светильниками всегда бродили толпы студентов, развлекаясь и одновременно поглощая кислород. Вокруг Вовочки – высокого, импозантного и шутливого, – всегда набиралась стайка девиц, жадно внимавшая его басням. Когда надо было идти спать, Вовочка неожиданно поднимал руки и по-отечески обращался к ним: «Ну, девочки, погуляли, отдохнули. Теперь – пописать, помыть ножки, и – спать!».
Как и ЦВ, Вовочка окончил институт в 1953 году и получил назначение в МВД, на какую-то засекреченную стройку. Отгуляв отпуск, он приехал в институт за путевкой и подъемными деньгами. Их ожидали со дня на день. Но в то время Никита турнул и расстрелял Берию, и все в этом ведомстве замерло. Вова жил в общежитии по милости института, но кормиться-то надо было самостоятельно. Он устроился грузчиком, как он говорил – «инженер-докером» – на киностудию имени Довженко, где в то время снимали фильм о суворовцах «Алые погоны». Его ежевечерние отчеты о кино были покрепче концертов Райкина. Снимались кадры работы юных суворовцев в колхозе. Громоздкая съемочная машина с живописным скрипом и душераздирающими подробностями разворачивалась несколько часов. Перед командой «Мотор!» успевало зайти за тучку солнце, и все останавливалось. Когда солнце выходило, оказывалось, что ведущий артист уже лыка не вяжет. Приводят его в чувство, но к этому времени солнце опять прячется. Воля режиссера поддерживает в готовности к появлению солнца всю разношерстную братию. Вот появляется солнышко, начинается съемка. Оператор, уже отсняв часть кадров, вдруг сам себе кричит «Стоп!». Зорким взглядом он замечает, что колхоз подсунул другую лошадь: на снятой в прошлых кадрах были яблоки, а эта сплошной масти. Многочисленная рать ассистентов и помощников бросается на поиски краски. Краска, наконец, найдена, начинается перекрашивание бедной скотины по противоречивым воспоминаниям. Когда несчастная лошадь раскрашена, оказывается, что солнце стоит уже так низко, что съемка вообще невозможна. Оператор требует установки дополнительных прожекторов, но выясняется, что в двигателе электрогенератора кончился бензин. У обессиленного режиссера начинается нервный срыв. Ведущий артист, пользуясь суматохой, опять надирается… Вовочка излагает хронику всех событий невозмутимым голосом летописца, таким же тоном повторяет их, когда хохот ближних слушателей мешает дальним услышать все сказанное…
Что «там» все происходит именно так, мы ни минуты не сомневаемся: многие из нас по вечерам подрабатывают в массовках на студии, расположенной совсем близко. Со Славой Щербаченко мы снимались в картине о делах добровольной пожарной дружины, изображая толпу дюжих добровольцев. Режиссер силой отворачивал наши рыла от объектива, к которому эти рыла непроизвольно тянулись, надеясь увековечить себя в кинолетописи. Рядом снимался очень морской фильм «Богатырь» идет в Марто». В павильоне была изображена часть палубной надстройки с «морской» дверью. Морские волны подавались с деревянной бочки по лотку, наспех сколоченному из горбыля. По команде режиссера запускался вентилятор и брызгалка, изображающая дождь. Главная героиня-красавица выходила из тени и пыталась открыть дверь, некто с подлым лицом пытается ей помешать, но их, борющихся у двери, накрывает морская волна. С волной были проблемы, поэтому снимался уже – надцатый дубль. Иногда бочка не успевала наполниться, и могучая морская волна напоминала обливания из ковшика младенца в ванночке. Иногда веревку, опрокидывающую наполненную бочку дергали до подхода героини, иногда после. И каждый раз опрокинутая бочка никак не хотела возвращаться назад; рабочие, чертыхаясь, лезли наверх, чтобы ее, мятежную, образумить. Время шло. У несчастной героини уже зуб на зуб не попадал: за предыдущие дубли она совсем вымокла, а «ветродуй» создавал приличный сквозняк. Лицо отрицательного персонажа стало теперь не столько противным, сколько жалким. Мы, пожарники-добровольцы, спины которых уже были увековечены, от души сочувствовали морякам в штормовом море…
Мне хорошо живется и работается в общежитии среди новых друзей. Вот что вспоминает ЦВ в письме от 31 марта 2003 года.
«… посмотрев на ваши (с Эммой – авт.) фотокарточки, я всплакнул. Со мной это в последние месяцы (после смерти Вали – авт.) случается. Очевидно, я стал старым и сентиментальным. Я долго всматривался в фото, и вот что мне пришло в голову. С возрастом меняются черты человека, его лицо, но неизменными остаются глаза и улыбка. Глядя на тебя, Коля, сразу представил нашу комнату, твое место за шкафом. Ты сосредоточенно там большими порциями глотаешь науку, затем встаешь, распрямляешь затекшие суставы и с улыбкой запеваешь тебе одному присущее: «Якби сода була, якби соду привезли, паляниць напекли б, паляниць напекли б, і в Одесу повезли». Это означало, что пришло время подумать о пище не только духовной…».
Слова про соду, которые приводит ЦВ, – фонетическая имитация широко известного довоенного танго, исполняемого певцом на неизвестном нам языке. Слова произносятся в нос, с неземным акцентом, одновременно рекомендуются пируэты с виртуальной партнершей.
С общежитиями КПИ связано пять лет насыщенной до предела жизни, и я еще не раз буду возвращаться к этой теме. Пора приняться за учебу.
Ученье – свет
Наука изощряет ум; ученье вострит память.
(К. П. № 7)Я зачислен в группу ЗВ-10. На нашем курсе две группы: параллельная – ЗВ-11. «ЗВ» обозначает «зварювальне виробництво». Пару лет назад сварщиков выделили в отдельный факультет и увеличили набор в два раза, – стране очень нужны инженеры-сварщики. Раньше группы сварщиков в КПИ «состояли» на механическом факультете. Впрочем, и теперь все общеинженерные лекции и зачеты мы проходим вместе с механиками. В Ленинграде сварщиков «притулили» к металлургическому факультету. С таким же успехом нас могли бы причислить к электрикам, и к физикам, и к электронщикам. Рядом – Институт Электросварки имени Патона – он всем этим очень успешно занимается. Мы – многогранные, нам все сгодится, все употребится. Впрочем, все это мы поймем и почувствуем свою «элитность» через несколько лет. Сейчас мы парии по двум причинам: как первокурсники и, именно потому, что «курица – не птица, сварщик – не инженер». Правда, в нашей группе есть несколько киевлян, которые знают о факультете намного больше, и пришли сюда вполне осознанно, некоторые перешли с других факультетов.
Группа ЗВ-10
В группе выделяется Юра Яворский. Он всем все объясняет, знаком со всеми. Он самый общительный, он терпеть не может любой несправедливости. Когда возникает вопрос о выборе старосты группы, – его выбирают единогласно. Как-то мы сразу приглянулись друг другу, Юра опекает мою провинциальную «недотепанность». Например: разбивается группа на две подгруппы для практических занятий по неведомой начертательной геометрии. Юра шепчет мне:
– Иди в подгруппу Насуловича, вторую будет вести Павлов. Это настоящий зверь!
Естественно, в спокойной группе доброго Насуловича оказываются все избранные, в том числе – и я.
Первую неделю после общих лекций, проводимых в больших аудиториях для целых потоков из двух-трех факультетов, делать абсолютно нечего. Я с ребятами из общежития хожу по Киеву, по зеленым театрам, встретился с земляками. 3 сентября в Большом Зеленом театре общегородская встреча с первокурсниками. Мне и одной симпатичной девчушке поручено (кем – совершенно не помню) выступать от имени первокурсников КПИ. Впервые в жизни я у микрофона, перед двумя тысячами человек и кинокамерой. Я не унизился до чтения заготовленного текста: говорил «от души», правда, что и как, – от волнения не запомнил.
Уже на следующей неделе время ощутимо уплотняется. Появляются первые задания, которые надо выполнять. Впрочем, можно и не выполнять именно сейчас, «сей секунд», отложить до лучших времен. Только очень скоро начинаешь понимать, что лучших времен уже не будет никогда: работа увеличивается непрерывно, как снежный ком.
Невообразимую уйму времени забирает техническое черчение – знаменитый «первый лист». Позже Леня Хлавнович, наш бард, так отразит это в нашем гимне: «В нашей жизни первый лист — не особенно был чист». Первый лист – это вычерченный сначала карандашами, затем тушью, ГОСТ на машиностроительные чертежи: линии, обозначения размеров, сечения, проекции, и главное – шрифты. Приобретены в магазине на Подоле листы полуватмана. «Полный ватман» – лист с неровными краями, ужасающей толщины и такой же цены, позволяет многократно срезать лезвием ошибки. Наш полуватман позволяет это делать всего один – два раза. Карандаш можно стереть, конечно, но при этом всегда остаются грязные следы: резинки-то – ширпотребовские и мажут сами по себе. Нормально работать можно только очень дорогими чехословацкими карандашами «Кохинор», – отечественные или режут бумагу, не рисуя линии, или размазывают линию и ломаются, причем эти противоречивые качества проявляются в одном и том же карандаше. Рейсфедеры из простых готовален – не лучше. Тушь может забежать под линейку, вылиться жирной волной или вообще навеки засохнуть в щели. Конечно, многое зависит от сноровки, и помощь старших товарищей тут неоценима. Все кривые усердными первокурсниками рисуются исключительно лекалом – неким морским коньком из пластмассы. Пока выводится одна кривая, «конек» нагло размазывает предыдущую. После тщательной работы с лекалом получаются некие ломаные уродцы, глядеть на которых тошно. Переделываешь, исправляешь, сидишь над этим первым листом до двух-трех часов ночи. А время бежит, проклятый лист уже надо сдавать, стоят без движения другие срочные задания, которые тоже надо сделать к сроку, да и вообще на носу зачетная сессия. А не сдавшие зачеты – не допускаются к экзаменам – со всеми вытекающими, весьма трагическими, последствиями. Желторотый первокурсник смят, уничтожен, ему кажется, что он никогда не осилит эту работу, что он влез в хомут, который по плечу только Геркулесу…
Мне кажется, именно на этом этапе сгорают школьные медалисты, которые привыкли добывать пятерки, чрезвычайно добросовестно пережевывая мизерные школьные объемы знаний. Им просто не хватает времени на работу в прежнем стиле, они пытаются «объять необъятное», что в принципе невозможно, – учит нас мудрый Козьма Прутков.
Такой большой и все возрастающей нагрузкой нас учат работать быстро и продуктивно. На втором курсе многострадальный первый лист на спор (и, увы, – за деньги) я вычерчиваю всего за три(!) часа с высочайшим качеством. Сложный проект по деталям машин, с расчетами и двумя-тремя листами очень непростых чертежей, мы с Колей Леиным в четыре руки и две головы сдаем заказчику всего за один вечер. Увы, – тоже ради презренного металла.
На лекциях учусь конспектировать. Сначала это делал по логике: все равно ведь сидишь, давай пиши от нечего делать. Очень все понятное на лекции, через короткое время становится темным лесом, если только просто запоминать. Надо кратко и связно записать только главную мысль. Чтобы выделить главную, надо знать, какие же – не главные, то есть понимать, о чем вообще идет речь. Тех, кто пытается записать просто стенограмму лекции, ожидает нервное истощение, бесполезные тома конспектов, в которых ничего нельзя разобрать, и длительные чтения толстых книг перед экзаменами. Мне, обычно, было достаточно пролистать свой конспект.
Очень нравится математика – изящество и мощь дифференциалов, производных и интегралов. «Терпеть ненавижу» мистику матричного исчисления. Киевляне на коне: начала матанализа им преподавали в школе. Теоретическая механика для меня – тоже любимый предмет: стают понятными и расчетными вещи, ранее необъяснимые. С химией отношения посложнее, но наша преподавательница Елена Ивановна Ивченко – женщина такой удивительной красоты, юмора и обаяния, что не знать химию было бы противно самому.
Шуточки трехмерного пространства
Щелкни кобылу в нос – она махнет хвостом.
(К. П. № 58)Очень сложные отношения у меня с начертательной геометрией в основном из-за того, что я попал в подгруппу избранных. Случилось так, что практические занятия у нас по расписанию оказались раньше теории. Наш «пул» уселся в надлежащей аудитории. Входит молодой высокий мужик с плечами атлета. Голова небольшая, лицо классически правильное, глаза – темно-синие, прическа – почти под машинку. Поздоровался, поздравил с началом учебы, узнал некого Клокова, из начинающих второй заход после отчисления в прошлом году. Я развесил уши в полной уверенности, что это и есть добрый Насулович. Внезапно открывается дверь, и некая личность, с журналом в руке и весьма помятой физиономией над таким же костюмом, робко произносит:
– Анатолий Владимирович! Мы с Вами случайно ошиблись группами, эта – моя!
Анатолий Владимирович соображает полсекунды, решая нашу судьбу.
– Ничего, поменяемся просто журналами!
Вместе с обменом журналами «хитрая подгруппа» дружно сваливается в яму, приготовленную для простодушных: мы оказываемся в подгруппе самого грозного Павлова!
Начертательная геометрия очень проста в своей идее: изобразить точку, линию или нечто объемное в трехмерном пространстве на плоской картинке. Можно представить себе три плоскости под углом 90 градусов. Линии их пересечения – пространственная система координат X,Y,Z. При этом образуется восемь пространственных углов. Предмет проецируется на каждую плоскость. Затем все плоскости как бы складываются в одну. Образуются три различные, но связанные, картинки. Вот простенький, но – почти философский – пример о различных точках зрения. Один зритель утверждает, что истина является треугольной с острием вверх – ▲, он это видит своими глазами. Второй – говорит, что именно острие вниз – ▼ является воплощением истины. Третий рьяно доказывает, что они оба заблуждаются, так как истина имеет вид квадрата – ▀. Все трое спорщиков правы: они так видят со своих позиций. Вместе с тем, все не правы: это три проекции одного объемного тела – тетраэдра.
Так вот самая трудная задача «начерталки» – именно так она обозначается на сленге, – воссоздание объемной «истины» по односторонним плоским проекциям. Здесь начинаются головоломки типа ребусов для тех, кто не может мысленно вращать плоскости в пространстве. В общежитии решение таких головоломок котируется как разгадывание ребусов и кроссвордов. Мы болеем начерталкой. Теперь мы говорим не просто «хочется прилечь», а «хочется спроектироваться на плоскость Н (аш) в масштабе один к одному». Звучит очень научно.
На лекциях Павлов яростно носится с длинной деревянной рейкой, изображающей прямую линию. Плоскостью Н является пол, двумя другими служат стены. Он очень хочет, чтобы до слушателей «дошло», чтобы они поняли и полюбили тайны вращения плоскостей. На практических занятиях он нас просто терроризирует: на дом задается неимоверное количество задач, к каждой надо нарисовать картинку. Народ, измученный первым листом и всякими другими заданиями, делает все небрежно и быстро, или не делает вообще, не сумев разобраться в тонких материях. Павлов свирепеет, излагает нам свои «креда»:
– Чтобы стать инженером, не надо быть вундеркиндом: надо иметь свинец здесь! – он выразительно похлопывает себя по месту, откуда растут ноги.
– Вы думаете под крылышком папочки-мамочки проторчать здесь пять лет, а потом устроиться на Куреневке (фешенебельный район Киева — авт.) в артели «Свисток Сентября»? – Не выйдет! – распекает он очередную жертву.
Особенно Павлов мордовал наших девушек. Они даже плакали после его разносов, – и все были влюблены в него: он был настоящий – яростный и красивый.
– Ваша группа – это группа вундеркиндов и лентяев! – восклицал Павлов. (Кого он числил вундеркиндами, – Павлов нам не сообщал, лентяями же – были все остальные) И тут же:
– Один Мельниченко у меня ра-бо-та-ет! – он произносил это слово по слогам, подчеркивая мое трудолюбие и наличие «свинца в одном месте», которые он ценит даже при отсутствии каких-либо талантов. Этот «свинец» вскоре ударил по его мнимому обладателю самым неожиданным образом.
Начертательную геометрию мы сдавали после первого семестра. Павлов и Насулович принимали экзамен вдвоем в одной аудитории. Прошло уже человек 10, подошла моя очередь. Наши девы дрожали мелкой дрожью, умоляли меня пойти к Павлову. Я и пошел. Коротко ответил на вопросы билета: это ведь не характеристика шалопутного цыгана Лойко Зобара. Решил задачки, Павлов слушал с отсутствующим видом, без вопросов поставил мне в ведомости «хорошо» и взял мою зачетку, чтобы и туда записать эту оценку. К тому времени мы уже сдали математику и теормеханику, и в моей зачетке стояли два «отлично». Павлов, с уже поднятой для записи ручкой, откинулся на стуле и удивленно воззрился на меня. Я спокойно молчал, разглядывая стол. Несколько долгих секунд с Павловым что-то происходило, возможно, он подумал, что я ведь коротко и ясно ответил на все вопросы билета. А может быть, моя серость как-то начала окрашиваться или менять очертания в его глазах. Павлов решительно сдвинул на край стола все бумаги и сказал:
– Ну-ка решите эту задачу! – на листе появился один из ребусов. Я молча нарисовал ответ.
– А вот эту? – возникает второй ребус. Я решил и этот.
– Почему?
Объяснил в двух словах.
– А если вот так?
Решается и «вот так». Павлов вошел в раж и непрерывно рисовал одну за другой самые замысловатые головоломки по начертательной геометрии.
Окружающий мир перестал существовать. Время остановилось. Бесшумно вращались плоскости V, W и H вокруг хорошо смазанных осей X,Y и Z. Четко определялись следы линий и точек, расположенных во всех восьми объемных углах пространства, расположенных вокруг неподвижного центра мироздания – нуля. Я работал как машина: быстро и не допуская ни одной ошибки.
Потом ребята мне рассказали, как все было. Насулович за это время успел принять экзамен у всех оставшихся, сидел в аудитории и с ужасом глядел на нас. Вся группа толпилась у дверей, не понимая, что происходит. Главная версия: «Майк горит синим пламенем!»
Наконец экзаменатор опомнился и огляделся: уже около часа «серый» студент непрерывно решает его суперзадачи. Павлов решительно взял в руки ведомость, жирно зачеркнул прежнюю оценку и сверху размашисто написал «отлично». Такую же оценку на пол-листа он поставил в зачетку. Павлов был яростным и увлекающимся, но – справедливым человеком. Я поднялся и пошел к двери, меня пошатывало.
– Что??? – выдохнула группа. Я показал зачетку, не в силах что-нибудь произнести. Дружный рев огласил тишину академических коридоров. Не думаю, что он был вызван 100-рублевой прибавкой к моей стипендии…
Культуры бывают разные
Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу
(К. П. № 30)И одна из культур – физическая. На первых двух курсах института, пока мы еще не заматерели, требовалось сдавать нормативы «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2-й ступени. Это были очень непростые ступени, и не только для меня: для многих они оказались вообще недостижимыми.
На первых порах в институте нас встретил весьма импозантный физкультурный врач, по слухам – большой любитель женского пола. Он измерил и записал все наши физические параметры, выдавая при этом весьма живописные комментарии. У Мауэра с его вполне взрослым животом он заботливо поинтересовался: почему тот недоедает, тощему Вахнину посоветовал разгрузочную диету. Когда измерялся объем легких и испытуемый из последних сил старался увеличить свои показатели, врач трагически поднимал руку и провозглашал:
– Даже самая красивая женщина может дать не больше, чем она имеет!
Когда проводились занятия в гимнастическом зале, то смотреть на нашу группу собирались зрители как на спектакль. Вся группа дружно, рывками в такт «эй, ухнем!» поднимала Мауэра на турник. Он уже был наверху, но его продолжали поднимать, пока он не переваливался через живот. Тут его отпускали и ловили уже возле самых матов. Подтянуться на турнике надо было раз шесть. Кто не мог этого сделать, – собиралась группа, и с криками поднимала его раз 30 с громким счетом каждого подъема. От преподавателя требовали зафиксировать мировой рекорд.
И, если с гимнастикой у меня было все в полном порядке, то с бегом никак не получалось: не было скорости и выносливости на длинных дистанциях. По вечерам Толя Венгрин, Серега Бережницкий, я и еще несколько страдальцев выходили и бегали на стадионе, но результаты были скромные: подводила «дыхалка», ноги ставали деревянными уже на втором километре. Благодаря раннему табакокурению, или еще чему-то, – второе дыхание пришло бы к нам значительно позже после прекращения первого. Тем не менее, бег на 3 км мне неожиданно удалось сдать по совершенно дикой причине. Рядом бежал Толя Венгрин родом из Чернобыля (!), в общем, – здоровый мужик с длинными ногами, робкий и застенчивый, как девушка. Уже в начале второго километра Толя, задыхаясь, сообщил мне, что сейчас сойдет с дистанции. Это означало: прощай, стипендия, которая ему нужна была не меньше, чем мне. До самого финиша я бежал рядом, уговаривал Толю держаться, – то ласково, то матом. Мы добежали вместе вовремя: таща ведомого, я забыл о своей собственной дыхалке и деревянных ногах. Восьмикилометровый марш-бросок мы одолели проще: там бег можно было чередовать с быстрым шагом.
Бег на 100 метров не мог сдать никто. Наш староста Юра Яворский стоял на старте и делал флажком отмашку, на финише преподаватель засекал время. Во время пробных стартов оказалось, что в норму (кажется, 13 секунд) никто не укладывается. Наш «пан староста» придумали весьма эффективную штуку, резко повысившую наши спортивные достижения и приблизившие их вплотную к мировым рекордам. Старт был метров на 7 просто сдвинут вперед. Преподаватель, стоящий на другом конце длинной дорожки стадиона, этого не заметил, а может, – не захотел заметить. Он понимал, что спринтерами мы могли бы стать не скоро, а кушать будущим инженерам надо уже сейчас.
Однако мне предстоял впереди самый трудный барьер – плавание. Мне, самоучкой научившемуся в Казахстане с трудом переплывать четырехметровую яму с глиняной болтушкой, предлагалось на выбор – проплыть 50 метров на время, или просто проплыть 400 метров. Плаванье мы сдавали в зоопарке, в большом круглом бассейне с островком посредине. Испытывая непреодолимое отвращение к приборам измерения времени в секундах, я решил плыть на 400 метров. Эта дистанция раз в десять превышала расстояние, которое я проплыл своим ходом за всю прошедшую жизнь. Признаюсь: уповал я не только на Бога, но и на небольшие глубины испытательной акватории, о которых донесла разведка предыдущих поколений. Стратегия моего покорения водных просторов была простой и эффективной. Возле стоящего на берегу преподавателя я демонстрировал бурный собачий стиль во всем его великолепии и брызгах. Как только островок закрывал меня от глаз, алчущих моей погибели, я переходил на простую ходьбу по дну, правда, – помогая ногам и руками. В свое оправдание могу сказать, что мне было очень неловко: глубина бассейна не позволяла просто ходить.
Значок ГТО-2 я, тем не менее, нацепил с гордостью и даже возжелал дальнейших спортивных подвигов. Шанс вписать свое имя в анналы спортивных достижений у меня появился в лице Аркаши Гайдыма, добродушного «сачка» курсом старше. Миша Терех в очередной газете изобразил Гайдыма сидящим в люльке с соской и ружьем. Люльку с натугой поднимали по этажам-курсам, вспотевшие от непомерных усилий декан и Нина Ивановна. Аркашу, кроме стрельбы, ничего не интересовало. Он привел меня в тир в подвале института, и я начал осваивать хитрости стрельбы и стандартных стрелковых упражнений на соревнованиях. Стрелял я и до этого неплохо, но когда понял, как надо стрелять по– научному, – превзошел сам себя. На соревнованиях в стандарте 3 х 5 установил рекорд института – 49 очков из 50 при стрельбе с колена, получил третий спортивный разряд и успокоился. Стало скучно, да и времени не хватало. Аркадий был разочарован и долго ходил за мной, уговаривая вернуться. А мне хотелось взглянуть вблизи на небо, в котором я никогда не бывал.
Языконезнание
Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?
(К. П. № 55)Мы могли выбирать иностранный язык: английский или немецкий. Пока я готовился к экзаменам в школе и институте, – нахватался немецких (иностранных) слов более чем иная собака блох. Правда, соединить эти слова в нечто связное мне было так же трудно, как построить в три шеренги вышепоименованных блох. Если бы тогда я мог представить хотя бы толику будущих затруднений в своей жизни из-за этого «естественного» шага, то дни и ночи непрерывно учил бы английский. Сейчас, на восьмом десятке лет, мне приходится его изучать, но дырявая память пропускает выученное, как волейбольная сетка кильку.
Впрочем, и тогда изучать язык уже было поздно, во всяком случае, – человеку без способностей к этому. А человек с такой завидной способностью в нашей группе был – Юра Тихомиров. Непропорционально большая голова с одутловатым рыхлым лицом, взгляд, скользящий мимо собеседника, – не вызывали к нему особых симпатий. В дневнике тогда я его определил как «полторанормального», претендующего на звание философа, литератора и художника. Он был немного не от мира сего, и мы довольно ядовито подтрунивали над ним, в чем я теперь искренне раскаиваюсь, – поэтому и рассказываю о нем.
Немецкий он знал, по-видимому, в совершенстве, говорил, что где-то был военным переводчиком. Я не мог, естественно проверить глубину его познаний в немецком языке. Только однажды он исправил немецкую фразу, «сконструированную» мной, небрежно заметив: «Немцы так не говорят». Посидев несколько занятий с нами, он перешел в английскую группу. Мы обалдели: на всех уже давил цейтнот, а у Тихомирова не «вырисовывались» никакие основные предметы и математика. Так вот: через две недели он свободно поправлял английский наших ребят со второго курса, которые изучали этот язык уже минимум семь лет. Что же делает после этих достижений наш «полторанормальный»? Овладевает в короткие сроки теормеханикой, математикой? Сессия ведь на носу. Он начинает изучать персидский язык (кажется, – фарси)! Чтобы подтянуть математику, он набрал в библиотеке больше десятка книг с математическими анекдотами всех времен и народов, желая durch diese познать дифференциальное исчисление. Нашему приземленному и примитивному мЫшлению (из речей гробовщика СССР тов. Горбачева) это было не переварить.
В своей комнате Тихомиров ко всем приставал, чтобы ему дали определение «причины»; подозреваю, что он вычитал или придумал нечто оригинальное. Замученный чертежами и заданиями народ зверел от этого высшего пилотажа, требующего времени на бесплодные дискуссии. ЦВ разработал план. Тихомирову передали, что, мол, в 6-й комнате дают определение причины. Философ влетел к нам немедленно, предвкушая удовольствие от грядущей победы в диспуте.
– Ну, так что есть причина? – вопрошает он нетерпеливо.
– Причина является дифференциалом времени, умноженного на свою вторую частную производную, – невозмутимо произношу я эту ахинею, зная, что дифференциалов и производных философ боится больше, чем черт крестного знамения. Тихомиров по нашему адресу шепчет что-то типа «дефективные» и пулей выскакивает из комнаты. Дискуссия закрывается для всех: вооруженный высшей математикой народ, наконец, обретает неуязвимое определение причины и, главное, – покой.
Сегодня Малахов в «Большой стирке» показывал человека, ветеринарного врача знающего около сотни языков. Он изучил их просто так, в качестве развлечения. Теперь я понимаю, что наш «полуторанормальный» был талантливым человеком из этой же породы. Просто он сел не на свой поезд. Правда, после первой же сессии ему предложили немедленно освободить вагон. В жизни, в отличие от романов, люди из нашей жизни очень часто уходят навсегда: я не знаю, как сложилась судьба Юрия Тихомирова; проследить ее было бы очень интересно.
Немецкий в институте изучаем своеобразно: сдаем «тысячи». Это значит, что мы читаем и переводим увесистые куски иностранного текста. Поскольку эти куски очень обширные, то для экономии времени преподаватель тычет пальцем в несколько абзацев в начале, середине и конце текста, которые студент читает и переводит уже без словаря: подразумевается, что он это сделал «до того».
Но не такова наша убеленная сединами немка – Анна Эрнестовна Келле. Она допоздна сидит с нами в институте. Сама уже усталая и измученная, она добросовестно слушает наше чтение и переводы почти без всяких сокращений. Ее занятия начинаются неизменно словами: «Ich bin nicht zufrieden: die Gruppe arbeitet nicht!», что означает недовольство АЭ нашей работой, точнее – бездельем. Переводимые тексты все более стают техническими, что автоматически сокращает количество требуемых слов. АЭ – гуманитарий, из всех технических терминов она знает только основные. Если переводить уверенно и с апломбом, то АЭ может пропустить перлы типа: «напряжение подвешивается к силе тока на сварочном кабеле, что позволяет увеличить скорость сварки». Кроме того, наша АЭ плохо запоминает лица, поэтому Поля Трахт блестяще сдает накопившиеся за весь семестр «тысячи» за беззаботного шелапута Жорку Олифера. Поля Трахт – винничанка, мы с ней дружим, она – «академсектор» в комсомольском бюро факультета, и ей положено по должности подтягивать отстающих. Рыжий очкарик Жорка Олифер – всегда беззаботный и веселый бездельник. Вся группа его любит, и все ему чем-то помогают, чтобы его не выгнали из института. Больше всех Жорку тянет мой друг Коля Леин, беззаветный трудяга родом из детдома. С Колей мы живем в одной комнате, наше совместное хобби – математика. Заковыристые интегралы мы можем вытягивать до изнеможения или победы.
Немецкий технический я осваиваю так, что могу перевести без всяких словарей. От чтения с русско-украинским акцентом АЭ морщится, поправляя кое-какие слова. Слово «ich» она просит нас произносить как «ишь», хотя в некоторых областях Германии оно произносится как «ик». Что-либо связно произнести на немецком никто не умеет, лучшее – этот стих:
Іх сиділа на террасі,
Ду шпацірував по штрассє,
З неба вассер йшов,
Варум ти не зайшов?
Свое потрясающее знание немецкого языка мне пришлось применить дважды в жизни, причем в питейных заведениях. Перед отправлением на Новую Землю я харчился в ресторане «Арктика» в Мурманске. Вышел из порта очень поздно и очень голодный, – только там можно было поесть в это время. Пришлось взять и бутылку, чтобы не быть белой вороной и слиться с массами. Наелся, развеселился. За соседним столом хмурый мужик смотрел на меня не очень приветливо, затем заговорил на немецком. Я понял, что он – инженер и не любит военную форму. Я ему ответил, что я тоже инженер, «ich bin auch Kriegsuniform – weg!» и спросил его, где же он был в 1941–1945 годах? Немец быстро ответил, что он был в это время болен. Я усомнился: не заболел ли он после 1945 года? Немец подсел к нашему столу и стал горячо что-то объяснять. Смысл объяснений мне уже было не уловить, но зато он понял русский призыв, подкрепленный рюмкой и жестами, выпить за мир и дружбу. После этого действа дальнейший разговор и братание пошло свободнее: каждый говорил на своем языке. Неизвестно, чем бы закончилась мирная конференция народов, если бы к нам не подошел патруль и на понятном языке не спросил, не желаю ли я окончить переговоры на гауптвахте для младших офицеров? Я не пожелал, и конференция окончилась без подписания итоговых документов…
Вторая встреча с живым немецким произошла, когда уже была дружественная ГДР. С Олегом Власовым мы сидели в забегаловке возле санатория «Аврора» в Хосте, где подлечивали хилое здоровье. Пили мы не кефир, и я встрял в немецкий разговор троих мужиков за соседним столом. Говорили мы с ними долго, конечно – на немецком, конечно – за мир и дружбу. Олег хмуро наблюдал за нашим разговором: он, как истинный военный изучал не язык, а Строевой устав. Немцы спросили: «Wer ist er?». Поскольку я знал только одно воинское морское звание на немецком, то я его и употребил: «Er ist ein Kapitan zur See». Немцы неожиданно поднялись по стойке «смирно» и отдали честь слегка обалдевшему Олегу. Он по-русски предложил налить, что иностранцы сразу поняли и согласно закивали.
– Что ты им сказал? – допрашивал потом меня Олег. Мне и самому было интересно, что я им сказал…
Мои встречи с английским языком, очень невеселые, продолжаются по сей день. На моем компьютере установлены несколько программ – переводчиков. Они бодро переводят, но выдают такие перлы, что я даже понимаю больше английский текст, чем русский перевод. Серфинг по англоязычному Интернету для меня то же, что плавание по морским волнам для топора.
Воспоминание об одном столкновении с английским языком для меня особенно тягостно. В Ленинграде гастролировал Кливлендский симфонический оркестр. Когда в форме морского офицера я вышел из Адмиралтейства (там в училище служил мой друг Боря Мокров), ко мне, как к родному, кинулся один из оркестрантов. Он заблудился в городе и ни с кем не мог объясниться, поэтому, естественно, обратился к человеку в морской форме. Его вопрос я не понял, на понятном немецком объяснил ему, что я – немец, дойч, жермен. Он тыкал пальцем в словарь, где было слово «пароход» на русском и английском. «Ну, пароход, понял, а чего ты хочешь? Was wollen Sie?» – допытывался я. Он опять позволял себе дерзость обращаться ко мне и дальше на непонятном английском. Уразумев, что ответа не дождется, он окинул меня взглядом от головы до ног, и презрительно процедил: «Маринер..», что было уже понятно без перевода. Только чудом меня не поглотил асфальт Дворцовой площади… Однажды я попытался облегчить себе жизнь и установил драйвер к цифровому фотоаппарату на немецком языке. Увы, теперь он для меня был еще темнее, чем английский… Учитесь, дети, сызмалу: пенсионерам – некогда!
Будни и каникулы
Вещи бывают великими и малыми не токмо по воле судьбы и обстоятельств, но также по понятиям каждого.
(К. П. № 139)После первого семестра я поехал на каникулы в Деребчин: хотелось увидеть маму и Тамилу. Им без меня было, конечно, тяжеловато. Вдоволь наговорились, от души намахался «наследственным» топором, кое-что подремонтировал. Вечером пошел на завод, «в свет». Даже встречался со своей «пассией»: она болела, я был у нее дома. Все скучно, господа. Я уже другой, – они – прежние. Чувство такое, какое должно быть у парохода, винт которого неожиданно оказался в воздухе. Немного оттаял с ребятами, у них такие же чувства.
Из Деребчина выезжаем вместе. В Рахнах – полный завал: стоит огромная очередь за билетами, которые будут давать за 10 минут до прихода поезда, останавливающегося всего на одну минуту. Шансов купить билет – практически нет. Совещаемся, разрабатываем план. Занимаем, как большие, очередь в кассу, – стоим в самом конце вдоль совершенно гладкой зеленой стены. Касса – маленькая, но глубокая, амбразура посредине стены. Я стою во главе своей очереди – на острие атаки. За 10 минут до прихода поезда в глубине амбразуры слышится стук открываемых запоров. Семеро наших, используя мою грудь как таран, сдвигают всю очередь вдоль стенки. Я еле успеваю вдвинуть в кассу обе руки с деньгами и кричу туда: «Восемь билетов до Киева!». Возмущенное начало очереди пытается меня вырвать из окошка, но мои тылы уже надежно прикрыты. Билеты получены, ребята меня отрывают от кассы, и, под ругань оставшихся, мы выбегаем на перрон к подходящему поезду. Конечно, этот способ покупки билетов не очень гуманный, но я видел и похуже. Оставаться же нам еще на сутки – нет никакой возможности…
В общежитии перестановки. Кто-то уехал, кого-то выгнали. Меня из шестой комнаты на первом этаже переселяют в угловую комнату на третьем; эта подробность спустя несколько месяцев для нас окажется прямо таки роковой. Теперь в комнате нас трое из одной группы: Серега Бережницкий, Коля Леин и я. С Колей мы при первом знакомстве поцапались: чем-то я ему не понравился, что он не преминул показать, саркастически обозвав меня «деятелем». Я тоже как-то огрызнулся. Все изменилось при более близком знакомстве. Я не знаю человека более трудолюбивого, обязательного, доброго, готового поделиться последним, забыть о себе, чтобы вытащить из беды друга. Рост у Коли был небольшой, он очень переживал это: девушки ему почему-то нравились все очень рослые. Мы старались никогда не наступать на эту мозоль. Если получалось нечаянно, – Коля смеялся вместе с нами.
Серж Бережницкий был длинным, элегантным и влюбчивым. Это Серега изобрел формулу оценки девушек: «Я бы ей отдался, не требуя за то дополнительного вознаграждения», или: «Мы сегодня же ночью взойдем к ней!», – деловито копируя эмира из «Похождений Насреддина». С науками у Сереги иногда бывали затруднения, но мы с Колей его быстренько выталкивали из колдобин на ровную дорогу. При этом наши скулы очень часто болели от элементарной «ржачки», что весьма облегчает жизнь.
В комнате были еще другие ребята, – задиристый юный тамбовец и другие, но наша тройка была основной. Мы меняли комнаты и даже общежития (надеюсь рассказать об этом), но сохраняли наш триумвират. С этими ребятами я бы пошел в разведку, – если бы меня, конечно, они взяли. Не знаю, как выглядел я в их глазах, поэтому привожу их дарственные надписи на фото при расставании. Хоть и редко, но мы поддерживаем связь до сих времен: у Коли я был в Электростали, Серега посетил меня в Питере.
В группе у нас выделяется Юра Попов. Он тоже живет в общежитии, но в другой комнате. Когда другим ребятам говоришь, что ты со сварочного факультета, то они неизменно спрашивают:
– У вас Юрка Попов учится? – его знают все. При виде человека, незнакомого нам, Юрка издали широко раскрывает руки и издает звуки радости, как при встрече со старинным другом, которого давно не видел. Следует радостный обмен восклицаниями типа «ну, как там?» и такое же радостное прощание. Спрашиваешь у Юрки:
– Кто это был?
– Черт его знает, кажется, он на металлургическом учится.
Больше ничего о «близком друге» он не знает. Попов часто ходит в полувоенной форме, но у него полно всякой модной одежды. Впервые на нем мы видим яркие заморские галстуки и шелковые рубашки с пуговицами до самого низа. У него роскошные наручные часы и два фотоаппарата; большинство моих студенческих снимков сделаны именно ими. В деньгах он тоже не испытывает недостатка: его папа директор крупного цементного комбината в Латвии. На все каникулы и праздники Попов улетает самолетом в Ригу – «маленький Париж», по его словам. По напористости, «арапистости» и нахальству Попов мне напоминает Алика Спивака, но на более высоком уровне. Я подробно расписываю свое понимание Юрки Попова, потому что наши судьбы довольно долго шли параллельными курсами, о чем далее.
Второй семестр начинается без всякой раскачки. Сразу куча заданий выше головы, уйма других забот. Но жить уже неизмеримо легче: мы почти умеем работать быстро и эффективно. Уже можно выкроить время на более приятные дела – кино, концерты, самодеятельность и т. п. и т. д. У выдержавших первый удар первого семестра появляется некоторая наглость и уверенность, что и следующие нагрузки можно выдержать.
У нас очень много практических лабораторных работ по физике, химии и другим предметам. Больше всего нам нравится практика по ручной сварке. Самодельными электродами – на проволоку нанесен мел, замешанный на жидком стекле, – мы учимся держать дугу и выполнять простенькую сварку. Это очень занимательное занятие, – видеть и чувствовать расплавленный тобой металл, слышать ни с чем не сравнимый звук сварочной дуги. Сварка такими электродами проще, чем «качественными», со специальной обмазкой: в расплавленном состоянии металл выглядит так же, как и шлак, и, вместо сварки металла, неумелый заливает все расплавленным шлаком. Никаких теорий по сварке и оборудованию мы еще не изучаем, а практические навыки – на уровне ПТУ или ниже: там ведь проходят сначала теорию. Тем не менее, я готовлюсь провести каникулы не на подаче снопов, а на родном заводе сварщиком.
Внеучебная жизнь протекает бурно. Часто посещаем концерты Бориса Романовича Гмыри. Этот знаменитый бас оставался в оккупации и выступал чуть ли не в ставке Гитлера. Конечно, все это слухи: тогда такие вещи в газетах не печатали. Тем не менее, Гмыре ходу не было. Как-то скрепя сердце его допустили к дням украинской культуры в Москве. Гмыре повезло: его выступление слушал Сталин. Сталин якобы сказал:
– Так это же советский Шаляпин!.
Перед Гмырей немедленно открылись все двери. Я слушал его «вживую» много раз, трудно передать словами то потрясение, которое я испытывал, слушая его «Сомнение», «Песню старого капрала» или украинские народные песни. Собственно, мне впервые в жизни пришлось слышать настоящее пение Мастера. С этого времени часть моей стипендии неизменно уходила на покупку пластинок, в основном – классической музыки, арий из известных опер. Пластинки с такой музыкой, кроме всего прочего, были гораздо дешевле «эстрадных». Правда, эта эстрада – высокая классика по отношению к большинству теперешней «попсы», в которой десятки раз могут повторять примитивную фразу. В этих случаях мне всегда хочется спросить авторов и исполнителей: «Еще хоть какие-нибудь слова вам, прохвостам, ведомы? Так произнесите и их!»
Очень полезными были тематические абонементы в филармонии. Профком их продавал нам по смешным ценам. На очередную лекцию-концерт два-три раза в месяц мы напяливали галстуки, мыли шеи и развешивали уши. Краткая лекция на тему «Кто есть ху», прерывалась музыкальными иллюстрациями: играл симфонический оркестр, пели известные певцы. Гуманитарная информация почти не задерживается в моей голове, но все это, наверное, как-то отесывало наше провинциально-культурное невежество военного времени. Во всяком случае, – на лагерных сборах после второго курса, взвод сварщиков распевал в качестве фирменной строевой песни арию Певца за сценой из оперы Аренского «Рафаэль», о чем я надеюсь еще рассказать.
Начиная с конца апреля, главной базой подготовки к сессии часто ставал левый берег Днепра на траверзе Владимирской горки, – там мы купание, загорание и волейбол прерывали изучением некоторых наук. Иногда свободного времени бывало очень много – целый день. Тогда собиралась компания, которая на Подоле брала напрокат две-три лодки. Эскадра направлялась вниз по течению, одновременно пересекая Днепр. Почти у моста самого знаменитого сварщика – деда Патона лодки входили в Матвеевский залив. Залив – один из рукавов Днепра – летом имел только один этот вход в основное русло реки, поэтому течения в нем не было. Мы на веслах поднимались по заливу несколько километров вверх. Места там привольные, песок и вода чистые. Проводим там целый день, затем волоком перетаскиваем лодки в основное русло и опять вниз по реке спускаемся к лодочной базе.
На Днепре с Н. Леиным
Размышляю сейчас о финансовой стороне наших развлечений. Абонементы, билеты в кино и на спектакли, прокат лодок и многое другое требовали таких смешных денег, что были вполне по карману студенту, получающему только стипендию. Почему сейчас все не так? Кто-то доплачивал тогда за все эти удовольствия? Или кто-то не только не доплачивает, но и сосет деньги сейчас у надежды нации и будущих элитных работников?
11. Институт. Годы второй – пятый
Летний отдых
Начинай от низшего степени, чтобы дойти до высшего; другими словами: не чеши затылок, а чеши пятки.
(К. П. № 77)Сессию за второй семестр (это конец первого, самого тяжелого, курса) я без особых приключений сдал на «отлично». В кармане – повышенная на целую четверть стипендия, что вселяет приятность неописуемую. Уезжаю на летний отдых, слегка ошалевший от наук. Родные хата, мама и сестра встречают радушно: всем троим нужна моя забота и ласка. День отсыпаюсь, два дня – ремонтирую то, что успело развалиться по хозяйству, на третий день – начинаю скучать. Передают: заводу нужен сварщик. Я еще ничего не умею, но о своем неумении еще ничего не знаю. Иду в заводскую контору, – меня сразу принимают без всяких формальностей: моя трудовая книжка выдана именно заводом.
Моя смена – ночная, с 22 часов. Прихожу немного раньше, чтобы получить задание. Мое рабочее место под навесом рядом с мастерской, которую совсем недавно мы с Мишей Беспятко едва не сожгли. Ремонтировать надо раздолбанные в усмерть вагонетки для перевозки угля в котельной. Специально для меня запускается одноцилиндровый дизель с калильной свечой, который вращает сварочный генератор. Моторист наскоро инструктирует меня, как надо глушить это чудо техники и уходит: его рабочий день окончился.
Темнеет; в мастерской – ни души. Завод на ремонте; основное здание, живое и шумное во время сахароварения, сейчас темное и молчаливое. Начинаю готовиться к работе и сразу же обнаруживаю свои недостатки: у меня нет третьей руки! В одной руке у меня держатель с электродом, левой я держу щиток с темным стеклом. А чем прижать деталь, которую надо приварить? Ногой – не достать, живот – отсутствует. Легко можно прижать пружинящую деталь левой рукой, но тогда глаза не смогут видеть, что я делаю: дуга слепит намертво даже при ярком солнце, не то, что ночью, когда зрачки расширены. Попросить помощи – не у кого: я кажется один на всем заводе. Не сделать – нельзя: это мой первый рабочий день, хотя вокруг уже глубокая черная ночь за пределами яркой лампы, освещающей мое рабочее место. Вблизи громко тарахтит мой допотопный дизель, требуя действий.
Если бы я тогда знал хотя бы в теории, что существуют маски, освобождающие вторую руку! После нескольких попыток обойтись без третьей руки, я изобретаю – не маску, а самоубийственную технологию. Отбрасываю щиток, освобождаю руку, которой прижимаю пружинящий лист, закрываю глаза и начинаю сварку вслепую! Когда открываю глаза, то вижу наплавленные сопли металла совсем не в том месте, куда целился. Попасть удается с четвертой попытки, схватив несколько «зайцев», когда дуга полыхает прямо в глаза. После таких «зайчиков» начинаешь что-то видеть только через несколько минут.
Однако дело сделано: непокорная деталь прихвачена и перестала пружинить. Подбиваю кромки молотком, и начинаю нормальную сварку со щитком. Меня ожидает новая напасть: на яркий свет дуги слетаются тучи невиданных ранее толстенных мотылей с короткими крыльями, – явных сельхозвредителей. Такое толстое туловище можно отрастить только на полезных растениях. Часть вредителей сгорает рядом с горячим швом, другая – успевает залезть мне под щиток, в рот и глаза. Отплевываюсь, отмахиваюсь. Возможно, эти мотыли атакуют меня не только как источник света, но и запаха. У завода нет жидкого стекла, и меловую кашу, в которую окунают электроды, замешивают на патоке. При горении такая обмазка дает дым с сильным запахом горелого сахара, который явно нравится оголтелым вредителям. Я до корней волос пропитан этим запахом, поэтому меня, варилу, они тоже воспринимают как нечто съедобное.
Худо-бедно – одна поломанная вагонетка заварена. Я начинаю прихватывать следующую, опять без щитка…
К 5 часам утра моя технология дает уже не сбой, а «полный звездец»: из красивых глаз непрерывно льются горькие слезы, и я ничего не вижу. Если бы глаза могли смотреть, то увидели бы, что «морда моего лица» обожжена до цвета кирпича и распухла. Кое-как, на ощупь, глушу свою тарахтелку и бреду домой в свете уже восходящего светила. Мама, увидев меня, в ужасе начинает причитания. Твердыми словами прекращаю панику и начинаю руководить спасательными работами.
Заваривается все наличие чая; смоченный заваркой платок укладывается на глаза и лицо. Засыпая, отдаю твердое распоряжение: разбудить меня ровно через один час. Я уже знаю, что для восстановления статуса кво длительность сна не имеет особого значения: главное – количество циклов сон – умывание – сон. Через час мама легонько трогает меня, надеясь, что я не проснусь. Однако просыпаюсь. Глаза открыть невозможно: под веками полно песка. Открываю их обеими руками, умываюсь ледяной водой, специально доставленной с колодца. Когда появляется зрение, то в зеркале вижу распухшую красную физиономию с красными же глазами сытого вурдалака. Опять накладываю чайные компрессы и ложусь.
До вечера я провел около пяти циклов лечения и стал опять способен на новые трудовые подвиги. На работу пошел пораньше. Бригадир ремонтников рассыпался в извинениях, что оставил меня без подсобника. Оказывается, на таких работах сварщику положен был подсобник! Подозреваю, что хитрый бригадир просто испытывал «некоторых, дюже грамотных» на прочность. Теперь ко мне приставлен Степа. Это невзрачный мужичок неопределенного возраста с одним глазом и лицом, похожим на печеное яблоко. Голову Степы венчает большая теплая кепка из толстого сукна, которую позже назовут грузинской. Словоохотливый Степа клянется в любви к сварочному делу и всем сварщикам вообще. Новый помощник дышит густым перегаром, но исправно прижимает железки, переносит кабель и кантует тяжелые вагонетки, чтобы мне было удобно работать…
Недели на две с верным Степой мы перешли в главный корпус завода, где приваривали великое множество крючков из проволоки для удержания изоляции на вертикальных стенках огромных выпарок. «Нахлынули воспоминанья»: работаем рядом с помостом, где три года назад я баловался заводским гудком. Сварка – на высоте, не очень ответственная, но проблема в том, что мне ни разу до этого не приходилось варить в вертикальном положении. Даже заикнуться об этом нельзя, приходится учиться на ходу. К концу первого дня кое-что начало получаться: вместо безобразных металлических соплей – аккуратный блестящий шов. Вопреки канонам, о которых я понятия не имел, варю сверху вниз: к счастью, меловые на патоке электроды позволяют это хулиганство. (Сейчас некоторые продвинутые фирмы выпускают специальные электроды для сварки сверху вниз: наверное, для обеспечения работой своих невежд и неумех). Сам Вася Стопа одобряет мои результаты, тем более – в них поверило руководство.
Окрыленный таким доверием, я пытаюсь совершить еще один трудовой подвиг, как две капли воды похожий на безнадежную глупость. Из завода к жомовой яме на глубине два метра в земле проходила толстенная труба, по которой качали жом. Труба была проложена без всякого понятия: о тепловом удлинении забыли. Из-за этого во время производства труба периодически разрывала стык, сваренный на живую нитку, и жом фонтанировал прямо посреди дороги. Сейчас этот дефект решили исправить раз и навсегда, раз есть такой хороший сварщик.
Трудолюбивые подсобники, чтобы не очень напрягаться, отрыли узенький шурф. Обнажился стык, уже несколько раз оскорбленный безобразной сваркой: вместо сварного шва на стыке висела толстая бахрома металлических соплей. Сейчас я знаю, как исправлять такой дефект: надо вырезать участок трубы, вваривать тепловой компенсатор и т. д. Это работа для бригады монтажников, сварщика, резчика и … экскаватора. О сроках я не говорю: многое зависит от организации и снабжения. Тогда же, наполненный до краев оптимизмом невежества и окрыленный доверием начальства, я решил сделать все один и за считанные часы.
В глубокой дыре я мог только стоять: присесть, тем более – работать, не позволяли стенки. Потребовать, чтобы сделали нормальную яму, мне не позволил комплекс – симбиоз скромности и невежества. Чтобы никого не беспокоить, я придумал нечто цирковое: на ноги надел веревочную петлю и велел опустить меня в шурф вниз головой. Верный Степа с помощником регулировали по команде мое погружение. Под трубой отрыто совсем мало места, щиток не помещается. Тогда я вытащил из него темное стекло и так защитил глаза, пожертвовав опять «мордой лица». Работал я несколько часов, поверх старых соплей наплавляя новые. Весь дым от горелой патоки, прежде чем выбраться из шурфа, проходил через меня: это был мой воздух для дыхания. Этим запахом я пропитался на всю оставшуюся жизнь. Заваренный стык не мог не потечь при испытании, – сейчас мне это ясно, даже не глядя на сварку. Без удаления дефектного металла, насыщенного всякой бякой, такой стык не мог бы заварить даже суперсварщик в самом удобном положении…
Очень тяжелый взгляд из технического будущего. Я занимаюсь сваркой более полувека, участвовал в подготовке тысяч сварщиков, не уставая повторять им простую, как репа, истину. Качество сварки на 80 % зависит от правильной подготовки. Высшая доблесть сварщика – не сваривать то, что плохо подготовлено, закрывая своей грудью амбразуру чужого разгильдяйства: пулемет оттуда будет стрелять еще губительнее. Неопытным говорят: «Если ты хороший сварщик, – заваришь!». Так вот: хороший сварщик тот, кто откажется заваривать такое безобразие. Он потребует или сделает сам сначала правильную подготовку перед сваркой. Сварщик ведь всегда «последний»: он ставит свое личное клеймо, благословляя тем чужой брак.
Мне приходилось очень жестко «причесывать» начальников, которые в спешке и/или по невежеству принуждали молодых сварщиков к такой халтуре. Кажется, при этих разносах у меня из глаз и ушей валил дым с сильным запахом горелой патоки…
Конечно, все эти истины касаются только ручной сварки, где сварщик остается один на один с расплавленным металлом. Если же речь идет о более сложных технологиях сварки, то здесь нужен широкий кругозор инженера, чтобы решить весь комплекс задач по качеству и трудоемкости изготовления всей конструкции. Очень часто приходится начинать изменения с самой конструкции или сооружения. Нормально, когда один инженер экономит или заменяет труд, по меньшей мере, десяти рабочих. Надеюсь, мне удастся рассказать об этом.
Работал я на заводе до самого отъезда в Киев. Мой заработок, значительно обрезанный неудачной «цирковой» сваркой, оставался приличным: на его часть я купил часы, о которых давно мечтал. Это было не просто украшение на мозолистой руке: это был наинужнейший прибор при нашем быстром коловращении жизни. До войны наручные часы были редкостью и даже экзотикой, у ответственных людей преобладали карманные брегеты. После войны появилась наручная «Победа» – весьма точный и чрезвычайно надежный механизм. Стоили эти часы около 400 рублей: цена была с копейками и одна на весь СССР. Это были весьма приличные деньги, но вскоре эти часы были раскуплены и оставались только в магазинах глухих деревень, где доходы были ниже, а время определялось по солнцу. В Деребчине эти часы я и купил. На первых порах я просто наслаждался, глядя на белый циферблат и черные стрелки и поминутно определяя свое положение во времени. Теперь уже можно регулировать темп бега в дальнюю аудиторию, заранее собрать книги перед концом занятий, не опоздать в кино или на лекцию, следующую за «просачкованной», – словом резко повысить качество кипящей жизни… Моими первыми в жизни часами я владел меньше года, о чем дальше. Замена часов была связана с событиями – военными, драматическими и познавательными.
Взгляд из счастливого будущего. Наш сын учится в школе. Английской! Он должен сызмалу научиться музыке, языку, плаванию и еще тысяче вещей, которые не умеет делать его отец. Время для него уплотняется. В обеденный перерыв из Охты я несусь в Автово, попирая ПДД. Там сын выбегает из школы, вскакивает в машину: через считанные минуты занятия в бассейне у Театральной площади. Чтобы сбоев не было, покупаем сыну часы – совершенно необходимый и теперь – не очень дорогой прибор времени. Немедленно получаем выговор от учительницы, ровесницы бабушки сына: для нее часы на руке мальчишки – предмет непозволительной, прямо-таки – безумной – роскоши. А времена уже другие. Сознание масс по-прежнему еле плетется за несущимся вскачь бытием, – ну, прямое подтверждение теории марксизма-ленинизма…
Возвращение в Эдем, который ремонтируют
Весьма остроумно замечает Фейербах, что взоры беспутного сапожника следят за штопором, а не за шилом, отчего и происходят мозоли.
(К. П. № 9)Немыслимо отдохнувшие и окрепшие на летних каникулах, вдохновленные (см. передовую «Правды»: там ясно написано, чем мы вдохновлены), с неугасимой жаждой знаний в пытливых глазах, слетаются будущие инженеры под ставшую родной крышу общежития. (Примерно так писала бы наша институтская многотиражка перед началом учебного года).
Все правильно: отдохнули, окрепли, глаза горят от чего-то, вдохновлены чем-то, «стремляемся» куда-то – тоже: что есть, то есть. Неувязочка только с родной крышей. То есть: дом, который символически называется «крышей» (криминального значения слова, по невежеству и к счастью, мы тогда не знали), – стоит. Крыша на нем (в буквальном значении), вроде тоже стоит, но немного не в себе. Через очень короткое время мы тоже оказываемся «немного не в себе».
Где-то наверху решили на нашем трехэтажном общежитии достроить еще один или два этажа. Все путем: много горемык маются по частным углам, да и набор на 1-й курс увеличивается. Технология придумана блестящая: наращивать стены, одновременно поднимая кровлю со стропилами. Дьявол хихикал, как всегда, – сидя в ворохе деталей. То ли забыли, то ли не «забили» в смету нужные при такой технологии леса. Возможно, – не додумали технологию, возможно, – строители были разгильдяями, возможно, – подкачали снабженцы. Из опыта знаю, что чаще всего, все неувязки и недочеты успешно и одновременно размещаются на одном объекте, помогая друг другу. Нашим взорам предстала такая картина: над третьим этажом нашей хаты возвышалась уже половина четвертого с приподнятой крышей. В радости никто не обратил внимания, что краев возвысившейся крыши не существует: на ширину около метра по всему периметру кровля была обломана и просвечивала ребрами стропил.
Недели две-три Всевышний дал на «устранение отмеченных недостатков». Но никто не чесался: была «славная осень», а «здоровый ядреный воздух» бодрил «усталые силы», но – не спящее сознание. Тогда Им была начата карательная акция под названием «Дождь», плавно перешедшая в «Проливной Дождь». Осадки, собранные всей крышей, через ее обломанные края, устремились на бывший чердак. Они (осадки) хотели бы устремиться вниз по стенам, но на их пути предусмотрительно была воздвигнута кирпичная кладка высотой в половину этажа по всему периметру. Осадкам ничего не оставалось, как начать просачиваться вниз через потолки комнат.
Наша комната – угловая, поэтому у нас полилось сразу с двух сторон. Спать в обычной постели под дождем – не очень удобно. Предпринимаем меры: на потолке закрепляем наклонные веревочки, которые в одном месте собраны в жгут. Пока капель немного – система работает: пару ночей мы спим с небывалым комфортом. Ведро под жгутом дежурный выносит несколько раз за ночь. Увы, счастье всегда недолговечно: приток усиливается, и наша система захлебывается, – вода льет уже по всей площади потолка. Собирать воду в тару – мартышкин труд. Уровень воды превышает порог, и она начинает переливаться в коридор. То же самое в других комнатах. Коридор наполняется водой. Вода уже просочилась на второй этаж, а кое-где – и на первый. На меловой стенгазете у входа появляется красочное объявление с картинками: «На третьем этаже состоится матч по водному полУ». Народ веселится, но начинает оглядываться вокруг в поисках сухих берлог. Наша комната принимает решение: стоять насмерть. Разбираем мебель, и из щитов изготовляем «зонтики» над собственными фейсами: капли на остальные части тела, закрытые одеялами, обычно менее чувствуются. Притаскиваем несколько десятков кирпичей и на полу выкладываем пунктирную дорогу. Из кирпичей же делаем помост для нашего главного друга – электроплитки. К нашей резино-матерчатой электропроводке на белых роликах не притронуться: бьет током, но мы же не гимназисты какие-нибудь. Кстати: в комнатах студенческих общежитий официально запрещены розетки, соответственно – включение чего-либо энергопотребляющего. Это безумное требование все студенты умеют обходить. Для неумех и гуманитариев на киевской толкучке целый отдел честных людей торгует «жуликами»– розетками над осветительной лампой. У нас все сделано с умом: незаметная врезка в сеть оканчивается тайной розеткой под кроватью. Наши улики не висят нагло над столом, и наш верный друг электроплитка дарит нам тепло и сухие носки, питаясь от скрытого источника. Мы почти научились жить в водяной стихии.
Начинает ручьями литься с потолка под нами на втором этаже, вскоре заливает и «сухой» первый. По коридорам можно пройти только по доскам или кирпичам: босиком ходить уже холодновато и не «ком иль фо». И тут судьба наносит неотразимый удар: где-то коротит проводка, и свет вырубается навсегда. Без электричества мы просто увядаем, хотя воды полно.
Нас переселяют в третье общежитие, где все уже уплотнено до предела. Наша тройка – Коля Леин, Серега Бережницкий и я, – сохраняет свое морально-политическое единство в одной комнате. Комнату «организовали» из бывшей подсобки, у нее номер 3а. Теперь у нас в комнате шесть человек, двое парней с других факультетов, оба старше нас. На вакантное место Коля уговаривает всех взять Севу Троицкого, «чтоб нам всегда было весело». Сева – юморист, он непревзойденно блестяще на наших вечерах читает и изображает «Зайца во хмелю», причем на русском и украинском. Украинский перевод нас особенно потешает: он выполнен рафинированным языком киевских «митців», то есть «работников мистецтва — искусства», на котором народ никогда не разговаривает. Например фраза «какой-то дряни нализался», в переводе звучит: «якоїсь гиді насмоктався». Сева сейчас, кажется, маститый профессор. Не мне кидать камешки в его огород, но тогда он достал всех своей занудной мелочностью.
Напротив, в комнате номер 3, живут девушки с химфака, мы становимся «шефами». Шефы и они, и мы одновременно; «подшефные» – определяются по обстоятельствам. Все праздники мы проводим вместе, теперь у нас нет забот в отношении закуски и сервировки, девушкам тоже проще стало жить во многих случаях. Наши девушки учатся на химфаке, поэтому все чертежи и расчеты для них делаем мы. Взаимные посещения и совместный треп у нас стают обычной нормой; все знают все обо всех, дружеские подначки шутки и смех в наших комнатах не затихают.
Будни и праздники
Почти всем нашим подшефным девушкам присваиваем «партийные» клички. Гибкая и сильная Тамара, пассия Вовочки Нестеришина, получает имя Пантера. Люся, с красно-медными волосами, веснушками, узкими зелеными глазами и профилем Нефертити, у нас называется Египтянка, возле нее увивается Серега Бережницкий. Есть две Лиды, одна из которых Полторалида. Есть Римма – маленькая, ставшая позже женой нашего Вадима Смолина. Есть Кошка, положившая глаз на меня, и даже Билли Бонс, – скромная тихая женщина с полуприкрытым глазом, муж которой Володя учится на горном факультете. Супруги нас рассматривают как шаловливых детей, но в застольях принимают активное участие.
Женское общество на нас действует положительно: у нас стало чище, бреемся и смеемся – чаще. Девушки тоже, кажется, подтянулись и расцвели. Наша «дружба домами» длилась до самого окончания института.
Рядом в коридоре хозяйственная комната. Там стоят столы с керогазами и плитками, здесь же несколько общих умывальников. Девушки вечно что-то стирают, варят, – в общем, – кухня и ванная обычной коммунальной квартиры. Туда мы, обычно, выходим и покурить. Там мы потешаемся над мудростью, навеки нанесенной на одну тарелку: «Залог успеха общественного питания – в самодеятельности рабочих масс» При этом мы сразу представляем «общественное питание» и «рабочие массы» в лицах Вовочки Нестеришина и одного албанца. Их самодеятельность забуксовала после первого обеда: они не могли решить, кто первый должен мыть посуду… Вскоре наше остроумие по поводу тарелки-плаката привяло: слова оказались ленинскими, и за чрезмерный юмор можно было влипнуть…
Во время одного из перекуров я обратил внимание на некую деву, которая очень внимательно приглядывалась ко мне. Сначала я отнес это внимание за счет своей неописуемой красоты, которая поразила деву прямо в сердце. Но вскоре меня вызвали на студсовет общежития, и иллюзии развеялись. Дева обвиняла меня в хищении пары капроновых чулок, которые она постирала и повесила сушить в хозкомнате незадолго до моего перекура. Больше там никого не было, утверждала истица. Я не знал, как оправдываться: все факты были налицо, кроме незаметного появления некоего татя, умыкнувшего драгоценные чулки. В бой бросился Коля Леин. Он прожег судей из студсовета пламенной речью:
– Майк может украсть автомобиль, но чулки, даже капроновые – никогда!
Спасибо, дружище за доверие; увы, я не оправдал его. Я очень нуждался и нуждаюсь сейчас в автомобилях, но так и не смог украсть ни одного…
Ленинград – первая весточка
Зелен сад-виноград.
Славне місто Ленінград.
А які твої словА
Про Сергія КіровА?
(П. Тичина)Воспоминание о прошлом, не совсем уместное. Привел в эпиграфе якобы стихи якобы выдающегося якобы поэта Павла Григорьевича Тычины (ПГТ), и нахлынули воспоминания. ПГТ – шут украинской советской литературы, надутый, как детский воздушный шарик, официальным возведением в ранг «выдающегося». Его стихи советского периода (о ранних мы не говорим), в которых наглый примитив мирно уживался с прямой глупостью, выдавались за подлинно народные шедевры. Его ура-стихи и биографию заучивали наизусть поколения бедных школьников. Количество анекдотов и подражаний Тычине можно вполне сравнить с аналогичными показателями Василия Ивановича.
До войны в Деребчинской школе работала родная племянница ПГТ, которая дружила с моей мамой. Оля была очень красивой женщиной и болезненно переживала «успехи» своего дяди, полностью разделяя народное мнение о нем. Перед самой войной она с семьей переехала в город Золотоноша, расположенный недалеко от Черкасс, но по другую сторону Днепра. Во время бегства 1941 года наш путь лежал через этот зеленый городок, и мама не могла не посетить свою подругу. Она без мужа, ушедшего воевать, не хотела или не могла уехать. Кроме того, все тогда надеялись, что немцев дальше Днепра не пустят…
В 1946 году мне попал в руки литературный журнал «Вітчизна» со стихотворением ПГТ. Я хотел прочитать его маме и Тамиле, сопровождая комментариями и «разбором полетов». К моему удивлению, стихи были вполне приличными. В них речь шла о некоей Оле, которая не выдержала фашистских издевательств и восстала, взяв в руки оружие. Она была казнена немцами вместе с двумя детьми. Дальше ПГТ, обращаясь к героине стиха, говорит: «Оля, родная, ты дочь моего брата, в детстве ты сидела на моих коленях, я вижу тебя также с твоими детками», называет их по именам. Мама, слушавшая сначала меня не очень внимательно, попросила прочитать еще раз, затем – еще раз и заплакала. Бесспорно, речь шла о гибели ее подруги вместе с детьми…
В моем же эпиграфе использованы подлинные довоенные «стихи» ПГТ, о Кирове и Ленинграде, которые в школе надо было выучить наизусть. Я их и выучил, поэтому смог воспроизвести. В то время Ленинград мне представлялся вроде утопающей в садах Арыставки, только все плетни в нем были увиты диким виноградом, широко распространенном в Деребчине для украшения хат. Как растет настоящий виноград, я тогда не знал… Собрания сочинений ПГТ в моей библиотеке почему-то нет.
Вскоре после «чулочного дела» меня опять пригласили в ту же комнату. Я даже загрустил, заявив ребятам, дескать, один раз попадешься, – всю жизнь покоя не будет. Коля и Серега приняли боевую стойку и взяли с меня обещание сразу звать на помощь.
В комнате мне навстречу поднялся молодой симпатичный мужчина и со словами:
– Здравствуйте, Николай Трофимович! – протянул руку. Я чуть не упал, удивленный своей столь широкой известностью в криминальных кругах. Из дальнейших разговоров выяснилось, что речь идет не об очередных хищениях капронов. Георгий Львович Петров, аспирант Ленинградского политехнического института, почему-то хорошо знающий мое семейное положение, место жительства, сахарно-слесарное прошлое и другие мелочи, приглашал меня, персонально, на учебу в Ленинградский политехнический институт, где открывался новый сварочный факультет. Высокую стипендию, прекрасное общежитие, последующую работу и проживание в Великом Городе, – ГЛ гарантировал. Говорил он легко, убедительно. Ленинград он знал и любил, при нем было много фотографий города, института, общежитий.
Я был ошарашен персональным обращением. Ехать в холода и сырость Северной столицы мне не очень хотелось, но и в Киеве меня держала только близость к маме и Тамиле, езды к которым было всего несколько часов. Я очень мудро обещал ГЛ подумать и дать ответ в течение недели. Расстались мы как родные.
Ребята встретили меня с лицами в форме вопросительного знака. Обсудили все, решили выяснить поразительную осведомленность ГЛ, и вообще, – откуда ноги растут. Помогла Нина Ивановна, секретарь деканата. В Ленинградском политехническом институте было по одной группе сварщиков на каждом курсе металлургического факультета. По киевскому опыту они поняли, что изучения только металловедения для сварщиков «маловато будеть», им нужна электротехника, электроника, механика и другие, достаточно чуждые металлургам предметы; короче, – нужен специальный факультет. Чтобы не начинать жизнь только с одним первым курсом, по СССР направили гонцов, с задачейо – отобрать лучших для учебы на втором – пятом курсах. В Киев приехал Г. Л. Петров. Он забрал в отделе кадров личные дела студентов и внимательно их изучил. Обладая колоссальной памятью, ГЛ запоминал предварительно отобранных кандидатов по «фейсу» и данным, что меня так и поразило при первой встрече.
Между Киевом и Ленинградом я колебался, как осел товарища Буриданова между равноудаленными стогами сена. Толкнуть меня к какому-нибудь стогу и тем спасти от голодной смерти, должен был Цезарий Шабан. Дело в том, что физику на проходящей уже сессии ЦВ завалил. Он, правда, получил «тройку», но это было даже несколько хуже завала: затрудняло пересдачу и грозило отлучением от стипендии. ЦВ пошел на пересдачу, но «крутой» дважды доктор тех. (и – этих) наук Файнерман опять поставил ему тройку. ЦВ был в отчаянии. Мы с ним договорились так: он делает еще одну попытку. Если будет опять тройка, – мы собираемся, и вдвоем переходим в Ленинград: там стипендию дают и с тройками. На пару дней и ночей ЦВ засел за конспекты и учебники. С дрожью пошел на вторую пересдачу. Ура! Файнерман побежден, мы остаемся оба в Киеве! Оказалось, что я не очень хотел ехать в Ленинград, и зря думал, что мне все равно.
Кстати, о Георгии Львовиче Петрове, ныне, увы, покойном. Он стал доктором наук, главой ленинградской школы сварщиков, заменив Окерблома. Меня он узнал не сразу, а только после напоминания о киевской встрече. Мы довольно часто с ним встречались в ЛПИ и на всяких конференциях, где я представлял уже «силовую» структуру. «Надо было тогда вам перейти в Питер», – сетовал ГЛ. Его многочисленные ученики очень любили своего учителя и сохраняют самую добрую память о нем.
В Ленинграде я все же оказался: видно на роду это было написано. Наш сын и внуки – уже коренные … «санктъ-петербуржцы».
О, голубка моя!
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
(К. П. № 22)После зимней сессии я не поехал домой: делать там было нечего, мама и Тамила были в порядке, да и денег было не густо. Ребята перед отъездом скинули мне все свои запасы круп, макарон, варенья, сахара и даже немного сала. Я собирался заняться восхитительным ничего-не-деланием и чтением хороших книг. Погода на улице была скверная. Выходил я раз в день «на уголок», – так называлось ближайшее скопление продуктовых магазинов на углу Брест-Литовского шоссе, чтобы купить хлеба и вареной чесночной колбасы, являющейся все же основным продуктом бедных студентов. На метры ливерной колбасы (по народным приметам – из отходов обувной промышленности, но – вполне съедобной) мы переходили, когда совсем уже было туго.
Из старого поломанного приемника удалось восстановить только проигрыватель, и я во время чтения крутил тихонько всякие арии, которых набралось в моей коллекции изрядно. Никуда не надо было спешить и делать что-либо по суровой необходимости. В пустом общежитии мне было хорошо: я просто наслаждался спокойной растительной жизнью. После обеда из колбасы и чая я собирался прилечь с книгой. Легкий послеобеденный сон тоже не был большим грехом при таком эпикурейском образе жизни…
Вдруг (вечно появляется это «вдруг»!) в дверь постучали. На мое приглашение в дверь просунулась натуральная китайская голова. С Китаем тогда у нас была «дружба навек», «идут, идут вперед народы», и, вообще «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас». Десятка два китайских студентов, учившихся в КПИ, являли нам образец организованности: всегда ходили, если не строем, то плотной кучей, учились от зари до зари, обедали тоже строем и единообразно дешевыми блюдами. Из нетвердых русских слов я сумел понять, что китайские друзья на моем «радиОлыке» (так мы называли в быту этот ущербный аппарат), хотят прослушать новую пластинку. Во время разговора в комнату просочилась еще пара китайцев. Я радушно развел руки: «Конечно, ребята! О чем разговор! Ради Бога!». Включив свой радиолык, я скромно уселся с книгой. Китайцы с трепетом достали свою пластинку и поставили ее на диск проигрывателя. Это была кубинская «Голубка» в исполнении Клавдии Шульженко.
Молча, как молитву, прослушали ее от первых тактов до шипения иголки на концевой ловушке. Убедившись, что звуки стали слишком однообразными, ведущий китаец, назовем его Мао, переставил иголку в начало пластинки, затем – еще раз. Слушание проходило при полном внимании и неподвижности всех членов «группировки Мао». Я люблю только раннюю Шульженко, когда она еще пела песни нормальным голосом без драматических придыханий. Исполнение «Голубки», кажется мне, находится где-то посредине этих периодов, поэтому слушать ее можно один раз без особых эмоций. Прослушав четыре-пять раз подряд, я был счастлив вполне и готов был послушать другие новинки китайских товарищей.
Однако подошла еще группа сподвижников Мао, и специально для них бедная «Голубка» искала парус над волною еще раз пять, – от начала до нежного поглаживания голубкиных достоинств в образе перьев. Надо ли говорить, что все прослушивания проходили при полном молчании и неподвижности иностранных товарищей? Они, кстати, и одеты были одинаково: в темно-синие костюмы полувоенного кроя, что дополнительно подчеркивало их сплоченность. Игла, наконец, вместо звуков начала издавать живительное шипение.
Я вздохнул облегченно. Десятикратное прослушивание «Голубки» я записал, как мой личный, очень весомый, вклад в укрепление советско-китайской дружбы.
Я приготовил радушную улыбку и снисходительные слова, которые должен произнести в ответ на извинения китайских товарищей за причиненное мне беспокойство. Товарищи, однако, вместо подъема и столь желанного прощания, дружно открыли портфели: у всех в руках оказались блокноты и авторучки. Мне показалось, что у меня, мученика и благодетеля, передовой отряд китайского пролетариата будет брать интервью на тему дружбы народов. Но, вместо меня, их взоры все так же были устремлены на черный диск на несчастном радиолыке.
Все тот же Мао поставил иголку в начало пластинки. После прослушивания первых звуков и первой фразы песни, иголка была снята, а китайские братья, уже громко переговариваясь, начали дружно строчить в блокнотах. Они записывали текст «Голубки»! Некоторые слова с первого раза им были непонятны. Значение слов прояснялось только после четвертого-пятого прослушивания. Когда фраза уже была всеми записана, по тону китайских переговоров и жестов, я понял, что в их сплоченных рядах имеются разночтения. Чтобы немедленно прийти к требуемому единодушию (т. е. – консенсусу), понадобилось проиграть эту фразу еще несколько раз. Наконец, желанное единодушие, после горячих дебатов на китайском языке, – достигнуто. Отряд принимается записывать следующую фразу. Попасть иглой на начало второй фразы очень сложно. Мао, не мудрствуя, ставит иглу в начало пластинки, и уже записанная фраза идет как бы в нагрузку…
Когда китайские друзья записали, обсудили, согласовали и отредактировали последнюю фразу «Голубки», я уже был в состоянии, которое боксеры обозначают как технический нокаут. На дворе стояла глубокая ночь. Для международной солидарности теперь я мог только сделать слабое помахивание кистью вслед уходящим друзьям, которое бы означало: «Ехай, ехай!» (именно так говорит одна наша московская родственница).
Я – слабый белый человек. О возможностях другой расы я судил по собственным. Китайские же друзья были свежи как огурчики. Они не кончили работу, а организованно ее продолжали. Они, для лучшего усвоения изученного материала, начали петь!
Пели они по фрагментам, – так же как записывали, но хором. Тут руководителем стает уже другой товарищ, назовем его Дэн. В нестройном хоре фальшивых голосов, он отыскивал владельца лишь одного, давал ему ЦУ и ЕБЦУ (ценные и еще более ценные указания), после чего хор начинал все сначала…
Как и когда окончилась международная спевка, как уходили китайские товарищи, – помню не очень отчетливо: в состоянии глубокой прострации, я еще пару суток ощипывал перья голубки, украшая ими парус над морской волною. До сих пор «Голубка» для меня – не песня, а символ азиатской прилежности и упорства. Слава великому китайскому народу! Да здравствует Клавдия Шульженко и Голубка – отец и мать советско-китайской дружбы! Ура, товарищи!
Аэроклуб
А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся.
Быть может, крылья тебя поднимут,
и поживешь ты еще немного в твоей стихии.
(М. Г.)Школа паровозных машинистов, где учился Толя Размысловский, находилась в Святошино. Иногда я бывал у него в общежитии. Недалеко находился аэродром аэроклуба: над ним часто взлетали и садились за деревьями самолеты. Иногда в небе внезапно вспыхивали белые сегменты парашютов, они совсем были не похожи на разрывы зенитных снарядов над Черкассами в 1941-м. Там кипела неведомая жизнь, о которой я мечтал всего пару лет назад. Я пришел в аэроклуб на улице Саксаганского. Дежурный выдал мне направление на медицинскую комиссию при аэроклубе. На следующий день я быстренько прошел всех специалистов: все дружно написали «годен к летной работе». Окрыленный, я, пока еще бескрылый, с медицинской справкой, метрикой и заявлением о приеме на учебу летчиком-спортсменом, двинулся по начальству дальше. На первом же собеседовании меня седой зам почему-то спросил:
– А чем ты, сынок, сейчас занимаешься?
– Студент Политехнического», – ответствовал я безыскусно. Седой начальник загрустил и сказал:
– Не можем мы тебя взять, сынок. Вот если тебя отчислят из института, – милости прошу!.
С гордостью заявляю, что надежд на отчисление у меня, ударника технической учебы, никаких нет.
– А чем же мешает мое студенческое состояние? – допытываюсь я у седого начальника. – Я ведь буду все понимать лучше, чем просто годные и необученные.
– Так мы всех летчиков-спортсменов после аэроклуба направляем в летные училища, а со студентами вузов, что будем делать? – ответил мне он вопросом на вопрос.
Моя голубая мечта вблизи разглядеть «даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье», – рушилась. Увы, я уже не мог расстаться с институтом.
– Земли творенье – землей живу я, – расстроился я вслух. Седой посмотрел на меня внимательно.
– А ты иди в спортсмены-парашютисты, тоже ведь небо!
Я сразу же согласился, не размышляя ни секунды.
– Но это занятие – не для слабонервных, – умерил мой пыл старший товарищ. – Вот мы сейчас набираем группу одноразников. Ребята прыгают один раз, чтобы получить значок. Вот и запишись в эту группу. Прыгнешь. Понравится, выдержишь, – приходи, будем оформлять в группу спортсменов-парашютистов.
Я был согласен и на это. Машина завертелась.
В общежитии я объявил ребятам, что поступаю в ряды доблестных асов свободного падения. Немедленно на меня была вывалена куча анекдотов из жизни парашютистов. Самый реальный был еврейский. «Хаим, откуда такой плохой запах?». «Ой, Сара, мне приснилось, что я прыгнул с парашютом!». «Боже, я бы умерла!». «Но я же мужчина!». Второй анекдот – о сомневающихся и неверующих. «После прыжка дергай это кольцо, – парашют раскроется». «А если не раскроется?». «Дергай вот это, – раскроется запасной». «А если и этот не раскроется?». «Тогда тебя внизу будет ждать машина!». Выпрыгнул. Дернул кольцо – ничего. Дернул второе – тоже ничего. Летит и думает: «Вот будет хохма, если внизу еще и машины не окажется!».
Поскольку парашютная тема, оказывается, была такой популярной, я предложил ребятам лично проверить оба варианта анекдотов. Откликнулся только Юра Попов, остальные бодро рассосались, выдав на гора еще по парочке былей из воздушной жизни.
Через несколько дней мы с Юркой уже сидели в аэроклубе на занятиях по наземной подготовке. Занятия по два-три часа, два раза в неделю, всего на месяц с небольшим. История парашюта, теория прыжка и управления куполом, затем тренировки на земле.
Мы будем прыгать с самолета, который сначала назывался У-2, затем По-2 – в честь конструктора Поликарпова. В годы войны он носил гордое имя «ночного бомбардировщика» с нашей стороны и «рус фанера» – с немецкой. Летали на нем в основном девушки, о чем даже снято несколько фильмов. Достоинства самолета – простота, неприхотливость, способность взлетать с любого «отсутствия аэродрома», даже с пахотного поля. Возможно, поэтому в народе этот самолет всегда назывался «кукурузником». Ошибочно этим гордым именем неграмотные стали величать самолет Ан-2, который с истинным «кукурузником» роднит только биплановые очертания, то есть одна видимость. В фундаментальном справочнике «Авиация от А до Z», из которого я взял фото моего первого самолета, сообщается, что количество выпущенных самолетов По-2, возможно, самое большое в мире. Я люблю этот самолетик. Он впервые поднял меня в небо выше деребчинской черешни (подъемы в горах нельзя считать воздушными); 10 раз я вылезал на его хлипкое крылышко, вглядываясь в нарисованную внизу карту земли, затем сигал в воздушную бездну. Но это было потом. Сейчас была наземная подготовка: теория и практика.
Мы твердо узнали, что парашют изобрел в 1911 году русский (БСЭ 1973 года называет его «советский») изобретатель Глеб Евгеньевич Котельников (1872–1944). Научное обоснование идеи парашюта принадлежит титану Возрождения Леонардо да Винчи еще в 1495 году. Первый удачный прыжок с высокой башни зафиксирован в 1617 году, с воздушного шара – в 1797 году. При испытаниях собственных конструкций парашютов погибло много смелых людей, их имена и даты гибели нам не известны. Вряд ли они изучали труды великого да Винчи. Очевидно, интуитивно понятная идея парашюта овладевала умом многих. Парашют стал насущной необходимостью с развитием авиации. Огромная заслуга Котельникова в том, что он изобрел первый спасательный ранцевый парашют, который пилот мог надеть на спину перед полетом и использовать как спасательное средство при аварии летательного аппарата. Уже в Первую мировую войну парашют Котельникова спас жизнь многим летчикам. Во Вторую мировую, на которую приходится и Великая Отечественная, парашют становится непременным атрибутом военного летчика. Чтобы не забыть парашют, сиденье пилота тех времен представляло низкую железную коробку, и только парашют, закрепленный на пилоте и помещенный в коробку, превращал ее в сиденье. (При современных скоростях покинуть самолет старым способом невозможно, поэтому летчик вместе с креслом помещен в отстреливаемую при аварии капсулу, снабженную парашютом).
Постепенно прыжки с парашютом стают одним из видов авиационного спорта, чему способствует большая сеть аэроклубов. С 1949 года начали проводиться чемпионаты СССР по парашютному спорту, а с 1951 – чемпионаты мира. Наши мастера гремели во всем мире, и мы, неофиты, грелись в лучах их славы. Сейчас я понимаю, как дорого стоит этот спорт. Ведь надо было содержать аэроклубы и самолеты, для каждого желторотого «одноразника» поднимать в воздух самолет. Богатое и щедрое было у нас государство, ничего не жалело для молодых. Какой Гусинский теперь захочет оплачивать такие убыточные виды спорта?
В зале для занятий стояла часть самолета У-2. Основной вид наших тренировок: надеть парашюты, сесть в кабину, вылезти из кабины на левое нижнее крыло, сделать соскок с крыла, сесть в подвесную систему, отстегнуть и снять лямки парашюта. При кажущейся простоте этих действий, которые надо было довести до состояния автоматических, были в них некие «суффиксы». Парашютов было два: основной – за плечами, запасной – на груди, что значительно затрудняло обзор и связывало руки. Влезть надо было в тесную кабину, расположенную впереди кабины пилота. Рядом с пилотом надо было закрепить карабин толстой веревки, которая должна выдернуть тросик со стопорами из ранца парашюта «одноразника». Спортсмен-парашютист раскрывал парашют самостоятельно на нужной высоте, в зависимости от задачи прыжка. При этом более тонкая веревочка выдергивает чеку из автомата ПАС-400. Этот умный автомат в виде небольшой коробочки, установленной на грудной лямке, автоматически раскроет парашют на высоте 400 метров, если с человеком что-то случилось, и он не смог открыть парашют самостоятельно. Очень точный и надежный прибор ПАС построен на измерении барометрического давления, зависящего от высоты подъема или падения. Давление атмосферы меняется, поэтому перед каждым прыжком надо выставить нуль на поверхности аэродрома. Поскольку на высоте 400 метров самолет находится и при подъеме, то прибор должен быть надежно заблокирован чекой, которая выдергивается после отделения от самолета. Я так подробно описываю прибор ПАС, потому что при его помощи мне удалось решить одну серьезную проблему в сварочном оборудовании, о которой, даст Бог, еще расскажу.
Залезть в кабину, будучи обвешанным парашютами и имея собственные приличные габариты, – непросто. Мешает верхнее крыло над кабиной и расчалки между крыльями. Приходится изгибаться и выгибаться особым образом. В кабине можно сидеть только по диагонали: иначе заклинишься между приборным щитком и спинкой сиденья. Вылезать из кабины еще сложнее, тем более что все должно происходить в воздухе, при сильном воздушном напоре вне зоны маленького лобового козырька. Тренируют нас летчики аэроклуба, которые про это вылезание из кабины рассказывают удивительные истории. Вылезать надо на левое крыло, только там есть жесткая обрезиненная площадка. Вдруг в воздухе обезумевший одноразник, прошедший бесконечные тренировки, выскакивает на правое крыло. Веревка, которая должна открыть ранец, ложится на горло пилота слева направо. Пилот бросает штурвал и обеими руками еле успевает защитить шею от сильного удара веревкой…
Когда парашютист нормально выходит на крыло и стает лицом назад, то перед его глазами появляется стабилизатор – горизонтальное оперение хвоста самолета. В спину ему давит приличной силы воздушный поток. Многим кажется, что этот поток и инерция бросят его на оперение самолета. Большинство просто знает, что этого не произойдет: матушка-земля утянет раньше. Но некоторые стают на четвереньки и начинают двигаться на край крыла, – подальше от опасности. А крыло состоит из каркаса, на который натянута прокрашенная ткань. Если ткань прорвется, то такой предусмотрительный новатор застрянет в каркасе и самолет нельзя будет посадить. Летчик добавляет газ и резко берет штурвал на себя, чтобы сбросить незадачливого с крыла. Здесь уже точно есть опасение, что он попадет на стабилизатор, но летчику не из чего выбирать.
Нас учат приземляться. Парашютист, подвешенный стропами к своему спасителю, падает (пардон, – снижается) с вертикальной скоростью 6-10 метров в секунду, в зависимости от веса собственного, запасного парашюта и других грузов, например – боезапаса. С вектором вертикальной скорости суммируются векторы горизонтальной скорости от ветра и раскачивания парашюта. Удар при встрече с землей может быть такой, как при прыжке метров с пяти-шести, то есть со второго-третьего этажа. Чтобы не поломать ноги, приземляться надо умеючи. Откровение для многих, а также для меня: нельзя смягчать удар, вытягивая носочки. Удар надо принимать полной ступней, в том числе – пяткой. Ноги при этом должны быть полусогнутыми, корпус наклоненным вперед (при чрезмерном наклоне есть риск нокаутировать себя запасным парашютом). Ноги должны быть также плотно сжаты вместе, чтобы работать совместно. При этом падение на сторону тоже смягчает удар. Мне приходилось в кино и по ящику видеть много раз как небрежно и мягко приземляются парашютисты «на свои двои», причем широко расставленные. Они делают пару шагов и остаются на ногах. Или это чудеса кино, или другие парашюты, или эти люди имеют куриный вес. Видел несколько раз, как приземлялась наша чемпионка, мастер спорта Нинель Швейнова (?). Девушка очень естественно приземлялась мягким местом, конечно смягчив сначала удар ногами.
Приземление, как в кино, мне пришлось видеть только один раз. Наш инструктор Хутько прыгал последним, прямо вблизи стоящих самолетов и автобуса, чтобы сэкономить время перед отъездом. Кроме того, надвигалась большая туча, и надо было торопиться. Эта туча и обеспечила нам невиданное зрелище. На высоте 60–80 метров парашют и его владелец перестали снижаться и зависли. Оказывается, на краю таких туч образуются мощные восходящие потоки воздуха. Хутько наслаждался и не думал садиться. С земли с ним сначала шутили, спрашивали, взял ли он с собой продуктов. Хутько отвечал, что он теперь святой и не нуждается в земной пище, как мы, прожорливые. Через несколько минут шутки с земли стали злее: ему пригрозили отъездом автобуса и доставкой парашюта на собственном горбу. Хутько горько посетовав, что святым людям вместо молитв возносят угрозы, вынужден был сесть, немного наклонив купол.
Следующая проблема, с которой нам надо было справляться, – гашение купола после приземления. Если есть хоть небольшой ветерок, а полный штиль бывает очень редко, – купол парашюта на земле начинает работать как парус, весьма энергично перемещая своего владельца по земле. Одного нашего он протащил по плантации зрелых помидоров, после чего шуточки томатного спонсора «Городка» выглядят детской забавой. Дело в том, что купол надо гасить сразу, выбирая нижние стропы. А если они успели закрутиться? Попытка подняться на ноги и догнать купол, оканчивается совсем весело: освобожденный от нагрузки купол немедленно набирает скорость и валит владельца с ног еще эффектнее.
Совсем еще юная история парашютного спорта набита прецедентами: трагичными и комичными, иногда – одновременно. При прыжках существует одна грозная опасность: перехлёстывание стропы через купол, который в этом случае делится на две неравные части. Подъемной силы парашюту хватило бы и в этом случае, но беда в том, что части купола неравные. Возникает вращающий момент, который, скручивая стропы, может совсем свернуть купол, пока долетишь до земли. Самый простой и эффективный способ борьбы с перехлёстыванием – обрезать непокорный строп. Для этого парашютистов снабжали ножами. В горячке спасения один отрезал половину строп, не найдя сразу нужного, после чего парашют стал похожим на белый флаг капитуляции. Другой нервный умудрился перерезать себе артерию на шее и приземлился уже мертвым. Поэтому выдавать и использовать ножи нам запретили.
Еще об одной отмененной инструкции. При посадке на воду инструкция предписывала отстегнуть парашют и прыгать в воду при ее близости: очень боялись накрытия куполом и запутывания парашютистов в стропах. Разбилось несколько человек. Провели эксперимент: не отпускать парашют, а стрелять из ракетницы, когда покажется, что вода совсем близко и пора прыгать. Выстрелы были даны на высоте 80 – 100 метров, что слегка высоковато для прыжков. Небольшой же ветер не только устранял накрытие куполом, а даже исправно тащил парашютистов по лону вод без всяких усилий с их стороны; другой вопрос – в нужную ли сторону.
Начиненные знаниями, навыками, байками и страхами как современные сосиски соей, мы подошли ко времени «Ч», – первому прыжку. Мне перед прыжком предстоял вообще первый подъем и полет в воздухе. Попову было легче: он часто летал самолетами в Ригу к предкам. Я же выше деревьев нигде не был.
На Святошинском аэродроме три «кукурузника» поднимали по одному «одноразников». Подошла моя очередь подняться в небо. Надел на себя учебные парашюты, – фактически муляжи с нашитыми спереди и сзади большими красными квадратами. Это для пилота, чтобы сдуру не дал команды на прыжок. Первый подъем – для облета. Я должен смотреть попеременно на альтиметр и на землю, чтобы потом ориентироваться в высоте своего пребывания. Забрался в первую кабину, как учили, уселся, отметил ноль альтиметра, доложил летчику о готовности к подъему.
Наш трудяга ПО-2
Взревел мотор славного У-2. Покатили по кочкам все быстрее. Отрыв, земля быстро уплывает, кочки уже не чувствуются. Взлетели. Радость от полета неописуемая. На высоте 100 летчик делает разворот с набором высоты. Только теперь внизу видна отчетливо земля, до того я видел ее только далеко впереди сквозь полупрозрачный круг винта, боковой обзор закрывают крылья, назад – не хватает поворота головы. Озабочен вопросом: что же видит летчик с кабины за моими плечами. Земля почти перестает под нами двигаться, хотя мотор ревет все так же натужно. Есть 400 метров подъема! Смотрю на землю рядом с крыльями, справа и слева. Внизу земля уже слегка напоминает политическую карту мира, только совхозные поля с разным цветом культур уж больно прямоугольные. Поднимаю руку для пилота, дескать, высоту засек. Мой доклад он не услышит из-за рева мотора. Еще взбираемся метров на 100. Разглядываю Киев. Все незнакомо, не могу найти ни одного ориентира. Мотор внезапно почти затихает, а все внутренности неожиданно оказываются в горле. Быстро снижаемся, заходим на посадку. Земля бежит навстречу все быстрее, опять кочки. Сели. Летчик – инструктор нашей подгруппы Григорий Кузьмич Мартыненко сел раньше и принимает меня у крыла, оценивая мое вылезание из кабины. Вроде ничего. Внимательно осматривает.
– Ну, как?
Я, улыбаясь, показываю большой палец. Наш Кузьмич доволен и принимает решение:
– Ну, тогда полетели выше!.
Снимаю парашют с «красными лампасами» и надеваю цвета хаки. Кузьмич собственноручно проверяет все зазоры под лямками, приказывает:
– Присядь! Садись в гамак!
По этой команде я передвигаю основную лямку сзади ближе к коленям и усаживаюсь на нее как бы в качели. Кузьмич еще раз внимательно осматривает и трогает замки на лямках и на ранцах обоих парашютов, затем жестом приглашает меня за собой. Усаживается в кабину самолета и дает мне команду:
– Залезай!
Я стаю на крыло, подаю ему конец страховочной веревки, связанной с замками основного парашюта. Летчик надевает карабин страховочного фала (так называется эта веревка официально) на специальное кольцо в левом борту своей кабины и дергает его. Я проверяю надежность закрепления фала так же. Это незыблемый ритуал, который должен строго соблюдаться. Каждый, кто автоматически совершает последовательность простых рутинных операций, знает, что стоит опустить или заменить хотя бы одно такое действие, как немедленно начинается сбой, и за ним – цепочка непредсказуемых последствий. Здесь ценой неточности могут стать «легкие ушибы» при падении с высоты почти километровой.
По командам ритуала сажусь, проверяю, даю знак, что готов. Мотор взвывает, мы разгоняемся и взлетаем. На этот раз подъем длится дольше: на нашем трепещущем от напряжения суденышке мы карабкаемся на высоту 800 метров. С такой высоты на земле все выглядит очень мелким, а самолет будто останавливается. Обороты мотора уменьшаются, слышу команду:
– Вылезай!
– Есть, вылезай, – отвечаю по науке. Вылезаю на трепещущее крыло, держусь левой рукой за борт кабины, правая поддерживает слабину фала. В спину туго давит воздух. Только отсюда, с крыла самолета, виден весь Киев, наше Брест-Литовское шоссе, а в дымке – даже Подол и днепровские пляжи. Я жадно разглядываю эту картину. Пилот, сам парашютист, знает, как волнуются одноразники, и, чтобы успокоить меня, перекрикивает шум двигателя:
– Ну, магарыч мне поставишь после прыжка?
Я знаю, что это просто шутка нашего честнейшего Кузьмича, улыбаюсь и говорю:
– Красота какая!.
Я нисколько не боюсь. Кузьмич улыбается, десяток секунд разглядывает какие-то ориентиры на далекой земле и отдает команду:
– Пошел!
С улыбкой я делаю шаг в Ничто.
Уже через мгновение я начинаю понимать весь ужас и необратимость содеянного. Я падаю в бездну. Хочется схватиться хотя бы за соломинку, но ее нет. Так долго я не падал еще никогда…
Сильный удар встряхивает меня, как паяца на ниточке. Это целебный удар: раскрылся парашют, я подвешен к нему на множестве строп, купол – круглый, перехлёстывания нет. Я жив, я цел. Усаживаюсь на лямку и осматриваюсь. Полная тишина, только в ушах шумит пульс. Самолета не видно и не слышно. Земля где-то внизу сама по себе и совершенно неподвижна. Вокруг – вверх, вниз, со всех сторон у меня только небо и воздух. Я неподвижной точкой подвешен в этом огромном пространстве к маленькому лоскутку ткани. Я начинаю что-то орать и петь от восторга.
Взглядываю на землю: она все-таки приблизилась. Проверяю свою возможность поворота относительно парашюта. Мы используем совершенно круглые военно-десантные парашюты ПД-6. Они открываются сразу, поэтому удар при открытии весьма сильный. Кроме того, они не имеют собственной горизонтальной скорости и движутся только по ветру. Купол неподвижен, парашютист должен стропами развернуться так, чтобы земля бежала под ноги, иначе придется падать на спину. Проверил, вращаться могу. Земля ощутимо приблизилась. С ужасом замечаю, что сяду в стадо коров. Однако проносит. К намеченной точке приземления со всех ног несутся пацаны, пасущие коров. Кричу им сверху:
– Берегись! Шею сломаю!
Земля приближается и бежит под ноги теперь очень быстро, затем – все быстрее и еще быстрее. Сильный удар, я заваливаюсь и по науке начинаю гасить купол.
Мои пастушки – опытные «ловители» парашютистов, добегают вовремя куда надо и активно помогают мне собрать парашют и отстегнутые лямки в специальную сумку в ранце. На радостях я совершаю антипедагогический поступок: отдаю им половину имеющихся сигарет. Пастушки тащат мой парашют метров двести, затем отдают: им надо смотреть за коровами. Я благодарю их за службу и взваливаю сумку на свои плечи: мне шагать еще около километра к аэродрому…
Попов тоже прыгнул. Он видел небо раньше, теперь познал паденье. Я получил эти ощущения «пакетом». Потом мне приходилось много летать на самолетах разных типов и на вертолетах. Должен заметить, что ощущение полета на трепещущем По-2 не идет ни в какое сравнение с полетом в летающих автобусах, тем более, когда стоишь на хлипком крылышке этой небесной этажерки. О непередаваемых чувствах подвешенного к тряпочке в безбрежном воздушном океане, – я уже живописал.
Перед прыжком
Вступление в стройные ряды парашютистов-спортсменов заняло недели две. И вот мы с Юрой Поповым полноправные члены воздушного братства. Всего спортсменов в нашей группе – человек 10. Из КПИ – еще двое: Толя Пасс делает уже шестой прыжок, а Юра Модерау завершает второй десяток. Остальные тоже почти все студенты.
Проходим дополнительную подготовку и катим из аэроклуба на тот же аэродром для второго прыжка в своей жизни.
Условия изменились. Теперь уже парашютист командует пилотом, согласно своему заданию. У меня задание сесть поближе к Центру круга с буквой «Т». На земле получаем данные о скорости ветра на высоте, поправку на снос я вычисляю по эмпирической формуле; кроме того, я могу управлять парашютом, – скользить в любую сторону. Вывозит меня опять Кузьмич; он сам опытнейший парашютист, поэтому его расчетам и интуиции я верю больше, чем своим. Кстати, на соревнованиях на точность приземления – это основной вид соревнований, – нас будут вывозить обычные летчики. По рассказам, они сами страх не любят прыгать с парашютом и мучительно переживают, когда раз в год (?) им надо оторваться от самолета. А уж когда незнакомый человек вылезает на крыло их самолета, и, держась одной ручкой за борт, начинает командовать «держи право, держи лево», – бедные летчики сами не свои от переживаний.
Фал у меня теперь потоньше: он выдергивает только маленькую чеку из парашютного автомата ПАС-400, который откроет парашют на высоте 400 метров, если я не сделаю этого раньше. Во время прыжка моя правая рука находится на левой лямке, где закреплено кольцо основного парашюта. Кстати, были случаи, когда от волнения это кольцо дергали стоя на крыле, или немедленно после отделения от самолета. Ничего хорошего при этом не бывает: купол обычно цепляется за хвост стабилизатора, а парашютист на стропах болтается за самолетом. Если он или летчик не придумают способа разделения, то жертвы неизбежны.
Второй прыжок у меня был очень тяжелый. Не знаю, боялся ли я. Только тело перед посадкой в самолет стало вдруг непослушным, руки-ноги – ватными. Они помнили свободное падение, они помнили скорость набегающей земли приземления. Огромную радость полета и тишину неба помнил только мозг. Заученными движениями, со всеми словами по ритуалу, я втиснулся в первую кабину. Не знаю, заметил ли Кузьмич мое состояние, естественно я старался его не показывать. Наверное, заметил, потому что не шутил. Сам рассчитал точку выхода, и когда я вылез на крыло, внимательно посмотрел на меня. «Готов?». – «Готов!». – «Пошел!». – «Есть пошел!», – ответил я и шагнул в бездну.
Если бы тогда кто-нибудь внятно объяснил, что дикое чувство падения в никуда и есть состояние невесомости, которое будет постоянным при космических полетах!
Во время падения я заставил себя смотреть на далекую землю. При первом прыжке я ничего не видел. Было интересно: видно ли приближение земли при падении? Нет, расчерченная карта земли оставалась одинаковой. Немножко попАдал. Дернул кольцо. Хлопок раскрывшегося парашюта, мощная встряска в подвесной системе. Теперь глаза видят только небо и далекий горизонт в голубой дымке. Усаживаюсь в подвеске. Опять хорошо, хочется орать и петь. Ради этого чувства стоило прыгать. Однако, у меня задание. Осматриваюсь, еле нахожу далекий кружок с буквой «Т». Он далеко в стороне. Неужели Кузьмич так промахнулся? Нащупываю нужную половину строп и слегка «набекрениваю» купол. Никакой реакции: земля все также остается неподвижной, а точка посадки – далекой. Усиливаю натяжение. Тут надо соблюдать меру: скорость смещения в сторону возрастает, но растет и скорость снижения. Вскоре точка посадки прямо подо мной. Отпускаю стропы. Увы, ветер, частью которого являюсь я с парашютом, теперь удаляет меня от точки посадки. Зря я дергался: Кузьмич рассчитал правильно! Щелкает ПАС, пытаясь опять раскрыть парашют. Это значит, что высота уже меньше 400 метров и всякие скольжения запрещены. Обидно. Я заваливаю первое задание спортсмена, мне придется повторять нормативный прыжок. Но до земли еще далеко, и я пытаюсь исправить положение: легонько даю парашюту обратный ход. «Т» прекратило уходить. Добавляю еще, вожделенный кружок уже движется ко мне, но и земля уже близко. Бухаюсь на землю метрах в 100 от круга.
Кузьмич делает мне приличный разнос за скольжение ниже 400 метров: он, оказывается, все мои дерганья видел и понимал. Тем не менее, прыжок засчитан с некоторой натяжкой.
На автобусе возвращаемся в аэроклуб. Мы, спортсмены, теперь уже не беззаботные одноразники: прыгнул, получил значок и будь здоров. Нам предстоит перебрать десятка два пухлых мешков со сработавшими парашютами и вновь уложить их в тугие ранцы, – для себя, инструкторов и одноразников. Раньше мы прыгали на круглых десантных парашютах ПД 6, теперь – на квадратных ПД 47. Старые открывались сразу, из-за чего парашютист получал сильный удар. Теперь из открытого ранца выскакивает сначала маленький вытяжной парашютик, похожий на самораскрывающийся зонтик. Именно он стягивает ярко-красный чехол с купола парашюта, который благодаря этому наполняется медленней, значит удар – мягче. Однако за все надо платить: вытяжной парашютик с чехлом может улететь очень далеко, и его поиски могут занять немало времени. У беззаботных одноразников чехол остается у летчика, который и втягивает его в кабину. Парашюты ПД 47 имеют еще одно свойство, которое действует иногда хорошо, иногда – плохо. С задней стороны купола нет нескольких строп, и значительная часть воздуха из-под купола устремляется именно туда. Почти нет раскачивания, система получает горизонтальную скорость так, что земля движется под ноги. Купол в воздухе не развернуть, и если парашют несет не туда, куда надо, – приходится напрягаться.
Укладка парашютов – дело ответственное и трудоемкое, требующее, кроме внимательности и скрупулезной точности в работе, также больших физических усилий. От раскрытия парашюта напрямую зависит жизнь человека, и здесь не место какому-либо разгильдяйству или послаблениям. Традиция и закон: парашют для себя укладываешь сам, проверяет тренер-инструктор, о чем обязательная расписка в формуляре.
Укладка двух десятков парашютов занимает часа три тяжелой работы пяти-шести человек спортсменов. Но мы молоды, сил избыток. Начальство уже ушло, и наши взоры обращаются на телефон. Заключаются пари: кто быстрее договорится о свидании. Набирается любой номер телефона.
– Будьте любезны, можно попросить ….очку, – невнятно произносится имя.
– Леночку? – переспрашивают на том конце.
– Да, да, пожалуйста, Леночку! Трубку берет Леночка (Маша, Дуня, и т. д.)
– Леночка, вы меня не помните, но мы с вами встречались один раз…(длинное невнятное бормотание: связь подводит).
– На свадьбе у Миши? – переспрашивает Леночка. (Там был кто-то, кого она наверняка отметила и очень надеялась на звонок).
– Да, да, да! Вы мне очень понравились, но мне кажется… (связь опять подводит).
– Но почему вы тогда не позвонили?
Это уже разговор. Еще несколько «ухудшений» связи, которые уточняет Леночка, затем следует договоренность о свидании и его месте. Бедная Леночка! Она не знает, что этот треп просто пари и отдых очень занятых людей. Иногда, бывает, нарываемся на мужскую грубость:
– Еще раз позвонишь, – руки-ноги обломаю!
Наше пари – безденежное и беспредметное, победители и побежденные уносят только «чувство глубокого удовлетворения» и хохот товарищей по небесному спорту. Первым делом – самолеты!
Прыгаем два-три раза в неделю. Отрабатываем разные элементы, например спуск на двух парашютах, спуск на одном запасном. Основное внимание, конечно, – точности приземления. Готовимся также к прыжкам с задержкой раскрытия парашюта, – это один из сложных видов соревнований. Минимальная задержка – пять секунд, за это время парашютист пролетает в свободном падении около 200 метров. За неточность в любую сторону судьи наказывают штрафными очками. Секундомеры запрещены. Отрабатываем темп счета. Если вслух произносить счет от 21 до 29, то получается ровно 5 секунд. Задача – отработать темп счета при падении: у некоторых он ускоряется, кое у кого замедляется.
Очень хочется заснять все наши подвиги на пленку. У Попова два фотоаппарата, которыми работаю в основном я. Однако – «низзя», мало ли что с высоты мы можем заснять в столице Советской Украины. Кузьмич подсказывает: надо бумагу. Приносим из института бумагу, что снимки нужны для газеты института, где будут показаны все спортсмены. Аэроклубу тоже нужны такие снимки для стендов. Получаем разрешение и даем подписку, что не будем снимать, что не положено, например, – город с высоты. Заряжаем ФЭД новейшей пленкой; для более совершенной «зеркалки» – аппарата «Рефлекта» – широкой пленки нет. Решаем отснять на ней несколько оставшихся кадров. Кузьмич нам помогает: поднимает в воздух два самолета. На одном сижу я с фотоаппаратом. На высоте самолеты идут рядом. Я снимаю выход Юрки из кабины, прицеливание на крыле, шаг вниз и раскрывающийся купол уже сверху. Чтобы не повредить фотоаппарат при вылезании из тесной кабины, Кузьмич сажает самолет со мной. Теперь фотоаппарат берет Попов, и самолеты опять взлетают парой. Юрка снимает все стадии моего прыжка. Пленка вся экспонирована, уже на земле делаем еще несколько кадров Рефлектой. Дома с трепетом фильтруем воду, подогреваем по справочнику до нужной температуры, растворяем химикаты строго по рецепту, заливаем в бачок проявки, проявляем по секундомеру. Сливаем проявитель. Почему-то в нем плавают черные хлопья, что вселяет некоторую тревогу. Промываем чистой водой, заливаем фиксаж. Через положенные минуты вынимаем…чистую прозрачную пленку! Большей катастрофы в своей жизни я не припомню, она аукается до сих пор. Из нескольких кадров Рефлекты, два наземных снимка помещены здесь… Стыдно смотреть в глаза Кузьмичу. Всякие повторные съемки, конечно, исключены – раз и навсегда…
Я уже довольно опытный парашютист, отделяюсь от самолета совершенно свободно, умею скользить, хотя еще ни разу в десятку не попал. На пятом прыжке у меня ЧП: перехлёстывание стропы через купол. Надо открывать запасной парашют. При частично работающем главном куполе это очень не просто: нельзя упустить вниз купол запасного. Тогда, при закручивании основного купола, запасной снизу не наберет воздуха и саваном обвернет падающего все быстрее парашютиста. Дергаю кольцо запасного, ранец со щелчком раскрывают тугие резинки. Сначала только одной, потом обеими руками удерживаю на животе свернутый купол запасного, затем со всей силой бросаю его в сторону. Нехотя купол наполняется воздухом, распрямляется и ползет вверх. Смотрю на главный купол: перехлёст соскочил. Приземляюсь на двух парашютах вдали от центра: управлять двумя куполами почти невозможно: они оба стоят под углом и взаимодействуют. Скорость снижения при этом не уменьшается.
Очередная неприятность меня ожидала на девятом прыжке. На высоте сильный ветер дул в другую сторону. Я это почувствовал сразу после отделения от самолета. Расчетный ветер должен был двигать меня к «Т», этот же тянул в другую сторону. Даже большое скольжение в нужном направлении не помогает: ветер сильнее. Метрах на пятистах начинаю понимать, что приземлюсь в один из четырех черненьких кружочков. Мы знаем, что эти, такие безобидные с высоты, кружочки, – поля орошения. Это красивое научное слово обозначает большой глубокий бассейн, куда качают нечистоты с канализации почти всего Киева. Проскочить «поля» мне не хватает высоты, скольжение в обратную сторону – не помогает. Про себя решаю: лучше разбиться, чем утонуть в нечистотах. На высоте около 300 метров выбираю полкупола на себя и начинаю быстро падать. Земля стремительно приближается, зловонные круги вырастают в размерах, но уходят в сторону. Отпускаю стропы, купол хлопает и гасит скорость падения. Через несколько секунд грохаюсь на такую желанную твердую! землю и быстренько гашу купол, который тянет меня к зловонному озеру. Надо бы немного отдышаться, но меня облепляют невиданные желтые мухи, и я, кое-как запихнув парашют в сумку, бегом уношусь подальше от язв цивилизации. О чехле с вытяжным парашютом я и не вспомнил. Его на другой день принесли пастушки – наши верные оруженосцы.
На разборе полетов Кузьмич только покачал головой:
– Ну, ты даешь, парень! – он себя тоже чувствовал виноватым за нештатный ветер. По-видимому, именно тогда он решил «делать» из меня мастера парашютного спорта и на следующем прыжке начал разговоры о заданиях для второго спортивного разряда. Он хотел поскорее выполнить со мной нормативы второго разряда, чтобы двигаться дальше. Я не мог обидеть отказом своего заботливого летчика и инструктора и малодушно поддакивал ему. Про себя я уже решил остановиться на третьем разряде: аэроклуб пожирал все больше времени, а мне его катастрофически не хватало. Кроме того, в институте начались разговоры о постройке собственного планера с пусковой установкой. На таком летательном аппарате можно было не только падать, но и летать, и подниматься вверх. Планер, кажется, построили, но я к тому времени уже перестал быть студентом.
Десятый нормативный прыжок на точность приземления я выполнил на «отлично». Для зачисления на второй разряд надо было проходить опять медкомиссию. Я ее благополучно завалил по зрению, чтобы меньше огорчать добрейшего Кузьмича своим прямым отказом.
Воздушная страница моей биографии закрылась. Все последующие приключения в воздухе происходили со мной уже в качестве пассажира: например, боевой истребитель сбивал наш почти мирный ИЛ-14 над проливом Карские Ворота, вертолет влетел в совершенно немыслимой плотности туман на Новой Земле…
Значок «Парашютист-спортсмен» с цифрой 3, обозначавшей разряд, я носил с большей гордостью, чем орден. Подвесное сердечко с невзрачной цифрой «10» я вообще оторвал: в сравнении с десятками и сотнями прыжков наших инструкторов и мастеров моя лейбла выглядела слабовато…
Смелость и мужество парашютисту, особенно на первых прыжках, конечно, требуются немалые. С завистью смотрел на нас с Поповым Славка Тышкевич:
– Неужели вот так бросаетесь с крыла вниз? Ужас какой! Я бы так не смог!
А вот сам «пан Тышкевич» (такая у него была партийная кличка, очевидно, за весьма аристократичный вид) в то же время на мотоцикле объезжал вузы Киева и, в качестве квартиродателя, взимал с них по 15 рублей за каждого, якобы пригретого им студента. Сам он тоже снимал угол и хорошо усвоил механику расчета вузов с владельцами комнат и «углов», сдаваемых студентам, не попавшим в общежития. У Славки была обширная база данных по всему Киеву о студентах, которые жили у родственников и не претендовали на скромную субсидию института. Ужас какой! Я бы так не смог! В конце концов, Тышкевич попался и получил срок. Как сложилась его судьба, – я не знаю. Жалко его: парень был не без способностей.
Науки юношей питают
Усердный в службе не должен бояться своего незнанья; ибо каждое новое дело он прочтет.
(К. П. № 82)Конечно, основным нашим делом все-таки оставалась учеба, во всяком случае, – по затрачиваемому времени. Обстановка в комнате общежития – это главное в успешной учебе. Недавно (март 2004 г.) получил письмо от ЦВ, в котором он делится воспоминаниями о жизни в общежитии. На первом курсе он жил в комнате с некими ленивыми и нечистоплотными жлобами, которые задавали тон всей жизни и учебе, точнее – игнорированию этой самой учебы. Мне в этом смысле повезло. Ребята были нормальные. Да и я был уже не робкий паренек из глубинки, которому можно навязать иной стиль жизни, тем более – командовать. Особенно хорошо мне работалось с Колей Леиным. Коля окончил техникум, я – успел поработать, поэтому нам обоим учиться было интересно: мы находили ответы на многие вопросы, ранее непонятные, или сокрытые «оптимизмом невежества». Мы до двух часов ночи могли решать головоломные интегралы, проектировать небывалые муфты сцепления и редуктора, решать хитрые задачи по теормеханике или сопромату. Младшим и кое-кому из своих, – всегда приходили на помощь. Так Коля просто тащил на себе шаловливого и неорганизованного Жорку Олифера, всеобщего любимца. Кое из чего мы даже извлекали небольшую прибыль. Так мы сделали для неуспевающих (по времени, ха – ха!) несколько проектов по деталям машин. Работу – расчет по заданным параметрам и чертежи, на которые уходит около двух недель у среднего студента, мы в четыре руки делали за один большой вечер. В этом деле нам здорово помогал «козоскоп». «Козой» назывался первоисточник, который «дерут». На моей кровати на табуретках устанавливалась стеклянная столешница, под которой была закреплена лампа кинопроектора мощностью целый киловатт. Лампу надо было ставить строго вертикально: ее стекло во время работы ставало мягким. Такой мощный свет пробивал два листа полуватмана. Нижний лист и был «козой»: с него «сдирались» типовые детали, например – подшипники, которые рисовать довольно муторно и долго.
О приключениях с начертательной геометрией я уже писал. Хочется вспомнить о других предметах и преподавателях. Не все предметы, отраженные как-то в этих заметках, были главными, но так устроена человеческая память: видны отдельные деревья, и не всегда – лес.
Физика. С физикой нам просто не повезло. На параллельных потоках лекции читал бывший профессор Савченко. Он оставался в оккупированном немцами Киеве, имел какие-то взаимоотношения с немцами, поэтому был лишен всех званий и наград. Из-за страшного дефицита с грамотными кадрами, его все же допустили к чтению лекций. Так вот, его лекции были настолько яркими и понятными, что на них всегда набивалось народу под завязку, стояли в проходах, сидели на ступеньках. Это были студенты с других курсов и факультетов. Места надо было занимать заранее, иначе – не протолпиться.
Нашему же потоку читал физику некий ученый, сравнительно молодой, но уже лысый. В начале лекции он поворачивался к аудитории спиной, рисовал какие-то непонятные формулы и произносил в нос слова с выговором, требовавшим длительного вмешательства логопеда еще на стадии детсадика. Народ быстро понял, что сидение на этих лекциях – пустая трата времени. Из потока около двух сотен человек на лекции сидело человек двадцать. Из них человек пять самых добросовестных и упорных пытались что-то конспектировать, остальные просто коротали время в «морских боях» или готовились к другим занятиям. К концу лекции наш «препод», как теперь говорят, замечал, что он читает лекцию «никому». Тогда он своим гнусавым голосом начинает с нами заигрывать:
– Приходите на следующую лекцию, – будут очень интересные опыты. Приходите, пожалуйста, и скажите всем своим друзьям, чтобы пришли!
На следующую «рекламную» лекцию собирается народу на десяток больше. Начало лекции обычное, и все начинают обычные занятия. Проходит минут пятнадцать. Внезапно подает возмущенный голос флотоводец, только что проигравший морской бой:
– А где опыты? Где опыты??? – стучат ногами остальные проснувшиеся. – Давай Магистра Могилу! – в полный голос негодует обманутое общество. Кто-то уже стучит в боковую дверь аудитории. Оттуда вопросительно выглядывает вполне мефистофелевская голова «Магистра Могилы», ассистента нашего «препода».
– Опыты!!! – бушует народ. Магистр молча начинает выносить из своей подсобки непонятные приборы и провода. На столе собирается схема, между двумя шарами змеятся синие молнии разряда. Затем все берутся за руки, цепочку замыкает наш гуру. В руке у него булава, из которой шипят маленькие молнии разрядов, к чему бы он ее не приблизил, в том числе к сладко спящему студенту. Тот взвивается и ошалело смотрит на веселящуюся толпу…
(Теперь я знаю, что так работают искровые осцилляторы, генерирующие колебания высокой частоты и напряжения. Они нужны сварщикам для стабилизации дуги при сварке алюминия в аргоне, для зажигания дуги при плазменной сварке и резке. Уйму времени и сил я потратил, чтобы обуздать эти капризные приборы, особенно в полевых условиях…)
Лабораторные работы по физике почему-то мало связаны с теорией. Мы ставим опыты, замеряем данные, пишем отчеты. Электричество, теплопередача, оптика, механика – все очень интересно. Особенно мне нравится изящная математическая теория ошибок. В каждой работе мы должны вычислить погрешность полученного результата по этой теории. Начинаешь понимать, как способ замеров может влиять на полученный результат. Это уже не физика, а чистая практика с изрядной примесью философии. Вообще, – математика не только наука о вычислениях чего-либо, – это мировоззрение. Если бы математикой глубоко владели политики и люди искусства, то их «продукция» не имела бы внутренних противоречий и всяких нестыковок и неизмеримо большую глубину…
Однако незаметно подкрадывается сессия: физику надо сдавать. В голове даже не хаос, а просто пустота. Читать толстые учебники, конечно, можно; понять и запомнить, что там написано, – нельзя. Перед экзаменом появляется объявление: ассистент Богданович N. N. дает консультацию. Умудренные старшекурсники в один голос вопят: “Иди! Записывай!” Идем, берем тетради. В аудиторию входит невысокий и худощавый человек с седыми волосами и большими очками под кустистыми бровями. Он еле заметно покачивает головой, как будто задумчиво говорит «нет». Рассказывают, что на экзаменах студенты прекращают ответ, думая, что экзаменатор возражает. Богданович тогда успокаивает: «Говорите», – продолжая покачивать головой с явным значением: «Лучше бы ты замолчал».
– У вас нет ко мне вопросов, потому что вы ничего не знаете, – спокойно обозначает Богданович наше истинное положение в науке физика. – Начнем с начала.
На доске он рисует маленький кружок. Это молекула. Рядом с ней помещаются еще несколько. Им тесно, поэтому их количество степеней свободы ограничено (вот бы удивились певцы Свободы, узнав, что она имеет много степеней!). На доске постепенно вырастает формула, значение каждой цифры и буквочки которой становятся логичными и понятными. Минут через 20 все основные формулы молекулярной физики стают нам близкими и родными: мы сами их создали из простых и очевидных рассуждений. Без перерыва переходим к следующим разделам физики и одолеваем их так же легко. Два часа мы работаем без перерывов. В беглом конспекте есть все физические формулы, которые нам надо знать, и которые мы теперь знаем. Но что формулы: мы теперь знаем Физику! Экзамен прошел успешно. Увы, талант преподавателя так же редко встречается, как и любой другой…
Случайная встреча в будущем. Где-то в середине семидесятых годов мы с женой возвращались из отпуска в Виннице. Пришли мы на вокзал, чтобы заказать билеты на поезд Одесса – Ленинград. В билетном зале для продажи билетов на проходящие поезда большая толпа народа стремилась уехать в Киев, но на ближайший поезд было только несколько билетов, которых явно «маловато будет». В конце очереди стоял наш Богданович, измученный жарой и духотой, без всякой надежды уехать. Я подошел к нему, спросил, куда ему ехать. Он с опаской оглядел меня: почему этот военный в морской форме интересуется его маршрутом. (Форму я надел, чтобы было проще общаться с воинскими кассами). Я вежливо ответил, что хочу помочь ему взять билет. «Мне надо срочно в Киев», – с некоторой опаской ответил Богданович. Я пошел в почти пустую воинскую кассу, купил билет до Киева и передал его Богдановичу (к сожалению, я не помню сейчас имени-отчества этого замечательного человека). Он удивленно взял билет, попытался вернуть деньги «с комиссионными», удивленно спросил, почему к его особе проявлено такое внимание. «Я ваш студент! – произнес я тоном классического заявления «Я – Дубровский!». Затем кратенько рассказал о его консультации, во время которой мы овладели Физикой. Доброе слово и кошке приятно, тем более преподавателю вуза, которому вряд ли надоедают признаниями бывшие ученики. Старик растрогался, я – тоже…
Плюс электрификация
Вакса чернит с пользою, а злой человек – с удовольствием.
(К. П. № 115)Электричеством я начал заниматься еще в глубоком детстве, когда впервые взялся за голый провод под напряжением в Бердичевской больнице. Бесконечные вопросы инженеру-электрику дяде Антону и его пояснения только разожгли мой «электрический» аппетит. Активно изобретать в этой области начал в 1944 году, когда кипятильник моей конструкции чуть не сжег жилище дяди Антона. Неудавшаяся попытка электрификации деребчинской хаты с натяжкой тоже может быть занесена в категорию занятий электричеством. Ну а дальше – завод, сварка, – это вообще море разливанное непонятного и такого интересного электричества. Когда в институте у нас в расписании появилась «Электротехника», я заранее предвкушал удовольствие от грядущего познания тайн электричества.
Действительность была несколько хуже. Лекции по электротехнике нам читал некто Уласик. Это был злобный и желчный тип, который не любил весь мир, в том числе – студентов и электротехнику, которая его исправно кормила, между прочим. Он не только не любил свой предмет, – очень подозреваю, что он его и не знал. Видно, темой его диссертации было что-то по магнитной индукции, которую он более-менее освоил. Все лекции мы проводили в записях трехэтажных формул этой самой индукции, смутно представляя, куда их можно притулить. Когда темой лекции были нужные вещи: электродвигатели, трансформаторы, сети, – он бегло перечислял параграфы и скатывался опять на свою индукцию. Если к неопределенности его лекций добавить какое-то невыразительное лицо с гладко зачесанными остатками рыжеватых волос и невнятную дикцию, с тональностью разгневанного своим народом диктатора, – то стает обидно за всю электротехнику.
Тем не менее, – экзамен надо было сдавать. Пришлось разбираться по учебникам, после чего наступила ясность по всем вопросам конспекта, я полагал, – по всему курсу электротехники, прочитанному нам вышепоименованным Уласиком. На экзамен я шел спокойно: я все знал. В вытащенном билете озадачил только один вопрос, о котором я понятия не имел: «конденсатор в цепи постоянного тока». Такой темы не было ни в одном конспекте, мы много знали о конденсаторах в сетях переменного тока, где они широко применяются для компенсации реактивных токов и увеличения cosφ. (Кстати, вопрос очень актуальный для сварочного оборудования, у которого этот самый cosφ очень низкий). Я тяжко задумался. В это время по военной специальности мы уже изучали автомобиль, где параллельно контактам прерывателя зажигания обязательно ставят конденсатор. Я нарисовал схему, составил дифференциальное уравнение, решил его, получил изящную формулу заряда – разряда конденсатора: это было число «е» – основание натуральных логарифмов в степени, в которой были индуктивность и емкость. Довольный сотворением научного подвига на студенческом экзамене, иду к Уласику. Он делает лицо кислей обычной и произносит:
– Это правильно, но я вам давал (?) формулу для последовательного подключения конденсатора!
Захотелось взвыть, врезать пролетарским кулаком по ненавистному фейсу и спросить:
– Где в билете написано, что конденсатор надо подключать последовательно???
Забираю билет, сажусь снова, проделываю расчеты для последовательного соединения, опять получаю красивую формулу. Проверяю ее просто: после достижения максимального заряда ток должен прекратиться. Все правильно. Иду к Уласику. Он нехотя соглашается, что формула правильная, но ставит мне четверку только за то, что я слишком долго готовился к ответу.
Ни один экзамен не вызывал у меня таких бешеных чувств, как этот. Дело было не только в том, что я на семестр потерял повышенную стипендию. В отличие от справедливого Павлова, подлый Уласик очень хорошо знал, кто перед ним сидит: моя зачетка с оценками за два курса лежала перед ним на столе. Он хотел унизить меня и поставить мне двойку или тройку, заставить прийти к нему еще раз на пересдачу. Когда не вышло, – пришлось придраться к «длительному времени».
Когда я решал в жизни очередную «электрическую» головоломку или изобретал рабочую установку, про которую целый профильный институт говорил, что этого сделать невозможно, я неизменно повторял про себя: «А ты, подлый Уласик, поставил мне четверку по электротехнике!». Совсем недавно, снимая копию с диплома и приложения, я с удивлением обнаружил, что по электротехнике у меня стоит «пятерка». Наверное, тот запомнившийся экзамен был промежуточным, а выведена общая оценка. Однако, мои обращения к бывшему Уласику остаются в силе: ведь ругаю я его, в конечном счете, не за оценку, а за недооценку моего экзаменационного «подвига»!
Материалы очень сопротивляются
Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.
(К. П. № 92)Наука «сопротивление материалов», на сленге – сопромат, не обижена студенческим фольклором. Сопромат начинают изучать уже после овладения основными инженерными науками – математикой, теоретической механикой и рядом смежных дисциплин. Если они преодолены кое-как, то для таких товарищей сопромат стает непреодолимым барьером, иногда – просто причиной крушения всех жизненных планов. Поэтому вершина студенческого фольклора по сопромату гласит: сдал сопромат – можешь жениться. В этом афоризме видна также роль сопромата как преграды для юнцов-скороспелок, которые, задолго до овладения такой важной наукой, уже очень «хочут» жениться…
Рабочими понятиями сопромата являются момент сопротивления и момент инерции сечения. Если первый измеряется в кубических сантиметрах, которые можно представить в виде насыпанных горкой кубиков льда, то второй оперирует этими сантиметрами в четвертой степени, что уже близко к кошмарам больной психики. Конечная цель всех расчетов по сопромату – определение напряжений и деформаций в конструкции, чтобы решить главный вопрос: выдержит ли она уготованные судьбой жизненные нагрузки. К сожалению, очень часто приходится решать эту задачу «задним ходом». Конструкция уже рухнула, и надо ответить на простенький вопрос: почему она рухнула (читай: кто виноват)?
Сварка из-за местного нагрева создает хитрым способом свои собственные, очень большие, внутренние напряжения, которые часто могут суммироваться с рабочими. История полна примеров крушения огромных сварных конструкций – кораблей, резервуаров, мостов и т. п., в которых товарищи «слегка недоучли». Поэтому, сопромат для сварщика, что Библия для попа.
Мне нравилась эта наука. Она позволяла сосчитать, взвесить то, что раньше угадывалось только интуитивно. Каждый школьник знает, что линейку можно согнуть плашмя и нельзя – на ребро. А, собственно, почему? Линейка-то одна и та же. А какую линейку и как ее надо ставить, чтобы по ней мог проехать автомобиль? Гораздо позже, когда разгорался спор на тему «выдержит – не выдержит», я говорил:
– Давайте сосчитаем…
Увы, большинство спорящих смотрело на меня, как на пришельца из иных миров. Значит, им удалось в свое время переползти через барьер сопромата без всяких потерь для карьеры и здоровья. И все уже были женаты…
Лекции по сопромату нашему потоку вместе с механиками читал профессор Федор Павлович (?) Белянкин, человек безупречной вежливости, доброты и интеллигентности. Практические занятия вела Мария Матвеевна (?) Сергеева, женщина небольшая, «пушистая» и непосредственная. По данным студенческого телеграфа – она была балериной, но из-за безумной любви к Белянкину, переквалифицировалась в «сопроматчицу», чтобы быть поближе к своему предмету. Им обоим было, наверное, слегка за 45. Тогда нам казалось, что они оба уже безнадежные старики, и их любовь может существовать только в виде воспоминаний. К счастью, эта симпатичная пара у меня сохранилась на снимке. Корреспондент молодежной газеты давал обзор экзаменов в вузах Киева. Я уже сдал экзамен и уходил, но настырный «папарацци» вернул все «в обратный зад» и сделал снимок. В газету он не попал, а мой экземпляр со временем потемнел и пошел пятнами. Хорошо, что компьютер знает, как можно немного исправить такие фото.
Так вот именно с Марией Матвеевной у нас все пошло «в раздрай». На дом она задавала решать задачки из сборника. Мы с Колей Леиным их решали шутя, используя высшую математику, что позволяло решить задачу в одну строчку. При проверке ММ объявила нам обоим свое «фе»: дескать, мы бессовестные халтурщики. Мы защищались, возражая, что получили правильный ответ. Она заявляет, что ответ мы просто списали. Коля или я заводимся, выходим к доске и начинаем объяснять логику нашего решения задачи. Она нас не понимает, остается при своем мнении. Для меня отношения еще более усугубляются из-за моей дурацкой привычки делать не так, как все.
Начальная классическая задача для неофитов сопромата – расчет крюка, который на картинке является точной копией жирного вопросительного знака, поставленного вверх ногами. Обычно расчет пишется в тонкой тетрадке, а сам крюк чертят на листке А4 ватмана. Я же сложил вдвое формат А3 чертежного полуватмана и сделал буклет, где на второй странице начертил крюк, а на третьей и четвертой страницах – все формулы и расчеты. На титульной первой странице я написал все исходные данные – как на обложке книги. Страницу заключил в простенькие рамочки – толстую и тонкую; тонкая была чуть выше, зато толстая – чуть шире. Все было написано тушью и получилось очень мило. Мои изыски увидела Поля Трахт и быстренько свою работу оформила точно так же. У нее узрел кто-то еще. Дальше моя фирменная рамочка и стиль распространились как лесной пожар. От оформления первой сданной работы наша Мария была в восторге, чем поделилась с профессором Белянкиным. Когда стиль стал повторяться в других работах, Машины восторги стали уменьшаться. Моя работа использовалась в качестве «козы», и мне пришлось сдавать ее последним. Тут уже бывшая балерина не выдержала и выдала будущему инженеру все, что она думает о рабском копировании и несамостоятельности некоторых молодых. Я не стал возражать ни одним словом: наши мнения совпадали.
Зато с задачами, которые ставали все сложнее, положение наладилось после одного случая. Наша Маша не знала, как решить одну задачу, и мы с Колей Леиным пришли ей на помощь. И тут стали понятными причины наших разногласий: бедная женщина вообще не могла решать такие задачи, она просто помнила решение всех задач наизусть. Любое необычное решение, конечно же, казалось ей неправильным. Наша жалость к ней была густо разбавлена восхищением. Это же надо было взвалить на себя такую каторгу: балерине ради любви учить наизусть задачи по сопромату! Задачи ставали все сложнее, требовали все большего знания высшей математики, и наша Маша в тяжелые моменты часто останавливала вопрошающий взор на мне или Коле. Мы деликатно-благородно помогали, начиная словами: «Мне кажется, что здесь проще применить…». Применяли, получалось, шли дальше. Вопрос о подтасовке ответов отпал навсегда.
В числе немногих книг, которые я взял с собой после окончания института, у меня остался малоформатный справочник по прочности различных материалов, моментах инерции распространенных прокатных изделий и основными формулами по сопромату. Это были самые востребованные сведения в течение ряда лет, справочник я всегда возил с собой. Книжку у меня подло увели, и приходилось обращаться к толстым фолиантам, которые не возьмешь с собой в командировку. Теперь, правда, и командировок уже нет, и все данные можно скачать из Интернета, но книжечку жалко, как старого верного друга. Может, кто увидит ее? На первой странице там красуется надпись Сереги Бережницкого: «Книга сия принадлежит Майку»…
Металлы можно давить
Глупейший человек был тот, который изобрел кисточки для украшения и золотые гвоздики на мебели.
(К. П. № 97)Появился в расписании у нас предмет «обработка металлов давлением». Преподаватель сей науки, видно раньше работал в ПТУ, да так и остался на этом уровне. Он суконным языком и с надутыми щеками важно и многословно изрекал нам общеизвестные истины типа «сіно, солома, – це все буде для худоби». Были бы какие-нибудь практические занятия, на которых можно было бы что-нибудь «подавить», – другое дело. Уже на второй лекции стало понятно, что терять драгоценное время на третью и последующие – не стоит. В расписании для многих, для которых программа ПТУ не являлась глубокой мудростью, появилось «окно». Времени всегда не хватало на самое необходимое, и лишнее «окно» слегка ослабляло этот дефицит.
Приблизилась зачетная сессия. Среди множества зачетов, был и этот – по давлению на бедные металлы. Вооруженный технической мудростью, приобретенной на родном сахарном заводе, я налегке отправился сдавать этот зачет. Пришел и увидел жуткую картину: половина группы гудела в коридоре. Зачет они не сдали, а «сдались» сами. Наш «петэушник» проявил норов: прямо при входе стал требовать конспекты своих «золотых» лекций! Таковые были только в единичных экземплярах. Кое-кто пытался использовать чужие конспекты, уже предъявленные настоящим владельцем, но был немедленно разоблачен. Оказывается, наш «давитель» при просмотре своих банальностей, увековеченных на бумаге, делал незаметные пометки. Все остолбенели и не знали, что можно предпринять. Смотрели на меня: к тому времени я оказался «генсеком» факультетского комсомола. Почесав репу, я двинул в аудиторию.
– Где ваш конспект? – ответил вопросом на мое «здрасьте» наш давитель, увидев мои пустые руки.
– Я не пишу конспектов, – холодно ответил я. Давитель чуть не присел от такой наглости. Немного попереживал молча, затем все же сообразил, что написание конспекта не является священным долгом студента.
– Берите билет, – нехотя процедил он, очевидно надеясь расправиться со мной врукопашную. Этот «петэушник» заготовил билеты и устраивал нам настоящий экзамен!
Билет я взял и начал готовиться. Пустячные вопросы о прочности и пластичности металлов были общеизвестны. Последний вопрос: «Технология штамповки шайб из листа» заставил задуматься. Я ни разу не видел, как штампуют шайбы, но из пролетарского прошлого знал, что штампуют отвратительно: дырка редко находилась точно посредине. Я начал соображать, как можно вырубить эти шайбы, чтобы все было точно. Минут за 5 придумал, нарисовал, двинулся отвечать. Кое-что рассказал нашему «давильщику» из жизни металлов, чего он, очевидно, не знал, судя по выражению бесцветных глаз на таком же лице. Вдруг он перестал слушать и начал жадно разглядывать мой эскиз штампа.
– Это устройство работать не будет, – радостно сообщил он мне.
– Как это не будет? – возмутился я. – Вот этот пуансон вырубает отверстие. При дальнейшем движении штампа матрица обрубает края шайбы. Вот эта пружина при обратном ходе выталкивает готовую шайбу.
Столп штамповочного производства уткнулся в мой эскиз. Действительно: все работало очень эффектно.
– А где вы видели такой штамп?
– У нас на заводе, – малодушно слукавил я.
– Я вам давал технологию двойного штампования, по которой вырубка происходит за две операции…
– Я знаю, – окончательно обнаглел я. – Но там дырка, т. е. отверстие, не всегда получается в центре, – вспомнил я мучения с кривыми шайбами.
– А можно взять у Вас этот эскиз? – робея, попросило светило давления на металлы.
Моему великодушию не было предела: я разрешил ему сделать это, забирая зачетку, в которой он тщательно вывел слово «зачтено». В коридоре я обратился к массам трудящихся студентов, изображающих вопросительный знак.
– Не давайте ему никаких конспектов! Вы не конспектируете всякую чушь, не позволяйте ему требовать этого!
Повеселевший народ уразумел и дружно двинулся сдавать не сдаваясь. Я же по чужому конспекту стал изучать, как по науке надо штамповать проклятые шайбы. Сначала лист надо было разрезать на полосы, значительно шире будущей шайбы. Затем полоса рывками должна подаваться под штамп с двумя пуансонами: первый вырубал дырку, второй – наружные контуры. Центровка отверстия зависела от шага рывка, который просто не мог быть точным. Я мог бы даже сосчитать погрешность по полюбившейся на физике теории ошибок. Мой штамп принципиально не мог делать брак. Кроме того, он вырубал шайбы сразу из целого листа в любом месте…
Ностальгически бодрый взгляд из будущего, которое теперь стало прошлым. Лаборатории, которой я командовал, было поручено изготовить несколько тысяч медных шайб: завод заломил за них непомерную цену и потребовал большие сроки на изготовление штампа. Пришлось вспомнить свое студенческое «ноу-хау». Через несколько дней заказ был готов. Мой самодельный штампик забрали на завод, и он там долго и скромно вырубал точные шайбы.
Мазут для котельных перед употреблением приходится разогревать, поэтому на стальных резервуарах сооружается «шуба» из шлаковаты. Чтобы шубу не разметали ветры, снаружи сооружают фактически еще один резервуар из листов оцинкованного кровельного железа, соединяемых самонарезающими шурупчиками. Конструкция хлипкая и ненадежная, а работа муторная, особенно зимой, особенно на высоте.
Мы изобрели новую, быстро монтируемую и прочную, конструкцию теплоизоляции. Монтаж ставал делом веселым и быстрым. На стальных уголках вырубались специальные лепестки и штыри, которые отгибались перед монтажом и задавали толщину изоляции. Уголки этими штырями вертикально приваривались к корпусу резервуара. На маленькие острые лепестки, отогнутые в другую сторону, накалывались и крепились специальными стопорными шайбами оцинкованные листы наружной обшивки. В зазор между корпусом резервуара и обшивкой закладывалась шлаковата.
Для работы по такой быстрой технологии нужны были тысячи метров стального уголка с надрубленными штырями и отогнутыми лепестками. Профи штамповочного производства на заводе требовали для этого два отдельных штампа, что само собой также в два раза увеличивало трудоемкость изготовления уголков. Пришлось тряхнуть стариной и изобрести простейший штамп, выполнявший все сразу. Воистину, – ничто на земле не проходит бесследно.
Попытался сейчас вспомнить в деталях устройство этих штампов – и не смог. Наверное, после нескольких часов (или дней?) работы я бы повторил конструкцию, изобретенную в молодости шутя за несколько минут, но только потому, что твердо знаю, что она была. С удивлением рассматриваю свои рабочие тетради с многоэтажными формулами. Неужели это все делал я? Видно, к старости убывают не только физические силы, но и усыхают мозги. В сухом остатке должна остаться мудрость. Ау, где ты???
Самим же способом обработки металлов давлением я иногда просто восхищаюсь. Пример: алюминиевая банка для пива и других напитков. Это высокоточное изделие, венец инженерного искусства, – глубокая вытяжка металла, толщиной с папиросную бумажку. Механизм открывания банки, доступный даже ребенку, требует микронной точности при штамповке будущего места открывания, и это при многомиллиардных количествах экземпляров. Очень хотелось бы также узнать, как изготовляется коническое сужение банки: штамп ведь оттуда нельзя вынуть…
Детали машин и нашей жизни
Дьявол всегда прячется в деталях
(народная примета).Детали машин – очень важная наука для любого инженера, а не только инженера – механика. Она дает ключ к пониманию любых механизмов, которые всегда состоят из деталей, и которых все больше появляется в нашей жизни. Ну, например, – автомобиль. Чем отличается старый автомобиль от нового? Большинство сразу подумает о поврежденном бампере, ободранной краске, разбитых подфарниках, проржавевших крыльях. Все так, но это не главное. В старом автомобиле нарушены (обычно – увеличены) допуски и посадки сопрягаемых деталей. Вырастают зазоры в подшипниках, изношенные поршни и клапаны пропускают газы, болтаются рулевые тяги, невесело гудят шестерни коробки передач и гремит крестовина кардана. Это и есть главная причина старости. Как у человека. Не оттого старый, что лицо морщинистое, а оттого, что износилось великое множество мелких взаимодействующих деталей.
Мы можем подлечить машину, заменив некоторые узлы. Но эти узлы и детали должны быть взаимозаменяемы, то есть, изготовлены с нужной точностью и допусками. Бесчисленные резьбы, винтики-гаечки, тоже должны подходить к нужным деталям. Общая наука всех этих подробностей – детали машин. В науку, кроме технических подробностей, входит также идеология всех устройств в целом, чтобы за отдельными деревьями можно было увидеть лес.
Курс деталей машин нашему потоку читал профессор Сахненко, личность яркая и неординарная даже для КПИ. Говорил он в нос довольно противным и гнусавым голосом, что позволяло легко его копировать даже начинающим Галкиным. Но, что говорил!
– Здесь нужен зазор – что-нибудь – два-двадцать миллиметров (??!! – ничего себе колебания!). На стягивающий болт надо установить гайку и контргайку. Все малограмотные недоросли, вроде вас, устанавливают контргайку вдвое тоньше гайки, хотя если напрячь ваш орган мышления и вспомнить эпюры нагрузок резьбы, то становится понятно, что все надо делать наоборот. Нагрузки – знакопеременные, поэтому под гайку надо поставить упругую шайбу…
– Шайбу Гровера, – бурчу тихонько про себя, сидя ряду в десятом. Непостижимым образом Сахненко услышал мое бурчание и разражается тирадой:
– Гровера, Гровера… А может эту шайбу изобрел Максим Козолупов? Лично я постеснялся бы ставить свою фамилию под таким пустяковым изобретением…
Горестное отступление. Тирада Сахненко имеет глубокие политические корни. Уже несколько лет мы боремся с «низкопоклонством» перед Западом на тему «Россия – родина слонов». Откапываются старинные папирусы, которые неизменно доказывают, что все было придумано и изобретено у нас, в России, читай – в СССР. Во всех технических вузах учреждены кафедры истории техники, ее речистые профессионалы пишут и защищают «на ура» пухлые диссертации на эту тему. Пробуждение национального самосознания – полезное дело. Беда в том, что мы всегда действуем по гениальному рецепту великого Мао Цзе Дуна: «Чтобы выпрямить палку, ее надо перегнуть». Перегибаем так рьяно, что народ отвечает смехом и массой анекдотов, соответственно кампания достигает цели «с точностью до наоборот». Особенно следует сказать о «борьбе с низкопоклонством». Мы клеймим позором «буржуазную лженауку», «продажную девку империализма» – кибернетику. Спустя пару десятилетий с удивлением обнаружим, что весь мир говорит на английском и работает на американских компьютерах с японскими дисплеями и принтерами. Удивительное состоит в том, что грядущие исследователи действительно обнаружат ранние прозрения отечественных ученых и Кулибиных по этой тематике. Просто их очень своевременно затюкали, заклеймили, не дали ходу, а некоторых даже осудили за что-нибудь банальное. Вчера прочитал в «Аргументах и фактах», что изобретателя перфторана – «голубой крови», молодого профессора Феликса Белоярцева, обвинили в воровстве спирта и довели до самоубийства еще в конце 70-х годов уже прошлого века. Американцы, затратив много денег, до сих пор не могут синтезировать этот чрезвычайно важный заменитель крови, и их дипломаты флакончиками вывозят из России драгоценный продукт. Сам же продукт производится у нас полуподпольно, в мизерных количествах, хотя он мог бы обогатить Россию не меньше, чем Бил Гейтс Америку. В конце концов, Америка сделает свою «голубую кровь» – были бы деньги, – и опять завоюет ею весь мир. Так уже было с лазерами, космосом и еще кое с чем. За державу, понимаешь, обидно…
Первый курсовой проект по деталям машин – редуктор; чтобы его рассчитать и вычертить, надо знать уже очень много. Тем не менее, приходится не вылезать из справочников по нормалям. Скажем, по расчету вал получается диаметром 53,5 мм. Такие валы в природе не бывают: ни один подшипник к ним не подойдет. Надо знать ГОСТы и нормали с рядами чисел и выбрать ближайший диаметр. Готовый редуктор вычерчивается в масштабе, с разрезами, в нескольких проекциях. Некоторые вычерчивают его в аксонометрии с вырезанной четвертинкой. В аудитории кафедры деталей машин висят сделанные студентами безупречные аксонометрические (пространственные) чертежи сложнейших устройств в разрезе, рядом с которыми всемирно знаменитый «Черный квадрат» Малевича покажется забавой, выполненной дитем, сидящим на горшке.
Абстрактное и совершенно дилетантское отступление на тему живописи, музыки и даже скульптуры. Кстати, на мой взгляд, если уже наделять мистическим смыслом нарисованный абсурд, то лучше брать картины Сальвадора Дали: они, по крайней мере, имеют безукоризненно изображенные детали, указывающие, что их изготовитель владеет мастерством художника, а не только разметчика квадратов. При этом я не считаю себя совершенно чуждым абстрактному искусству: я понимаю «Поэму экстаза» Скрябина, кошмарный хаос «Герники» Пикассо, иррационально тупую тяжесть и боль памятника жертвам Хиросимы, «чрезвычайную» моральную устойчивость коня и всадника Александра III работы Паоло Трубецкого. (В характеристиках наших времен люди делились на морально устойчивых, морально устойчивых чрезвычайно и морально подвижных).
В Киеве, в году примерно 1951-м, состоялась выставка современных художников, куда мы забрели совершенно случайно. Среди всяких разных картин, одна меня просто поразила. Это была картина Лактионова, кажется, она называлась «Новая квартира». Сюжет там был банально-парадный. В новую квартиру, из окон которой просматривались, кажется, московские высотки, въезжала семья в составе матери, дочки, мальчика и Шарика. В руках у семьи был фикус, портрет Сталина и еще что-то. На всех лицах, в том числе собачьем, выражение восторга. (Это был «сталинский» дом; восторг новоселов легко поймут новоселы последующих «хрущевок»). Сюжет, каких тогда были тысячи. Поражало другое – техника живописи. Все детали были выписаны так точно и подробно, что казались стереоскопическим снимком с большим разрешением. Детали хотелось рассматривать в лупу, чтобы увидеть еще больше… Я знаю эффект картин импрессионистов: если отойти и посмотреть одним глазом через дырку в кулаке, то картина становится стереоскопической и насыщенной воздухом. В картине Лактионова этот эффект был виден невооруженным взглядом без всяких ухищрений и с любого расстояния. Возле картины толпился, восхищался и спорил народ, наскоро пробегая возле полотен маститых и заслуженных. В книге отзывов большинство их было посвящено именно этой картине. Некоторые отзывы были очень резкие: Лактионова обвиняли в «фотографичности» (никто тогда не обвинил его в «лакировке действительности», что было очевидно). Подавляющее большинство зрителей просто разными словами восхищались картиной. Восторженный учитель из Николаева объявил картину лучшей из созданных когда-либо человечеством!
Изложил свое непросвещенное мнение на сих скрижалях и я, дилетант. Я считал, что тщательная проработка деталей в проекте не может затемнить смысла проекта, если он там есть. А те, которые пишут крупными мазками, возможно, просто не умеют так прорисовывать детали или боятся трудоемкости этого процесса. Конечно, нарисовать линейкой черный квадрат – гораздо проще. Возможно, автор квадрата проделал титанический умственный труд, прежде чем взяться за линейку, но результат меня не впечатляет до сих пор.
Сейчас, в 21 веке, у меня есть знакомый скульптор, который в бронзе изображает любовь женщины и всякие страсти-мордасти в виде изогнутых торсов и ног. Отливают бронзу ему очень скверно, и я завариваю десятки раковин на отливках, заодно постигая тайны искусства. Заваривая химеру из двух сиамских торсов, я задал художнику невинный вопрос:
– Саша, почему ты отливаешь только торсы без головы и только начала рук и ног? (Этим словом я деликатно постарался заменить точное слово «обрубки»).
– Н. Т., это же страшно медленное и трудоемкое дело. И не всегда получается… Вы ведь знаете, что никто не смог приделать руки Венере Милосской…
Точнее было бы сказать: всегда не получается… Я уже сотрудничал с «отливщиками скульптур» – назовем их так. В пору первоначального накопления капитала в наше веселое время, эти ребята брали из музеев (Эрмитажа и Русского) миниатюрные скульптурки дев, удерживающих подсвечники в виде факелов, или кувшины с истекающей водой, и, непростым методом выплавляемой восковой модели, отливали по ним крупными сериями аналоги, которые продавали. Я исправлял дефекты литья на этих «аналогах» и хорошо с ними познакомился. На бесподобно изящных подлинниках драгоценные застежки удерживали невесомые прозрачные накидки, драпирующие живое теплое тело, тонкие черты лица показывали радость или смирение. На новоделах-копиях все детали точно соответствовали подлиннику. Отсутствовал один пустяк: жизнь.
А вот черных квадратов можно изготовить миллион абсолютно идентичных: достаточно точно замерить размеры, подобрать холст и краску, потому что значение подлинника – иллюзорно и сохраняется в нашем сознании, только благодаря разъяснениям «знатоков искусства». Кстати, черный круг был бы еще более таинственным: в нем вообще не за что уцепиться, поэтому объяснить можно все…
С Колей Леиным мы свои редукторы делали параллельно. Казавшееся сначала чрезвычайно сложным задание, во второй раз выглядит простым и понятным. Если быстро считать и чертить, то работу можно сделать за один вечер. Я уже писал, что второй и третий редуктор мы проектировали «на сторону», чтобы заработать…Проект одного редуктора стоил 60 рублей, что по тем временам было весьма приличной суммой.
Еще одно неуместное отступление. Прочитал недавно статью в газете о том, что у нас процветает несколько фирм, открыто рекламирующих свои услуги: написать курсовую работу, дипломный проект, кандидатскую и докторскую диссертации в любых отраслях науки. Их деятельность вполне легальна: эти «услуги» называются консультациями, оказывать которые не возбраняется никому. Яйцеголовые, в поисках дополнительных заработков, плодят серость и невежество с отличными «бумагами». Наши трудовые заработки на этом фоне выглядят детскими, причем – для детей ясельного возраста…
Вторым курсовым проектом была фрикционная муфта. Мне в задании был записан такой большой крутящий момент, что муфта по расчету получалась просто огромной. Чтобы ее уменьшить, я применил коническую поверхность и выжимной механизм с центральной пружиной. Мой преподаватель Гончаренко не принял мои изыски супротив канонических, раз навсегда заведенных, образцов. Поскольку я сопротивлялся, то на защиту проекта он меня направил к самому Сахненко. Сахненко молча и долго рассматривал мой проект. Мне показалось, что муфта ему понравилась своей компактностью и мощью.
– Цилиндрические пружины очень плохо работают на скручивание, – он сразу нашел «болевую» точку моего проекта.
– Но я здесь поставил упорный шарикоподшипник, и передаваемый момент будет составлять всего …, – я показал ему число в расчетах.
– Смотрите, он еще и соображает, – иронично протянул Сахненко и вывел мне «отлично» в зачетной книжке. Инцидент был исчерпан, мои новации получили высочайшее одобрение, а конические муфты были узаконены в учебных заданиях кафедры.
Упругое отступление. Что касается пружин, – Сахненко был прав: это самое уязвимое место фрикционных муфт. В современных автомобилях на муфтах сцепления установлены специальные лепестковые пружины. Недавно в моих гарантийных «Жигулях» стала «вести», т. е. не выключаться полностью, муфта сцепления. Пружина была плохо закалена, и часть ее лепестков прогнулась. Муфту на гарантийной машине бесплатно мне не поменяли, но это уже другая песня о «свинцовых мерзостях нашей жизни»…
При работе с курсовыми проектами я убедился в великой пользе вычерчивания в масштабе любых более-менее сложных механизмов. Глаз немедленно «усекает» ошибку в расчетах: эта шестерня слишком широка, этот вал совсем рахитичный. Повторный расчет всегда обнаруживает правоту именно глаза. Конечно, не надо забывать, что глаз помещается непосредственно в голове…
Детали машин и техническое черчение, – несомненно, очень нужные в жизни инженерные науки. Наблюдая, как мучаются с эскизами деталей, которые надо сделать, выпускники других технических вузов, я понял, как хорошо учили нас в КПИ. В 70-е годы мы в лаборатории построили и ввели в эксплуатацию сложную машину по фасонной плазменной резке труб. В машине было много точных механических узлов: синусные механизмы, зубчатые передачи с переменными передаточными числами и т. п. Все это мы изготовляли сами на токарных и фрезерных станках, причем – не самых точных. На кульманах прорабатывалась только общая компоновка машины. Рабочие чертежи в виде эскизов со всеми разрезами, размерами и допусками я выдавал десятками в начале рабочего дня, чтобы станки начинали вертеться немедленно. Когда инженер берет в руки линейку, чтобы нарисовать хилые и непонятные никому эскиз или схему, требующие еще пояснений и рассказов, – я понимаю, что он не совсем инженер, или – совсем не инженер. Чертеж – язык инженера; если не можешь говорить скороговоркой, то говори, по крайней мере, членораздельно.
Изучали мы еще и близкую к деталям машин науку – теорию машин и механизмов – ТММ. Студенческий фольклор расшифровывает эту аббревиатуру по-своему: «тут моя могила». Наука тоже интересная, я даже делал по ней специальный реферат «Синтез механизмов по Чебышеву». Пафнутий Львович Чебышев (1821–1894) – выдающийся и разносторонний математик и механик, много работавший в теории механизмов.
По заданным формулам движения мы строили кулачковые профили и разные шарнирные механизмы, что мне весьма пригодилось при создании машины для фасонной резки. С точки зрения математики и ТММ, моя машина представляла собой устройство для одновременного решения трех тригонометрических уравнений с одним аргументом – углом поворота трубы. Все коэффициенты уравнений (для разных диаметров труб и видов работ) легко задавались предварительной настройкой.
ТММ запомнилась своим преподавателем по фамилии Кореняка (или – Кореняко). Этот профессор по внешнему виду – вылитая копия сельского «дядька», замученного сельскохозяйственными работами и обремененного многочисленной семьей. Короткие седые волосы, насупленный взгляд из-под кустистых бровей, который всегда смотрел куда-то мимо собеседника. Одежда – не то чтобы старая, но очень долго используемая. В начале лекции Кореняка проходил к «амвону», бурчал нечто очень напоминающее «здравствуйте» и поворачивался лицом к доске, – соответственно спиной к аудитории, заполненной своими верными учениками. Из кармана извлекалась некая веревочка, при помощи которой на доске возникала первая окружность безукоризненных очертаний.
По студенческим преданиям этой веревочкой был обыкновенный «батіг»– короткий кнут для поощрения лошади ее водителем. Якобы сразу после войны Кореняка приезжал в институт на повозке, распрягал лошадь и, стреножив ее, отпускал с миром в институтские клумбы, а «батіг» использовал как циркуль. Фольклор – трудно проверить. Таинственную веревочку – циркуль – тоже невозможно исследовать: Кореняка сразу прячет ее в карман.
Когда все необходимые окружности на доске нарисованы, Кореняка разворачивается и, не поднимая глаз, довольно отчетливо начинает бубнить «материал» о высших и низших кинематических парах и шарнирных механизмах. Мы скрипим перьями, записывая идеи и рисуя эскизы. Вдруг в тишине аудитории раздается вопрос:
– Какие еще «ниЩие пары»?
– Не нищие пары, а низшие пары, – бурчит с амвона Кореняка, продолжая лекцию. В его произношении «нищие» и «низшие» – звучат совершенно одинаково.
В конце лекции – ответы на вопросы, заданные в записках.
– Тут у меня вопрос: «Ложка – это механизм или машина?». Ну, что это за вопрос. Это, наверное, шутка, – Кореняка откладывает записку и, не поднимая глаз, начинает читать следующую. Народ – веселится…
У нас масса лабораторных занятий и курсовых проектов по общеинженерным дисциплинам, по которым надо писать и чертить отчеты, рефераты, эскизы, переводить с иностранного «тысячи» технического текста. Химия, металловедение, обработка металлов резанием, литейное дело, техническое рисование, техника безопасности, организация производства, – всего и не упомнишь. Особенно большие затраты времени на занятиях по военному делу и основной специальности – сварке, о которых я надеюсь еще написать. А еще ведь есть хобби, самодеятельность, кино, книги, баня, праздники, общественные нагрузки и еще тысяча дел, «не учтенных ценником», как пишут в финансовых расчетах. Рабочий день и значительная часть ночи заполнены до краев. Но мы молоды, сил у нас – не меряно. Кроме того, мы уже умеем работать быстро и продуктивно. Возможно, сейчас уже выветрилось умение титровать химические растворы, но осталось знание, что это можно сделать, осталось умение справляться с огромным количеством неотложных и разнообразных дел. Учили нас хорошо, – и качеством, и количеством. Количеством – также закаляли…
Что касается количества, то нельзя забыть еще об основах марксизма-ленинизма. Эта дисциплина, – как священная корова, огромные аппетиты которой были вне критики, пожирала наше время без всякой меры. Который уже раз мы конспектировали «первоисточники», который раз – «Краткий курс истории ВКП(б)». Бесконечные рефераты, коллоквиумы, разборки на всех уровнях отстающих и прогулявших, – эта суета должна была из нас воспитать чрезвычайно стойких борцов за дело партии. К счастью, большинство наших преподавателей ОМЛ были людьми весьма образованными, поэтому на лекциях мы узнавали массу интересных подробностей «не для печати». Особенно нам нравились живые и насыщенные лекции Беникова. Почему-то его от нас забрали (убрали?) и вместо него лекции стал читать некий товарищ Барсук, человек то ли ограниченный, то ли зажатый своей собственной «идеологической выдержанностью». Народ откровенно зевал на его пресной размеренной лекции, кляня себя за то, что не прихватил на двухчасовую скуку интересную книгу или хотя бы завтрашний отчет по лабораторной работе.
Перед концом лекции на стол лектору легли несколько десятков бумажек, – вопросов в письменном виде. Лектор оживился, глядя на нашу активность. Когда же он начал читать вопросы, его толстомясое лицо все удлинялось, а курчавые рыжие волосы – выпрямлялись, – все вопросы были на одну тему: куда ушел Беников, когда вернется Беников, почему от нас забрали Беникова. Вспотевший лектор зачитывал однообразные записки, страдая и пытаясь хоть что-нибудь ответить каждому. Под конец чтения записок он, чуть не плача, только мог произносить: «О Беникове я уже сказал», «Я уже говорил, что неизвестно, когда вернется Беников…». И вдруг он ожил, читая последнюю записку: «Когда у нас будет читать лекции товарищ Барсук?». Бесконечно умиленный вопросом, со слезами на глазах, он поднялся на кафедру, приложил руки к груди и проникновенно произнес: «Я – БАРСУК!!!»
Овладевшая обществом буйная «ржачка» выработала в наших организмах столько витаминов, что вред от унылых лекций тов. Барсука был нейтрализован на семестр вперед…
Позже лекции по ОМЛ нам стал читать статный бывший офицер (а может быть, – даже генерал) без одной руки. Он часто обращался к повседневной реальности нашего бытия, и его высказывания были непривычно резки для наших напуганных ушей. В частности, он получил жилье в одном из новых домов, выстроенных на высокой стороне Крещатика напротив Прорезной улицы, то есть – в самом престижном месте украинской столицы. Стиль архитектуры этих домов я не могу определить: ранее не видел ничего подобного. По внешнему виду они больше всего напоминали несколько тортов кремового цвета с розочками и башенками из красноватой керамики, обильно налепленных на арках, выступающих частях фасада и лицевой части крыши. Сатирический журнал «Перец» откликнулся картинкой пана Возного из «Наталки Полтавки», который, задрав голову, удивленно рассматривает новые дома и произносит хорошо известный мне монолог: «Ежелі б я імєл столько язиков, скільки артікулов у Статуті, или скільки запятих в Магдебургськім Праві, то і сих не довліло би на восхваленіє ліпоти твоєї…». Тем не менее, это была всенародная стройка: Крещатик после войны отстраивала вся Украина. Наш доблестный Павло Тычина по этому поводу разразился целой поэмой: «Ой, сестричко, любий братику, попрацюємо на Хрещатику!». Вот в таком прославленном доме получил жилье наш бывший офицер. От него мы и узнали, что, прибивая на стенку картину, он пробил дыру в соседнюю квартиру из другого подъезда, что звуки пианино на шестом этаже слышит весь многоэтажный дом…
Воюем…
Военные люди защищают отечество
(К. П. № 52)Сократ справедливо называет бегущего воина трусом
(№ 8)Если хочешь быть красивым, поступи в гусары
(№ 16)Нас, студентов КПИ, не призывают на срочную военную службу. За время учебы в институте механики, сварщики и студенты еще некоторых факультетов должны стать младшими инженер-лейтенантами автотракторной службы. Особые специальности у радистов и химиков: их должны глубоко засекретить. Мы будем в запасе, пока наша жизнь не понадобится Родине. Тогда нас оденут в шинели, дадут красивые фуражки и бросят в бой. Туда мы будем ехать на автомобиле, на котором будет масса полезных вещей: патроны, снаряды и гранаты. Еще мы будем тащить полевые кухни, свято чтя завет Швейка, что главное в бою – не отрываться от полковой кухни.
В ожидании этих времен мы изучаем автомобиль и Правила Уличного движения (ПУД). Эти ПУДы были различными для Киева и Киевской области, для Ленинграда и области и т. д. Автомобилизация тогда еще не приобрела такого угрожающего всему живому характера, машин было мало, и ездили они недалеко. Например, вспоминаю часто нашего майора Смирнова, который обучал нас этому ПУДу (ПУДе? ПУДам?).
– Когда к нерегулируемому перекрестку подъезжают одновременно две машины, – разъясняет майор, – то первой проезжает машина, которая не имеет помех справа. В вопросах мы усложняем ситуацию: одновременно подъезжают три машины. Майор недовольно морщится, но разруливает и эту небывалую ситуацию.
– Ну, а если четыре машины? – не унимаемся мы.
– Не занимайтесь схоластикой! – величественно прекращает вопросы наш майор.
(Что бы сказал бравый майор, увидев перекресток, где с четырех сторон, в несколько рядов, – в том числе – по тротуарам, одновременно подъезжают сотни машин? Перекресток просто парализуется; если даже светофор работает, то подчиняться ему – глубоко бесполезное занятие: двинуться просто некуда).
Водить автомобиль мы учимся на стареньком грузовичке – «полуторке» ГАЗ – ММ по обледенелым и узким дорогам пригородов, которые совсем рядом с нашими общежитиями. Коробка передач этого чуда техники не имеет никаких буржуазных синхронизаторов и требует к себе прямо-таки королевского обращения. Если тонкими приемами «задержка», «перегазовка», «двойная перегазовка» не удается сравнять скорости соединяемых внутри коробки шестеренок, то они отвечают ужасным скрежетом. Примерно такими же звуками реагирует инструктор. При попытке водителя увеличить скорость движок отвечает детонационным клекотом; инструктор яростно вопит:
– Газ!
Этот крик требует вовсе не добавления газа и прорыва в гиперзвук, а совсем наоборот – уменьшения газа. Тогда клекот детонации в двигателе переходит в обычное натужное урчание. Иногда комментарии инструктора нестандартны:
– Куда прешь??? Надень очки!!!
Только однажды инструктор после этого был крайне удивлен: Леня Хлавнович действительно добыл в кармане и надел очки…
В результате обучения в марте 1953 года нам выдают довольно бесполезное удостоверение «шофера – аматора» (любителя) с двумя талонами предупреждений. «Аматор» не имеет права водить тяжелые грузовики и тягачи, которыми мы должны командовать на войне. Серенькую книжечку я возил с собой как память о студенческой молодости. Неожиданно в 1959 году она стает для меня главным документом: мы приобрели свой автомобиль! Года через три у меня в Ленинграде изымают первый талон предупреждений, иссеченный компостерами гаишников, как автоматной очередью, за многочисленные нарушения. Об этом торжественно сообщают Киевской ГАИ. Я думаю, они там все попадали от удивления моей десятилетней стойкостью…
Все военно-автомобильные страдания были потом – после четвертого курса института; здесь я их привел, чтобы были понятными наши маневры «до того». После второго курса нам предстояло сначала усвоить нелегкую науку пехотного сержанта.
В одно прекрасное утро после второго курса несколько сотен студентов загрузились в теплушки. Спустя несколько часов мы оказались на танкодроме, находящемся, как нам объяснили, недалеко от Белой Церкви. Обширное песчаное пространство, изрытое окопами и гусеницами, содержало также заросли кустов и небольшие рощицы. Безымянная речушка протекала в километре от нашего «бивака». Вдоль линейки построения стоял ряд палаток. Была жара, поэтому стенки палаток были свернуты. Палатка в таком виде – просто квадратный гриб цвета хаки, ножка которого вырастает в квадратной же ямке. Площадь ямки – наша жилплощадь. Вокруг центра по периметру ямки устроена обшитая досками ступенька шириной около двух метров и глубиной от поверхности земли около полуметра. Это наше ложе. С одной стороны ложе прорезано ступеньками лестницы, соединяющей ямку жилплощади с поверхностью земли. Капитальными сооружениями в нашем городке были штаб, туалет и столовая.
Для начала нам выдали военное обмундирование: подлатанные и свежеокрашенные гимнастерки с погонами без просветов, «кривые штаны», изобретенные французским генералом Галифе, «теплые» ремни из материала пожарных шлангов и пилотки со звездочками. Обувь можно было выбирать по вкусу: «кирзачи», снабжаемые портянками, или армейские ботинки, к которым полагались длинные серые ленты обмоток. Наш бывалый вояка Миша Шовкопляс уговаривал нас выбрать именно обмотки, в которых ногам легче бегать, но большинство предпочло сапоги, и Мише пришлось примкнуть к большинству.
Длинные узкие мешки назывались матрацами. У стога, под неусыпным надзором старшины, мы их набили соломой до состояния палки твердокопченой колбасы. Тринадцать палок, обвернутых простынями и плотно уложенных на доски ступеньки, вместе с ватными подушками и байковыми одеялами, образовали нашу коллективную берлогу на одно отделение вместе с командиром. Когда все попробовали улечься на свои «колбасы» матрацев, до боли понятным стало выражение прыгунов в воду: «прыгать солдатиком». Лежать вместе мы могли только именно в такой позе, причем руки желательно было убрать на дощатый бордюр изголовья. Совсем несладко было отделению, в котором «служил» Мауэр: он не мог поместиться даже на двух матрацах.
Первый день прошел быстро. Отбой в 22 часа никого не усыпил, под квадратами палаток еще долго раздавался приглушенные взрывы смеха. Команда «ПОДЪЕМ!!!» ровно в 6.00 застала всех врасплох. Солнце уже ярко светило. Наши командиры стояли уже одетыми возле палаток. Требовалось надеть только сапоги и бежать на построение. Быстро, по взводам началась зарядка. В течение 15 минут мы с бешеной скоростью делаем знаменитый 16-тактовый комплекс упражнений, затем хватаем мыло, зубные щетки и полотенца и бегом, но строем, несемся к дальней речушке. Народ уже раскалился, хотя проснулся еще не совсем. Умываемся, обливаемся, вытираемся, бежим в обратный зад. Одеваемся, строимся. Подъем флага, объяснение задач. Расходимся за ложками. Строимся, идем в столовую, завтракаем перловой кашей, хлебом с маслом и чаем. Перекур, построение. Получаем оружие и саперные лопатки, строимся, выходим на перелески песчаного танкодрома.
Наш командир, старший лейтенант ставит задачу. Мы с боем должны захватить опорный пункт противника, расположенный на расстоянии около километра в небольшой роще. Оттуда стреляют, пока условно. Движемся рассредоточено, согласно новому БУПу – Боевому Уставу пехоты, каждая буковка которого густо полита кровью необученных бойцов и неграмотных командиров. Броски в полный рост, – только если позволяют складки местности и противник нас не видит. Основной метод передвижения – попеременное переползание, когда половина отделения прикрывает огнем ползущих. При поступлении вводных «усиление огня противника» или «противник с фланга», – окопаться для ведения кругового боя.
Все вроде ясно – вперед. Лейтенант идет с нами в полный рост. Неосторожно поднявшемуся он говорит: «Вы убиты». «Убитые», даже дважды и трижды, не отдыхают спокойно на ложе смерти, а ползут далее наравне с живыми. Сигнал: «Противник справа». Отстегиваем свои саперные лопатки и начинаем окапываться лежа: из рощи-то стреляют! Копать стрелковую ячейку лежа очень трудно, особенно тем, кто лопату держит в руках первый раз в жизни. Лейтенант и сержанты – командиры отделений, учат, как правильно и быстро окопаться. Сухой грязный песок легко поддается лопате, но как вода снова заполняет уже отрытое пространство. Окапываемся мучительно долго. «В бою вы все бы уже полегли», – грустно отмечает лейтенант. Солнце стоит уже почти в зените и шпарит немилосердно. Пить хочется неимоверно, но лейтенант разрешает только пригубить баклажку: питье в бою вредит, пот будет заливать глаза и снижать точность стрельбы. Наши нарядные ярко-зеленые гимнастерки стают цвета хаки от пота и пыли. В дальнейшем они так пропитаются нашим военным потом, что станут почти белыми и будут стоять на земле вертикально без всяких вешалок, как рыцарские доспехи.
Дни потянулись за днями. Предоставим слово студенческому фольклору: почти строевой песне на мелодию «Вот солдаты идут…».
Вот курсанты идут запыленной дорогой.
Ничего не поют: еле двигают ноги.
Впереди лейтенант Очеретный шагает.
Позади их сержант (2 раза) всех сачков подгоняет.
Вот курсанты идут, на плечах у них скатки,
За спиной автомат, бьют по ж…е лопатки.
Кто-то прет пулемет, на ходу спотыкаясь,
Еле ноги плетет (2 раза) диким матом ругаясь.
Вот курсанты идут, клубы пыли глотают.
Каждый раз отстают и обмотки мотают.
Рот от жажды раскрыв, о Днепре вспоминают,
Но команда «Бегом!» их мечты прерывает.
Вот курсанты бегут, жаркий день проклиная.
Бутсы ноги им жмут, пузыри натирая.
Но команда «Ложись!» к жизни их возвращает,
И, дыша тяжело, пот с лица вытирают.
Вот курсанты опять по дороге шагают.
Штурмовой полосой лейтенант их пугает.
Но угрозы слова уж на них не влияют.
И улыбка у них на лице возникает.
Вот курсанты идут, в лагерь шаг направляя,
Быстро шмотки кладут, кружки-ложки хватают.
А столовая вновь пресной кашей встречает,
Но с охотой они эту кашу глотают.
Вот курсанты уже на поверку шагают.
И знакомую речь старшина им толкает.
Вот, отбой возвестив, громко пушка стреляет.
Полчаса лишь спустя их Бойчук отпускает.
Вот курсанты сидят, в темноте раздеваясь.
По постелям ползут, в бок локтями толкаясь.
И друг друга они по привычке ругают.
Лишь часа через два лагерь весь засыпает.
Вот курсанты лежат, быстро ночь пролетает.
Вдруг команда «Подъем!!!» всех с постели срывает.
И, ужасно бранясь, все портянки мотают,
И по пальцам они до конца дни считают…
Этот фольклор, не страдающий пушкинской краткостью и выразительностью, чудом сохранившийся в моем архиве, с протокольной точностью описывает нашу военную жизнь. Впрочем, не все было так уныло. А песни были и другие, обычно – военные, строевые. Однажды вечером, предельно усталые, два взвода сварщиков брели под командой молодого, но уже достаточно тупого замполита. Хорошо отдохнувший во время наших боев, замполит вдруг гнусавым голосом завопил: «Запевай!!!». Чтобы заткнуть его бодрость, я затянул нечто, совершенно непотребное, рискуя нарваться на вывод из строя и длительные «разборы полетов».
Полночь, полночь вот уже пробила,
А Марьяна позабыла, что должен я придти…
Шагающий народ уловил ритм популярного фокстрота и замер, если это можно сказать о шагающей полусотне бойцов. Не разобравшись, что к чему, замполит неожиданно дал команду: «Подпевай!» Тогда полусотня глоток во всю мощь выдохнула слова, поставившие весь лагерь «на уши»: до сих пор никто таких слов не пел!
О, Марианна, сладко спишь ты, Марианна!
Мне жаль будить тебя, я стану ждать!
Шаг строя четко печатался под этот ритм, и могучий хор во всю глотку проорал припев два раза. Я затянул второй куплет, слова которого сейчас уже не помню, и хор дважды потряс припевом засыпающий лагерь.
Бодрый замполит, кажется, получил втык за нашу «строевую», но мы ее продолжали время от времени «озвучивать». Фирменной же песней сварщиков стала ария Певца за сценой из оперы Аренского «Рафаэль»(?). Я тогда собирал пластинки классической музыки, эта ария мне нравилась, и я, дурачась, иногда ее «вопил» в подходящей обстановке. Однажды меня поддержал Толя Венгрин, затем – Юра Высоцкий, который был певцом настоящего, институтского хора, работавшего на высоком уровне. Несколько человек «солистов» с чувством вытягивают необычные для строя слова и яркую мелодию:
Жизнь моя сердца восторг и мученье,
Льются томительно песни любви.
Страстью и негою взор ее блещет,
Блещут в нем звезды – звезды любви…
Хор (от души): А-а– ах, сла-а-достно мне!!
О, если б мог я волне беззаботной
Нежное слово безумно сказать.
Рад бы я чайкою быть быстролетной,
В бурю с волнами рыдать…
А-а– ах, сла-а-достно мне!!
Могучий хор на всю катушку так самозабвенно орет, как ему хорошо, что близкие и дальние слушатели начинают оглядываться в поисках небывалой сладости…
За неделю до конца лагерей жизнь двух взводов сварщиков в полутысячном отряде КПИ круто меняется. Наш лейтенант со своими сержантами уходит, его заменяет старший сержант Дегтярев и сержант Трусов. Эти ребята из войск, вскоре им предстоит «дембель», и они хотят спокойно провести последние деньки.
После обычного подъема, зарядки, завтрака мы обвешиваемся снаряжением, готовясь отрабатывать очередную тему «Взвод в наступательном бою». Расстояние до исходных позиций – уютной рощицы, – мы преодолеваем стремительным броском. В роще вместо боевой задачи, мы получаем команду «Ложись!». Место для начала наступления выбрано очень удачно: мягкая травка, тень от деревьев. Привычно залегаем лицом к противнику, готовим оружие и лопатки. Вторая команда: «Закуривай, трави анекдоты!» – вносит в наши ряды веселое оживление. Вооруженный взвод, нацеленный на атаку, немедленно превращается в пикник «на пленэре» участников районной самодеятельности. Анекдоты сыплются, как из рога изобилия, все круче по сюжетам и семантике. Всех затмевает Сева Троицкий: он читает в лицах басню Михалкова «Заяц во хмелю». Его Заяц и Лев настолько уморительны, что народ катается по траве и утирает слезы.
Незаметно подкрадывается время обеда. Отдохнувшие и свежие, мы бодро печатаем шаг на линейке лагеря, гремим строевой песней. Унылые механики и металлурги еле бредут, измочаленные атаками и окапыванием. Нас ставят в пример.
После обеда в той же роще мы мирно дремлем на травке, отцы-командиры – тоже. На следующий день все повторяется. Теперь Сева читает нам стихи: как пишут о любви поэт, шофер и поэт-футурист. К сожалению, я помню только фрагменты.
Поэт: ….пою, шучу, смеюсь, и все я для тебя. Мы все идем, и зелень полевая ромашкою нам будет радовать глаза. А в воздухе, как будто неживая, – повисла стрекоза…
Шофер: …Маруся, милая, родная, не знаю, как и говорить: любовь неслыханно шальная давно в душе моей кипит, кровь стала гуще вискозина, а мысли вязки, как тавот… любовных мыслей барботашь, кипит в ней словно радиатор, когда воротишься в гараж…
Поэт-футурист: Гадюка мировая, заводная! Девчоночка с присыпкой на большой! Я от муры душевной изнываю, я – влип, как сволочь, – телом и душой!..Девчоночка! Во всю мою любилку – люблю тебя, – от клифта до колес… Мы – топаем. Жарища – как в мартене, а на полях – шикарная буза. Туды ее, в крыло, и в хвост, и в зенки: над нами уж психует стрекоза!
Так мы живем несколько дней. Всем очень нравится такая жизнь, все в восторге от такого командира. Взбунтовался один Миша Шовкопляс, хвативший солдатской доли в прошедшей недавно войне.
– Да он просто лентяй, наш командир! Если придется воевать, он запросто положит всех своих людей! – кипятится Миша. Но против массы – не попрешь, хотя многие в душе согласны с бывалым воякой.
Оканчиваются лагерные сборы. Мы переодеваемся в свою одежду, наступает трогательное прощание. На память о наших совместных боях команда сварщиков дарит Дегтяреву наручные часы. Купить их здесь негде, поэтому часы снимают с моей руки, а мне скидываются по червонцу. Расставаясь со своим первым в жизни хронометром (часы шли удивительно точно), я уныло шучу, что буду теперь определять время по номерам купюр…
В день моего двадцатилетия, ранним утром 22 июля 1951 года, мы выгружаемся в Киеве. Трамваи и троллейбусы еще не ходят, и большая группа отправляется в общежитие пешком. Мы подтянулись, загорели, окрепли. Мы – сержанты Советской Армии. Мы молоды и полны сил. С удивлением ловим себя на том, что пытаемся идти в ногу.
Недавно я прочел в газете о совершенно новом хобби американской молодежи, названном мудреными английскими словами flashmob. Группа людей сговаривается одновременно делать что-то непонятное другим, например, спрашивать несуществующую газету в киоске. Авторитетно сообщаю, что аналогичное действо было проделано в Киеве более полувека назад. На пути нашей группы оказался открывающийся гастроном. Полсотни человек вошли туда и образовали очередь к ошалевшей продавщице съестного, ничего не покупая и ничего не говоря. Поскольку половина очереди стояла на тротуаре, то к ней быстро начали сбегаться и пристраиваться люди. Время было такое, что надо было сначала занять очередь, а уже потом разбираться, что дают… Когда очередь, несмотря на раннее время, достигла огромных размеров, ее начало, которому по определению должен был достаться «дефицит», вдруг снялась и двинулась дальше, оглашая полуспящий город дружным смехом…
К вечеру мы получили стипендию – за прошлые месяцы и каникулы и бурно отпраздновали в общежитии все сразу: конец второго курса, получение высокого (я вовсе не шучу) воинского звания «сержант» и мой второй юбилей – двадцатилетие.
Наручных часов «Победа» в Киеве не было. Я объездил много магазинов, – увы… Чтобы не растранжирить деньги, я положил их на аккредитив. Через пару месяцев это малозначительное событие перевернет мои представления о некоторых вещах.
Чтобы больше не возвращаться к военной теме в институте и соблюсти некую связность в моем сбивчивом повествовании, расскажу о вторых военных сборах после 4 курса.
Лагерные сборы проходят в лесах возле Броваров, вблизи Киева. Несмотря на присвоенные воинские звания, обмундирование выдали нам такое же х/б и б/у, как в первый раз, и точно такие же «беспросветные» черные погоны. Правда, теперь на погонах красуется два крылышка над колесом: мы автомобилисты. Мы уже «без пяти минут» инженеры, и эти сборы соответствуют нашему статусу. Командирами отделений у нас курсанты Роменского (?) автомобильного училища, которые смотрят на нас снизу вверх
Занятия проходят в больших классах или в тени сосен «на пленэре». Живем, правда, по-прежнему в палатках, но не так тесно. Палатки расположены в уютной сосновой роще, обильно засыпающей наши территории колючими шишками. Уборка шишек – не столько обязанность дневальных, сколько орудие наказания проштрафившихся. Дурачимся мы в полной мере, но довольно интеллектуально, что ли. В нашей группе образован «Совет министров». Среди 10 министерств есть министерство «Очистки воздуха», «Сбора шишек». Совмин издает газету, в которой печатаются Указы, сведения о наградах, прогнозы действий «Богов» и «Потусторонних сил». Есть несколько фотоаппаратов, поэтому снимков той поры – уйма.
Военная наука об автомобилях – весьма полезная. Учимся составлять «кроки» и «легенды». Это краткая схема для автомобиля или колонны, с указанием приметных ориентиров и, главное – расстояний, так, чтобы движущиеся только по крокам, без всяких расспросов «туземцев» приехали в нужное место. «Кроки» неумелых обычно обременены массой ненужной, избыточной информации, и почти полным отсутствием необходимой. Наша группа садится на автомобиль и петляет по разным дорогам километров 10–15. Курсанты (мы) должны на лету «законспектировать» маршрут так, чтобы другая машина могла точно повторить его без каких-либо остановок. Только побывав в шкурах составителя кроков и едущего по ним, начинаешь понимать, как и что видит человек за рулем.
Непростая наука – организация движения больших колонн автомобилей, особенно ночью, особенно – в военных условиях. Сейчас Чечня показала, как кровью расплачиваемся за это незнание «пройденного материала». С горечью читаю о том, как разделываются с «колонной автомобилей» боевики, – просто хорошо обученные бандиты. А что, теперешние отцы-командиры забыли слова «боевое охранение»? Надо ли опять наступать на грабли, обильно политые кровью предшествующих поколений?
И еще об одном вопросе, когда «за державу обидно». Мы изучаем подробно трехосный автомобиль ЗИС, принятый на вооружение армии как тягач и грузовик-вездеход. Внешне грузовик – копия «Студебеккера». Только получился он почему-то тяжелее на целую тонну, с «дохлым» двигателем в придачу и слабенькими фарами. На песчаных и проселочных дорогах грузовик еле тянет сам себя. В списке конструктивных изменений (КИ), вносимых после войсковых испытаний, читаем: «усилить…», «укрепить…», «увеличить толщину…». Все КИ утяжеляют машину, и без того перегруженную собственным «телом». Начинаем разбираться с деталями. Литые рубашки мостов у американцев толщиной всего 3 мм с «вафельными» ребрышками. Поломок – не бывает. У нашего ЗИСа – чугунное литье толщиной до 10 мм, которое надо делать еще толще: при нагрузках разрушается. У американцев очень сложный, но сверхнадежный карбюратор на всех режимах работы двигателя. У нас – упрощенный, который чахнет даже на холстом ходу. У американцев – лампы-фары, свет которых виден даже на тучах. У нас – подслеповатые лампочки за туманными рассеивателями. У них – высокоточные шестерни в передачах; для их смазки достаточно жидкого масла. У нас ревущие шестерни, которые требуют густого нигрола. А на морозе нигрол застывает до твердости асфальта; чтобы сдвинуться с места водители разжигают под машиной целые костры. И так далее, и тому подобное. Ходили слухи, что комиссию, которая приняла этот грузовик на вооружение, посадили в полном составе. Если так – очень правильно посадили.
Взгляд из военного будущего. Я так подробно останавливаюсь на этом грузовике (его полное название, кажется, ЗИС 131), потому что в дальнейшей жизни мне пришлось хлебнуть с ними лиха. Когда в начале 60-х годов мы начали сооружать ракетные старты в лесах Прибалтики, то там понадобилась, наряду с обычной, высококачественная сварка в среде аргона изделий из нержавеющих сталей и алюминия. Промышленное сварочное оборудование в полевых (лесных!) условиях для нас оказалось непригодным. Пришлось сооружать свое, с независимыми источниками энергии. Фургоны на шасси наших ЗИСов были набиты оборудованием и кабелями до отказа. Кроме того, автомобили должны были буксировать специальный прицеп с тяжелыми источниками сварочного тока. Тяжело, конечно, но в пределах паспортных данных автомобиля. Так вот: по хорошему шоссе мы могли разогнаться аж до 40 км/час! На проселках мы элементарно застревали на наших вездеходах, со всеми вытекающими последствиями… А уж внезапных поломок было не сосчитать! Кстати, по теории автомобиля, поломка – это ЧП; норма – обычный износ, устраняемый плановыми заменами агрегатов. И эти автомобили выпускались на прославленном ЗИС – ЗИЛ в Москве, где начиналось наше автомобилестроение! Надо заметить, что и легковые «Москвичи» никогда не отличались высокими качествами. Столица, все-таки: очень нужен им этот технический прогресс! Сейчас, в условиях конкуренции, хотя и сильно «придушенной», и ЗИЛ, и бывший МЗМА зачахли: их продукцию просто перестали брать. Это справедливое наказание за былое спокойствие и почивание на лаврах!
Еще одна неожиданная вставка, уже авиационная. Только что (8.00, 07. 11. 2004 г.) прослушал по ящику очень толковую и подробную передачу из истории авиации. Во время войны американцы построили небывалый до того дальний бомбардировщик Б-29 «Летающая крепость» (B-29 Superfortress) с дальностью полета 5500 км, максимальной скоростью 576 км/час на высоте 10 000 м, и огромной – (до 10 т) – бомбовой нагрузкой, в перспективе рассчитанный на доставку к цели атомной бомбы. Американцы, мобилизовав огромные ресурсы, поставили в 1943-м производство Б-29 на поток, всего было выпущено около 4000 самолетов. В 1944 году эти самолеты начали массированные бомбежки Японии. Три самолета, поврежденные японскими ПВО или из-за технических неисправностей, сели на советский аэродром возле Владивостока. Американцы надеялись, что мы как союзники, дозаправим и отпустим самолеты. Но СССР был связан с Японией действующим договором о нейтралитете и не мог этого сделать. Экипажи самолетов были интернированы в Ташкенте. Позже, по настоянию США, им устроили «побег» в Иран, где отпустили. А вот история трех самолетов – интересная. В СССР не было таких машин, и Сталин приказал скопировать самолет без всяких конструктивных изменений – «один к одному». Это обстоятельство в передаче подчеркивается особо: любое изменение влекло за собой десятки других. Руководители всех КБ, кроме Туполева, от этой работы отказались. Самолеты перегнали в Москву, начался напряженный труд в течение двух лет. Что значит скопировать деталь, узел, устройство «один к одному»? Это значит, прежде всего – разгадать и скопировать технологию производства материалов для его изготовления – различных сплавов, пластмасс, изоляторов и т. д.; затем изобрести и сделать технологическую оснастку… Особые хлопоты конструкторам доставляли электронные приборы дистанционного управления и навигации. Даже – дюймовая система мер…
Конечно, совсем «один к одному» не получилось. Были поставлены отечественные двигатели (мощнее), ликвидированы герметичные кабины и помещения, установлено более мощное отечественное оружие. Но, благодаря идеологии «один к одному» было сэкономлено драгоценное время и получен все тот же B-29 Superfortress, способный нести атомную бомбу. Когда американцы в 1947 году увидели в небе первые три самолета Ту-4, они даже подумали, что это их Б-29 из Владивостока… Самолетов Ту-4 до 1952 года было выпущено свыше четырех сотен. Они стали заметной вехой в истории отечественной авиации. Это для Ту-4 строились аэродромы в Заполярье: чтобы донести через Северный полюс «гостинцы» до США в период холодной войны. Ракет еще не было… Увы, в нашем мире считаются только с сильными.
А теперь стало понятным, за что надо было сажать комиссию, принявшую на вооружение ЗИС: копировали недостаточно тщательно – раз; все конструктивные изменения только ухудшали машину – два. Так им и надо, троечникам…
Чтобы не кончать на уныло-технической ноте, хочу рассказать о «страшном» случае. Наша группа, сидя в тени сосен, слушала майора Смирнова. Внезапно у меня завертело в носу, и я чхнул. Чих у меня, от природы громкий, на самой природе получился особенно звучным. Майор от неожиданности подпрыгнул.
– Кто чхнул??? – взревел он.
Я поднялся и скромно обозначил свое авторство. Майор, не ожидавший столь быстрого раскрытия преступления, затих на целую минуту, затем произнес:
– Вам с таким чихом надо в цирке работать, а не срывать мне тут занятия!
Лагерные сборы окончились. Немного позже мы сдали госэкзамены. Торжественно нам были присвоены воинские звания «младший инженер-лейтенант автотракторной службы запаса». Эти высокие звания нам были нужны, как рыбе зонтик: война не просматривалась, и нас ждала промышленность по основной специальности. Однако незабвенный Козьма Прутков нас учит: «Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо теплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере?». Чуть больше одного года отделяло меня от этого «случая в атмосфере»…
Первая встреча
… и со всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы очи!»
После балетно-пехотных лагерей и празднования двадцатилетия я прибыл в «родовое поместье» в Деребчине. Там меня уже ждали мама, Тамила и школьные друзья. Работать на заводе уже было некогда, и я готовился к бездумному отдыху. Хотя к «восхитительному ничегонеделанию» и готовиться особо не надо.
Немного поспал, немного поработал по хозяйству. Провел пресс-конференцию с мамой и Тамилой по наболевшим вопросам. Редько по-прежнему угнетал маму сокращением часов, что влияло на зарплату. Решили: плюнуть. Проживем. Тамила поступила в Киеве в Финансово-экономический институт, получает стипендию, живет в общежитии. У меня стипендия – вообще большая, еще и Тамиле кое-что подбрасываю. За общежитие плачу только 15 рублей в месяц. Дядя Антон перебрался из далекого Тейково Ивановской области в Винницу, периодически по делам Винницкой электростанции бывает в Киеве, кое-что подкидывает. Сейчас зовет в гости в Винницу, пожить, отдохнуть. Картошка посажена, значит – вырастет. Жизнь улучшается, цены – снижаются. Короче: все идет к лучшему. К светлому будущему – прорвемся.
Двинулся на «завод» (это и часть села вокруг завода), конечно, – к Яковлевым. В этом гостеприимном доме всегда полно молодежи. Уже собралась вся наша бывшая школьная компания, Славкины родители, сестра Зося, ее муж Саша, еще какие-то малявки. Одну, правда, знаю: это, кажется, Мирослава, младшая сестра Тамилиной подруги Иры Стрелецкой.
Меня, задержанного собственной милитаризацией, уже ждут. Радуемся встрече, ржем по разным поводам. Выдаю Саше «средствА» на бутылочку, Саша реагирует мгновенно: магАзин рядом. На стол выносится картошечка, огурчики. Слегка пропускаем ради встречи, перекуриваем.
За убранный стол садимся, не переставая ржать, с самыми серьезными намерениями: играть. Раньше, бывало, Славка брал мандолину, и мы пели всякие грустные и не очень песни. Сейчас мы перекидываемся в подкидного дурачка и просто треплемся по разным поводам. Наше богатое театральное прошлое зовет также к воспоминаниям. Больше всего воспоминаний по учительской «Наталке Полтавке». Я изображаю в лицах встречу Петра (Иван Иванович), Наталку (Анна Петровна) и себя, несчастного суфлера, на этом празднике жизни. Вспоминаем также «Балтийского мичмана» и нашу драку на сцене. Славка пыжится, говорит, что мог бы мне тогда дать прикурить, если бы я не напомнил ему о тексте пьесы. Все ржут.
Приглядываюсь к одной из малявок. Одета просто, но с большим вкусом. Красива, точеная фигурка – все при ней. Несмотря на свой детский возраст, чувствует себя в нашем, вполне взрослом, сборище совершенно спокойно, ведет себя с достоинством и на равных. Очень хорошо чувствует и воспринимает юмор. Когда шуточки приобретают скользкий характер, она удивленно приподнимает одну бровь, и все входит в русло. Славка вокруг нее слегка увивается: она его родственница, и надо показать уважение и заботу. Малявка иногда смотрит в мою сторону, и мы встречаемся глазами. Глаза – хороши!
Начинаем играть в «Цветочный флирт». Эта, по всей видимости, – дореволюционная игра чудом сохранилась у Яковлевых. На двух десятках глянцевых картонок – душещипательные, вопросительные, шутливые и иные высказывания Цветков в яркой, иногда – пушкинской форме. Надо подобрать подходящий вопрос – ответ, и передать адресату со словами, например: «Роза!». А там, например, слова: «А где вчера вечор Вы были, когда я Вас ждала напрасно?». В ответ можно нарваться на Гиацинта, который ответит: «Устал я слушать Ваши бредни!». Но если повезет, то можно получить признание Незабудки: «Я Вас люблю, к чему лукавить…». «Беседуют» таким способом все сразу, каждый с каждым…
Уже более полувека не играл я в эту наивную милую провинциальную игру. Наверное, и сейчас она мне, уже старому деду, нравится больше, чем страстное мычание трех-четырех слов полуголой девицы, эффектно вертящей своими прелестями в обрамлении лазерных вспышек…
Между нами происходит «цветочный» диалог, примерно такой.
– Кто Вы, дитя? Что занесло Вас в наш медвежий угол?
– Я тот, которого никто не любит…
– Роль Демона Вам не подходит! Вы – прелестны!
– Вы – лицемерны, льстите мне напрасно.
– Ах, горький жребий мой: меня никто не понимает…
– Я знаю: в Вашем сердце есть и гордость и прямая честь…И так далее, и тому подобное…
Славка иногда ревниво перехватывает наши послания. Он доволен: мы просто болтаем, а не договариваемся на языке цветов о свидании. Да и зачем мне свидание с этим ребенком? Я за два последних года в Киеве совершенно изменился, даже бывшие переживания по Ире Мазур мне вспоминаются, как давно прошедшие благоглупости.
(Это не только слова. В фото той поры, когда был выход «на природу», я с удивлением увидел, что Ира была тогда в нашей компании. Этого я просто не помнил, значит, – ничто уже не волновало, я выздоровел и был спокоен…)
Расходимся от Яковлевых поздно. Мирослава ушла раньше. Малявку беру «на буксир», чтобы немного позлить Славку. Идти – метров 300, до квартиры Стрелецких, где она остановилась. Малышка просит моего совета. Она окончила семь классов. Что ей делать дальше: поступить в техникум, чтобы пораньше помочь родителям, или продолжать учиться в 8 – 10 классах? Я не знаю, как велики трудности у родителей, которым надо бы помочь, но мне жаль ввергать такое юное создание в трудовые будни ради куска хлеба. Кроме того, раз родителей двое, то как-нибудь уж выдержат эти безвестные родители: моя мама работает одна, и то двое детей получают высшее образование. Даю твердый совет: продолжать учиться в школе, привожу доказательства. Уже дошли до крыльца Стрелецких, прощаемся, как юные пионеры. Убеждаюсь, что провожаемой открыли дверь, делаю ручкой тете Ядзе и ухожу. Малявку зовут Эмма.
Опять лингвистика, круто замешанная на мистике. Господи, прости родителей, дающих по молодости и глупости своим детям дурацкие имена, ибо не ведают, что творят! Разве могут они предположить, что имена людей напрямую влияют неведомыми нам путями на их судьбу? Как мучаются потом несуразные Рэмиры, Вилены, Элросы, Вилоры, Энгельсы, Владилены и другие Марксы и Эпроны! Рано ушли из жизни моя младшая сестра Тамила, младший брат жены Жанлис… Я доволен своим именем, спасибо дорогим родителям, что они не выпендрились на нем. На украинском языке оно звучит «Мыкола»: этакий неповоротливый и не очень сообразительный увалень, что соответствует моему содержанию. Зато русский «Николай» приобретает черты некоей чудотворности (зимней и летней) и даже победоносности, ведь крылатая Ника – богиня Победы! Немецкое имя Эмма с двумя «мм» произносится со сжатым, как от зубной боли, ртом и совершенно не подходит моей прелестной малышке. Я называю ее «Ема», часто с ударением на последнем слоге. Правда, Ема иногда превращается в строптивую Эмму: так и буду писать…
На другой день прихожу пораньше, прихватив арендованный у кого-то фотоаппарат. В нем осталось всего несколько свободных кадров, но мы с Эммой и Мирославой отправляемся в парк фотографироваться. Кадры у меня кончились, но детям я это не объявляю. Гоняю их по деревьям, они принимают красивые позы, я любуюсь и щелкаю пустым аппаратом.
Через пару дней в Винницу идет заводская машина. Мне туда надо к дяде Антону, Эмме – к родителям. Договариваемся ехать вместе, да и тетя Ядзя одну ее отпустить не может.
Едем в кузове грузовика. Малышка с упоением рассказывает мне что-то о собаке Мухе и других домашних животных, которые у них жили. Солнце освещает ее глаза, прекрасные глаза, оживленные рассказом. Я слушаю и не слышу: я утонул в этих глазах…
Довожу ее к знакомой тетке в Виннице, откуда ее должны забрать родители. На следующий день назначаем наше первое свидание. Я отправляюсь к дяде Антону; его квартира находится на территории электростанции в доме, стоящем на берегу Буга. Дядя рад, тетя Тася вкусно нас кормит. Мы с дядей идем сразу на электростанцию, где мне все интересно. Под вечер с Виктором начинаем ловить рыбу для кота. Увы, у меня не клюет даже самая хилая уклейка, которая одна за другой лезет на тот же крючок, но который забрасывает Виктор.
На условленном месте свидания жду больше двух часов, затем отправляюсь вдоль по улице Маяковского к дому номер 113. Это Старый город, фактически – старое село с усадьбами. Здесь каждый номер тянется на величину обширного участка, поэтому улица оказывается самой длинной в мире. На полпути вижу встречный грузовик, который, уже проехав, вдруг останавливается. Из кузова меня зовет весьма объемистый мужчина. Приближаюсь. В кузове также сидит моя малышка, с ней – еще одна. В кабине сидит женщина, которая не выходит. Мужчина – отец Эммы, это я понимаю по ее обращению. Он страшно торопится куда-то. Я взбираюсь в кузов, наспех здороваюсь, мы грохочем в город. На одном из перекрестков Эмма, подруга Галя и я высаживаемся, машина уносится.
Эмма нервничает; разговаривает жеманно и нехотя; от былой, так покорившей меня, спокойной простоты нет и следа. Наша встреча для нее – явная помеха каким-то планам. Досадная помеха, – увы, я сам. Мысленно ругаю себя, на чем свет стоит: «Связался черт с младенцем!». Однако, – младенца не может обидеть даже черт, и я вынужден играть роль заботливого «ухажера», кажется, без особого успеха. Повисает некая напряженность, которую своими разговорами пытается развеять Галя. Беру себя «в руки», любезно предлагаю своим дамам лодочную прогулку. Галя с радостью, Эмма – нехотя, – соглашаются. «Ехать, так ехать», – как сказал попугай, когда его кошка тащила за хвост из клетки. На лодочной станции беру тяжелую четырехместную лодку и весла в руки. Дамы усаживаются на носу, я – спиной к ним; мы движемся вниз по течению.
В то время река Южный Буг в районе Винницы была удивительно хороша. Сквозь чистую спокойную воду просматривались приглаженные течением косы водорослей. «Там должно быть уйма раков», – вспомнил я ивановский пионерский лагерь. К левому, кое-где – каменистому, берегу почти вплотную подходили дубовые и грабовые рощи. За поймой низкого правого берега виднелись огороды и белые хатки, утопающие в садах.
Сначала мы планировали дойти до «камня Коцюбинского», – скопления серых скал и прилепившихся к ним деревьев, нависших над рекой. Здесь писатель, известный каждому учащемуся в украинской школе, обдумывал свою знаменитую «Фата Моргану». Скалы уже виднелись в полукилометре, но Эмма заторопилась, сказала, что отсюда ей ближе и удобнее идти к дому. Галя пыталась возразить, но Эмма только посмотрела на нее, и Галя замолчала на полуслове. «Эге», – глубокомысленно подумал я. Мы причалили к поляне на левом берегу. Дамы сошли на берег, сделав мне ручкой, и по тропинке углубились в рощу. Я поплевал на руки и двинул тяжелую лодку назад, вверх по течению…
Очевидно, во время плавания мы как-то договорились о встрече. Последнее наше свидание было коротким и деловым. Вручая свой «портрет 3Х4» с лапидарной надписью «Эмме от Николая», я объяснил, что делаю это только потому, что раньше обещал. А вообще, одариваемая – еще совсем маленькая, и ей надо очень-очень подрасти, прежде чем мотать нервы взрослым мужикам. Смотрел я при этом в воду. В воду Южного Буга, со старого моста в Виннице. Меня уже не занимало выражение прекрасных очей. Роман окончился, даже не начинаясь. У меня осталось несколько снимков. Один из них я увеличил и повесил в общежитии над кроватью: «най буде». Я был свободен, как муха.
«Эмме от Николая»
Информация из будущего. Оказалось, что в истории нашей встречи подпольно участвовала еще одна малявка, младшая сестра Тамилиной подруги. Эта вторая малявка напела Эмме обо мне, какой я, якобы, необыкновенный и хороший. У «моей» малявки разыгралось воображение, и она, обманутая рекламой, очень хотела увидеть ее объект. Создательница рекламы ничем себя не выдала. Не на ту малявку я, оказывается, смотрел…
Заботы резервиста
Комсомол – резерв партии
(из Устава ВЛКСМ)В начале третьего курса меня избирают комсомольским «ватажком» – секретарем комитета комсомола сварочного факультета. Оказалось, что молодой бычок может надеть на шею и это ярмо. Конечно, трудно представить, как на одной шее могут поместиться несколько ярем: шея то имеет ограниченные размеры. Поэтому метафора хромает на все две (нет, – четыре!) ноги. Лучше скажем так: к тяжелой телеге, влекомой молодым бычком, была прицеплена еще одна, не очень легкая. Бычок сдуру напрягся и потащил телеги еще быстрее, радуясь «оказанному доверию».
Почти все студенты – молодые, почти все молодые – комсомольцы. Время такое. Поэтому забот у выборного «головы» этих почти всех – хватает. А еще добавляет забот и головной боли «направляющая и организующая» сила, «резервом» которой весь комсомол и является. Скачком возрастает круг моих знакомств: кроме того, что я должен знать всех своих на факультете – и младших и старших, очень много приходится общаться с институтской элитой со всех других факультетов, часто отстаивая интересы своего. Каким-то чудом сохранился мой блокнот этого периода, где я для памяти записывал неотложные задачи. Если бы я не учился «на инженера» и больше ничего не делал, то этих задачек вполне хватило бы на полный рабочий день.
В КСМ бюро факультета (будем для краткости и дальше так обозначать ту группу людей, которая является моим «рабочим органом»), несколько «секторов». (Кто-то из знаменитых сказал: до чего же опошлена изящная математическая фигура). Это – организационный, академический, политический, культурно– массовый, студенческой научной работы (СНО), военный, шефский, физкультуры и спорта. Еще есть редколлегии стенгазет, ДСО «Наука», корреспонденты институтских газеты и радиогазеты и др. Вся эта махина командует комсоргами групп, которые уже должны доходить и опираться на «рядовых».
Основные заботы бюро – академическая успеваемость. Это основная головная боль институтского комсомола: разговоры, увещевания, помощь тем, кто «не успевает». По велению «больших старших товарищей» особенно рьяно надо следить за этой самой успеваемостью на коллоквиумах и занятиях по основам марксизма-ленинизма: «ты инженером можешь не быть, но ОМЛ ты знать обязан». Другие важные заботы – самодеятельность, «наскальная живопись» – стенгазеты, научная работа студентов, спортивные соревнования и еще куча всяких текущих дел: от подготовки к праздникам – до уборки территории.
Мои заботы очень разнообразны: ни один вопрос жизни факультета не проходит мимо «ватажка» комсомола, да и «эксклюзивных» вопросов набирается куча. Для примера приведу записи некоторых делишек только за несколько дней.
19. 10. 51. КСМ бюро. Отчет академсектора. Утверждение редколлегий «В дуге» (сатирическая стенгазета ф-та) и «Советский сварщик» (нормальная). Обострить внимание комсоргов о порядке во время вечера с пединститутом. О сборе денег на призы. О явке на хор. Информация комсоргов об успеваемости в группах. Проведение перевыборов в ДСО «Наука». О проведении вечера худ. самодеятельности. Провести в группах производственные совещания.
20. 10. 51. Подписал письмо Кожевникову (?) о личности (написано – «лице») Осипова (?) и предоставлении ему общежития. Во вторник 23 выделить 4 чел. для оформления колонны. 2 ч. дня (!) в комитет, к Павлову. Подыскать угол возле ин-та Фисуну В. (спросить у Кайдаша).
22. 10. 51. В пятницу 26. 10. выделить уполномоченного ф-та по уборке территории ин-та. Быть в 8 вечера возле комитета. Подобрать человека в институтский Совет СНО.
25. 10. 51. КСМ бюро (4 вопроса, в т. ч. об уплате членских взносов на ф-те. 3 чел. из бюро: Трахт, Леин и я присутствуем на политзанятиях в группе 1 курса ЗВ-15. Выдали замечания и провели бурное собрание. Подтянуть первый лист по черчению и «тысячи» по инязу. Шмарев – хочет помощи по математике. Неправильно: прежде всего – надо работать самостоятельно.
24. 10. Н. Леин провел бюро ДОСААФ. Председателем избран Ю. Попов (ЗВ-10). В стенгазете ЗВ-9 помещено бессодержательное стихотворение: обратить внимание редактора Персиона А. Организовать сбор денег для детей– сирот.
30 10 51. Бюро сорвалось из-за отсутствия аудитории. Поставить вопрос перед комитетом. Бюро собрать в четверг 01. 11. 51. Вопросы – те же.
Провести факультетское КСМ собрание. Сдать в комитет отчетность о перевыборах в группах.
Короткие записки из блокнота – иногда целая драма. Особенно запись от 30 октября. О ней я расскажу чуть позже. Дальше, без упоминания о тягомотине оргмероприятий, приведу только некоторые записи о людях и основных событиях
05. 11. 51. 2 ноября проведен вечер худ. самодеятельности сварочного факультета и литературного факультета пединститута.
Член бюро И. Ляховая плохо посещает лекции, слишком увлекаясь общественной работой. Указать в личной беседе.
В ЗВ-13 проведено собрание. Вопрос – об отношении к девушкам, особенно к Дробкис. Ее мать хотела писать в ЦК ВЛКСМ. Факты в основном не подтвердились. Комсомольцы требовали вызвать на собрание мать Дробкис: она сама плохо поставила себя в группе. Все же в группе к ней был не чуткий, не товарищеский подход. Поговорить с Дробкис об отношении к ней группы, дать ей общественную работу. Выяснить роль Скульского.
Аналогичных записей – целый блокнот. Необходимы некоторые пояснения. Начнем с конца. Девочка Дробкис – нервное, избалованное мамой дитя, впрочем, – не лишенное чисто женского обаяния. На третьем курсе технического вуза она впервые узнала, что такое болт. Влюбленная в Юру Скульского, она умудрилась сделать это чувство достоянием широкой общественности. Юра, – наш кудрявый красавец и певун, не совсем корректно «закрыл» ее чувства. Учеба вся была завалена. Кроме того, своими амбициями и фантазиями она так восстановила против себя всю группу, что речь уже шла об ее суициде. Думаю, что наше, достаточно тактичное, вмешательство было нужным и своевременным. Курсовой по деталям машин она уже делала в общежитии в нашей комнате под присмотром Коли Леина и моим. Там-то мы и узнали, что она не ведает, что такое болт…
Инна Ляховая, девушка с задумчивыми серыми глазами из младшего курса, увы, сохла по мне. На всех бюро она садилась в первом ряду и не спускала с меня глаз. Готова была взвалить на себя любую нагрузку, лишь бы общаться с «предметом». Сначала было непонятно, некоторое время – лестно, потом – надоело. Со всей «комсомольской принципиальностью» я вынужден был сказать ей, что ничего у нас не будет. Дурочку было немного жалко. К счастью, она горевала, кажется, недолго. Забегая вперед, скажу, что аналогичным образом мне пришлось ответить на признание Гали Куриленко, лучшей волейболистки института, высокой и стройной, а также одной из наших девушек-шефов. Поля Трахт, с которой мы дружили в институте, была умная девушка: сама все поняла, да и ее жених Озик не спускал с нее глаз. Судьба явно вела меня к другим берегам…
Самодеятельность была отдушиной многих и предметом головной боли для комсомольского руководства. В институте были классные хор и танцевальный коллектив, которыми руководили профессионалы. На факультетах все было попроще, но ближе. Между факультетами существовала в самодеятельности острая конкуренция. Наш сварочный был гораздо меньше гигантов химического или электротехнического, но мы не собирались сдаваться. Как и в «наскальной живописи» – стенной печати. Возле наших «дацзы бао» всегда стояла толпа студентов и веселилась. Этой «прессой» заведовал Сережа Кучук-Яценко, будущий член-корр. Академии Наук Украины, симпатичный парень с черной шапкой непокорных кудрей. Рисовал совершенно убойные картинки Миша Терех, – оба со старшего курса.
В самодеятельности главной составляющей был хор, очевидно из-за отсутствия ярких вокальных дарований. В хоре можно было каждому гудеть понемножку, но умелый дирижер из этого жужжания и гудения мог выстроить нечто удобоваримое, точнее – «удобослышимое».
Хором сначала руководил воспитанник военно-музыкальной спецшколы Миша Кандин из моей группы. Миша – невысокий бледнолицый блондинчик с гладко зачесанными назад длинными волосами. Миша нервно, можно сказать – болезненно, реагировал на любые отступления свободных тружеников вокала от воинских уставов. Он мог руководить хором, только если хористы стояли в четком строю, пожирали глазами начальство (его) и неукоснительно, молча и с рвением выполняли его предначертания. (Молчать нужно было только во время прослушивания ЦУ и ЕБЦУ; затем, конечно, вопить в указанном руководством направлении). В нашей вольнице такая схема работала со страшным скрипом. Репетиции хора состояли из гневных призывов маэстро к порядку и унылых причитаний о невозможности работы с таким человеческим материалом. Другого, увы, – не было. Бедный Миша совсем извелся. Окончательно его выбил из колеи пустячный случай. В тишине лекции, под дружный скрип перьев, задумчивый голос с задних рядов (с неба?) произнес:
– А Кандин сегодня опять пьяный.
Кандин взвился:
– Кто сказал??? Когда меня видели пьяным???
Заданные столь экспрессивно вопросы почему-то повергли аудиторию в безудержное веселье, а Мишу – в исступление. Лекция прервалась, Кандин начал доказывать всем, что он никогда не напивался, и, если и пил, то совсем немного. Тут уже народ совсем неприлично начал валиться от смеха…
С тех пор и повелось: в самый неподходящий момент раздавалось: «А Кандин опять пьян!». Кандин взвивался, и все начиналось сначала. Измученный маэстро обратился с жалобами к своему другу – добродушному и покладистому Боре Вайнштейну. Тот сочувственно поддакивал жалобщику, а в заключение назидательно произнес:
– Вот что бывает, когда напьешься всего-то один раз!
Миша чуть не убил своего друга…
Командовать нашим хором был приглашен жених Поли Трахт, лощеный и вежливый Озик Мисонжник, учащийся какого-то музыкального училища. Он приходил со своей скрипкой, спокойно пережидал шум вокальной тусовки и начинал работать. Запели мы лучше, в хоровом гаме появились партии первых и вторых голосов, дружный рев иногда переходил в задушевное мурлыканье, когда такового требовал текст. Пели мы в основном военные песни – «Вот солдаты идут», «Соловьи», «Дороги», «Темная ночь» и другие, – широко известные и любимые. (Когда эти песни небрежным голосом оторви-бабы заголосила Гурченко, я просто разлюбил ее. Зачем повреждать, искажать то, что знает и любит весь народ?)
Хор наш был на высоте, но нам для разнообразия не хватало сольных номеров. Кто-то сказал, что поет Петрунькина Галя, маленькая блондиночка из младшего курса. Она пропела куплет «Гуцулки Ксени». Голосок и «видимость» были так себе, но я настоял, чтобы Петрунькину включили в программу. Соло, почти народная, украинская, – вот три «за», которыми я оперировал. В спешке согласились, что едва не привело к катастрофе.
На вечере Петрунькину выпустили в первой части. Дитё вышло на сцену и начало тихо-тихо «чирикать». Первый куплет народ слушал, ожидая всплеска эмоций у певицы после невзрачного начала. Всплеска не последовало: в таком же ключе были произнесены второй куплет и припев. Народ приуныл, ожидая, когда это кончится. Кончилось не скоро: Петрунькина знала и без устали чирикала в том же стиле тридцать один (!) куплет этой песни, со всеми повторами припевов и подробностями. На четвертом куплете народ начал стучать ногами. На седьмом – начал в массовом порядке покидать зал, особенно ребята из других факультетов, отпуская шуточки о самодеятельности сварочного факультета. На шипение из-за кулис «Кончай! Заткнись!» и на топот зала Петрунькина не реагировала: она «поймала кайф», это был ее звездный час. Закатив глаза, она «песню, что задумала, допела до конца».
Пришлось срочно объявлять перерыв, а после него выпускать на сцену Севу Троицкого, чтобы вернуть в зал зрителей…
(Надо заметить, что тогда мы не были закалены современной попсой, когда даже не куплеты, имеющие смысл и логику, а просто несколько слов – часто дурацких, – повторяются десятки раз подряд. Слушая такое «эссскусство», уже с умилением вспоминаю простодушную Петрунькину, а к исполнителям попсы обращаюсь с призывом: «Ежели ты, неутомимый наш, знаешь еще хотя бы пару слов, кроме этих, – то произнеси их!». Увы, не внемлют…)
С девушками пединститута у нас завязалась дружба через общих знакомых киевлян. Встретилось комсомольское руководство факультетов и договорилось о совместных мероприятиях. У них уже тогда было очень мало мужиков, у нас – девушек, поэтому идея с энтузиазмом была подхвачена широкими слоями народа. На наш вечер пришло очень немного их девушек, никому они не были знакомы, поэтому намеченная «стыковка» не состоялась. Вместе с комсоргом Марией, симпатичной и юморной девушкой, мы придумали другой план. Собрав деньги, мы закупили около сотни билетов в театр имени Ивана Франко. Места были на галерке, самые дешевые. Билеты поделили так, чтобы справа от нашего парня сидела их дева. Все шло по плану, мы с Марией уже радовались удачному замыслу. Потух свет, начался спектакль. Мы считали, что темнота – знакомству не помеха.
Внезапно в одном ряду начал разгораться громкий скандал, затем появились две дежурные служительницы Мельпомены, которые вывели под белы ручки нашего Ивана Мусиенко. Я ушел следом разбираться, и мой спектакль с этого момента слегка изменил название и профиль. Долгие дебаты внесли некоторую ясность в запутанный вопрос. Оказалось, что справа от нашего Ивана по каким-то причинам села совершенно посторонняя девушка, да еще ожидавшая своего парня. Иван, жаждая плановой встречи и руководствуясь общим стратегическим замыслом, полез знакомиться, тем более, что дева ему понравилась. Дева ему ответила категорическим «фе». Иван возмутился: раз комсомол приказал, ты просто обязана познакомиться со мной. Не понявшая ничего дева пыталась покинуть «зону знакомства», но великан Мусиенко слегка усадил ее опять, после чего дева начала вопить. Две служительницы еле вытащили из рядов театралов нашего Ивана. Понятно, какой именно спектакль смотрела в это время вся галерка.
Мне пришлось вертеться ужом, ежом и лисой одновременно, чтобы: а) угомонить Ивана; б) успокоить возмущенную деву; в) уговорить служительниц не нажимать кнопку вызова милиции. Мой спектакль кончился благополучно, а тот, который шел в зале, – неизвестно.
В дальнейшем наша дружба с педагогическими девушками плавно «сошла на нет», как ни старалась комсомольская верхушка соединить разрывающиеся нити массовых «дружб». Позже я понял истинную причину. Наши ровесники девушки уже были «на выданье». Впереди их ждали сельские школы с очень ограниченными мужскими ресурсами. Поэтому в наших ребятах они видели прежде всего женихов и активно демонстрировали это. А свободолюбивые «наши» еще не были готовы к такому повороту событий: впереди была большая жизнь и нужная для нее свобода. Конечно, я имею в виду общие тенденции. Несколько симпатичных девушек «прижились» у нас, но их встречи с нашими ребятами были уже сугубо индивидуальными, без привлечения общественности. Возможно, девушкам впоследствии и удалось стреножить наших диких мустангов…
Мы – орудие в чьих-то руках
Философ легко торжествует над будущею и минувшею скорбями, но он же легко побеждается настоящею
(К. П. № 112)Я не знаю, как писать этот раздел даже сегодня. Считать себя «борцом за идеи партии», – совесть не позволяет. Быть просто «слепым исполнителем», – мне вообще не дано природой. Мой командир А. М. Шапиро по моему поводу шутил: «Если Мельниченко утонет, – ищите его вверх по течению». (Кстати, позже я узнал из афоризма Ежи Леца, что это не так уж и плохо: «чтобы добраться до источника, надо плыть против течения»).
Придется просто описать голые факты. Но прежде, чем их «раздеть», хочу рассказать о двух предыдущих историях, которые весьма способствовали дальнейшему безобразию.
В комнате Поли Трахт, с которой мы дружили с первого до последнего курса, проживала некая Белла Сандлер; училась она, кажется, на химфаке. Девочка была так себе: неопределенные кудряшки над круглым, каким-то пятнистым лицом, и круглые же, слегка навыкате глаза. Одежда ее, даже при наших, очень невзыскательных «прикидах», навевала мысли о еще более нищенском существовании. По рассказам Полины, у нее в каком-то местечке (так на Украине называют небольшой еврейский городок) проживала одна мать и еще несколько детей в страшной бедности. Белле сострадали и помогали все: профком выделял бесплатные путевки в дома отдыха, комитет комсомола и дирекция института оказывали периодически материальную помощь, освобождали от платы за общежитие. К праздникам и со стипендии, когда себя чувствуешь почти Крезом, мы всегда скидывались по трешке-пятерке для бедной Беллы, чтобы она хоть в праздники не была голодной. Наши сердца еще не зачерствели и были открыты для сострадания.
Теперь – история о моих первых в жизни наручных часах, средства на которые я заработал тоже первой сваркой на заводе. Напомню, эти часы подарили уставшему от службы сержанту из войск, нашему командиру, который, вместо атак и рытья окопов в раскаленном песке, уводил нашу группу в прохладную тень рощи. На деньги, собранные ребятами взамен часов, я не мог купить другие: их тогда не было в Киеве. Деньги, 420 рублей, чтобы не растранжирить, я положил на аккредитив, где они мирно почивали несколько месяцев. Мне очень недоставало прибора времени особенно теперь, когда я был связан с множеством людей и встреч, помимо лекций и учебы. Все товарищи знали о моей беде и помогали искать. И вот поступил долгожданный сигнал: в магазин на Воздухофлотской привезли партию часов! Я немедля ринулся в город. Ближайшая попутная сберкасса находилась на Керосинной, куда я и прискакал на трамвае. В сберкассе была небольшая очередь, и я внедрился в ее хвост «крайним». За столиком что-то писала Белла Сандлер, мне показалось, – испуганная моим появлением. Уже подошла моя очередь, когда кассир сберкассы подала громкий призыв: «Девушка, ну где же вы? Все ваши бумаги давно готовы!». Призыв относился к Сандлер, и она вынуждена была подойти к окну кассира прямо передо мной. И тут я понял причину ее испуга и долгого сидения за столом: она тянула время, чтобы я получил свои «часовые» и успел «отвалить». Получилось все «с точностью до наоборот»: я оказался так близко, что мог проследить операцию от начала до конца. В те жестокие времена грабителей было мало, денег – тоже, и вся деятельность сберкасс происходила на виду у народа, отделяясь от последнего только метровым барьером с узкой полоской стекла.
Зрение у меня даже теперь неплохое, тогда же я мог читать, кажется, любой текст на любом расстоянии и в любом положении. То, что я увидел и прочел, лишило меня дара речи. Бедная-бедная, просто нищая, – Белла Сандлер, которой мы, стипендионные Крезы, скидывались на черный хлеб, вносила 10 000 (десять тысяч) рублей на сберкнижку, на которой уже было более 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
Откуда такие деньжищи??? Тогда в магазинах стояли в продаже автомобили «Победа» по 9 тысяч рублей. Это для большинства обычного народа были безумные деньги, и машины пылились: не было спроса, точнее – денег, еще точнее – легальных денег. Заработать столько, чтобы положить на сберкнижку около 40 тысяч рублей, было невозможно даже супернародным артистам, тем более, – таким «прелестницам», как наша ободранная Белла. Их можно было только украсть, добыть аферой, причем способами, не оставляющими никаких следов, иначе тобой немедленно занялись бы «компетентные органы». И сама по себе Белла, только маленькая часть, пылинка, чего-то очень большого. И если «пылинкам» достаются такие куски, то сколько же имеют заправилы этой, несомненно, – подпольной, организации?
Это был момент истины. Меня, и не только меня, нагло и цинично обманывали. Это я, истинный нищий, заработавший тяжким трудом свои гроши, подавал милостыню миллионеру, одетому в рубище нищего. Мне плюнули в душу, показав, кто истинный хозяин в этой жизни.
Часы себе я купил. Теперь они были просто очень нужным, хотя и не самым дешевым, наручным прибором времени. Вторые в моей жизни часы почему-то перестали быть любимым и тайным предметом моей гордости.
А теперь уже можно рассказать о малозаметной записи в моем деловом блокноте секретаря КСМ бюро факультета: 30. 10. 51. Бюро сорвалось из-за отсутствия аудитории. Поставить вопрос перед комитетом. Бюро собрать в четверг 01. 11. 51. Вопросы – те же.
Признаюсь, – это я умышленно сорвал бюро, которое собирал и которым руководил.
Накануне меня вызвали в комитет комсомола института. Институтский КСМ секретарь Шлюко учился на металлургическом факультете и был гораздо старше нас. Шлюко воевал, был офицером, несомненно, – членом ВКП(б): на такие важные должности просто комсомольцев не назначали. Должность эта выборная, конечно, но я не оговорился: никакие выборы «на самотек» тогда не «пускались». Думаю, что сейчас этот «самотек» тоже не допускают, изменились только методы «регулирования свободного волеизъявления». Вот о влиянии на свободу в комсомольских выборах и пойдет дальше речь.
Шлюко принял меня в своем обширном кабинете с глазу на глаз, усадил меня напротив, и вперил в меня строгий взгляд. Я сидел спокойно, ожидая вопросов или ЦУ.
– На твоем факультете должны начаться выборы комсоргов групп и курсовых комсомольских бюро, – начал Шлюко, не мигая, и глядя мне прямо в глаза. (В комсомольской среде «партайгеноссе» по неписаным правилам обращались друг к другу на «ты»).
– Да, на следующей неделе. В курсовые бюро еще в прошлом году, с согласия комитета института, мы должны избрать только по три человека: на курсе всего по две группы.
– Хорошо, раздувать штаты не надо, – согласился Шлюко. Ты на бюро уже утвердил рекомендуемые кандидатуры комсоргов групп и курсов?
– Еще нет. Скоро соберу бюро для этого.
– Так вот. Ты лично должен обеспечить, чтобы комсоргами групп и курсов были избраны только лица основной национальности, не афишируя это, – Шлюко чеканил каждое слово, пристально и сурово глядя мне прямо в глаза. – Понятно?
Мне было непонятно. Свое непонимание я изобразил вопросительным взглядом.
– Ну что здесь непонятного? – уже смягченно, слегка удивился секретарь. – Мы где живем? На Украине. Значит, люди основной национальности – кто? Украинцы и русские. Теперь понятно?
Теперь стало почти понятно, хотя определения того, кто не должен был стать комсоргом групп, не прозвучало. Мы – дети своего времени, читаем газеты и слушаем радио о тайных и подлых делах врачей-вредителей, знаем также их национальность. Кроме того, в институте просочились неведомыми путями слухи о разделении радиофака на два, почти одинаковых. Факультет потребовалось «засекретить», в связи с тем, что студентам надо было изучать новейшие секретные устройства и технологии, касающиеся напрямую безопасности страны. Это не смогли сделать, так как около 60 % студентов оказались лицами «не основной» национальности, имеющей уйму родственников и других связей «за бугром». Лично мы несколько дней назад были потрясены открытием истинного лица одной беднейшей студентки. Да, теперь стало понятно. Я откланялся, слегка озабоченный. Увы: заботы мои были не о том, зачем это надо делать, а только о том, как это сделать.
Рекомендуемые кандидатуры комсоргов групп и курсов должны быть обсуждены и утверждены на бюро факультета. А в нашем бюро из семи человек людей «основной национальности» было только двое: Миша Дрыга и я сам. Два человека, лучший друг Коля Леин и моя воздыхательница Инна Ляховая, – «гибриды», остальные, в том числе мой товарищ Полина Трахт, – «не рекомендуемой» национальности. Поэтому полностью открыть нашу задачу в руководимом мной «органе» я смог только Мише Дрыге. Мы вдвоем тщательно перебрали списки всех групп и выбрали людей, которых мы вдвоем будем рекомендовать на бюро, чтобы оно, бюро, рекомендовало их к избранию в группах. Таковы законы «свободных» комсомольских выборов. Этот выбор кандидатов для нас был весьма трудным: люди «основных национальностей», к сожалению, редко блистали отличной учебой или общественной активностью, тем более – их сочетанием.
Бюро 30 октября 1951 года я назначил по необходимости на поздний вечер: часть курсов занималась во вторую смену. Собрались все. Пустых аудиторий в это время было достаточно. Вопрос один: о выборах комсоргов в группах. Начинаем с первого курса. Комсоргами там мы рекомендуем, скажем, Иванова и Петренко. Первый курс никто не знает, рассчитал я, и с предложенными кандидатурами бюро согласится. Однако выступает член бюро Лазарь Адамский, который закреплен от бюро за первым курсом. Он уже детально познакомился с первокурсниками и аргументировано возражает. Иванов уже успел «сачкануть» семинар по ОМЛ, заваливает черчение. Петренко туго соображает, неизвестно, как он вообще прошел сито вступительных экзаменов. Лазарь предлагает рекомендовать к избранию Либермана, медалиста киевской школы, которого он давно знает также как очень активного общественника и отличного парня. Комсоргом другой группы Адамский предлагает Вайнштока, характеристики которого почти идентичны либермановским. Я возражаю. Во-первых, по моим наблюдениям, школьные медалисты чахнут в институте (сам Лазарь, круглый отличник там и тут, легко опровергает мой тезис); во-вторых, – такие люди, как Иванов и Петренко, быстро растут и выпрямляются под грузом принятой на себя ответственности. Разгорается всеобщий теоретический спор об ответственности, учебе, общественной активности и прочем. Время идет. Лазарь спохватывается:
– Ну, что мы спорим? Давайте проголосуем!
Голосуем. За Иванова голосуют три человека: Дрыга, я и Ляховая, которая зачарованно смотрит мне в рот. Все остальные – за Либермана. Против Петренко голосует даже Ляховая. Большинством утверждаются Либерман и Вайншток. Заседаем уже около часа, и я объявляю технический перерыв на 10 минут: надо перекурить и все такое прочее.
Закуриваю прямо в безлюдном коридоре и быстро иду к главному входу. Там дремлет дед-вахтер, дожидаясь, когда все запоздалые покинут главный корпус. Я без обиняков обращаюсь к нему:
– Вы можете выключить свет во всем правом крыле? Выключайте! Очень надо! Деду не терпится закрыть корпус, чтобы заняться чаепитием и поспать, поэтому он радостно выполняет мою просьбу-предписание. Правое крыло главного корпуса погружается во мрак. Ощупью добираюсь до комнаты нашего заседания и объявляю, что света уже не будет, а бюро переносится на ближайшие дни.
Уныло совещаемся с Мишей. Мы потерпели полное фиаско даже на двух группах первого курса. На старших курсах, где хорошо известно, «кто есть ху», наше положение почти безнадежно. Приходим к простому выводу: без участия «широких масс» мы блистательно завалим порученное дело. Разрабатываем тактику привлечения этих самых широких масс, намечаем своих «агентов влияния», распределяем все группы только на двоих.
Второго заседания бюро по выдвижению кандидатур я так и не собрал. Список, намеченный только мной и Дрыгой, я понес в комитет показать Шлюко. У меня еще оставались какие-то сомнения, и я их решил прояснить до конца. Ведь «прямое слово» не было нигде и никем не произнесено. А что если все это плод моей возбужденной фантазии? Я передал список Шлюко со словами:
– Тут по группе ЗВ – 9 мы наметили оставить прежнего комсорга – Цезария Шабана. Но он – поляк.
– Ну и что? – удивился Шлюко.
Вот теперь все стало ясно. Этот короткий вопрос был равен длительной лекции. Отныне поляки, волей Главного Комсомольца Политехнического института, наравне с русскими и украинцами, вошли в число основных национальностей, проживающих на Украине.
Утром начинаем работать. По три-четыре человека из группы вызываются в деканат: по одной группе на каждой переменке. Там происходит один и тот же разговор, с одной и той же, усвоенной в комитете, интонацией:
– У вас скоро будут выборы комсорга группы и курса. Мы живем на Украине и комсоргами должны стать люди основной национальности, – русские и украинцы. Афишировать нашу позицию мы не имеем права, поэтому объясните это своим близким друзьям…
– А, бей жидов, спасай Россию, – откликались особо понятливые.
– Я вам этого не говорил, – сурово предупреждал я зарывавшихся.
Большинство молча усваивали требования, и уходили, на ходу соображая, что и кому можно сказать и что сделать. Точно так же поступил и я в комитете института. Об отказах и, тем более, – возражениях, не было и речи.
На переменке меня схватил за пуговицу Лазарь Адамский и с тоской спросил:
– Коля, скажи мне, что, – есть указание евреев в комсомоле не избирать?
– Лазарь, я тебе ничего не могу сказать по этому вопросу, – неопределенно пожал я плечами. Конечно, у него осталась неясность, отчего я «ничего не мог сказать»: ничего нет, ничего не знаю, ничего не хочу говорить, ничего не могу говорить. Врать я не особенно умею, а правду сказать – не имел права.
Выборы на факультете прошли на удивление гладко и спокойно. Только на втором курсе в состав курсового бюро вошло 1 (одно) лицо «не основной национальности».
Тогда мной владели «смешанные чувства», как у человека, наблюдающего падение в пропасть тещи на его собственном автомобиле. С одной стороны: на моем участке фронта я неплохо выполнил порученную мне очень непростую работу. Сумма таких работ позволяла руководству страны (или кому?) прижать многоголовую и вездесущую гидру. Что гидра существует, – я теперь знал точно. С другой стороны: работа была довольно подлой и грязной по отношению к моим друзьям «не основной национальности»: бригадиру Веркштейну, учившему меня премудростям слесарного мастерства, верной Молке, таскавшей тяжелые ящики зерна с точным счетом, и, конечно, – по отношению к близкому другу, беззаветному трудяге и справедливому человеку Коле Леину… Каким все же надо быть осторожным, выбирая себе родителей!
В дальнейшей жизни у меня набралось много фактов и событий – хороших и плохих – общения и работы с людьми «не основной» национальности; хороших было гораздо больше. Вчера, во время работы над этими страницами, из Израиля нам позвонил мой друг Леня Лившиц. Мы оба были очень рады общению. Нерадостная весть: наша любимица Валерия сломала ногу и сейчас сидит в гипсе. Сколько же страданий выпало на долю этого талантливого человека! Нам всегда очень ее не хватает: на любой вопрос был ответ у этой полупарализованной девушки с энциклопедическими знаниями…
Наш хлеб – расплавленный металл
… в мире нет прекрасней красоты,
чем красота горячего металла!
(из песни, не попсовой)Мы в институте все больше изучаем наши основные сварочные дисциплины. Их неожиданно много: дуговая сварка, теория сварочных процессов, тепловые процессы, электросварочные машины и аппараты, автоматическая сварка, контактная сварка, сварные конструкции, газовая сварка и резка, контроль швов, пускорегулирующая аппаратура, проектирование сварочных цехов, организация производства. Почти все предметы сопровождаются лабораторными занятиями, курсовыми проектами и, конечно, практикой.
Лекции по дуговой сварке нам читает К. К. Хренов – громоздкий пожилой мужчина со слегка отрешенным взглядом светлых, слегка на выкате, глаз. Хренов – самый титулованный наш преподаватель: академик, лауреат Сталинской премии. Премию он получил в 1946 году за разработку подводной сварки и резки металлов, которая особенно нужна была в годы войны. Хренов по образованию – электрик, поэтому он нам читает также курс по источникам питания. Его речь по-профессорски округла и точна, но без всяких эмоций, что слегка убаюкивает тех, кому эти материи не очень интересны.
(Я уже слегка набил синяков и шишек на сварочной стезе, и мне все интересно. Почему, например, мой сварочный генератор на заводе самовольно менял плюс на минус и наоборот, что резко ухудшало качество сварки? Такое было ощущение, что ты разучился варить. В конце концов, тогда я понял, отчего ухудшается сварка, и просто менял местами клеммы кабелей. Теперь я понял, почему так происходит и как этого избежать проще).
Нам читают лекции и проводят практические занятия М. Н. Гапченко, М. М. Борт, Л. А. Бялоцкий, смешливый Жора Васильев (поэтому его отчество не запомнилось, – а читал он нам очень нужный курс пускорегулирующей аппаратуры).
Несомненно, самой колоритной и любимой личностью на факультете среди преподавателей был Дед – доцент Иван Петрович Трочун. Вскоре он стал деканом нашего факультета, сменив на этом посту Гапченко, уехавшего, кажется, к китайцам. Наш Дед внешне очень смахивал на хитроватого колхозного «дядька». Одевался он соответственно: например, галстук на нем казался совершенно чужеродным предметом, надетым по приказу свыше и глубоко чуждым своему носителю. Обширную лысину обрамлял венчик волос непонятного цвета. Поверх очков смотрели в упор глубоко посаженные темные глаза.
И. П. Трочун читает нам теорию сварочных напряжений и контактную сварку. Сварочные напряжения – самая тайная и глубокая наука нашей профессии, недоступная и непонятная дилетантам. Только ее понимание может предотвратить многие, кажущиеся непонятными, аварии и катастрофы. Примеры, приводимые лектором, наглядны и потрясающи, его пояснения – глубоки и понятны. Наш факультет потихоньку разворачивают на кораблестроение: именно там наибольшее количество сварки и аварий, связанных с ней.
Очень красноречивы примеры американских кораблей «Либерти», названных у нас позже лидерами типа «Ленинград». Широко применив сварку, американцы совершили подлинную революцию в судостроении. Цикл постройки судна водоизмещением 4600 тонн от закладки до выхода в море составлял всего 22 дня! Большинство грузов по лэнд-лизу Америка доставляла в СССР крупными конвоями судов «Либерти» в северные порты СССР в Баренцевом и Белом морях. Вскоре, кроме боевых потерь, «Либерти» стали нести непонятные технические потери: при полном штиле суда внезапно разламывались пополам и тонули, либо на корпусе появлялась огромная трещина от палубы до киля. Более поздние исследования объяснили причины этого явления: виновата была в первую очередь неправильная технология сварки, не учитывающая возникающих собственных напряжений! ИПТ наглядно показывал нам зарождение и влияние этих напряжений, избегая заумных формул, понятных только создателям – соискателям ученых степеней и званий…
Но главным отличием нашего Деда была его «внелекционная» речь, состоящая из коротких и рубленых предложений. По краткости и афористичности речи Дед намного превосходил прославленного позже златоуста Черномырдина.
Вот несколько запомнившихся пассажей нашего деда. При объяснении многоэтажной формулы по теплопередаче в металлах (многоэтажная формула изобиловала частными производными, всеми тригонометрическими функциями, логарифмами – натуральными и десятичными и занимала целую страницу книги). Самое интересное в том, что применяемые в этой супернаучной формуле коэффициенты были весьма произвольными и эмпирическими, что ставило под сомнение всю научную ценность расчетов по этой формуле. Дед поясняет формулу:
– Ну, прочитаете в книжке. Бумага все выдержит… Жулье от науки тоже хочет кушать…
При чтении лекции ему помешал шум: это Владик Крыськов что-то оживленно обсуждал с Мариной Георгиевской.
– Крыськов! Вы и ваша подруга. Пересядьте. Впрочем, – выйдите.
Крыськов и «подруга» молча покидают аудиторию: Дед не терпит пререканий. На переменке Владик подходит к деду:
– Иван Петрович, за что вы меня выгнали?
– Так оно, как говорится, здесь половину надо бы выгнать…
Рухнула где-то конструкция из-за грубой ошибки инженера. Мы разбираем этот случай на лекции. На недоуменный вопрос: «Как же так? Этот человек ведь КПИ окончил!», Дед философски отвечает:
– КПИ многие кончают…
Наш Дед особенно раскрывается в узком кругу «приближенных», точнее – тех, кому он доверяет. Это Юра Яворский, еще пару человек. Я тоже вхожу в число этих приближенных, уж не знаю почему. Дед берет журнал и начинает по алфавиту обзор «вверенного личного состава».
– «А..»… Ну, это, вообще, глупо-тупое животное. «В..», «С…»… Здоровые ребята, кулаком могут дверь вышибить, а дрожат… Чего дрожат? «Х» – готовая домохозяйка, но теперь с дипломом будет… Он ей нужен? «У» – хитрости больше, чем ума… «Z» – ну, этот проползет в любую щель, и мылом не надо намыливать…
Характеристики Деда при всей краткости – убийственно точны. «Нормальных» ребят и присутствующих Дед тактично обходит.
Наша «внеучебная» встреча с ИПТ произошла через несколько месяцев после окончания института. Под Новый 1955 год вечером в нашу комнату в общежитии на Стачек 67 заявляется Дед «в масштабе один к одному». В комнате проживает четыре человека, в том числе – Ю. Попов и я. Дед приехал в Ленинград, на какой-то семинар и оказался без жилища. Он смиренно просит нас предоставить ему таковое на одну ночь. Мы от радушия чуть не выскакиваем из своих штанов:
– Иван Петрович! Какие могут быть разговоры! Вот Павка уходит, его постель в вашем распоряжении! (Павка Смолев, техник с завода Жданова, будущий Главный строитель реконструкции крейсера «Аврора»).
Дед с достоинством принимает наше приглашение. Мы с Юркой выскакиваем в коридор на совещание: дорогого гостя надо достойно принять, но у нас хоть шаром покати. К концу месяца в общежитии ИТР судостроителей и занять не у кого: все свои получки растягивают максимум на первые полмесяца, затем «перебиваются». Дед по непонятным признакам мгновенно оценивает ситуацию и достает бумажник:
– Ну, молодому легче бегать…
Юрка без зазрения совести хватает четвертной и устремляется за хлебом насущным, в котором водка занимает изрядную долю. Через полчаса у нас пир горой. Мы рассказываем Деду о наших достижениях, он кратко повествует о возне в стане «жуликов от науки». Среди всех разговоров Дед смущенно признается:
– У меня здесь друг живет… можно было бы и у него переночевать, но он в командировке. Жена – одна – неудобно… Ей, конечно, 60 лет… Все равно – неудобно…
Подогретые халявной водкой, мы ржем от кажущейся нам чрезмерной щепетильности нашего Деда. В наши 20 с небольшим, мы твердо уверены, что после 50 лет мужиков и баб уже можно мыть в одной бане…
Следующее, увы, – последнее, наше свидание с Дедом прошло в 1965 году в Киеве на праздновании 10-летия нашего выпуска. Дед был грустным, болел, видно, предчувствовал близкий конец… С гордостью за нас и тихой завистью наблюдал он за нашим, все еще молодым, буйством…
Ассистент Л. А. Бялоцкий нам тоже что-то читал, уже и не упомню – что именно. Это был крупный упитанный мужчина с шапкой курчавых рыжеватых волос над красноватым лицом со светлыми навыкате глазами. У него что-то не заладилось с защитой диссертации, и он в гордом звании «ассистента» был допущен к преподаванию. Его лекции были весьма ординарными, скучными и не остались в памяти. Пишу о нем потому, что он был также секретарем факультетского партбюро, то есть, по умолчанию – моим непосредственным идейным вдохновителем и начальником как «генсека» факультетского комсомола. Руководил он мной так же вязко и пунктуально, ни на иоту не отступая от последней передовой «Правды». Когда он потребовал от меня «поднять уровень сознательности комсомольских масс» (такое требование на текущий момент было в передовой статье «Правды»), мне следовало верноподданнически закатить глаза и заявить примерно так:
– Да, конечно, Лев Александрович, – я тоже чувствую, что мы тут не дорабатываем, особенно в свете последних Решений Партии. Позвольте мне заглянуть к Вам для согласования плана мероприятий по данному вопросу, который мы хотим разработать на бюро…
Бялоцкий бы сыто рыгнул (делал он это с блеском) и милостиво разрешил бы аудиенцию, а я бы подшил в папку очередную глубоко бесполезную бумагу и успешно двигался бы вверх по партейно-служебной лестнице, уже теперь мог бы стать Сталинским стипендиатом, как «исполнительный», «преданный делу партии» и т. п. – человек. К сожалению, я человек очень не выдержанный, испытывающий постоянный цейтнот, к тому же – отягощенный подлинными заботами и проблемами своих избирателей. Я впадаю в холодную ярость и от идиотизма поставленной задачи, и от формы ее постановки.
– Куда и как ее поднять? – сдерживая эмоции, деловито задаю я «простенький» вопрос, предлагая тем самым «фюреру» самостоятельно составить план требуемых мероприятий. Ему это, конечно, не по зубам: он руководит «вообще». Бялоцкий осуждающе смотрит на меня и величественно удаляется: дескать, задача сформулирована и поставлена, теперь ее может выполнить любой дурак.
Трения постепенно нарастают из-за моего упрямства и нежелания играть в эти игры. На помощь Бялоцкому приходят другие члены партбюро; меня начинают «воспитывать». К концу четвертого курса комсомольское и партийное «бюры» на грани холодной войны. К счастью, меня «снимают» по другим причинам: на 5 курсе уже быть генсеком «не положено»: надо заниматься дипломным проектом.
Взгляд из партийного будущего. Несколько лет я был аполитичным и абсолютно счастливым человеком. Из комсомола я выбыл не то по возрасту, не то из-за неуплаты членских взносов, короче – незаметно. Затем меня, как передовика и орденоносца, настойчиво пригласили в КПСС, затем избрали в партбюро. История повторилась: я восстал при «партийных» пытках моего лучшего прапорщика, после чего был опять низвергнут до состояния «рядового». Последний раз меня «прорабатывали», когда я сдал партбилет, обвинив верхушку КПСС в развале великого государства – СССР, на укрепление могущества которого я потратил всю активную жизнь. Видать, по умолчанию – не могу я «колебаться вместе с линией партии»…
В овечьей шкуре
Вред или польза действия обусловливается совокупностью обстоятельств.
(К. П. № 2)В конце третьего курса ко мне обратился Миша Шовкопляс с «маленькой» просьбой: сдать физику на вступительном экзамене в Киевскую сельхозакадемию. Его односельчанин, друг и даже родственник, поступал туда на заочное отделение. Когда-то давно он окончил техникум пчеловодства, неплохо разбирался в сей, очень непростой, науке. Труба позвала его на повышение и потребовала высшего образования, во всяком случае – справки о пребывании в звании студента-заочника. По всем предметам он готовился, их более-менее знал, а вот по физике ожидал полного краха.
– Ну а сам-то, что? – спросил я.
Миша отшутился на тему: «Папа может, но бык – лучше». Миша воевал, все школьные науки у него выветрились давно, хотя благодаря трудолюбию и упорству в институте учился неплохо. «Врага уничтожить – большая заслуга, но друга спасти – это высшая честь». Конечно, я согласился: друг моего друга – мой друг. Начали договариваться о деталях. Фотографию Ивана Лавриненко на зачетной книжке, изготовленную сельским умельцем, без особой натяжки можно было признать моей, хотя Иван был на несколько лет старше. Вдохновенный труд сельского фотографа значительно упростил нашу задачу: мы не совершали уголовно наказуемого подлога важного документа.
С большим трудом я добыл учебник Фалеева и Перышкина (помню!) для средней школы, чтобы не вякнуть нечто, чего по молодости лет я еще не должен был знать. Кое-что прочел с интересом: почему-то этого я раньше не знал. Свое образование я завершил к назначенному сроку и, первым сдав свой экзамен, проехал весь Киев от Святошино до Голосеево, где встретился в условленном месте с Иваном. Он был расстроен: экзамен по физике перенесли на другой день, а сегодня его группа сдает химию.
– Может быть, ты сможешь сдать химию? – с робкой надеждой спросил Иван.
Химию мы уже закончили в предыдущем семестре, к химии я не готовился… Но я вспомнил о длинной обратной дороге с унылым чувством «не солоно хлебавшего» и решил рискнуть экзаменом Ивана:
– Может быть, – прорвемся! – успокоил я не столько Ивана, сколько себя. Иван наложил еще одно, очень тяжелое ограничение. Оказывается, среди преподавателей Академии был один, который лично знал всех Лавриненков, в том числе – Ивана, как облупленных.
– Какой он из себя? Как выглядит? – спросил я Ивана.
Из сбивчивых и противоречивых описаний я уловил только, что наш враг – «солидный». При его обнаружении, я должен был немедленно ретироваться, даже во время сдачи экзамена. Новая вводная не добавила мне оптимизма, но отступать было уже поздно, и, с благословения моего клиента, я отправился то ли в ад, то ли в чистилище.
Ад выглядел как большая аудитория с расположенными амфитеатром деревянными партами. Несколько человек были разбросаны по всему помещению и сосредоточенно грызли карандаши и морщили лбы, готовясь к ответу. За столом внизу у доски сидела усталая женщина, принимая экзамен. Я предъявил книжку, вытащил билет и направился готовиться.
Выбрал себе третий ряд вблизи от входных дверей, чтобы сразу улизнуть после появления врага. Рядом сидел и напряженно соображал кругленький человек средних лет в полувоенном френче, который как форму тогда носили «ответственные работники», хромовых сапогах и галифе, с побритой до синевы головой, которого я мысленно обозначил как директора совхоза. У него были какие-то шпаргалки, очевидно – чужие, так как он безуспешно их листал, пытаясь найти ответ на билетный вопрос.
Пробежал свой билет, вопросы показались несложными, кроме одного; реакция – обычная: окислительно-восстановительная. Написал краткие тезисы ответа и уравнение-реакцию. По «темному вопросу» я знал тоже все, кроме формулы суперфосфата. Решил за помощью обратиться к «директору совхоза»: уж он-то должен знать от чего произрастают булки.
– Формулу суперфосфата знаете?
– Сейчас найду, – откликнулся «директор» и озабоченно начал шебаршить шпаргалками. Вскоре я понял, что он ничего не найдет.
– Ну, черт с формулой, – прошептал я. – Все остальное я знаю.
Последние слова явно заинтересовали моего соседа, и, свернув свои шпаргалки, он приник к неожиданному источнику информации.
– Что такое «амфотерность» знаешь?
Я знал. Объяснил, привел примеры, которые он радостно записывал. Разобрали потихоньку и другие вопросы. Исправил ему уравнение реакции: у него из обычных реактивов получалось соединение, тянувшее своей новизной на Нобелевскую премию. Сосед приободрился, моя помощь была весьма своевременной.
Сдача экзамена за столом у доски проходила очень медленно. Солидные ученики пороли такую чушь, что преподавательница, очень усталая и добросовестная женщина, просто задыхалась. Она пыталась навести их как-нибудь дополнительными вопросами, фактически – подсказками, на верный ответ. Однако семена ее подсказок попадали на слишком каменистую почву и не давали никаких всходов, что ее просто убивало.
Между тем дверь аудитории открылась. В образовавшуюся щель вплыл объемистый живот, за ним последовал «солидный мужчина». Я напрягся: не мой ли вражина? Но тут же, по мелким шагам к столу и заискивающей улыбке, определяю его как очередного «директора», сдающего химию и временно успокаиваюсь. Следующих входящих я уже определяю не по объему туловища, а по его наклону и размеру шагов, что быстрее и точнее.
Подходит очередь моего соседа. Он просит меня пойти первым, чтобы еще подумать. Отправляюсь к усталой преподавательнице: долго сидеть мне опасно. Коротко отвечаю на первый вопрос. Следует дополнительный. Отвечаю так же коротко. Доходит до фосфора, в том числе и суперфосфатов. Отвечаю так же скупо.
– Какие кислоты образует фосфор?
Называю и пишу формулы. Экзаменаторша просто оживляется, усталые глаза загораются радостью. Дополнительные вопросы она теперь задает не из желания что-то подсказать: ей просто приятно общаться с человеком, который понимает ее химию.
– Для чего нужны фосфаты? Из чего производят суперфосфат? Где в СССР есть месторождения апатитов?
Добираемся до реакции. Она просматривает уравнение: оно верно.
– А если вместо этого взять вот такое соединение?
– Реакция не пойдет: у нас два окислителя.
Еще несколько вопросов и ответов. Совершенно счастливая женщина выводит на моем экзаменационном листе жирное «отлично». Я тоже счастлив, забираю лист, прощаюсь и бодро выхожу из аудитории. В коридоре из-за угла на меня бросается заждавшийся Иван.
– Ну, как? – с робкой надеждой спрашивает он.
– Отлично, – с гордостью заявляю я.
– Нет, какая оценка?
– Я же говорю – отлично, – передаю Ивану экзаменационный лист. Иван вглядывается в оценку на бумаге со своей фотографией; его лицо вытягивается и бледнеет.
– Ты что наделал? – трагическим голосом спрашивает он. Я смотрю на него с немым вопросом, не понимая.
– Здесь из сотни сдававших только две четверки, десятка полтора троек, остальные – двойки!!! Теперь вот – одна пятерка…Мной же заинтересуются!!!
До меня начинает доходить весь ужас содеянного и невозможность пересдачи на другую оценку. Оправдываюсь: откуда мне было знать, что директора и главные агрономы так плохо знают химию? В конце начинаю утешать Ивана: ну, приналяжешь и выучишь, в конце концов, эту химию, – не так уж много должны знать школьники. Иван уныло качает головой: ему теперь химию придется изучать самостоятельно и очень хорошо изучать…
После двух экзаменов и броска через весь Киев я проголодался, и Иван кормит меня комплексным обедом в студенческой столовой. Продолжаем разговор. Основного дела то я не сделал: физики не сдал. Договариваемся о следующей сдаче. Иван с опаской глядит на меня:
– И не вздумай получить больше четверки!
Я виновато, но твердо обещаю исправиться.
В назначенный день Иван ведет меня к физическому кабинету, где поступающие сдают физику. Там уже огромная очередь. Скромно стаю в нее последним. Ко мне подкатывается мой единственный знакомый «директор», с которым мы вместе сдавали химию.
– Физику знаешь?
Я молча показываю большой палец. Директор берет меня за руку и бесцеремонно раздвигает животом очередь.
– Лавриненко идет со мной, – небрежно объясняет он недовольным.
Вскоре мы оказываемся в кабинете и берем билеты. Экзамен принимают двое: суровый мужик и симпатичная молодая женщина. Перед женщиной сидит сельский атлет с выпирающими буграми мышц и красным от непривычных умственных усилий лицом. Вслушиваюсь в их разговор, длящийся уже довольно долго.
– Вот вы взяли стол и передвинули его на другое место. Какое действие вы совершили?
– Ну, я приложил… напряжение!!! – выдавливает из себя Геркулес, краснея еще больше. Женщина представляет себе это «напряжение» и снисходительно поправляет:
– Вы приложили не напряжение, а силу… Ну, вот вы этой силой передвинули стол на какое-то расстояние. Какое действие вы совершили?
– Я совершил… напряжение! – силач явно зациклился на научном слове «напряжение», другие слова он начисто забыл.
Женщина какое-то время отдыхает, но, уразумев, что из «напряженной» колеи ее ведомый самостоятельно не выберется, устало говорит:
– Передвинув стол, вы совершили ра-бо-ту!
– Ну!!! Конечно!!! – Геркулес восторженно вскакивает с явным намерением немедленно совершить это действо со всеми столами аудитории, чтобы показать, насколько ему стало понятным определение «работы».
Экзамен продолжается. Смотрю на своего подшефного директора. Кажется он в нокдауне.
– Что такое земной магнетизм? – сдавленным шепотом вопрошает он меня. Объясняю таким же шепотом. Вижу – не понимает. Говорю ему:
– Записывай, там – просто прочтешь!
Диктую ему в формате Детской энциклопедии «Хочу все знать» ответы на все вопросы его билета. Директор, к счастью, пишет быстро. Имея все ответы по билету, он смог оценить окружающую обстановку и даже характер экзаменаторов:
– Пойдешь к мужику! – он бесцеремонно навязывает мне свою волю.
Я согласно киваю и выхожу к месту казни, – «к мужику». Запинаясь и спотыкаясь, но довольно внятно отвечаю на первый вопрос билета. С такой речью пятерки мне не видать как своих ушей. Перехожу ко второму вопросу и начинаю ощущать зияющий пробел в своей подготовке: я не знаю, должны ли знать школьники понятие «вектор». Если нет, а я его произнесу, то Иваном Лавриненко действительно заинтересуются. Начинаю петлять, безбожно эксплуатируя золотые слова «ну», «вот» и другие, а также паузы.
– Ну… сила – это… она имеет… это… направление. (На этом месте вообще глохну).
– Что еще имеет сила, кроме направления? – неприязненно смотрит на меня «мужик».
– Ну… это… Кроме направления? Ну, что еще?… А… ну, это… величину, вот…
– И как все вместе это называется?
– Сила… имеет… это… величину и … как его… направление – тоже.
«Мужик» начинает звереть:
– Ну, сила! Ну, имеет! Ну – величину! Ну – направление! Ну – и как это все вместе называется???
Экзаменатор уже заразился моей лексикой и сейчас мне воткнет тройку или вообще «погонит». Выпаливаю:
– Сила является вектором: она имеет величину и направление.
Экзаменатор удовлетворенно кивает и продолжает кивать дальше. «Опять иду на пятерку», – думаю я про себя и начинаю снова блеять и спотыкаться на ровном месте. Впервые в жизни я играю с экзаменатором как кот с мышкой, которая думает, что именно она является котом. В результате – получаю искомую «четверку».
Иван встречает меня. Теперь он очень доволен, и мы отправляемся в студенческую столовую кормиться за его счет. Стаем в хвост длинной очереди. Обнаружилось, что после сдачи двух экзаменов я успел стать популярным. Ко мне подходят «директора» и «главные агрономы»:
– Ну, ты молодец, Лавриненко, поздравляем!
Я принимаю поздравления, Иван смущенно согнул шею в очереди впереди меня. Вдруг меня пронзает током: на несколько человек перед нами в очереди скромно стоит директор Деребчинского сахарного завода Кравченко, который знает меня, «как облупленного». У него красавица дочка Галя; вокруг нее на каникулах вьется вся деребчинская студенческая тусовка. Папа охотно принимает и знает всех студентов: кто, где и как учится. Стоит ему повернуться, и он очень удивится моей новой фамилии и амплуа. Я хватаю руку Ивана и насильно вытягиваю его из очереди. Мы быстро уходим, не оборачиваясь, под удивленными взглядами моих новых друзей-товарищей. Только на улице Иван начинает понимать, какой опасности мы избежали. Уезжаю, не солоно хлебавши: другие пищеварительные учреждения в Голосеево нам не ведомы. Дальше Иван должен сдавать сам. Он обещает после поступления прийти к нам в общежитие, чтобы отпраздновать это событие. Но я вскоре уехал на практику и Ивана больше не видел. Ау, Лавриненко! За тобой комплексный обед: первое, второе и – это обязательно – компот!!!
Технические нестыковочки на стыках
И при железных дорогах лучше сохранять двуколку.
(К. П. № 144)После третьего курса у нас первая производственная практика по основной сварочной специальности. Теоретически мы должны вникнуть, интересоваться, работать над собой и над материалом. Практически: после всех наук надо отдохнуть, оглядеться, собраться с силами.
Несколько человек из нашей и параллельной группы на практику направлены на киевский завод «Ленинская кузница», в просторечии – «Ленкузня», или еще проще – «Кузня». Это старинный заводик, который тогда выпускал речные буксиры, баржи, небольшие речные же танкеры. Завод располагался совсем рядом с Днепром, лето было жаркое, и наша небольшая группа рассчитывала неплохо позагорать и отдохнуть за счет совмещения приятного с полезным. Однако вскоре мы оказались вблизи некоего технического Бермудского треугольника, который значительно сократил наши пляжные намерения
«Вверенный нашему развлечению» завод тогда имел особый статус негласного полигона патоновского Института Электросварки. Именно на этом «придворном» заводе отрабатывались в производственных условиях новые сварочные автоматы, технология, оснастка и изделия, особенно – листовые конструкции больших размеров. Корпуса танкеров и барж состоят фактически из больших сварных листов, на которые уже потом привариваются профили продольного и поперечного наборов, придающих прочность и жесткость всей конструкции. Еще большее значение сварка полотнищ из листов имеет для строительства огромных резервуаров и газгольдеров. Чтобы понять это, надо слегка углубиться в историю.
Резервуаров всегда требуется огромное количество, особенно для хранения нефти и ее производных. Строились резервуары всегда долго и трудно, даже после того как старинная клепка была заменена быстрой сваркой. Аварии первых сварных резервуаров, вызванных непониманием внутренних напряжений, неизбежно появляющихся при сварке, – это особая тема. К нашему времени конструкция резервуаров и технология сварки в основном уже была отработана. По классической технологии днище резервуара – стальной «кружок» диаметром 10–20 метров – сваривалось из отдельных листов на клетях, чтобы можно было подобраться снизу к сварочным швам: это нужно было для их контроля на плотность (непроницаемость). Листы сваривались внахлест, когда кромка одного листа ложилась на край другого. Только в зоне примыкания днища с будущей стенкой (уторный шов) вырезались «замки», и листы днища сваривались встык, чтобы образовать ровную поверхность, без уступов, возникающих в нахлесточных соединениях. Технология (особенно – последовательность сварки) была очень строгая. Если она нарушалась, то днище готового резервуара «вздыбливалось» буграми (т. н. хлопунами) высотой до 2 метров(!), что зачастую делало невозможным эксплуатацию резервуара.
Сваренное и проверенное на плотность днище опускалось на основание, после чего приступали к сборке и сварке цилиндрического корпуса. Стальные листы, размером 6 х 1,5 метров, толщиной от 4 до 10 мм и весом до полутонны, изгибались на вальцах до кривизны цилиндра корпуса, подавались наверх и приваривались в нужном месте. Работа чрезвычайно трудоемкая и длительная, причем, обычно – в полевых условиях. Вот цифры, позволяющие представить ее объемы. Резервуар 5000 кубических метров («пятитысячник») имеет диаметр более 20 метров, высоту – около 12 метров. Его металлоконструкции весят более 100 тонн; на их сварку требуется более 3500 кг высококачественных электродов и труд более 150 человеко-смен только дипломированных сварщиков. Трудозатраты монтажников и других рабочих будут почти на порядок больше: их задерживает также медленная сварка и ее контроль. Поскольку работы ведутся под открытым небом, в любую погоду и время года, то длительность работ еще увеличивается, а качество – снижается.
В Институте электросварки была разработана идея переноса основных объемов сварки в заводские условия. При этом сварка выполнялась автоматами – быстро и высококачественно. Изготовлялись большие полотнища, которые как лист бумаги сворачивались в рулоны. Вес и габариты рулонов ограничивались только условиями транспортировки. На монтаже рулоны днища (два или три) разворачивали и сваривали вместе. Рулон корпуса поднимался на днище «на попа» и разворачивался с одновременной сваркой уторного шва, т. е приваривался к днищу. Оставалось заварить вертикальный замыкающий шов, и корпус был готов к установке крыши и всяких прибамбасов: люков, лестниц, дыхательной арматуры, противопожарных систем и др.
Так вот: чтобы позволить автоматам (сварочным тракторам) сваривать полотнища, на нашем заводе был установлен стенд потрясающих размеров и конструкции. На его площади вплотную друг к другу укладывались десятки листов, образуя страницу «в клеточку». Включались мощные электромагниты, и кромки листов намертво «прилипали» к стенду. Подавался сжатый воздух, и флюс поджимался снизу к свариваемым кромкам. Наступала очередь автоматов – сварочных тракторов. Четырехколесное чудо двигалось по стыку, насыпая впереди себя валик зернистого флюса. Проволока, подающаяся с кассеты на тракторе, где-то в толще флюсового валика, потрескивая мощной невидимой дугой, намертво соединяла кромки двух листов. Сзади трактора раструб отсоса собирал флюс опять в бункер; на шве оставалась только быстро темнеющая корочка расплавленного шлака. После сварки поперечных швов, автомат сваривал продольные. Отключались электромагниты и сжатый воздух, остывшая шлаковая корка легко скалывалась, обнажая ровную блестящую выпуклость сварного шва. Точно такая же выпуклость была снизу: ведь там был тоже флюс, поджатый снизу воздушным шлангом. К краю полотнища подсоединялись захваты, и идеально ровное полотнище с прямоугольной сеткой блестящих швов наматывалось на огромный барабан, готовый к отправке на монтаж.
Такую картину видели создатели стенда, и такой она могла бы быть, если бы… Наша группа участвовала в наладке и испытаниях стенда. Эта работа затянула нас, как игра – картежника, жаждущего выигрыша, как жаждущих в пустыне – мираж оазиса. Всему виной была несовместимость допусков по ГОСТу на размеры листов и допусков, требуемых для автоматической сварки.
Выкладывая листы на стенде надо было получить зазоры 2±0,5 мм между любыми кромками – продольными и поперечными. Это значит, что надо было иметь стальные листы с допусками на размеры в два раза меньшими, то есть – всего ± 0,25 мм. ГОСТ же допускал разброс ширины листов ± 5 мм (!), а по длине листа – вообще ± 20 мм! Но и это еще не все: когда мы с трудом подобрали несколько относительно одинаковых по размерам листов, то узнали еще об одном понятии: о ненормируемой «серповидности». Два рядом лежащих листа придвинуты друг к другу без зазора. Увы, «без зазора» получается только по краям листов. Посредине же между кромками зияет зазор около 20 мм! И это на «качественном прокате» из спокойной стали, которая применяется для резервуаров…
Вместе с рабочими и мастерами завода мы тщательно измеряем листы, чтобы найти хотя бы 4 одинаковых по размерам и без серповидности. Кое-что подгоняем шлифмашинками. Устанавливаем на стенд и свариваем желанное полотнище, увы, только из четырех листов. На нашем полотнище ярко блестит сварной шов в виде креста. Им можно было бы обозначить и наши рухнувшие надежды…
Нет худа без добра. Мы получили уроки: а) не все можется, что хочется; б) от малых причин бывают весьма важные последствия; в) прежде чем бухать в колокола, загляни в святцы. Разочаровавшись в передовых технологиях, мы с усердием приступили к отдыху на Днепре: там-то было все в порядке.
Горестный взгляд из будущего, и не только на технику. Блестящая идея сворачивания сваренных на стенде полотнищ в рулоны – не умерла, а только трансформировалась, пойдя на поводу несовершенной технологии прокатчиков металла. Листы в полотнища стали варить внахлест, устранив этим безобразием безобразия металлургов. Дело в том, что нахлесточное соединение листов всегда хуже стыкового: оно слабее почти на 40 %, ведет к перерасходу металла, повышает жесткость конструкции в рулоне, создает трудности при сборке. Однако преимущества автоматической сварки в условиях цеха с лихвой перекрывают эти недостатки.
В начале 60-х годов на специально изобретенном и изготовленном стенде я сваривал полотнища из листов нержавеющей стали. Это было нужно для монтажа рядом расположенных ответственных резервуаров: в них хранились жидкие радиоактивные отходы высокой концентрации. Требования к качеству сварки были очень высокие: 50 % швов просвечивались. Мы сваривали листы встык по длинной стороне автоматом (трактором) под слоем флюса. Листы нержавейки короче «черных», допуски на размеры – жестче. О пагубной серповидности и речи не могло быть. Наш трактор «пахал как часы». Брака и исправлений у нас не было, хотя наш стенд был не таким шикарным, как на «Кузне».
Что касается точности изделий, то эта наша беда, увы, не изжита до сих пор, на чем страна несет неисчислимые потери. Из-за разброса характеристик элементов страдает и хромает вся наша техника: автомобили и электроника, сварка и строительство, – практически нет отраслей техники, где точность была бы избыточной. Поэтому мы предпочитаем иностранные автомобили и приемники. Даже этот текст набирается на компьютере, изготовленном где-то на Тайване…
Речь идет не только о точности размеров: имеется в виду точность соблюдения технологии. В сварке, например, точность изготовления электродов, самого массового изделия, значительно и напрямую влияет на качество и надежность самой распространенной ручной сварки. Дело в том, что обмазка электродов – сложная шлаковая система, количество компонентов которой доходит до нескольких десятков. Нарушение точности их дозировки или тонкости помола изменяет физические и химические свойства шлака, защищающего и легирующего металл шва. Обязательно что-нибудь ухудшается, часто – непоправимо. Ширина допусков на легирующие элементы в нержавеющих электродах, например, может безнадежно загубить конструкцию, изменив количество ферритной фазы в металле шва. Неточность и износ скоростных прессов, на которых изготовляются электроды, приводит к нарушению концентричности обмазки, что в ряде случаев вообще делает невозможной качественную сварку. (На профессиональном жаргоне – электроды «козыряют». Точнее, наверное, был бы иной карточный термин, типа «садятся на мизере» или «залезают на горку». Конечно, сварщики имеют в виду не козыри, а козырек).
Если посмотреть на наши электрические и электронные схемы, то почти всегда можно увидеть подстроечные резисторы, конденсаторы и т. п. Это означает, что разброс параметров элементов настолько велик, что только их компенсация может обеспечить работу конкретного изделия.
Вот еще один пример из несколько другой области. Новенький трехкулачковый токарный патрон проворачивался с большим трудом, что не позволяло его использовать. Пришлось разобрать его «до ниточки». Все размеры были правильные. Движению мешали незаметные заусенцы выдавленного металла, которые образуются при слишком большой скорости резания или при работе тупыми резцом или фрезой. С горечью вспоминаешь, что импортные изделия, даже менее ответственные, не требуют ручной доводки: они изготовлены с недоступной нам точностью и чистотой… А ведь в сложных технических системах – самолетах, автомобилях и т п., работоспособность зависит от качества и точности деталей.
Отдельно нужно сказать еще об одной «неточности» – об отношении к природе и окружающей среде. Мы научились потихоньку жить на помойке – среди гор мусора, битых бутылок, выброшенных покрышек, холодильников и автомобилей. Леса беспощадно вырубаются, в оставшихся, вместо грибов, рассыпаны стойбища вандалов с остатками костров, изувеченными деревьями и горами мусора, обильно политыми отработанным машинным маслом.
Увы, все эти «неточности» и мерзости оказываются следствием человеческого фактора: разгильдяйства и безответственности каждого жителя нашей великой страны.
В конечном итоге – это все безобразие становится стилем нашей жизни во всем – от думских законов до поведения отдельно взятого бомжа. За сверхдержаву обидно…
Не знаю, сколько нужно времени, смен поколений, катаклизмов и потрясений, чтобы в нашем государстве изменился этот стиль. Очень хочется надеяться, что это произойдет до прохода через предельную точку, после которой возвращение стает невозможным…
Рука судьбы
Иные настойчиво утверждают, что жизнь каждого записана в книге бытия
(К. П. № 148)Не прибегай к щекотке, желая развеселить знакомую, – иная назовет тебя за это невежей
(К. П. № 69)Практика на нашей «Кузне» уже подходила к концу. Разуверившись в возможностях отечественного листопрокатного производства, мы компенсировали технические неприятности близостью завода к Днепру и начали славно проводить время на его берегу: купались, плавали и загорали, отметив на проходной свое прибытие. Начальство смотрело сквозь пальцы на наши художества: мы пытались, но не смогли решить проблему, имеющую всесоюзное значение.
В разгаре такой «практики» я вспомнил, что не отчитался по комсомольским взносам и выкроил время для посещения Комитета в институте. Решил там быстренько все вопросы и, пробираясь через толпы абитуриентов, направился к парадному входу в Главном корпусе. Прямо в вестибюле у меня глаза округлились от неожиданности: в институт входила моя знакомая деребчинско-винницкая малявка, с которой мы так резко расстались год назад на мосту в Виннице. Из первых слов выяснилось, что она в Киеве находится с экскурсией школьников, а сюда пришла, чтобы встретиться со мной. О моем местонахождении она знала только то, что я учусь в Политехническом. Сюда она и пришла, совсем не представляя, что в КПИ учится свыше 10 тысяч студентов, большинство из которых, в том числе я, сейчас находятся на практике в разных местах Советского Союза.
Если бы дитя знало все это и могло вычислить вероятность нашей встречи, оно никогда бы не явилось просто так в институт. У меня также была ничтожная вероятность оказаться у главного входа в институт именно в эти считанные секунды! Буквально несколько мгновений раньше-позже, и мы прошли бы мимо друг друга, не встретившись. Не иначе: это была Рука Самой Судьбы.
Малявка за прошедший год выросла и еще больше похорошела. Яркая блузочка, запахнутая на высокой груди, оставляла открытыми руки, тронутые легким загаром. Из темной юбочки, обтянутой вокруг узкой талии, вырастали полные и стройные ножки в легких босоножках. На смугловатом матовом лице с классически правильным носиком все те же удивительные, широко распахнутые глаза.
Я забыл обо всех размолвках и несовершенстве характера этой малявки, о практике, о Днепре, где меня ждали ребята. Мы взялись за руки и пошли бродить по цветущему Киеву, как будто расстались только вчера. Не помню, о чем мы говорили. Обо всем. О парках Киева и его домах, о цветах, о Деребчине, о том, что трамвай пойдет по синусоиде, если в провода подать переменный ток. Шутили, смеялись. Мы были счастливы, на мою спутницу оглядывались многие: она была удивительно хороша в расцвете юности…
Внезапно все изменилось. Такие резкие изменения я позже встречал в погоде на Новой Земле. Среди яркого солнечного дня вдруг темнеет, налетает свирепый снежный заряд, яростные порывы ветра могут свалить с ног. В снежной круговерти ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Моя малышка стала колючей и неприветливой, захотела немедленно прекратить наше свидание, заторопилась в общежитие университета, где остановилась их экскурсия. Никакие мои увещевания, что времени у нас еще очень много, на нее не действовали. Недоумевая, я проводил ее в общежитие; вскоре мы расстались.
Перебирая детали нашей встречи, я ломал голову, пытаясь найти причину, которая могла бы вызвать такие резкие изменения в нашей счастливой встрече. Прежде всего, я обвинял себя, искал какой-нибудь своей промашки или неосторожных слов, которые могли так глубоко уязвить мою спутницу. Ничего предосудительного я как будто не сделал. Запутавшись в бесплодных поисках несчастливых деталей в счастливом потоке, я чертыхнулся, вспомнил свое прежнее «связался черт с младенцем» и постарался обо всем забыть, окунувшись в привычную колею бытия. Надо было уже сочинять отчет о практике, в котором предстояло отразить непростые вопросы.
Причину, прервавшую наше счастливое свидание, я узнал гораздо позже. Между тем, виноват был все же я. Мне не хватило наблюдательности и знания людей, чтобы понять и предотвратить эту смехотворную причину. Самое забавное то, что, не зная этой будущей причины, я уже пытался ее устранить, так сказать, – превентивно. Проходя возле общественного туалета («перестройка» была далеко, и туалеты еще не преобразовали в закусочные), я мимоходом спросил свою милую спутницу: «Не надо?». Малышка окинула меня высокомерным взглядом, как будто я заподозрил ее в нехороших поступках… Ну, что стоило мне быть повнимательнее и понастойчивее? Просто я не мог понять настоящую, ну совсем настоящую, но еще такую юную девочку…
В одной украинской народной песне есть такие слова: «… не бачила миленького чотири годочки…». А когда увидела, то «не посміла сказать «здравствуй», бо мати стояла…». Современные отвязные девицы, которые чуть ли не с детсадика носят с собой презервативы и знают толк в их применении, сочтут такое поведение «зажатостью», «комплексами». И сам не знаю, почему мне, продвинутому и циничному деду, до сих пор милее эти комплексы…
Встретились мы с Эммой только через год, в 1953 году, в Деребчине. Я вернулся из практики в Горьком, где на знаменитом Сормовском заводе мы сваривали корпуса подводных лодок, надеюсь написать еще об этом. К тому времени я уже был опытным сварщиком и сразу же пошел на завод зарабатывать. Моя смена была с шести утра до 14 часов. Жарища стояла неимоверная, из-под маски горячий пот с шипением охлаждал металл сварного шва. Под своими брезентовыми доспехами я к 14 часам обезвоживался до состояния воблы. По пути домой я смывал с себя грязь и пот в пруду, затем в буфете, который держал Янкель, вливал в обезвоженный организм кружку пива. Дома переодевался и спешил на свидание обратно на завод. Бродили мы вдвоем по вечернему и ночному Деребчину и по парку. Смотреть, кроме луны, было особенно не на что, но нам было хорошо вдвоем. Я разливался соловьем, пересказывая сюжеты фантастики Уэллса, которым тогда был увлечен. Моя спутница внимательно слушала, с округлившимися глазами, положив мою руку себе на поясницу, – конечно, чтобы не замерзла спина. Прощались мы как юные пионеры – за ручку на крыльце у тети Ядзи. Возвращался я домой уже во втором часу ночи. Где-то около четырех наглый будильник поднимал меня для новых трудовых подвигов, и все начиналось сначала.
Через неделю такой жизни в Деребчине наметилось большое культурное событие: спектакль, уже не помню, в чьей постановке. Весь молодежный бомонд с нетерпением ожидал этого события. Я же малодушно уклонился от культурного мероприятия: сидя в зале, я бы немедленно уснул. Эмма немного обиделась, но простила меня.
Тогда же я поближе познакомился с отцом Эммы – Федором Савельевичем, который приехал за ней на грузовике в Деребчин. Федор Савельевич – директор Брацлавского детдома – мощный, энергичный, широко щедрый, симпатичный мужик. Немного выдающийся живот большого любителя пива не портил его, а только придавал некую царственность фигуре и осанке. Славка Яковлев с округлившимися от уважения глазами рассказывал мне о ФС: «Он купил сразу целый ящик пива!!!». В соревнованиях по силе руки (кажется, это называется армрестлинг) ФС шутя всех «пережимал». Во мне он встретил достойного противника, и борьба велась с переменным успехом. Малявка очень «болела» и переживала на наших ристалищах: Кажется, она не знала точно, за кого ей следует болеть…
Очередное наше свидание состоялось уже традиционно через год. Встретились мы в 1954 году в Киеве. Я уже стал инженером и готовился отбыть на трудовой пост. Эмма окончила школу с медалью, перед ней были открыты двери любого вуза. Сначала был взят курс на юридический факультет университета, туда были поданы документы и уже «пройдено» собеседование с деканом (проректором?). В вестибюле некий юноша с горящими глазами, уже оканчивающий юрфак университета, пожалел цветущую юность моей спутницы и обратился к ней с пламенной речью:
– Девушка! Зачем вы сюда поступаете? Зачем вам, такой молодой и красивой, гробить свою жизнь, работая с отбросами общества, разными подонками? Это совсем не женская работа! Разве вы не можете стать врачом, педагогом, да кем угодно, только не «разгребателем» этой грязи???
Свои откровения юноша продолжил уже в сквере университета, где нас ожидал Федор Савельевич. Говорил он много, убежденно и со знанием дела. И ФС, и я были с ним вполне согласны. Эмма заколебалась. По-видимому, были и еще какие-то предостережения о вредности профессии юриста, исходящие от авторитетных людей из Брацлава.
Документы из университета были изъяты, Эмма с отцом отправились в сельхозакадемию в Голосеево, чтобы поступить туда на лесной факультет. Я по неотложной необходимости уехал к себе в институт.
Прощались мы уже вечером на Киевском вокзале. Прощание это получилось опять не совсем корректным, что ли. Мне показалось, что Эмма разговаривает с отцом капризно и грубо. Этот большой человек ее безмерно любил и во всем потакал, только уговаривая, как малого ребенка. Мне, выросшему без отца, это показалось несправедливым, и я на полном серьезе отчитал уже не бывшую малявку, а вполне взрослую девушку. Она – закусила губу. Так мы и расстались, казалось, – навсегда. Кажется, и сиреневый туман над тамбуром был в наличии…
Скрытый перелом
От малых причин бывают весьма важные последствия; так, отгрызение заусенца причинило моему знакомому рак.
(К. П. № 79)Окончив повествование о «девушках» в 1954 году, требуется вернуться к «самолетам» 1953 года. Я ведь пишу не дневник, а биографию, и мне удобно, кроме временнЫх, соблюдать некие тематические связи.
Весной 1953 года умер Сталин. Его смерть потрясла не только СССР, но и многих во всем мире. И теперь не могу равнодушно слушать «Грезы» Шумана: их тогда непрерывно передавали по радио. Многие, в том числе – я, плакали. Вся наша жизнь была связана с его именем. Совсем недавно кончилась Великая Война, с ее неисчислимыми жертвами и страданиями. Как обещал Сталин еще в 1941-м – мы победили. Выступлений Сталина по радио во время войны все ожидали, как голоса божьего: что говорил Сталин в своих коротких ясных речах, – всегда сбывалось. Только-только кончилась война, начала восставать из руин страна, налаживаться жизнь… Об этом времени по-пушкински емко скажет Владимир Высоцкий: «Было время – и цены снижали…». И вот – смерть. «Что же будет с Родиной и с нами?». Многие наши студенты уехали в Москву на похороны. Я не поехал только потому, что в это время болел жестокой ангиной с высокой температурой.
Вскоре всё, на наш малосведущий взгляд, возвращается в привычную колею. Ну, умер один человек, очень великий и суровый, но ведь – один. А мы, марксисты-ленинцы, знаем, что только массы движут историю… Из скупых газетных сообщений, за которыми мы не особенно следим, узнаем, что кого-то освободили, кого-то арестовали, но это там наверху. Идет «перетряхивание» Божественного Олимпа. Чуть позже узнаём, что такие большие люди как Молотов, Ворошилов, Каганович, – замышляли что-то нехорошее против Самой Партии. В СССР появляется человек с самой длинной фамилией – «Ипримкнувшийкнимшепилов». Расстрелян монстр Берия. На Украине арестован министр госбезопасности Мешик. Его родная племянница Нинель Мешик, скромная девчушка из химфака (?), жила в одной комнате с Полей Трахт, и мы хорошо знакомы. Она ходит убитая горем и замкнутая больше обычного. На всякие вопросы отвечает только: «Я ничего не знаю!». Мы тоже ничего не знаем, но с оптимизмом невежества считаем, что все будет хорошо…
После 19 съезда КПСС в 1952 году и последующего Пленума ЦК КПСС нам, непосвященным, были непонятны произошедшие изменения в высших органах нашей «руководящей и направляющей». Казалось: какая разница – Политбюро или Президиум ЦК? Сталин попросил отставку с поста Секретаря ЦК, оставаясь Главой государства в качестве Председателя Совета Министров СССР. Ничего ведь не менялось: Сталин был и оставался главой государства. Но высшие партийные бонзы все поняли, их обуял смертельный страх: Сталин «отставлял» партию не только от себя, но и от непосредственного командования жизнью страны. Весь многочисленный партийный аппарат, особенно разросшийся после войны, командовавший всем и ни за что не отвечавший, – оставался не у дел, отрывался от сладкой кормушки. Партии верили потому, что там был Сталин. Если по-настоящему выполнить старый лозунг «Вся власть Советам», то обнажается никчемность и паразитизм КПСС (конечно, я имею в виду только бюрократический аппарат «профессионалов» КПСС, а не рядовых трудящихся – коммунистов, которые беззаветно трудились у станков, на полях и полигонах).
Если бы Сталин осуществил задуманное, развитие СССР пошло бы по другому пути. Чтобы все оставалось по-прежнему, Сталин должен был умереть. И он умер. Как его умертвила партийная верхушка – имеются многочисленные исследования. Тогда «Партия» победила, законсервировав ситуацию в стране еще на десятилетия. Тем оглушительней стал взрыв СССР в конце 20 века…
Сейчас, только сейчас, – спустя полвека после тех событий, обнаруживаются скрытые факты, и начинаешь понимать их огромное влияние на судьбу страны. Именно тогда были посеяны семена сокрушительного распада Великой Державы. А ведь вся моя активная жизнь была посвящена укреплению этой Державы… Медленно вращаются колеса Истории, и быстро проходит человеческая жизнь…
Сормовские страдания
Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части
(К. П. № 109)Все это будет потом. Сейчас, весной 1953 года мы сдаем весеннюю сессию и готовимся отбыть на практику. Возникает вопрос экипировки. Студенческая мода тех времен была далека от изысков «от кутюрье». Ограниченная выбором материалов, она творила удивительные чудеса при скудных возможностях. Я уже писал о преобразовании скаток солдатских шинелей в шикарное полувоенное «пальто-шинель». В таком «прикиде» я щеголял десятый класс и первые два курса института, пока не перешел на длиннополые «настоящие» пальто из крашеного шинельного сукна. Мягкие пальто из ратина и аналогичных материалов имели заоблачные цены и были недоступны. Другое великое изобретение, заменявшее фрак, смокинг, пиджак, спортивную куртку и рубашку, – «бобочка». Это великое изобретение можно определить как шитая спортивная куртка. Обычно верхняя часть шилась из материала другого цвета, внутренние карманы были на молниях или пуговицах, рукава и пояс застегивались на пуговицах. Бобочку можно было надеть просто на майку, а можно – на рубашку с галстуком, слегка раскрыв молнию на груди. Имя изобретателя мне неизвестно; шил, совершенствовал, украшал и носил бобочки – весь народ. Мы, конечно, сами не шили. На киевской толкучке за весьма умеренную цену можно было купить бобочку любого размера, из любого материала, на любой вкус, – повседневную, выходную, парадную и универсальную, женскую и мужскую.
Неприкрытой народным интеллектом оставалась нижняя часть туловища: здесь нерушимую оборону держало изделие «мужские брюки», сложные в конструкции и эксплуатации. Невыносимый недостаток брюк, в частности, – потребность в глажке, т. е., – в утюгах, столах, тряпочках, электроэнергии и, главное – времени. Народная смекалка и мода в ответ родили еще одну новинку: шаровары. Пошитые из плотной ткани «чертова кожа» шаровары выполняли все функции брюк, но были лишены их недостатков. Новинка была настолько свежей, что даже киевская толкучка ее еще не освоила. Для летней практики мы посчитали сей предмет совершенно необходимым и решили заказать его в ателье самостоятельно. Приобрели ткани: черную «чертову кожу» и тонкий и прочный сатин для карманов. Резинки тоже были двух сортов: широкая для пояса, и узкая – для штанин. Со всем прикладом на четырех человек (Коля, Серега, я и Славка Щербаченко) отправились в ближайшее ателье. «Мы это не шьем», – разъяснили нам в ателье. Мы свернули разложенные было материалы и отправились в другое ателье. Там мы получили такой же отлуп. Двигаясь по разным ателье «индпошива» мы уже добрались до элитных ателье на Крещатике, но и там получали от ворот поворот.
– Ну почему не шьете? – теряли мы лицо. – Трусы вы можете пошить?
– Трусы – пожалуйста!
– Так это – те же трусы, только штанины длиннее! – жертвовали мы карманами.
– Нет, не можем, у нас на такое изделие и прейскурантов нет.
Измученные, потерявшие веру в человеческие возможности, мы забрели в маленькое ателье по ремонту одежды в узком переулке возле бывшего Евбаза (Еврейского базара), теперь – площади Победы. На наш унылый зов появился «товарищ» с портновским метром на плече. В ответ на вопрос, заданный уже без всякой надежды, он опустил очки, внимательно оглядел нас, затем окна на уровне тротуара и произнес:
– Это будет стоить каждому…, – он назвал сумму стоимости пошива двух брюк из шерстяной ткани.
– Ну почему …, – начал было торговлю Серега Бережницкий, уязвленный расценкой до глубины души.
– А когда вы можете сделать? – перебил его Коля, памятуя о скором отъезде.
– В пятницу вечером все будет готово, – после некоторых расчетов с шевелением губами и закатыванием глаз сообщил нам портной. – Задаток, половина денег – сейчас.
До пятницы оставалось три дня. Я оглядел унылый строй заказчиков. Положение было безвыходным. За мечту надо было платить дороже, чем мы рассчитывали.
– Хорошо, мы согласны, – взял на себя руль я.
Появился помощник. Нас быстренько обмерили, забрали материалы и деньги. Квитанции никакой не было: так сказать «бизнес на доверии». Мы смирились с потерями и уходили облегченно: все-таки проблему шаровар мы решили, хотя и дороговато. В пятницу мы подошли в ателье в прежнем составе, представляя себе фурор в общежитии, когда мы все появимся в черной чертовой коже. Нас ожидало глубокое разочарование: заказ не был готов, портной обещал его выполнить теперь только во вторник. Хотелось «рвать и метать», но, чтобы не нервировать нашего «благодетеля», мы молча удалились, только на улице начав прения о «бизнесе на доверии» и подпольных миллионерах.
Ко вторнику у меня созрел план, о котором я ничего не сказал ребятам, но собрал со всех деньги для расчета. Перед входом в ателье я провел короткий инструктаж.
– Никто из вас не должен произносить ни единого слова, разговаривать буду только я. Ваше дело – следовать в кильватерном строю, строго молчаливо. За мной идет Коля, замыкает строй – Славка.
Ребята удивленно посмотрели на меня, но молча повиновались. Дальше события разворачивались так. Вошли. Я, не здороваясь:
– Готово?
Он, оглядевшись, кивает утвердительно головой.
– Давайте!
Он, опять тревожно оглядываясь, откуда-то из под стола добывает сверток, разворачивает. На каждых шароварах приколота бумажка с именем заказчика и размерами, поэтому мы без труда находим свои, для гарантии прикладывая сбоку, проверяя размеры. Все совпадает, карманы вшиты, резинки вставлены. Только переглядываемся, никто не произносит ни слова. Обращаюсь к «благодетелю»:
– Остатки есть?
Он согласно кивает головой.
– Давайте.
Он приносит лоскуты, довольно крупные, и куски резинок. Все забираем. Я вежливо говорю: «Спасибо», поворачиваюсь и иду к выходу. Молчаливая команда строго в кильватерном строю следует за мной. Краем глаза вижу как портной снял и опять надел очки, почесал живот… Отойдя, по инерции – строем, метров 30, моя команда рассыпается и начинает ржать: ну, надули фраера. Я тоже веселюсь, но говорю ребятам:
– Мы его не надули. Мы заплатили за удлиненные трусы как за брюки? Заплатили! Квитанцию он дал? Не дал! Обещанный срок выдержал? Не выдержал! Так что эти деньги мы и не должны ему платить!
Доводы неопровержимые, наша совесть чиста, мы продолжаем веселиться. Я благодарю коллектив за твердое молчание, что решило успех операции. Коля Леин спрашивает меня:
– Ну, а если бы он сказал: «Деньги давайте»?
– У меня был заготовлен ответ: «Какие деньги? По нашей квитанции мы все уплатили»!
У нас появилась приличная сумма свободных денег. Закупаем яства, немного вина и славно обмываем обновку и прошедший недавно праздник из праздников – День Победы…
Воспоминания из будущего. Испытанный в Киеве психологический трюк «молчаливой угрозы», мне пришлось применить в Ленинграде спустя лет 10, чтобы отнять у жулика свои кровные. Мы с женой никак не могли обменять свои две комнаты на отдельную квартиру. Помочь взялся «черный маклер» Лев Борисович. Он в качестве аванса получил от нас 400 рублей, месяца два водил нас за нос, затем перестал отвечать на звонки и приходить на встречи. Случайно мы узнали, что он очень скоро собирается эмигрировать в Израиль, и что таких дурачков, как мы, у него уйма. Свои деньги, пока не поздно, надо было отнимать, если не силой, то – хитростью. Задуманная операция была почти копией киевской, с учетом местных условий.
Эмма жалобно, взволнованно и убедительно пропищала у дверей его квартиры на улице Жуковского:
– Лев Борисович, мне срочно надо Вам сообщить очень важные сведения!
Лев Борисович, после некоторого раздумья, застучал запорами и приоткрыл дверь. В щелку был немедленно вставлен ботинок 43 размера, и в квартиру строго молча вступили три мужика: Боря Мокров, Лева Мещеряков и я, – все в морской форме и при эполетах. Не спрашивая разрешения, молча уселись в гостиной. Я безразлично произнес только одно слово: «Деньги». Лев Борисович завертелся ужом. Он начал говорить, что уже близок к цели и вот-вот выдаст нам квартиру. Общество молча сидело, скучающе разглядывая обои. Я опять произнес: «Деньги». Лев Борисович начал клясться, что у него сейчас нет наличных: все в деле, что максимум, который он может наскрести сейчас – двести рублей. Я опять произнес: «Деньги. Все». Лев Борисович воздел руки к небу. Все молчали. Лев Борисович удалился в соседнюю комнату и вскоре передал мне деньги. Я тщательно пересчитал их: было ровно 400 рублей. Я молча поднялся, за мной остальные. Все двинулись к выходу. Лев Борисович дрожащими руками начал нам отодвигать запоры. Он бы на всю жизнь запомнил наш визит, если бы всю обедню не испортил очень вежливый Боря Мокров. Он всего лишь спросил:
– Лев Борисович, это у вас там телевизор импортный или самодельный?
Лев Борисович стряхнул с себя наваждение и начал подробно рассказывать Боре очень нужные сведения из жизни цветных телевизоров. Остальные, как дураки, молча ждали на лестничной площадке конца их беседы…
Сдав сессию за четвертый курс, мы едем на практику в город Горький на знаменитый Сормовский завод. Завод может изготовлять все на свете: суда, паровозы, танки и еще тысячу вещей. Сейчас, кроме прочего, он изготовляет подводные лодки, сваркой корпусов которых мы и должны заниматься.
Мы – это Юра Попов, Сева Троицкий, Юра Вахнин и я. Кроме командировок нам выдают непонятные бумажки. Это – допуск, едем на оборонное предприятие.
На заводе в Сормове нас «оформляют», выдают пропуска, кровати, матрацы, подушки, постельное белье. Загружаем добро в тележку и тащим его до указанного частного адреса. Наш хозяин – старый кадровый рабочий. В двухэтажном бревенчатом доме он проживает с многочисленным семейством и родней. Встречают нас радушно. В качестве жилья нам определяются большие сени (сейчас бы их назвали «холл») на втором этаже. Стены нашего «холла» – грубо отесанные бревна со слоями пакли в углублениях. Тем не менее – достаточно просторно и чисто. Мы монтируем свои кровати, на них с армейским шиком (спасибо старшинской науке в наших военных лагерях) укладываем матрацы и белоснежные простыни.
Хозяйские дочки-внучки и их подружки пялят глаза на молодых симпатичных «почти инженеров», которые приехали прямо из Киева. Мы исподтишка оглядываем их. В наших взглядах, кроме простого любопытства, – исследовательский интерес. В тот период вся страна распевала «Сормовскую лирическую», в которой «под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет». «В рубашке нарядной к своей ненаглядной пришел на свиданье хороший дружок», но подруга сурова и непреклонна: «и скажет: немало я книг прочитала, но нет еще книжки про нашу любовь!». После такого литературного «отлупа», конечно, «волнуется парень и хочет уйти, но девушек краше, чем в Сормове нашем, ему никогда и нигде не найти!» Очень нам хотелось изучить этот вопрос: насколько права песня в части красоты сормовских девушек.
Устроив жилье, мы пошли на разведку в город, собственно – пригородный район Горького. Нам он весьма понравился: зеленый городок, широкие тротуары, на которых росли деревья. Много разных магазинов. И по широким тротуарам двигались стайки девушек, одна другой краше! Завидев нашу шеренгу, они опускали глаза, и только вблизи поднимали их, мгновенно и любопытно осматривая только кого-нибудь одного, заранее примеченного. Уяснив их тактику, мы стали вести индивидуальные личные счета таких взглядов, назвав их «птичками». По количеству этих «птичек» вне конкуренции был Юрка Попов.
Поужинав за очень небольшие деньги в весьма приличной столовой, в отличном расположении духа, мы отправились на «лежбище». Провели еще беседу с радушными хозяевами, которые предложили чайку с домашними вареньями-печеньями, и, наконец, блаженно растянулись на своих чистеньких лежбищах, почти сразу погрузившись в крепкий сон.
Проснулся я через час от невыносимого жжения по всему телу. Непроизвольно почесавшись, я почувствовал на пальцах что-то липкое. Я сел на кровати, ничего не понимая. При тусклом свете уличного освещения, проходившего сквозь небольшое окно, я узрел, что вся наша команда сидит на своих кроватях. Зажгли свет. Явившаяся нам картина была впечатляющей: на наших белых простынях проворно сновали десятки, нет – сотни разнокалиберных тощих клопов. Некоторые уже лоснились от выпитой нашей крови и передвигались медленнее, часть из них, судя по кровавым следам, уже окончила жизнь под пальцами своих кормильцев. Такого количества голодных аборигенов я не видел ни до, ни после. Неизвестно было, как с ними бороться. После физического уничтожения самых больших и «нажравшихся», на белье оставались кровавые пятна; с отловленными без немедленной казни – неизвестно было, что делать. Сева Троицкий попробовал было обработать насекомых одеколоном, но, надушенные, они бегали еще быстрее. Давить пальцами было противно: мы еще не знали, что это, якобы, запах коньяка. В конце концов, стали применять малоэффективный способ: клопа кое-как сталкивали на пол и давили босой пяткой, если он проворно не успевал спрятаться в щель между досками пола.
Остаток ночи мы провели в неустанной борьбе. Утром хозяева слегка посмеялись над нашими заботами: то ли их свои насекомые не кусали, то ли они уже привыкли.
В свой первый рабочий день на заводе мы не столько внимали инструктажам по технике безопасности, сколько размышляли о грядущей ночи. Решили бороться с наглецами своим самым сильным оружием – интеллектом. На свалках были подобраны жестянки от использованных консервов, куда была залита вода. Каждую ножку каждой кровати мы поместили в жестянки с водой, тщательно подобрали простыни и одеяла, дабы устранить мосты «пол – кровать». Довольные своими умственными способностями, мы блаженно растянулись на кроватях, благодаря Всевышнего, что он не научил клопов плавать: водяной ров вокруг ножек кровати служил для них непреодолимой преградой.
Проснулись мы чуть позже, чем в первую ночь, но, увы, – опять от укусов насекомых. С недоумением просмотрели все ножки кроватей в банках, непреодолимые водные преграды были исправными. Мысль о сооружении клопами плавсредств для переправы через широкие рвы с водой – показалась фантастической. Сидеть в засаде они тоже не могли: железо наших кроватей совсем не напоминало уютного чрева троянского коня. Общество тяжко задумалось: как им удалось нас перехитрить?
– Они что, з-заразы, – летать умеют? – ударился в фантастику Юра Вахнин. Внезапно «заразы» необдуманно подкрепили эту фантастическую версию: на простыне возник из ничего плоский клоп и начал проворно улепетывать, почувствовав наши напряженные взгляды. Мы обратили очи вверх, и увидели на потолке еще нескольких зверей, изготовившихся к пикированию на наши лежбища. Нас атаковали с воздуха!!!
Напряженно запульсировала коллективная мысль «почти инженеров». Теперь для борьбы с коварными аборигенами решено было использовать большевистскую – другой не было, – прессу. Над кроватями из газет были сооружены двускатные крыши. Жаждущие нашей крови «парашютисты» попадали на крутой газетный склон и скатывались на пол вне желанной столовой: пламенное большевистское слово нас надежно защищало. На другой, нижней дороге, «пехотинцев» ожидали непреодолимые рвы с водой. Впервые всю ночь мы отдыхали, не будучи лакомым блюдом для ненасытных туземцев…
Огромный Сормовский завод нас поразил. В нашем основном цеху, изготовляющем прочные корпуса подводных лодок, работают циклопических размеров гильотины, вальцы, карусельные и другие станки. Гигантские обечайки свариваются встык на вращающихся стендах. Два-три кольца корпуса лодки медленно вращает стенд. Внизу сварочный трактор сваривает под флюсом внутренний шов стыка, сверху – наружный. На настоящем производстве работают только патоновские автоматы – трактора, – компактные, простые и надежные. Соблазнивший меня при поступлении в институт «электриковский» АДС-1000 красуется только в сварочной лаборатории: он тяжелый, громоздкий, ненадежный, с чрезвычайно сложной электрической схемой. Правда, его многочисленные приборы и регулировки хороши при исследовательских и наладочных работах по режимам сварки, но только в условиях лаборатории.
Могучие мостовые краны поднимают фрагменты корпуса, соединенные блестящими сварными швами и подают их на стапель, где производится сборка и насыщение лодки механизмами, трубопроводами, кабелями. Туда нам вход заказан: надо иметь специальные допуски. Мы задаемся вопросом: как вывезти такие махины из сухопутного города Горького? По кусочкам собираем – ответ, памятуя, что излишнее любопытство в таких вопросах наказуемо. Лодки грузят на специальные плоскодонные баржи – доки, по Волге такие баржи доходят до Каспийского моря, а по системе Беломорканала – на Балтику и Севера.
Взгляд из будущего. По современным меркам там изготовлялись относительно небольшие дизельные лодки времен Второй Мировой, что и позволяло перевозить их таким путем. Теперь лодки побольше, и строятся поближе к глубокой воде…
Вникаем в тонкости сварочного производства, добываем материалы для отчета о практике. Начинаем понимать, какая огромная подготовка требуется, прежде чем соединить детали сварным швом. В общем, – работаем.
Погода стоит жаркая, и мы все больше внимания уделяем Волге. У Сормова она хороша: не каждый решится переплыть. С финансами у нас туговато. Всерьез дебатируется вопрос: не пойти ли нам «попахать» на частных огородах за Волгой. Для начала безвозмездно обрабатываем картошку нашего хозяина: нас они принимают и подкармливают слегка, как родных. Однако приходит стипендия из института, и острота вопроса снимается. Бродим по старинной основной части Горького – Кунавино (или Канавино?). Любуемся мостами, Кремлем. В своем жилище, на заводе и на волжских плесах – везде мы уже свои люди, нам здесь нравится, у нас полно друзей и знакомых. По кому-то из нас сохнет очень рослое и очень молодое соседское дитя Венера Молочкова. Вечером она появляется у наших хозяев и молча и восторженно внимает нашим шуточкам и даже техническим разговорам. Она краснеет, но страшно довольна, когда ее в шутку кто-нибудь потискает и поцелует. Очень переживает, когда мы прогоняем ее домой, но исправно является на следующий вечер.
Все кончается, даже удачная практика. Прощаемся, уезжаем. У Попова в Москве высокопоставленный дядя, планируем задержаться на несколько дней в столице нашей Родины.
В Москве договариваемся о встрече через день у Киевского вокзала и расходимся по родственникам и знакомым. Я – с Юркой Поповым. Дядя нас принимает, наскоро объясняет, где что, и убегает. Из обрывков фраз и ранее увиденных афиш узнаем, что в Большом театре сегодня должна состояться премьера оперы Шапорина «Декабристы», на которой будет все правительство и ЦК, в том числе и Юркин высокопоставленный дядя.
Выходим в город, катаемся на метро, осматривая роскошные подземные станции, бродим пешком по центру, по Красной площади. На мавзолее надписи «ЛЕНИН – СТАЛИН». В мавзолее мы не были, кажется, он был закрыт. Собственно, я впервые рассматриваю Москву вблизи. Поражают громады высотных зданий. Среди людской толчеи чем-то неуловимым выделяются «ворошиловские демобилизованные»: из лагерей и тюрем выпущено огромное количество народа. Особенно много их возле железнодорожных вокзалов. Стоит показать свою «нездешность», засмотревшись на что-нибудь, как немедленно чувствуешь на себе оценивающий хищный взгляд нескольких праздных мужиков, стоящих вблизи. На тебя надвигается верзила в видавшей виды одежде и угрожающим тоном произносит короткую просьбу: «Дай рупь!!!». Если другой проситель заходит сзади, – молча отдаешь рубль, совсем не лишний. Несколько рублей затрачиваем на просмотр чуда техники – стереокино. На входе посетителям выдавались поляризованные очки, сидеть надо строго по оси стула, но впечатление от объемности картинки сильные.
Пересаживаемся с одного вида транспорта на другой, ходим, глазеем. Изредка перехватываем по пирожку, запивая газировкой. Москва просто мгновенно высасывает наши скромные сбережения.
К вечеру мы так устали, что еле добрались до роскошной, по нашим понятиям, дядиной квартиры. С премьерой что-то не заладилось, дядя был чем-то встревожен. Во всем воздухе разлита некая тревога и напряженность, которой мы тогда по глупости и по крайней усталости не придали значения. Только теперь из разных источников узнаешь подробно, какие важные для судеб Родины события происходили тогда в Москве…
Утром собираемся возле Киевского вокзала. Встретили еще одного нашего из мехфака. Недалеко от вокзала усаживаемся на высокую асфальтовую завалинку: до посадки на поезд еще несколько часов. Вскоре напротив нас усаживается пять «демобилизованных» в возрасте от двадцати до сорока лет. Сначала сверлят нас глазами, затем начинают разговор «за жизнь». Первый разговор ведется с Поповым. На его ногах шикарные туфли.
– Слышь, пацан, ты какой размер носишь? – хищно поглядывая на туфли, произносит самый наглый. На его ногах подобие кожаных галош, подвязанных шпагатом. – Тебя мозоли не мучают случаем? Давай махнемся: мои во какие просторные! – крутит он ногой. Его компания скалится гнилозубыми улыбочками и пододвигается к Попову.
– Не хочу я с вами связываться, – произносит Юра, поднимается и быстро уходит. Бегство Попова для компании было неожиданным, они с некоторым опозданием переключаются на остальных: одному нравится шерстяной свитер Вахнина, другому – мои многострадальные наручные часы. Компания окружает нас поплотнее, один заходит с тыла. Теперь нас четверо против пяти. В руках у нас ничего, кроме кулаков нет, у них, скорее всего, – есть ножи. Я разворачиваюсь так, чтобы не стоять спиной к зашедшему в тыл, напряженно соображая, кто нападет на нас первым. Силу своего удара я знаю, и должен им сразу «выключить» этого первого. С завалинки мы поднялись и стоим спиной друг к другу, заняв круговую оборону. Улыбочки у шпаны исчезли, теперь они ощупывают наш строй колючими глазами.
– Атас!!! Он ведет легавых! – вдруг завопил любитель шикарной обуви. Вся компания мгновенно сникла, быстро отступила и рассосалась в людской толчее привокзальной площади.
Мы перевели дух и начали глазами искать Попова и милиционеров (тогда они еще были не «ментами», а «легавыми»), которых он вел. Никого не было. Грабителей подвела их воровская мораль: они и представить себе не могли, что можно оставить товарищей просто так, спасая только одного себя…
Попов нас встретил уже возле вагона, с аппетитом потребляя мороженое.
– Я не хотел с ними связываться, – начал он оправдываться, глядя на нас невинными глазами, хотя ему никто ничего не говорил.
– М-мы это п-поняли, – пряча почему-то свои глаза, ответил ему вежливый Юра Вахнин…
Возвращаемся в Киев, сдаем отчеты по практике, решаем всякие дела по институту и общежитию. Тамила после своей практики уже дома, вместе с мамой ждут меня. Убываю в Деребчин, где родной завод тоже ждет-не дождется своего «летнего» сварщика. «Сварной» возвращается с радостью: «в дорогах, знаете ли, – поиздержался».
Деребчинские встречи конца лета 1953 года я уже успел описать в предыдущей главе: конечно, чтобы запутать противника.
Мото, фото и радио – трудящимся
Ты слышишь – радио поет,
большие рупора…
(довоенное стихотворение)Ностальгические охи, с головой, повернутой на 180 градусов. Лег – встал, лег – встал, – с Новым годом! Короток день у стариков. Ничего путного не успеваешь сделать: не хватает времени… С удивлением оглядываешься назад: какие длинные были дни раньше, как много в них помещалось!
Фотографию я начал осваивать еще в школе, когда Славка Яковлев добыл где-то ободранный старинный «Фотокор». Негативы на стеклянных пластинках сначала получались просто размазанными. Потом стало понятно, что надо пластину ставить эмульсией вперед, и наши картинки улучшились. Увеличителей и электричества не было. Мы приладились печатать фото тем же «Фотокором», который вставлялся в плотную штору окна. Рассеянный свет белого дня работал не хуже лампочки в увеличителе.
К началу института я уже кое-что понимал в диафрагмах, выдержках и номерах фотобумаги. Фотоаппараты ФЭД, Рефлекта и увеличители были чужими, все остальное – мое. Фото тех времен много, увы – не самого лучшего качества: не было ни условий, ни нормальных фотоматериалов, ни особого опыта. Обычно, из-за отсутствия фотокомнаты, работать приходилось ночью, когда все спали и было темно. Вместо глянцевателя многочисленные отпечатки (для всех друзей!) наклеивались на стекла окон, где сохли полдня; затем – отваливались, уже с глянцем… После жестокого краха парашютных съемок я почти забросил фотографию, но и раньше сделанные неумелые дилетантские фото напоминают о многом…
А еще были велосипед и мотоцикл, конечно, – не мои собственные. На велосипед я впервые сел в 14 лет. К маме на уроки математики приезжал наш деребчинский хулиган Женя Андропченко. В состав платы за учебу мама, по моему настоянию, включила прокат велосипеда в течение двух часов учения великовозрастного болвана. Езде на велосипеде учился я самостоятельно, падал – тоже. Сбоку от учебной дороги находился глубокий ров, заросший крапивой. Меня туда просто затягивало, причем, – независимо от направления движения. Садиться на велосипед я почему-то научился справа, хотя все садятся слева, где нет цепи…
Однажды я получил велосипед на целых два дня: владелец куда-то отбыл и милостиво разрешил мне аренду. В школе, где я гордо колесил, велосипед у меня выпросила на минутку Лида Клочко, дочка директора сахзавода. Кататься она, несомненно, умела, но умудрилась столкнуться с другой дурой на другом велосипеде. Переднее колесо моего велосипеда изогнулось в замысловатую фигуру. Это был полный крах, я был в отчаянии: в то время велосипед был большей ценностью, чем сейчас шестисотый Мерседес: их было несколько на все село, а купить было невозможно, даже если бы были деньги. Утешать меня стал Витя Вусинский: он где-то слышал, что восьмерки на велосипедных колесах можно исправить подтяжкой спиц. Колесо мы разобрали. Целый день непрерывных опытов и неудач медленно привел нас к мастерству: колесо стало как новое! А мы с Витей стали Главными по велосипедным восьмеркам! Спасибо тебе, дорогой друг! Пусть мое благодарное торсионное поле коснется тебя в другом мире (Витю скосил в расцвете лет туберкулез).
В институте я с завистью смотрел на мотоциклистов: они могли свободно перемещаться в пространстве. Мотоциклы были «каки» – К-125, «ижаки» – ИЖ-49 и тяжелые, с коляской – М-72. Особая роскошь – трофейные Цундапы, Харлеи и БМВ, недосягаемые для простых смертных.
Владька Крыськов – человек общительный и разговорчивый чрезвычайно. Он проживает на частной квартире, но ему никак не обойтись без общежития. Он днюет и ночует у нас. Владька – счастливый обладатель мотоцикла ИЖ-49 и может о нем и о поездках говорить бесконечно. Предмет наших подначек и шуток: от изнурительных «моторазговоров» в новогоднюю ночь от Владьки сбежала девушка, – весьма «фактурная» дочка директорши студенческой столовой.
После практики мы выделяем неделю на путешествие на его мотоцикле. Родители Владьки где-то за границей, и деваться в это время ему просто некуда. В мотоцикле, предмете вечных забот и усилий, очень растянулась цепь. Новой цепи нет: их выпущено ровно столько, сколько и мотоциклов. На толкучке находим только кусок цепи от иноземного Харлея. Цепь несколько шире, но шаг – одинаковый, и мы вставляем новый кусок на место самых изношенных звеньев старой цепи. Трогаемся в путь рано утром. Из наших карманов торчат бутылки с маслом – автолом. Бензином можно разжиться везде: на редких бензоколонках и у грузовиков, а вот маслом – почти нигде. Мотор наш двухтактный, и масло надо сразу добавлять в бензин.
К обеду добираемся до Радомышля Житомирской области. Здесь живет Серега Бережницкий. Находим его бунгало, он несказанно рад. Причащаемся, чем бог послал Сереге, запиваем не квасом: туземцы тоже понимают толк в самогоне. Ночуем. Утром, пока прощались – незаметно дотянули до обеда с «приемом на грудь». Выходим уже «по синусоиде», но мотоцикл бежит еще прямо. Блуждаем по Житомиру, по Бердичеву, в Винницу приезжаем затемно. Решаю ехать до Немирова, там есть поворот на Деребчин. В темноте проскакиваем поворот и теряем ориентацию. Села погружены в темноту: электричество – роскошь. Пытаемся поймать туземцев, чтобы выведать, где мы находимся. Однако, аборигены, попав в свет фары, быстро улепетывают. Доезжаем до указателя. Написано: «Брацлав». Здесь живет Эмма, но нас никто не ждет в темной ночи. Зато теперь мы знаем, где находимся. Гоним около 10 км назад, находим «поворотку», глубокой ночью прибываем в Деребчин. Мама и Тамила уже спали, однако нас встречают радостно, собирают на стол… Ложимся только под утро. Пару дней катаемся по Деребчину и окрестностям, встречаемся, в том числе, с Васей Стопой. У него уже масса вопросов к ученым сварщикам…
На обратной дороге в Киев нас ожидает неожиданность: на подъеме наш мотоцикл останавливается, хотя мотор ревет. Непонятно. Начинаем осмотр. Вместо задней ведомой звездочки у нас образовался шкив со слегка волнистой поверхностью. Это работа харлеевской вставки: у нее и растянутой старой цепи получился немного разный шаг, что и съело зубья звездочки. До Киева еще километров 50. Вести машину в руках – два дня пути. Тем более – вечереет, впереди ночь. Чешем репы. Пробуем натянуть цепь так, чтобы она работала как ремень. Немного тянет. Выкатываем мотоцикл на горку, заводим, очень медленно трогаемся. Машина разгоняется, и мы взлетаем на половину очередного подъема, прежде чем цепь начинает буксовать. Выталкиваем мотоцикл вручную на следующую горку и все начинаем сначала. В таких заботах проходит часа два. До Киева остается километров 10, но у нас новая неприятность: полностью сел аккумулятор, и мы можем завести мотор только на приличной скорости. Отрабатываем новую тактику. Теперь на вершине горки мы бежим рядом с мотоциклом, когда он заводится – вскакиваем на него. Несколько таких циклов, и мы въезжаем в Святошино – это уже почти Киев. Подъемов и спусков на шоссе почти нет, и нам, обессиленным, все труднее разгонять мотоцикл до «заводной» скорости. За километр от общежития кончается бензин. Мы тащим машину «за рога» с двух сторон, поднимаясь на горку. Последние 300 метров до общежития – спуск. Мы садимся на мотоцикл и в полной тишине подъезжаем к дому. Удивлению вахтера нет предела: он никогда не видел мотоциклов с такой тихой работой мотора…
Оглушенный сверхнагрузкой первых курсов, я было совсем забросил свое радиолюбительство, если не считать ущербного «радиОлыка», которым меня терзали азиатские товарищи. На четвертом курсе мы возвратились в свое родное подросшее и обновленное общежитие, которое стало теперь пятиэтажным. На каждом этаже появились большие открытые лоджии – веранды, на которых вечерами устраивались даже танцы. Теперь мы вшестером живем в комнате 101 на третьем этаже. Наши окна соседствуют с верандой, которая заказывает музыку непосредственно в наше окно. Кроме четверки сварщиков – Коли Леина, Сереги Бережницкого, Славы Щербаченко и меня – еще двое сосунков из механического факультета, которых мы опекаем и учим уму-разуму.
Слава Щербаченко, рослый добродушный парень, курсом моложе, но годами и опытом старше нас. Он из города Орджоникидзе, который раньше, кажется, был Владикавказом, позже стал Дзау-Джикау, а сейчас носит название еще другое (нет под рукой Энциклопедии). Слава подростком был угнан в Германию, работал на немецком заводе, пережил ужас ковровых бомбардировок союзнической авиацией Дрездена, когда людей погибло больше, чем позже в атомном пламени Хиросимы.
Весной в общежитии открываются окна, и весь дом наполняется невообразимой какофонией: почти в каждом окне выставлен свой маленький «радиолык», излучающий в пространство мелодии, любезные хозяевам и имеющиеся в наличии. Радиолык 101-й хрипел на всю мощь, но еле перекрикивал музыкальный хаос хотя бы для танцев на веранде нашего третьего этажа. Кроме того, появился еще один раздражающий фактор: нас стали давить поодиночке и всех вместе чуждые силы. Метров 50 дальше, на другой стороне нашей Полевой улицы, было общежитие инженеров ГВФ. За эмблему пропеллера на погонах мы называли их в быту «вентиляторами». Так эти «вентиляторы» на одном из своих балконов установили динамик от кинопередвижки и сразу своими звуками перекрыли все наши хилые радиолыки, навязывая всему общежитию политехнического свою музыку, кстати, – очень непритязательную попсу, как назвали бы ее теперь. Этого мы вытерпеть не могли и приняли контрмеры.
К тому времени я уже давно болел «радиозудом». Вместо несчастного радиолыка я построил мощный высококачественный усилитель низкой частоты, соединив несколько схем из журнала «Радио» и книги «Усилители низкой частоты». Основные детали для него приобретались на киевской городской толкучке, где можно было добыть всё. Основа усилителя – трансформатор – у меня был огромный. Дело в том, что тогда магниты на мощных динамиках были электрическими, и я специально зарезервировал для этого большую мощность. Полупроводников еще не было, поэтому два выпрямителя (для усилителя и динамика) были на больших лампах – кенотронах, а выход усилителя – «пушпул» на двух мощных тетродах 6П3С. Мелкие детали – резисторы, конденсаторы и другие, можно было купить в магазине, обменять или просто разжиться у других радиолюбителей общежития. Металлург Юра Могирев соорудил магнитофон: в то время их для народа не выпускали. Миша Буденный из радиофака был «профессором» по приемникам: его коротковолновый монстр прослушивал весь мир. С этими ребятами можно было поговорить на «птичьем языке» и получить любую поддержку. Моя ниша – усилители низкой частоты, – оказалась теперь очень востребованной. Усилитель получился довольно громоздким – занимал целую полку этажерки, которую предоставили мне ребята. Я поставил ее вверх ногами на спинку кровати; нижний этаж целиком занимал усилитель, так что над подушкой у меня светился десяток радиоламп и слегка гудел трансформатор. Трофейный динамик «Телефункен» был весьма мощный, но без соответствующей системы не отдавал низких частот и полной мощности, оглушая только нашу комнату. Когда нас достали «вентиляторы», ребята выделили для нужд контрмероприятия две большие настоящие чертежные доски. Настоящие – это не из какой-нибудь презренной фанеры, а склеенные из тонких липовых дощечек. В одной доске в центре было вырезано отверстие для динамика, из второй сделали обрамление, чтобы низкочастотные звуки с фронта и тыла динамика не могли взаимно ослабляться – шунтироваться. Акустическая система, построенная на костях учебного процесса, взревела с невиданной мощью и красотой. Выставленная в окно, она не только подавляла диверсантов-вентиляторов и обеспечивала бесплатными танцевальными мелодиями все веранды общежития, но и «покрывала» значительную часть столицы Советской Украины: напротив общежития был почти патриархальный сельский район с частными домиками.
Репертуар нашего «вещания» был весьма разнообразным. Все общежитие оценило пользу централизованного «звукоснабжения», и по выходным вечерам заявки на танцы нам подавали вместе с пластинками. Самые популярные вальсы: «На сопках Маньчжурии», «Березка», «Амурские волны» и много других, которых уже и не упомню, – вплоть до «Танца маленьких лебедей», который изображали несколько верзил, вроде Вовочки Нестеришина. Очень популярно было танго, и мы крутили «Брызги шампанского», «Веселый май» и много других, в том числе – «трофейных-заграничных». Знойное иностранное танго с неведомыми словами на неведомом языке запросто «переводилось» по звукам:
Якби сода була,
Якби соду привезли,
Паляниць напекли б,
Паляниць напекли б.
І в Одессу повезли.
Надо учесть, что тогда эти танцы в «русле борьбы с низкопоклонством перед Западом» были вне закона. В многочисленных кружках и школах народ заставляли изучать всевозможные мазурки, па-де-катры, па-де-грассы, которые, на мой взгляд, еще более «западные». (Посещал и я такие кружки, но сложные телодвижения и па этих танцев забывались начисто сразу после усвоения). А уж когда сто первая комната крутила «Рио Риту», – зажигательный «пассодобль» (кажется, так был обозначен на пластинке этот быстрый фокстрот), то наше общежитие было в опасной близости к разрушению от танцев на всех верандах.
Танцы, однако, мы «крутили» только по вечерам выходных. Для себя, «для души», у меня образовался приличный фонд классической музыки и арий из опер выдающихся певцов: Шаляпина, Гмыри, Козловского, Лемешева – и других. Обычная картинка вечера: народ чертит, решает задачи, а в комнате звучит музыка. Однажды к нам ворвался некий взъерошенный субъект и заявил с порога:
– Ваша музыка не дает мне заниматься! Я сижу в рабочей комнате на пятом этаже и ничего не могу делать из-за этой музыки!!!
– Ты такой нервный? – вступил с ним в контакт Серега Бережницкий. – Очень тебе будет полезно по утрам делать зарядку и обливаться холодной водой. Посмотри: человек спокойно спит!
Рядом с нашим, довольно громко звучащим, акустическим агрегатом, установленным на стул, вполне безмятежно похрапывал один из наших младших товарищей. Возмущенный студент ошалело осмотрел спящего и тихо удалился.
Однако не все кончалось так благополучно. Юра Могирев, построивший магнитофон, имел много записей запрещенного Петра Лещенко, записанных с подпольных трофейных пластинок. Эти записи мы могли слушать только в его комнате: усилитель магнитофона был слабенький. Юра мечтал о большой аудитории. Тогда мы вдвоем тайно пробросили по карнизу провод из его комнаты в нашу. Система магнитофон – усилитель – динамик заработала. Несколько вечеров мы в половину мощи услаждали слух танцоров на верандах (много проникновенных песен Петра Лещенко звучат в ритме танго). Кончилось тем, что в нашу комнату ворвалась целая идеологическая комиссия студсовета общежития и обвинила меня в озвучивании пластинок запрещенного певца, белого офицера и изменника Родины Лещенко. Я прикинулся «шлангом».
– Какой Лещенко? Какие пластинки? Это же приемник поймал трансляцию концерта Козина!
Комиссия огляделась. Мерцало десятком радиоламп некое радиоустройство, провода от которого шли к динамику, с болью вещавшему:
…Татьяна, помнишь дни золотые…
На тумбочке, опираясь на стопку книг, стоял совершенно неподвижный проигрыватель, на диске которого стояла недавно изданная пластинка Ивана Козловского.
– Да нет, это же песня Лещенка, – запротестовал музыкально продвинутый член комиссии. Другие покосились на него подозрительно: откуда бы такая осведомленность? «Продвинутый» спохватился, изобразил внимательное прослушивание и добавил, придавая голосу спасительную неуверенность:
– … кажется.
Возможно, я бы «прорвался» таким примитивным способом, но подвела запись на пленке. «Татьяна» кончилась и Лещенко жизнерадостно, в полный голос, заявил:
– Эх, Дуня! Люблю твои блины!
– Это же Лещенко!!! – завопила теперь уже вся комиссия, не скрываясь друг от друга.
В общем, всякие трансляции радиоконцертов из неопределенных источников мне запретили. На входе в общежитие была нарисована цветными мелками большая стенгазета, собственно – одна картина. Шестеро жильцов комнаты 101 сидели за столом с открытыми ртами. Во главе стола за огромным самоваром сидела кустодиевских форм Дуня и бросала в наши голодные глотки блины… Картина была талантливая, жаль, что не подумал ее отснять и сохранить. Популярность 101 комнаты возросла необычайно: и сейчас антиреклама добивается цели быстрее, чем обычная реклама. Однако нам пришлось значительно умерить громкость нашего «радиолыка-2»: пришла еще делегация близлежащих домов с жалобами на музыку, которая их достала. Делегацию мы рассмешили, заверив, что от классической музыки их коровы и козы увеличивают надои, а также обещав принимать и исполнять их заявки на концерты. Расстались мы друзьями, но выводы мы сделали.
Еще дважды наш «радиолык -2» гремел на полную мощь и был в центре внимания изумленной общественности. Весной 1954 года в Киеве можно было наблюдать полное солнечное затмение. Все готовились заранее: коптили стекла, готовили бинокли, телескопы. Сварщики, естественно, постарались добыть сварочные стекла, которые тогда назывались ТИС – «темное изюмское стекло». Примерно в полдень перед общежитием собралась огромная толпа, наблюдавшая за «потуханием» солнца. Когда наступила полная темнота, залаяли собаки, а из окна нашей 101-й раздался жуткий шаляпинский хохот Мефистофеля из «Фауста»: это я врубил на полную мощь соответствующий фрагмент арии. Эффект был сильный: народ от страха вздрогнул, набожные начали креститься.
И последний раз радиолык взбрыкнул, когда мы праздновали защиту дипломного проекта. Вечером окно 101-й закрыл плакат из трех чертежных листов: «Наше дело правое – мы защитились!». Плакат был изнутри подсвечен киловаттной лампой из «козоскопа» и ярко выделялся на фасаде. Из окна гремели выстрелы: если малокалиберный патрон подогреть спичкой, то он бабахает не хуже охотничьего ружья 12 калибра. Десятка два патронов расположены на подоконнике, спички мог взять каждый желающий. И все эти прибамбасы венчает мощный марш «Прощание славянки», слышимый на пол-Киева. Начальство безмолвствовало: маленькие дети стали инженерами…
При отъезде в отпуск и на работу я оставил всю технику и большинство пластинок ребятам из 101-й. Не знаю, как сложилась судьба моего музыкального «монстра» – его было жаль, но оглядываться на прошлое стало некогда.
Уроки техники безопасности
Рабочий! Лучшее приспособление по технике безопасности – твоя голова, – если нет головы у твоих начальников!
(Народная мудрость, не вошедшая в инструкцию по ТБ).Четвертый и первый семестр пятого курса мы достаточно поверхностно осваиваем инженерные дисциплины, с которыми вскоре столкнемся очень плотно. Настолько плотно, что приходится учиться заново и уже по-настоящему. Речь идет об организации производства и управления и о технике безопасности.
По организации производства мы рассматриваем внешне очень незамысловатые схемы, из которых наглядно видно, что начальству нечего делать. Вот схема: директор – главный инженер – начальники цехов. У директора и главного есть разные отделы, которые готовят им решения. Что стоит подписать готовое решение? Зачем тогда нужен директор?
Гораздо позже мне в руки попалась книжечка – отчет делегации британских тред-юнионов (профсоюзов), изучавших организацию производства в США. Она меня потрясла своим тонким анализом отношений между начальником и подчиненными, возведенными в ранг науки. У нас на эти грабли наступает каждый, причем его жизненный путь напрямую зависит от того, какие уроки он сможет извлечь из своих ошибок в этой очень непростой науке, которую мы постигаем наощупь, втемную – «методом научного тыка», он же – «ползучий эмпиризм».
Конечно, эти отношения показаны у нас в художественной литературе, на которой мы воспитаны. «Битва в пути», «Сталь и шлак», «Далеко от Москвы» и тысячи других книг повествуют о борьбе передовиков-новаторов и косного руководства. Обычно передовики всегда оказываются победителями в этой борьбе, конечно, – при помощи мудрых парторгов. А как, в самом деле, по науке, должны решаться вопросы нормальной организации нормального производства? Какими идеями и содержанием должны наполняться схемы производственных отношений? Наверное – и на эту тему было написано бесчисленное количество диссертаций, начинающихся словами: «Роль партийной организации в …». Увы, эти диссертации приносили ощутимую пользу только авторам, двигая их вверх по служебной лестнице.
Технику безопасности нам читал рыжий «живчик», весьма озабоченный своим успехом у наших девушек. Он непрерывно шутил, поглядывая на них и красуясь.
– Рабочий влезает на кран. Там – оголенный провод под напряжением. Касается. Поражение – шок. Рабочий падает с высоты. Вы, конечно, думаете, что он погиб. У него – контршок. Рабочий – оживает, ему хорошо, ха-ха!
В таком ключе у нас проходят все лекции по технике безопасности. Молодой инженер на производстве сталкивается немедленно с массой вопросов, на которые у него нет ответов. Но есть еще много проблем неосознанных, – он даже не подозревает, что такие проблемы могут быть. Кто и как несет ответственность за соблюдение техники безопасности? Промсанитарии? Исправности и безопасности инструмента, оборудования, одежды и обуви? Когда и кто проводит инструктажи по ТБ? Как и когда оформляются несчастные случаи на производстве? Что такое несчастный случай? Что делать, если случился смертельный случай, одиночный или групповой? Что надо делать руководителю, чтобы обезопасить рабочих и себя при ЧП? Когда происходит это самое ЧП, все вопросы и вопросики, особенно – неизвестные ранее, вырастают в гигантские химеры, совладать с которыми бывает очень трудно, иногда – невозможно…
Современный анекдот по теме. Преподаватель: «У вас упал с высоты и разбился рабочий. Ваши первые действия?». Слушатели выдают десятки решений: вызвать скорую, вызвать милицию, позвонить жене и т. п. Преподаватель: «Правильное решение – надеть на погибшего страховочный монтажный пояс!»
Перед самой защитой диплома нас потрясла наглядная иллюстрация по технике безопасности. После небольшого весеннего дождика мы с ребятами подходили к общежитию. Внезапно, метров за 100 впереди, полыхнуло, раздался низкий гул мощной дуги, рядом с нами закачались столбы, над головами задергались и заискрили провода высоковольтной ЛЭП, проходящей прямо над тротуаром. Впереди послышался отчаянный женский крик. Я рванулся вперед, к входу в общежитие, где был телефон и вызвал скорую, затем побежал к месту происшествия. Картина открылась впечатляющая.
Провода одного пролета высоковольтной линии соединились, получилось короткое замыкание. Возникла мощная дуга, провода перегорели и упали вниз. Один обрывок завис на дереве, его конец воткнулся в землю. Там ревела дуга, выбрасывая метра на два вверх фонтан расплавленного песка. Второй провод змеился на булыжнике дороги и на голых ногах лежащей вниз лицом женщины. По всей длине провода периодически зажигалась дуга – на мокрых булыжниках и на ногах женщины. Подойти к ней, чтобы скинуть с ног провод, было нельзя: стоило чуть приблизиться и смельчака начинало корежить шаговое напряжение, растекающееся по поверхности земли. Подъехала скорая, врачи с чувством бессилия смотрели на горящие ноги женщины. Приехала также чья-то «Техпомощь» и тоже ничего не могла сделать. Наконец нашелся смелый и грамотный человек. Он был в резиновых сапогах; один конец длинной доски обмотал сухой фуфайкой. Приблизившись очень мелкими шагами на длину доски к женщине, другим концом доски он скинул провод с ног женщины и отодвинул его подальше. Экипаж скорой смог подойти к женщине, поднять ее и унести в машину. Она еще стонала, то есть была жива! Высоковольтная дуга на двух проводах продолжала исправно гореть: линия оставалась под напряжением еще полчаса…
Я вспомнил свою экскурсию с дядей Антоном на высоковольтную подстанцию в Ивановской области. Навсегда запомнились его объяснения: при обрыве хотя бы одной фазы высоковольтной линии, автоматика должна отключить ее, прежде чем оборванный провод коснется земли. Еще раньше автоматы обязаны были отключить линию при коротком замыкании. По чьему недомыслию или халатности этого не произошло в Киеве? А кто проложил высоковольтную ЛЭП прямо над тротуаром обыкновенной городской улицы? Эта авария произошла оттого, что из строящегося многоэтажного дома, оказавшегося намного выше ЛЭП, какой-то недоумок сбросил на провода тяжелую доску… Если несчастная женщина и выжила, то ноги ей наверняка ампутировали…
У нас, сварщиков, да собственно, – у всех инженеров, работа неразрывно связана с электричеством. Я считал, что неплохо знаю его, и могу решать любые задачи. Но как мог «препод» Уласик утаить от нас в институте, что существует свод незыблемых правил и законов по этому самому электричеству, точнее по его безопасному применению? Это Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации и техники безопасности (ПТЭ и ПТБ). Каждый пунктик этих четких и ясных правил оплачен жизнями и увечьями многих людей. Инженер, даже не подозревающий о существовании этих Правил, подобен попу, не ведающему, что есть повседневная молитва «Отче наш».
Пояснения с извинениями. Рассказы о технике безопасности и всяких страшных вещах, к сожалению, еще будут в следующих главах… Нам надо вернуться в Киев 1953 года.
Ленинград – первое свидание
Осенью 1953 года начался последний год учебы в институте. После одного семестра учебы мы должны были сдать экзамены и отправиться на преддипломную практику. После практики – месяца два отводится на дипломный проект и его защиту, затем – распределение, выход «на большую дорогу», или – в «большую жизнь». Кому как повезет…
Не помню – надоела ли к тому времени учеба. Скорее всего – нет, потому что настоящей работы было так много, что некогда было об этом задумываться. Запомнился курсовой проект по сварочным цехам. В моем задании – выполнить проект цеха по изготовлению сварных 200-литровых бочек, простых и круглых.
Сначала выбираешь технологию – из чего и как эту бочку делать, затем начинаешь проектировать для нее цех. Нельзя цех или завод проектировать «вообще»: даже для производства бочек надо сначала иметь конструкцию и технологию изготовления. (Кстати, Тольяттинский автозавод начали строить, приняв сначала конкретную марку автомобиля «ФИАТ» и технологию его производства). Моя бочка, конечно, была чуть проще автомобиля, но программа цеха – один миллион бочек в год! В цех подавались листы металла (какие нужны?), из цеха – каждые 15–20 секунд должна выскакивать готовая бочка, – испытанная, покрашенная, и с нужными лейблами. Любая технологическая операция с большей длительностью ставала тормозом, надо было ставить параллельную линию, или – совершенствовать технологию. Для каждой технологической операции надо было выделить место в потоке, подобрать готовое или эскизно изобрести специальное оборудование, сосчитать необходимые площади, количество рабочих. От их количества зависели площади раздевалок, туалетов и т. д. А куда девать и как исправлять обнаруженный при испытании брак? И еще куча вопросов, требующих разрешения и отражения в проекте.
Общий проект, таким образом, разбивался на ряд мелких, для решения которых требовалось знать массу вещей, – хотя бы для того, чтобы пользоваться многочисленными справочниками. Работа над таким комплексным проектом резко «поднимает» студента на более высокий уровень, даже если многое и упрощается. Практически мы составляли подробное техническое задание для проектирования: полные рабочие проекты таких производств – дело больших коллективов.
После зимней сессии, в начале 1954 года четыре человека из нашей группы убывают в Ленинград на преддипломную практику – на завод «Электрик», который изготовил «красивый» автомат, соблазнивший меня поступить на сварочный факультет. Теперь мне выдана тема дипломного проекта: «Контактная машина для сварки сеток тяжелой арматуры». Эту машину тогда разработало КБ завода, а завод уже начал изготовление, испытания и доводку экспериментального образца. Несколько таких машин завод «Электрик» должен изготовить для Куйбышевгидростроя и других строящихся гидроэлектростанций: сварные сетки требовались для установки в тело плотины.
Слово «сетка» в названии машины как-то маскирует слово «тяжелая»: сетка есть сетка. Моя «сеточка» состояла из 15-ти продольных стержней, каждый диаметром по100 мм, к которым поперек приваривались «стерженьки» диаметром «всего» 60 мм. Масса только одного погонного метра «сеточки» составляла около двух тонн, ее ширина – более 6 метров, длина могла быть любая, если стыковать продольные стержни и иметь оборудование для перемещения такой «сеточки». Из 15 сварных пересечений одновременно сваривались только три: даже для этого требовалась мощность, которую потребляет небольшой город. Машина должна была работать в автоматическом режиме; схема и приборы управления машиной еле размещались в двух больших шкафах. Машина была необычная, интересная и, главное, – реальная, поэтому я с удовольствием согласился взять эту тему для дипломного проекта. Практика в Ленинграде тогда получалась автоматически: только там делали такую машину.
Ленинград встретил нас низким серым небом и сизым смогом, заполнившим улицы от Витебского вокзала до Петроградской стороны, где был наш завод и арендованная институтом комната в студенческом общежитии. Никаких красот города, отраженных в глянцевых открытках «вербовщика» Г. Л. Петрова, мы и не мечтали увидеть сквозь заиндевелые окна трамвая, да еще при ранних зимних сумерках. Поселилась наша группа из КПИ в одной большой комнате общежития ЛЭТИИЖТа на Малой Посадской, недалеко от мечети. Сварщики – Коля Леин, Леня Хлавнович, Эдик Сергеенков и я. Среди нескольких ребят из других факультетов выделялись иностранцы: гибкий красавчик кореец Ли и сгорбленный от какой-то болезни, довольно пожилой по нашим понятиям, болгарин Живко.
Утром, разузнав, что наш завод недалеко, мы отправились к нему пешком по Кировскому проспекту. Никаких ожидаемых эмоций при этом мы не испытали: серые холодные дома, висящий над всем городом сизый смог. Остатки нерасчищенного снега тоже были серыми, ни белого, ни черного цвета мы нигде не увидели, архитектура домов – по нашим дилетантским понятиям – вполне обычная.
Формальности и ознакомление с заводом заняли целый день, и возвращались мы «на базу» уже в сумерках. Обедали мы в заводской столовой, для ужина купили всяких плавленных сырков, хлеба, сахара и т. п. Кипятильники, кружки у нас, как опытных командировочных, всегда были с собой. Киевляне Хлавнович и Сергеенков, как буржуины, развернули домашние припасы, не доеденные в поезде. Пролетарии – мы с Колей Леиным, – без всякого зазрения совести помогли товарищам прикончить «буржуазные пережитки». Появился Живко, навьюченный кульками со съестным. Мы не стали нарушать болгарский суверенитет не столько из-за дипломатического пиетета, сколько из-за собственной сытости. Внезапно Живко завопил:
– Нет, вы посмотрите, что продают!!!
Мы кинулись к нему. В руках он держал наполовину открытый усеченный конус сырка «Зеленый». Под ярко раскрашенной фольгой было нечто зеленоватое, покрытое плесенью и издающее запах, мягко говоря, – разительно отличающийся от запаха пищевых продуктов. Мы дружно и возмущенно загалдели, посоветовав Живко бросить продукт в лицо директору магазина, высказать ему все, что о нем думает мировое студенчество, и обязательно забрать назад свои кровные. Мы кипели возмущением и говорили все вместе. Чувствуя международную поддержку, Живко еще более распалялся и строил планы отмщения.
В комнату постучали и впорхнули две девушки, аборигены общежития, чтобы забрать нашего Ли на каток: оказывается он уже успел с ними познакомиться и договориться о встрече. Увидев нас сгрудившихся возле стола с раскрытым сырком одна из девушек, осмотрев пустой стол, спросила:
– Вы тоже любите их? А с чем же вы будете есть эту прелесть? Подождите, у нас варятся макароны!
Мы раскрыли рты. Коля Леин пробурчал что-то о залежалых продуктах в красивых упаковках, которыми враги, засевшие в торговле, травят бедных студентов.
– Да вы что! Мы этот сырок обожаем! Его не всегда можно найти!
Через несколько минут у нас на столе стояла тарелка с дымящимися макаронами. Наташа щедро посыпала их натертым «дефектным продуктом» и широким жестом пригласила общество к пиршеству. С целью сохранения наших драгоценных жизней, мы только нюхали «совмещенный» продукт и недоверчиво поглядывали на повариху. Запах тухлых яиц несколько разбавился ароматом горячих макарон, но нам этого было явно мало.
– Когда я работал египетским фараоном, – начал Леня Хлавнович свои воспоминания, – то содержал специальных дегустаторов, которые пробовали пищу, перед употреблением Моим Величеством…
Наташа навернула на вилку макароны с сыром, отправила в рот, медленно разжевала с выражением блаженства на лице и раболепно пригласила:
– О, мои фараоны, подобные Солнцу! Можете потреблять, отбросив присущий Вашим Величествам страх!
С опаской начали пробовать. Живко наблюдал за дегустацией недоверчиво, затем сам взял вилку. Закрыв нос, пожевал. Затем, уже спокойно, доел макароны и подытожил:
– Есть, конечно, можно, но одни макароны вкуснее!
Нам показалось, что он лукавил. Думаю, что, потребляя национальные приправы солнечной Болгарии, он с гордостью расскажет о приправах с небывалым вкусом, к которым он приобщился в Ленинграде… Во всяком случае, дикая расправа с директором гастронома была отложена на неопределенный срок.
Гастрономическое отступление. К тому времени, когда наш сын решил ознакомить своих предков с изысканным вкусом «голубого» сыра, пронизанного плесенью, я уже был подкован информацией и воспоминаниями о сырах: «зеленом» питерском и сыре Марка Твена, который он перевозил в железнодорожном вагоне. Мы с женой «наступили себе на нос и глаза», вкусили… и – нам понравилось.
Второй наш иностранец – кореец Ли был личностью яркой чрезвычайно. На свой завод он ходил через день-два, и то – только после обеда: спал он до 12 часов дня. Очевидно, на заводе начались какие-то неприятности по этому поводу. Тогда Ли предоставил заводу медицинскую справку, в которой печатями и подписями удостоверялось, что по состоянию здоровья он не может просыпаться раньше полудня. Зато вечером, когда мы усталые появлялись в общежитии, у сына корейского народа начинался подлинный рабочий день. Ли готовил коньки, на гибкое тело надевал белый вязаный свитер, на черные волосы – красную повязку. Его уже ожидали девушки, с ними он отправлялся на ближайший каток, которых в то время было великое множество, почти в каждом пятом дворе. В те времена сведения о фигурном катании на коньках мы имели только из американского фильма «Серенада солнечной долины». Наш Ли был настоящим мастером и по всяким фигурам на голову был выше героини «Серенады». Популярность Ли на катке, особенно у девушек, была необычайной, он ею упивался. Все заботы практики на заводе (кажется, химическом) ему были глубоко «до лампочки».
Завод «Электрик» в то время – старинное предприятие, в старых кирпичных корпусах которого кое-как приспособились к требованиям времени: нужда в сварочном оборудовании, особенно в источниках тока и машинах контактной сварки, была огромная. По нарядам главка все оборудование, производимое заводом, было расписано на год вперед, и с весьма серьезными заказчиками шутить было нельзя. Сборка оборудования, неоправданно очень большой номенклатуры, – по сути, велась кустарно, несмотря на наличие отдельных передовых станков. Сборку агрегата, даже крупносерийного, от закладки до сдачи выполняла одна бригада на одном месте, конвейерные линии некуда и некогда было ставить: надо было «выполнять план любой ценой». Большинство деталей производилось на универсальных токарных и фрезерных станках. Получалось: трудоемко, неточно и требовало подгонки при сборке. Выпускаемое оборудование тоже отставало от мирового уровня, но никто и не подумывал о его улучшении: и такое «отрывали с руками». При таких условиях, кому нужна была головная боль по модернизации и перестройке производства, которые неизбежно в первый период снижали бы выход продукции?
Приведу такой пример. В лаборатории контактной сварки, моем основном рабочем месте, для наладки режимов стояли две машины для стыковой сварки одинаковой мощности по150 ква. Одна машина была своя, «электриковская», вторая – американская. Наша была с механизированным пневматическим зажатием деталей и кулачковым приводом суппорта от электродвигателя. Американская была с ручным приводом. Наша была в два раза больше, со всех сторон из нее торчали острые углы механизмов, болты, шланги, тяги пыхтящих пневмоцилиндров. На американской, полностью закрытой и меньшей в два раза, была одна рукоятка суппорта и две маленьких педальки гидравлического зажатия деталей. При нажатиии первой педали на зажимаемые детали падали плунжеры, два-три качка второй намертво зажимали стыкуемые детали. Ручной привод не требовал смены кулачка при изменении режима сварки: сварщик легко определял его по нагреву деталей и гибко регулировал. Дело не только в эстетике и габаритах: при работе производительность американской «ручной» машины была раза в полтора-два больше, чем у нашей «механизированной». Контраст был настолько разительный, что И. М. Радашкович, начальник лаборатории контактной сварки, распорядился завесить ковриком большую фирменную «лейблу» американки, – так ему надоели вопросы экскурсантов.
Оправдательное отступление. Хотя мне не нравился ряд машин завода «Электрик», должен отметить высокую надежность их источников тока для ручной сварки. Да, они были громоздкими, и не всегда красиво из них торчал крепеж, но они никогда не подводили в работе. Все познается в сравнении. В Тбилиси построили завод сварочного оборудования, и, чтобы сократить номенклатуру «Электрика», туда передали производство 500-амперных сварочных преобразователей, с отработанной конструкцией, технологией и даже оснасткой. Выпускаемые горячими кавказскими джигитами машины были как две капли воды похожи на электриковские, но стали такими же горячими, как их создатели: загорались через полчаса работы. Несмотря на большой дефицит источников тока, при распределении оборудования тбилисские преобразователи шли в качестве принудительной нагрузки. «Получишь то, что хочешь, только, если возьмешь и это», – говорили главным сварщикам предприятий. Интересно, что производят на этом заводе теперь, в 2004 году, джигиты свободной Грузии? Привет вам, саксаулы, я хотел сказать: аксакалы!
Впрочем, почти такая же картина получилась при передаче производства сварочных трансформаторов на некоторые российские заводы. Правда, это уже были другие типы трансформаторов, кроме того, в них медные обмотки поменяли на алюминиевые. Трансформаторы стали очень ненадежными и еще более громоздкими.
Моя машина занимала почти половину цеха: очень много места занимали чисто механические системы подачи металлических заготовок. Каждая из 15-ти точек сваривалась своим отдельным трансформатором мощностью 450 ква (одновременно включались три трансформатора). На каждом трансформаторе был свой механизм сжатия пересекающихся стержней толстенными медными электродами; сравнительно плоские трансформаторы можно было перемещать на раме машины, как того требовали размеры сетки. Машина была экспериментальная, конструкторы в процессе монтажа дорабатывали и совершенствовали ряд узлов, я вникал во все детали. Особенно меня интересовала система управления машиной с сотнями радиоламп, клапанов, реле и игнитронов, в которой не все ладилось.
Предварительное сжатие электродов проводилось сжатым воздухом, затем включалась гидравлическая система дожатия. Датчик, командующий переключением, должен был улавливать очень небольшой перепад давления воздуха. Датчик не хотел этого делать: он упрямо молчал. Когда повышали его чувствительность, он выдавал целую серию ложных сигналов, которые запускали в машине чуть ли не пляску Святого Витта. Тут я вспомнил о своем парашютном прошлом и предложил конструкторам сверхнадежный ПАС – 400, безотказно открывающий парашют при незначительном изменении атмосферного давления. На меня посмотрели недоверчиво, однако добыли документацию на прибор, а затем и применили его. Конечно, механическую тягу заменили электрическим сигналом, что очень просто.
Главная забота дипломника – набрать побольше бумаг, из которых потом можно было бы черпать сведения для дипломного проекта. В этом деле у нас была «полная ламбада». На заводе было БТИ – Бюро технической информации с милыми женщинами, которые выдали нам столько чертежей и описаний, что пришлось часть вернуть: не хватало грузоподъемности.
Мы все время помнили, что мы находимся в Ленинграде, и каждый свободный час пытались провести в городе. Петроградская сторона, по которой мы ходили на завод, особого впечатления не производила. Между некоторыми домами зияли пустоты, там еще сохранялись развалины разрушенных при блокаде домов. Наконец приходит выходной (о двух выходных подряд советский народ еще и мечтать не мог).
Мы идем на ближайшую трамвайную остановку (теперь там станция метро Горьковская), оглядываемся. Нам надо попасть на Невский проспект, именно там мы увидим и почувствуем душу города. Спрашиваем туземцев поприветливее, в какую сторону и каким трамваем доехать до Невского. Тетя показывает направление к мечети и называет номер трамвая. Чтобы подстраховаться, через некоторое время задаем такой же вопрос мужику. Он твердо указывает нам противоположное направление и тоже называет номер трамвая.
Отступление: размышление о трамваях и памяти. В те времена, ровно полвека назад, каждый трамвай имел «на лбу» и сзади свои цветные огни, по которым издали, даже в сумерках, можно было определить его номер. Трамваи ходили часто и строго по расписанию, хотя его и не было на остановках. Зато на пересечениях улиц стояли будки с дежурными, которые четко фиксировали время прохождения трамваев, троллейбусов и автобусов и как-то управляли процессом. Для большей достоверности хотелось бы привести номера трамваев. Увы, я забыл их; кажется, тройка и 31-й. Маршруты и номера менялись уже несколько раз и ничего не скажут современному читателю. Что касается современных номеров и маршрутов, я их вообще не знаю: последние четверть века по Питеру я передвигаюсь за рулем. Иногда приходится краснеть, когда безлошадные приезжие спрашивают, чем проехать куда-нибудь. Раньше выручало метро, там все станции были известны задолго до пуска. Теперь много станций и веток метро, на которых я не бывал никогда и уже вряд ли буду…
Мы растерялись: кому верить? В третий раз обратились к интеллигентной бабуле. Она вежливо поинтересовалась, какой номер Невского нам нужен. «Любой, мы просто хотим его увидеть и пройтись!», – возопили мы. «Тогда начинайте с начала, с Дворцовой площади», – посоветовала нам бабуля и указала направление.
Бродили мы по Ленинграду целый день. Обошли Дворцовую площадь, Зимний дворец, Исакиевский собор, посетили Медного всадника, прошлись по Невскому до Елисеевского магазина, возле Екатерины свернули на зодчего Росси. Ходили по каким-то улицам, куда-то ехали. Впечатления сильные, но разрозненные, как части картинки на разбросанных детских кубиках. Уже в сумерках вспомнили, что нам надо на Главпочтамт: там могли быть письма «до востребования», – такой адрес все назначили родным и близким. И вот только там мы увидели город с высоты птичьего полета и поняли, где мы ходили, где жили и работали. На стене Главпочтамта висела подсвеченная большая карта города с указанием большинства улиц. Наверное, как и все карты того времени, «дозволенные к открытому употреблению», она была с умышленными искажениями, но и такая она стала для нас путеводной звездой, маяком, позволявшим собрать рассыпанную мозаику в целую картину. Никаких других карт, или хотя бы схем движения городского транспорта, нигде не было: они появились несколько лет спустя.
Один день мы посвятили Эрмитажу. Прямо у входа меня потрясла скульптура «Танцовщица» И. Копфа из…. белого мрамора. Кажется: теплое тело прекрасной танцовщицы просматривается сквозь прозрачную кисею накидки. Изобразить это в холодном камне – настоящее колдовство. Несколько часов хождения по необъятным залам Эрмитажа нас просто расплющили: мы поняли, что нельзя пытаться «объять необъятное», во всяком случае – за один день. Зато на выходе я несколько минут опять постоял у «Танцовщицы». Позже, через десяток лет, я увидел картинки Бидструпа: малыша водят по зоопарку, показывают львов, тигров, жирафов, уйму других редких экзотических зверей. Малыш ожил, только увидев обыкновенного воробья! Правда, мой воробей (воробьиха?) был мраморный и очень красивый.
Жилось нам в общежитии хорошо. По вечерам мы немного работали и много дурачились. Завсегдатаями нашей комнаты стали несколько девушек из общежития, веселых и певучих. Веселил всех Леня Хлавнович, неистощимо остроумный и находчивый во всяких подначках. В технике он изобретал невиданные паукообразные машины для подачи стержней и сварки моих и своих сеток; я спокойно разбивал его идеи, как дважды два доказывая ему их неработоспособность. Он величал меня «Угнетателем свободной технической мысли», «Прозаиком технической поэзии». Я величал его «техническим Икаром» в стадии расплавления склеенных крыльев, «сварочным батьком Хлавно». Эдик Сергеенков внимательно слушал наши перепалки, переводя внимательный взгляд с одного говорящего на другого. Через пару минут, когда разговор шел уже о другом, до него доходил смысл сказанного, и он разражался громким смехом. Тут уже от смеха падали все свидетели нашего диспута…
Незаметно подошел конец практики, и мы отбыли в Киев. От зимнего Ленинграда у меня осталось неопределенное впечатление: здесь хорошо работать, но Великий Город – холодный и не очень уютный для жизни. Потом уже я понял, что если бы первое знакомство состоялось летом, впечатления были бы совсем другие. Так были совершенно очарованы Ленинградом родственники, посетившие нас с женой во время белых ночей.
Лирическое отступление. Более полувека прошло с тех времен. Давно этот город стал нашим, родным, – зимой и летом, ясным днем и в непогоду. Здесь мы с женой были молодыми, здесь родились и выросли наш сын и наши внуки. Сюда неизменно стремился и возвращался я после дальних и близких странствий. Здесь покоятся наши с женой матери, там есть место и для нас… Здесь мы построили свой садовый домик среди сосен, в котором я сейчас пишу эти строки. Сказочные восходы и закаты видны в наших окнах…
А наша Украина, Родина родителей и наша малая Родина, теперь находится за пограничным шлагбаумом. Там у нас только постаревшие друзья и родные могилы…
Финиш
Не совсем понимаю: почему многие называют судьбу индейкою, а не какою-либо другою, более на судьбу похожею птицею?
(К. П. № 149)В Киеве меня ожидают очень напряженные времена: дипломный проект предстоит выполнить в очень короткий срок. Дипломный проект у нас в КПИ – серьезная работа. Одних чертежей и схем должно быть не менее десяти. Проект состоит из нескольких разделов: технического, экономического и других; по каждому разделу – свой консультант. Имеется и общий руководитель. Все ведущие добиваются совершенства проекта – «через посредство» увеличения труда ведомого. В принципе, наши преподаватели и так знают «кто есть ху», и могли бы поставить оценку, не глядя в этот проект, но защищать его надо перед государственной комиссией. А там сидят кадры дотошные и въедливые, и мы не должны ударить фейсом в грязь.
Еще мы сдаем некоторые госэкзамены, в том числе – по военной подготовке.
А в Киеве – весна! Гремит наш радиолык, народ по вечерам танцует на верандах. Велико искушение слегка упростить проект, заняться более приятными делами. Время выкраиваем, не снижая качества работы: только за счет увеличения производительности. Если бы первокурсники, несколькими неделями чахнувшие над первым листом, могли представить себе, сколько листов и расчетов они будут ворочать за это время на пятом курсе! Темп работы все усиливается: день защиты незыблем, как скала. И вот он наступает.
Последнее напутствие Деда: говорить не то, что знаешь, а то, что надо. В общем: «кратк. – с. т.» – краткость – сестра таланта. Чертежи развешиваются заранее, на выступление – не более 10 минут, время вопросов – не ограничено, но ответы должны быть краткими и по делу.
Ни малейшей «волнительности» перед защитой у меня не было: это было сражение на моем поле, на котором была пристреляна каждая кочка. Моя речь на защите состояла из заголовков-тезисов и длилась 7 минут. Ответы на вопросы любознательных членов комиссии – 15 минут, причем по длительности вопрос иногда превышал ответ. В этот же день защищались Коля Леин и Серега Бережницкий – оба более чем успешно. Мы – инженеры. Наша 101-я пустилась в загул, о чем я уже писал…
Защита – это еще цветочки, зависящие от нас самих, цветочки весьма предсказуемые. Приближались совершенно непредсказуемые ягодки – распределение. Современным выпускникам вузов, кроме военных, – слово ничего не говорящее. По действующим тогда законам каждый выпускник вуза должен отработать не менее трех лет на том месте, куда тебя пошлет страна. А у страны было сто-о-лько мест, куда можно послать…
Половину ребят в наших двух группах курса составляли киевляне. Для них остаться в родных пенатах – голубая мечта, для некоторых – даже вопрос жизни и смерти. Ох, прав был Павлов, который говорил о мечтах некоторых устроиться на Куреневке в артель «Свисток сентября»! По просочившимся сведениям несколько мест в Киеве были, поэтому все киевляне считались конкурентами, и каждый ревниво оценивал шансы противников. Одно место было на кафедре сварки в аспирантуре. На 100 % это было место Лазаря Адамского: он там уже был своим в течение последних двух-трех лет, его будущая диссертация уже наполовину, по слухам, была сделана.
Перед комнатой, где должна была заседать комиссия по распределению, заранее толпились обе группы. По настоящему решалась судьба человека, и каждый нервничал соответственно своему характеру: непрерывно курил, был угнетен или нервно хихикал над анекдотами, которые травили «закаленные» по теме «распределение». Леня Хлавнович на этот случай сочинил даже песню, которую распевали на мотив одной из песен знаменитого Рашида Бейбутова:
Магадан совсем как Сочи, налина, налина.
Месяц светит дни и ночи, налина, налина,
Там живут одни медведи, нали, налина,
Мы с тобой туда поедем, дели водила!
Будем мы мотать обмотки, налина, налина,
Выпивать по литру водки, налина, налина.
Будем страшно материться, нали, налина,
И в году два раза бриться, дели водила.
Наконец начали подходить члены комиссии. Это были, кроме руководства института, неизвестные нам представители министерств и главков, нуждавшихся в инженерах-сварщиках.
Отступление – взгляд из будущего. Мне потом приходилось много раз участвовать в аналогичных комиссиях по распределению новобранцев. Каждый член комиссии хотел выбрать для своей фирмы самых лучших. И если в институте у комиссии были все данные о выпускниках, то в нашем случае быстрый выбор надо было сделать из многих на основании скупых анкетных данных и мгновенной оценки человека по его речи и движениям. Ежегодно у нас «сортировалось» несколько сотен человек. Постепенно у меня выработался некий алгоритм выбора, о котором я, возможно, еще расскажу. Крупно ошибся в человеке я несколько раз.
Комиссия некоторое время заседала без нас, очевидно, определялись квоты и полномочия. Вызывать по одному начали по алфавиту. Тут всех удивил Лазарь Адамский: он на распределение явился под руку с Броней Школьниковой. «Мы решили пожениться», – ответил он скромно на наши недоуменные взгляды. Все прекрасно знали, что его невеста, с которой он дружил еще со школы, оканчивала то ли мед-, то ли пединститут. И вдруг – Броня, девушка, в особых симпатиях к которой он раньше замечен не был. Дальше привожу восстановленные по разным источникам события и разговоры.
Лазарь был настолько уверен, что его оставят в институте в аспирантуре, что решил спасти и киевлянку Броню от всяких дальних поездок по распределению. Броня, в этом случае, забрала бы еще одно место в Киеве. Если бы ей дали так называемый «свободный диплом», это было бы вообще пределом мечтаний: очень нужно интеллигентной и красивой девушке заниматься железяками в дымных цехах. Просчитав эти варианты, они явились на комиссию вдвоем как жених и невеста. Кто бы потом спрашивал у них брачное свидетельство?
– Мы решили пожениться, – заявил Лазарь с порога на комиссии, – поэтому просим дать нам направление в один город. Комиссия уткнулась носами в бумаги и начала ими шуршать.
– Есть два места в Орск на строительство газопровода, – озвучил председатель комиссии результат поисков. У «жениха и невесты» широко открылись глаза.
– Как, у вас больше ничего нет??? – Лазарь взглядом обратился к представителям института в комиссии. Те скромно потупили глаза в бумаги.
– Два места у нас есть только в Орск.
Лазарь понял, в какую ловушку он попал, и решил спасаться самостоятельно.
– Ну, а если бы мы не женились, то что бы вы предложили мне одному?
Доподлинно мне неизвестно, что двигало председателем комиссии. Возможно, он просто закусил удила, настолько явной была попытка Адамского повесить комиссии лапшу на уши. Возможно, схватка «по Лазарю» была еще раньше, когда кафедра сварки озвучила желание иметь киевлянина с жилплощадью, отличника и активиста Адамского в своих рядах.
– Орск.
Ответ для Лазаря, я думаю, прозвучал как выстрел в упор. Он «потерял лицо» и начал уже говорить заискивающим голосом:
– Может быть, у вас есть место в Киеве? Здесь у меня есть жилье, и я не обременил бы свое предприятие требованиями…
Что-то похожее произносила наверное безмолвная до сего времени Броня Школьникова…
– Орск, строительство номер …, – забил окончательный гвоздь в гробницу «помолвленных» непреклонный председатель комиссии.
Адамский и Школьникова выскочили из комнаты комиссии порознь, бледные, и быстро ушли. На вопрошающие взгляды Лазарь отрешенно произнес: «Орск». Все аж присели: если Адамского послали в Орск, то для остальных песенка о Магадане ставала не юмором, а самой насущной реальностью.
На комиссию следующие входили по персональному вызову. Теперь очередность была не по алфавиту, а по некоему, неведомому нам, алгоритму. Выходили оттуда с разными выражениями лиц: озабоченными, со слезами, иногда – со сдержанной радостью. Наши две группы сварщиков, спаянных пятью годами совместной учебы, разбрасывали по всему необъятному СССР.
Назвали мою фамилию. Вошел, представился без титулов: «Мельниченко». Первый вопрос председателя поставил меня в тупик и формой и содержанием:
– Николай Трофимович, к какой работе вы имеете большую склонность, – к научной или производственной?
Этого я не знал. Подумал немного и ответил, размышляя:
– Наукой заниматься, наверное, еще рано… Значит – к производственной…
– Если Вы хотите заниматься наукой, то мы Вам предлагаем Институт Электросварки имени Патона, если производством – завод «Ленинская Кузница».
– Знаете, я бы вообще не хотел оставаться в Киеве…
Если бы я всю-всю предыдущую жизнь мечтал днем и ночью – жить и работать только в Киеве, эту фразу стоило бы произнести, чтобы увидеть реакцию комиссии. Все остолбенели в разных положениях и молча начали рассматривать меня, как явившегося наяву инопланетянина с тремя разноцветными головами… Председатель опомнился первым:
– А куда бы вы хотели?
– В Ленинград, Горький, – нагло распоясался я. В действительности я хотел в Горький, на Сормовский завод, но почему-то произнес первым словом «Ленинград».
– Ну, в Ленинграде у нас места нет, а в Горький – пожалуйста. А то, может быть, поедете в Николаев на судостроительный завод?
– Да нет, в Николаев не хочется, – продолжилось мое «борзение». Я вспомнил про себя, что там на практике были наши ребята, и впечатления у них остались неважные.
– Ну, почему не хотите в Николаев? Там тоже судостроительный завод…
– Да нет, не хотелось бы…
– Ладно: Горький, так Горький…, – председатель взялся за авторучку. Я уже представил себе встречу со старыми знакомыми в Сормове.
– А у нас еще есть одно место в Ленинграде, – неожиданно «возник» один из членов комиссии. В душе я чертыхнулся. Отыгрывать «в обратный зад» помешала совесть: и так со мной долго возились. Да, собственно, и большой разницы между Горьким и Ленинградом я не видел. Ленинград, так Ленинград…
Путевку я получил на Балтийский судостроительный завод. Должность – мастер. Завод обязался предоставить место в общежитии. Такую же путевку получил Юра Попов. Перед самым отъездом путевки нам обоим поменяли. Окончательно: Ленинград, Всесоюзный проектно-технологический институт Министерства судостроительной промышленности, инженер механосборочного отдела, оклад – 880 рублей, предоставляется общежитие. Никаких эмоций эта замена у меня не вызвала: оба кота были в плотных мешках.
Фото при расставании…
Значительная часть киевлян осела в Киеве, преимущественно – в Институте Электросварки. Многие туда перебрались после некоторых трудовых усилий на периферии (сейчас говорят – в регионах). Во всяком случае, когда я приехал в ИЭС спустя лет 10, то мне казалось, что я опять оказался в КПИ: я ведь знал людей факультета на пару курсов ниже и выше своего. В Киев возвратились и «орские изгнанники». Год они, правда, провели в Орске, обвиняя друг друга в постигшей их ссылке, затем благополучно перебрались в Киев. Кажется, позже они уехали в Израиль или в США. Коля Леин получил назначение в «ящик» в Электростали, Серега Бережницкий – в «ящик» Саратова или Куйбышева (сейчас – Самара?). Из всех наших девушек мне известно только о судьбе Наташи Деркачевой (Яворской): она всю трудовую жизнь проработала на Киевском авиастроительном заводе Антонова в высоких сварочных должностях – увлеченно и с полной отдачей. Сам Юра – доктор тех. наук в ИЭС. Поля Трахт (Мисонжник) получила назначение в Винницу на номерной завод, но там о ней никто ничего не знал, – очевидно, она туда так и не попала.
Цезарий Шабан за год до нашего распределения уехал в Кенигсберг – Калининград. Недавно (2004 г) он в письме привел мне скорбный список наших ребят, ушедших из жизни…
Последующие даты
Чем дольше живем, тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса…
(Б. О.)По интенсивности и насыщенности жизни студенческие годы нельзя сравнить ни с чем. Друзья, ставшие таковыми в эти благословенные годы, остаются друзьями на всю оставшуюся жизнь…
Основная масса нашего выпуска 1954 года спустя несколько лет сосредоточилась в Киеве. Даже те, которые получили путевки в Орск. Это обстоятельство помогало инициативным ребятам собирать юбилейные сборы выпускников.
Первая наша встреча, посвященная 10-летию, судя по надписи на фото, произошла несколько позже – 2 мая 1965 года. Пьянка состоялась в крутом ресторане на Крещатике. Разглядываю фото. Не все смогли или захотели приехать, но все еще живы. В центре стоит наш дорогой «дед» – Иван Петрович Трочун, он тогда уже себя чувствовал неважно, но очень радуется нашей встрече. Рядом с ним «мама» факультета – Нина Ивановна Ткаченко. Слева от нее стоит Юра Попов. Его шуточки над Мауэром все такие же, какие были в военном лагере. Сохранился человек, однако! Скоро он трагически погибнет в Латвии: туда к отцу он уехал из Ленинграда… На левом фланге беседуют Поля и Наташа – две звезды нашей группы. Рядом с Полей – ее верный муж Озик, который всех нас знает: он, музыкант, после сошедшего с дистанции Кандина «тянул» на собственных нервах буйный хор нашего факультета. Во втором ряду (слева направо) стоят Лена Скорик (Маслова), Боря Вайнштейн, Толя Венгрин, Юра Яворский, Мауэр, Колиснык, Кандин, Беба Обуховская – мучительница Олифера, Клара Чуприк и Лазарь Адамский с женой (настоящей, а не для распределения). Он уже сварил все газопроводы в Орске и вернулся в Киев… На заднем плане просматриваются Хоменко, Моргун, Вахнин, Маслов. Воспетый Хлавновичем СэрГи(ги)енков, к сожалению из-за Кандина виден только в половину лица. Зато дальше прекрасно видны Миша Шовкопляс и очкарик Жора Олифер. Фамилию девушки, стоящей справа от меня, – запамятовал. Я пугаю мирных инженеров военно-морским облачением, но присутствие миловидной супруги несколько разряжает обстановку… Ночуем мы у Яворских. Праздник в более узком составе в их квартире продолжается с еще большей энергией…
Мы молоды и полны сил, у нас если не все, то еще многое впереди…
Следующую встречу – 20-летие нашего выпуска – киевляне организовали блестяще на майские праздники 1974 года. Вместе с механиками арендовали на три дня целый пионерлагерь в Ворзеле под Киевом. Механики – наши друзья: мы одного потока, все общие лекции у нас были вместе. Место – изумительное по красоте, мы никуда не торопились, все застолья – в общей столовой. Хоры, игры, прогулки вместе и группами – все как у юных пионеров… Вот выдержки из поэмы Маслова, посвященной этому сбору. Юрка – не Некрасов, но кое-что обрисовал после – надцатой.
В какой земле – угадывай,
В каком году – рассчитывай,
Не просто на собрание,
И не для возлияния,
А свято чтя обет.
Теплом его согретые —
Через двадцатилетие
Собрался факультет!
Собрались пополневшие,
Местами облысевшие,
Чтоб повстречаться с юностью,
Отчет держать пред совестью
За двадцать лет житья…
Собрались и захвастали…
…………………………………
Тот – год провел на Фобосе,
Тот – вечерами в «Космосе».
А этот припеваючи и пиво попиваючи,
Сидит в пивном ларьке…
А та – спецкор за штатами,
Стихи свои печатает
В воскресном «Огоньке»…
……………………………
Та – что поет как Огнивцев,
А тот женат на школьнице.
Тот – за границу шастает
И новой Ладой хвастает…
Подняли все вверх дном!
Наш оргкомитет перед каждой встречей разрабатывает анкету. Затем выбираются лучшие ответы на каждый вопрос, возникает «докУмент». Покажу только одну, сохранившуюся у меня анкету с некоторыми, слегка сокращенными, ответами.
АНКЕТА
Отвечать честно и разборчиво!
1. А Ты кто?
Растерял я зубы, гриву, – сохранил (пока что) ФИО.
2. Как долго длились для Тебя эти 20 лет?
Как летаргический сон: все слышал, видел, но не высказывался.
3. Как Ты движешься по жизни?
Зигзагами – по горизонтали и вертикали…
4. Хватает ли у Тебя …….?
На что намекаете? Жена сказала – нет, знакомая – да.
5. Длина окружности по голой талии (через пупок) в мм до и после того.
Колеблется синхронно с зарплатой.
6. Что такое настроение?
То, что настраивается бутылкой…
7. Семья есть? Какая?
Семья-то большая, да два мужика лишь – я и кот Тимофей.
8. Какого возраста внебрачные дети? Разыскиваешься?
На всякий случай ласков со всеми детьми.
9. Наличие волос, зубов в % от исходного.
С учетом выросших в носу и ушах?
10. Какие у тебя увлечения (здоровые и нездоровые)?
Мое хобби – повышенные соцобязательства!
11. Изменились ли у Тебя врожденные наклонности?
Рожденный ползать – летать не сможет, как сказал сварщик А. М. Пешков.
12. Какую из своих порочных наклонностей Ты больше всего любишь?
Самую непорочную: сон после обеда.
13. Какое давление и давит ли на психику?
Давит. И есть желающие еще надавить.
14. На что Ты ещё способен?
На бесплатные советы.
15. Как подхалтуриваешь? Есть ли постоянная работа?
Довольствуюсь халтурой на работе.
16. Любишь ли начальство? А оно Тебя?
Любви начальства незаслуженно лишен…
17. Какие у Тебя связи?
Только для души и по телефону, полезных – нет.
18. Куда деваются деньги?
Туда же, откуда берутся клопы.
19. Чем займешься, выйдя на пенсию?
20. Что читаешь кроме детективов?
Календарь – перед зарплатой.
21. Где официально, кем и за что работаешь?
В ИЭС, научным сотрудником, за глупость.
22. Если есть в жизни главное, то что это?
Транспортная проблема: кто на ком будет ездить.
23. Предложи лозунги для сварочных братьев и сестер.
МНС! Грызи гранит науки так, чтобы образовалась уютная пещера для семьи!
Сварщик! Не ковыряй в носу электродом: повредишь обмазку!
Из ответов на анкету видно, что есть еще табак в пороховницах! Не зря перед стенгазетами нашего факультета вечно толпился народ…
На четвертьвековой юбилей в 1979 году я уже не смог поехать и написал друзьям послание, «как бы» (очень модное сейчас словосочетание), – стихи. Название послания я бессовестно украл у Лени Хлавновича из материалов предыдущей встречи. По рассказам очевидцев – письмо имело успех. Поскольку там упоминается много событий и лиц, уже известных из ранее написанного, – привожу его целиком, несмотря на вопиющие погрешности рифм и размера: самоучка, однако…
НАВЕКИ ВСТЫК
Послание 25-летним инженерам – сварщикам от МЕЛЬНИЧЕНКО Н. Т.
(подстрочный перевод с древнегреческого)
Простите, друзья, что сегодня
Не смог я к вам прибыть:
Кой-где в организьме зажало,
А кой-где кой-что затвердело,
В результате ослабло могучее некогда тело,
Но разум, как будто, на месте, доселе кипящий…
Хоть душа к вам стремится,
Но без тела пока что не может.
Хочется видеть вас всех повзрослевших, наверно, чрезмерно:
Тот, кто высок был и тонок, глаза же имел голубые,
Нынче – пониже, потолще и с карими вовсе глазами…
Мысленно взор мой сдвигает такие короткие длинные годы…
Кажется только вчера или утром сегодня
Нашего Деда мудрейшим словам мы внимали,
Чертили, любили, учили, гуляли, сдавали,
Щедро и силы и время свои мы друзьям и врагам раздавали,
И скудные драхмы, добытые тяжким трудом пролетарским,
Совсем не жалели на Киевской славной толкучке,
Моднючие бобочки, лампы, динамики там закупая.
Питались же мы колбасой, что так громко стреляла в жаровне,
И презирали мы крабов нежнейших,
Банок с которыми тыщи стояли на полках харчевен…
Дайте же силу, о боги, воспеть всех друзей,
Тогда молодых и душою и телом…
Вот первородный староста – наш граф Яворский,
Он – яростный борец за справедливость;
Несправедлив он только был к Наташе ясноликой,
Которая его потом за то окольцевала
И обуздала нежною рукою.
Вот Венгрин Толя – великан с душою детской,
Но со шкалой по-мужски непомерно упругой;
Пащенко длинный, спорщик упрямый;
Серж – элегантный до женского полу;
И Олифер, шелапут беззаботный,
Всеми любим, кроме Девы, Сошедшей с Иконы…
И богатырь Мусиенко, парень-рубаха,
Именем редким Иван нареченный.
Леин – трудяга, готовый придти всем на помощь,
И Олифера пасущий,
В длинных всех дылд безнадежно влюбленный…
Владик Крыськов, мотоцикла владетель счастливый,
Вдохновенный рассказчик о случаях с ним происшедших.
В Ночь Новогоднюю ими замучивший нежную деву;
Она же могла бы еще пригодиться,
Поскольку еённая мама харчевню держала для бедных студентов.
Троицкий Сева, своим рефератом о Зайце хлебнувшем,
Боль поселявший в желудок, печенку и кишки от смеха…
Сэр Гигиенков, задумчиво скромный,
Хоть запоздало – но громко-смехучий,
Гордо воспетый в стихах сладкозвучных
Бардом великим Хлавновичем Леней,
Званье Грузинского Князя присвоивших Сэру…
Мауэр наш, величаво в атаку ходивший на сборах;
Юра Вахнин, знавший все о спортсменах,
И информацию ту отдававший охотно;
Кандин суровый, оркестра и хора ревнивый властитель,
Вечно на лекциях пьяный,
Но в рот не берущий ни капли сивухи презренной…
Боря Вайнштейн, деловито согбенный;
Оригинал Колиснык, что гортранспорт пешком обгоняет;
Феликс кудрявый со страстной в лазурных глазах поволокой;
Лазарь активный и бодрый, отличник бессменный…
И Шовкопляс Михаил, наш вояка бывалый,
Вдрызг разгромивший другого сержанта, ленивого духом и телом,
Вместо атак нас водившего в леса прохладу.
(Урок для себя я запомнил и сыну, надевшему лычки, поведал).
Кто же здесь я среди личностей ярких и сильных?
Майк многогранный, как Леин сказал?
Прав он, возможно, но граней ставало все больше,
А угол меж ними, который в науке следы оставляет, – тупился.
Подруга сказала: со мной хорошо бы в разведку,
К жизни нормальной же я непригоден…
(Правда и это: всю жизнь я в разведке,
Награды и званья в штабах затерялись за линией фронта)…
В ярком созвездии девушек наших
Каждую вижу отдельно:
Томную Римму, добрую Клару и верную Озику Полю.
И ясноглазую фею Наташу,
Полную веры в людей, доброты и наивности милой,
Ту, что сплотила мужчин всех железных,
А самого-самого мужем назвала…
Но хватит: мой косный язык
За беглою мыслью угнаться не в силах,
Хотя подражает Великому Старцу Гомеру.
И только лишь Леня Хлавнович великий
Мог бы в кратких и ярких стихах передать
Невнятные импульсы – нашей души бормотанье…
В речи моей, к сожаленью, нет краткости сильной,
Что характерна для нашего Деда:
«Жулье от науки» и «глупо-тупой» –
Эти слова, например, суть человека саму обнажали,
Покровы срывая.
Павлова ярости нет, что твердил про свинец в одном месте,
Что инженеру нужней, чем таланты,
И про артели «Свисток сентября»
На Куреневке, куда мы толпою как будто стремились…
В памяти мудрый Сахненко всплывает,
Нам объявивший, что Гровера шайбу
Наш русский товарищ открыл –
Крестьянин Максим Козолупов,
Хитрый же немец похитил бессмертную шайбу
И имя свое ей присвоил навечно…
И Кореняко седой, отчетливо нам разъяснивший,
Что ложка – не есть механизм и машина;
Ученый марксист, себя барсуком объявивший,
И врач физкультурный,
Про возможности женщин красивых твердивший…
И общежитие наше – не пристань, а море,
Где плавали мы, молодые дельфины.
Киев цветущий и Днепр благодатный;
Белоцерковского жар танкодрома,
Где мы пехотную лямку тянули,
И, окопавшись в песке раскаленном,
Пели про страсть и про негу,
Которыми взор ее блещет;
И интегралов упрямых ночные решения;
И на чертежных листах наслоения
Наивности, пота и – взлет озарения…
И в океане лазурном рывок парашюта целебный,
И Гмыри концерты, и споры о жизни…
В мощных динамиках старшего Лещенки стон
Про Татьяну и дни золотые…
Прошедшей весны возвратить он не мог,
Мы же знали: весна бесконечна…
Мы старыми стали. Иные заботы нас гложут.
Весна возвращается только лишь в детях…
Но мы еще живы! И помним все это!
И юность прошедшая все же бессмертна!
1954+25=1979 г. NTM г. Ленинград.Я дожил и до полувекового юбилея нашего выпуска. Предыдущий выпуск сварщиков, в котором учился ЦВ (Цезарий Шабан), – пытался собраться. У нас же – никаких сигналов не было: «наш голос глуше, глуше…». Много ребят уже ушло, а главное – нет у нас уже общей Родины, наша Украина стала самостийной державой, где не очень жалуют москалей, каковыми стали сейчас многие из нашего выпуска, в том числе – и я. С оказией, – внуком Лени Колосовского, отправил письмо и свою книгу на кафедру сварки КПИ и Яворским. Нет ответа…
12. Ленинград
С чистого листа
За далекою Нарвской заставой
парень живет молодой…
Конец августа 1954 года. Все осталось позади: Деребчин, Киев, институт, неласковое расставание с «малявкой», короткие последние каникулы, называемые уже отпуском, прощание с мамой и Тамилой. Из Киева, забрав измененные путевки, мы с Поповым отправляемся в Ленинград. Я – свободный, как муха, молодой инженер, прибыл в бывшую столицу бывшей Российской Империи для трудовых подвигов и завоевания своего места под солнцем…
В наших путевках указано место работы – Всесоюзный проектно-технологический институт Министерства судостроительной промышленности. Адреса нет. Горсправка на Витебском вокзале его не дает, отправляет в некую контору. В конторе без вывески тщательно проверяют документы и сообщают адрес на Расстанной улице. Добираемся туда. Оказывается, – не туда: это тоже ВПТИ, только Минтяжмаша. Там, тоже проверив документы, посылают к Нарвским воротам на улицу Промышленную 7. Добираемся и туда, осматриваем Нарвские ворота, огибаем фабрику-кухню и Кировский универмаг. Вот и указанный номер. Никакой вывески нет, в проходной – вооруженная охрана. В бюро пропусков куда-то долго названивают, затем выписывают разовый пропуск. С сопровождающей – юной девчушкой – входим внутрь огороженного глухим высоким забором пространства. Там, оказывается, расположено несколько зданий и цехов. От девчушки запросто получаем важные секретные сведения: наш ВПТИ размещается на территории некоего п/я – «почтового ящика» – ЦНИИ технологии судостроения. Находим наше начальство, представляемся. Короткие беседы, оформление пропусков и заявки на общежитие. Едем в Автово, на Ждановский завод. Там нас направляют в общежитие судостроителей, находящееся на улице Григоровской. Находим Григоровскую (позже она каким-то образом слилась с перпендикулярной улицей Гладкова). С удивлением рассматриваем проходную, из которой вышли час назад. Наше общежитие находится в 50 метрах от проходной нашей фирмы!
Общежитие размещено в двухэтажном домике с одним подъездом, с желтыми оштукатуренными стенами и небольшими окнами – почти как в сельской хате. Позже я увидел в Ленинграде несколько улиц и отдельных скоплений, заполненных такими домиками, иногда – трехэтажными. Эти домики, оказывается, строили пленные немецкие солдаты, чтобы частично искупить вину за порушенные во время войны.
Меня поселяют на первом этаже в типичной двухкомнатной квартире с кухней и ванной, снабженной газовой колонкой. «Уплотняют» старожилов нашей квартиры. Теперь в ней будут жить шесть человек: двое в маленькой комнате, и четверо – в большой. Старожилы воспринимают уплотнение спокойно: шестого отселили совсем недавно. Попова поселяют на втором этаже; там общежитие размещается в трехкомнатной квартире. Металлические кровати с постельными принадлежностями мы перетаскиваем с соседнего домика, где находится склад коменданта, точнее – комендантши. Начинаем жить.
Вечером, когда все собираются, организую небольшой «междусобойчик» по случаю вселения и начала трудовой деятельности. Выставленная полбанка с нехитрой, вполне студенческой, закусью реализуется мгновенно. Плавно вхожу в общество (теперь бы сказали – «в плотные слои атмосферы»).
Знакомлюсь со старожилами. Самый старший – ему около 30 – Алик Вейцман – математик, работает конструктором-расчетчиком в КБ на Кировском заводе. Олег, Иван с младшим братом и Михаил трудятся на Ждановском – рабочими или бригадирами. Общество у меня совсем простецкое: все «лимитчики», приехавшие из деревень и городишек для подъема ленинградской промышленности. Иван вытащил брата из псковской деревни совсем недавно. Несколько особняком держится Алик Вейцман: он старше, он – элита, пролетариев воспринимает с легким юмором. Мое появление он воспринимает с радостью: по идее (теперь – «по умолчанию») я тоже уже принадлежу к «белым воротничкам».
На следующий день 25 августа 1954 года мы с Поповым начинаем первый в своей жизни трудовой день в должности инженеров. Получили рабочие места: стулья и столики в большой комнате с такими же столами и «столоначальниками». Это механосборочный отдел. Его начальник Иван Кузьмич Дагаев внимательно присматривается к нам, мы присматриваемся к своему начальству. Первые впечатления у меня весьма положительные. Дагаев – среднего роста, средней комплекции мужик лет 45, что по нашим понятиям где-то на пороге пенсии. Говорит он немного, больше слушает, на первый взгляд – обычный технический сухарь. Выдают чуть прищуренные глаза: они очень внимательные, быстрые и насмешливые. Да и речь, пожалуй, для технического сухаря слишком образная.
– Это, мой юный друг, бульбонос, – объясняет мне задание Дагаев, разворачивая чертежи. – Он нужен, чтобы корабль лучше бегал и не расходовал силы на красивый бурун. Наши умельцы не могут отлить его целиком: они верят, что мы его сварим. И сварим так, что он лопнет позже, чем они вернутся из первого рейса. Вот и сварите его, пока – на бумаге…
Бульбонос – форштевень, разрезающий воду нос корабля, с огромной полусферой – бульбой в подводной части. Смотрю на сборочном чертеже его размеры и поеживаюсь. Вес (правильно: масса) – десятки тонн. Таким он будет после сварки. А вот чертежи заготовок, их несколько штук. Как и чем варить – не знаю. Надо также учесть, что сам бульбонос будет сварен с корпусом, что создаст дополнительные напряжения. Вникаю в марку стали, размеры, конфигурацию: начинаю трудиться, «загружать подсознание»… Какие-то решения придут позже, в самое неожиданное время и в любом месте. Предварительно продумываю формы и конструкцию необходимой оснастки, – приспособлений, позволяющих выдержать после сварки заданную чертежом геометрию. Работаю, не отрываясь, несколько часов до обеда. Дагаева уже нет. С предварительными набросками – планом работ и эскизами – иду к Нарскому, заместителю Дагаева по сварке. Нарский (имя-отчество я запамятовал) – гораздо старше, худощавый с седыми колечками волос над морщинистым лицом. Его фамилия мне знакома по каким-то публикациям в сварочной литературе. Нарский бегло просматривает мой план и эскизы и затем с удивлением рассматривает меня.
– Ты что сдурел, сынок? Это же работа целого конструкторского бюро на несколько месяцев! Если мы все это будем делать, то останемся с тобой без куска хлеба! Там на заводе столько бездельников, всяких конструкторских и технологических бюро, – это их прямая работа! По договору мы даем заводу только общую технологию, а дальше – пускай сами разбираются! Технологий, которые мы должны дать в срок – великая уйма, а ты собираешься сидеть только на одной целый год!
Нарский добывает для наглядности пачку технологий, выполненных предыдущими поколениями инженеров ВПТИ для различных заводов. На двух-трех листках с фирменными лейблами и графами основное место занимают: номер и дата договора, шифры, номера и характеристики свариваемых деталей. В очень скупой технологии есть только: вид сварки, марки электродов, последовательность операций, термообработка (до и после сварки), методы контроля. Все! Далее куча подписей начальства нашего и заводского, а также скромная подпись «разработчик технологии.
– И за это завод платит деньги? – сомневаюсь я.
– И немалые, – с энтузиазмом подтверждает Нарский. – И никуда больше эти деньги он деть не может: их целевым назначением дает заводу министерство. С этих денег и тебе, разработчику, что-то отстегнется сверх оклада. А какой у тебя оклад? 880? Да, не разгуляешься… Гони побольше этих технологий: портфель – огромный! Глядишь – и разбогатеешь.
Начинаю постигать азы плановой экономики социализма. Юрка Попов их уже, похоже, освоил и успешно использует: бодро «клепает» вторую «технологию», пока я размышляю, как подступиться к своей первой. Он элементарно, совсем по-студенчески, добыл у сидящей рядом девы «козу», успешно ее передрал. У него в активе уже контакт с девой и почти оконченная вторая «технология». Резко снижаю «высоту», и пытаюсь догнать Попова, что мне не удается. Во всех, даже столь примитивных технологиях, я вижу опасности коробления и даже – разрушения. Считаю своим долгом обозначить опасность и предостеречь будущих изготовителей. Мои технологии разрастаются пояснениями, предостережениями и вариантами на полях. Дагаев, очевидно, перед подписью просматривает наши с Поповым технологии, но никаких замечаний не делает.
Недели две мы более-менее успешно «пашем» на технологиях. С большинством народа нашей конторы мы перезнакомились. Много девушек, некоторые – совсем уже «на выданье» и оценивающе рассматривают нас, в основном – Попова. По разговорам на перекурах узнаем, что несколько наших бригад работают по договорам на заводах – «внедряют» или испытывают новые технологии. Там всё заводское, наши – только мозги и руки. Иногда, бывает, завод артачится, не принимает наши технологии, и тогда разработчик едет туда, чтобы разрулить ситуацию. Чаще – завод не обращает внимания на ЦУ и делает все по-своему: мало ли, какие пишут нелепости на бумаге…
Однажды утром Дагаев приглашает нас с Поповым «на прогулку». Идем к Кировскому райсовету, затем через сад 9 января выходим на улицу Трефолева, затем по переулку с железнодорожными рельсами. По пути Иван Кузьмич коротко сообщает нам, что мы будем работать на заводе п/я №…, открытое название которого «завод имени Молотова», в бригаде старшего инженера Александра Александровича Трекало. Бригада Трекало на заводе занимается отладкой технологии и оборудования наплавки. Завод же производит ответственную запорную арматуру – задвижки, вентили и т. п. для подводных лодок и всего ВМФ.
Подходим к проходной завода. Нас пропускают по нашим пропускам в ВПТИ. Среди цехов завода находится двухэтажное здание; две комнаты там – наши. Встречает нас сам Трекало, пятидесятилетний мужик, при галстуке, с выдающимся животом, придающем его фигуре внушительность и импозантность. В его бригаде еще старший техник Толя Малышев, невысокий тридцатилетний брюнет с горящими цыганскими глазами. Еще один техник – совсем юная девчушка Зина. Позже появляется рабочий, приданный нашей группе от завода – отставной майор-пограничник, оформленный учеником сварщика. Как узнал я позже, – упрямый, как все майоры.
Кроме стола и стульев, в комнате огромный шкаф с папками. На столах другой комнаты расставлены детали задвижек и клапанов со следами наплавленных уплотнительных поверхностей, самые крупные – лежат на полу.
– Вот привел тебе, Сан Саныч, для укрепления целых двух инженеров, молодых и способных, – обращается Дагаев к Трекало. – Теперь у тебя работы пойдут быстро, да и в отпуск сможешь уйти, когда наладится работа.
– Посмотрим, посмотрим, – цепко окидывает нас взглядом Трекало. Краем глаза замечаю, как иронично кривит губы старший техник Малышев, дескать, что они могут эти желторотые… Сам Толя Малышев – природный сварщик: рабочий, затем бригадир. Окончив сварочный техникум, долго работал мастером. Ему кажется, что в сварке он знает и может все…
Все садятся вокруг стола. Сан Саныч докладывает Дагаеву о проделанной работе, демонстрируя образцы со второй комнаты. Дагаев внимательно слушает, изредка прерывая Трекало, чтобы объяснить нам еще непонятные нюансы.
Картина вырисовывается не очень радостная. По договору с заводом наша фирма должна освоить наплавку хромистой стали на уплотнительные поверхности клиновых затворов. Сделан станок, отработана технология способом лежачего электрода под флюсом. Не получается замыкание кольца наплавки: между началом и концом наплавки разрыв около 10 мм. Кроме того, выгорает хром электрода, и в наплавленном металле его оказывается мало. Добавление в металл электрода порошка феррохрома почти спасает, но чуть-чуть «не дотягивает хром». Надежда на новый флюс, разработанный в ИЭС им. Патона, но завод никак не может освоить его выплавку. Тут мы не крайние: завод по договору должен был дать нам этот флюс еще полгода назад. К опытам по контактной сварке бугелей (так называется дуга с гайкой на крышке вентиля), – тоже не можем приступить: завод никак не может окончить изготовление оснастки к контактной машине. Выступает майор. Он добавил в серийный сварочный флюс некоей пыли, собранной в электродном цехе и содержание хрома в наплавке повысилось на 0,2 %. Майор видит этот путь очень перспективным и предлагает обратить внимание на добавку пыли в сварочный флюс.
Дагаев всех внимательно слушает. В итоге говорит только, обращаясь к Трекало:
– Ну, – разбирайтесь.
Заводские посиделки
Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? – ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло; а месяц – ночью.
(К. П. № 51)На следующий день мы с Поповым уже нормально идем на новое рабочее место. Выходим минут за 40 до 9 часов. Проходим мимо памятника Кирову, мимо серой громады райсовета, построенного в стиле конструктивизма, пересекаем сад 9 января. Со стороны проспекта Стачек сад огорожен замечательной красоты кованой изгородью, секции которой закреплены на красных кирпичных столбах. В центре каждой секции – пустое место. Раньше его занимали роскошные и непостижимые двуглавые орлы, теперь – аляповатые картины с пионерскими барабанами, горнами и галстуками. В Ленинграде стоит теплая золотая осень, вокруг расчищенных дорожек сада – ковер из золотых листьев. Солнца не видно, стоит серый денек. Я люблю такие деньки: работается тогда очень хорошо.
Весь остаток прошлого дня мы провели на заводе сообразно своим наклонностям. Попов всех обошел, со всеми познакомился, всех обаял. Сейчас он здоровается с новыми знакомыми, как с лучшими друзьями, все ему рады, даже старший техник Малышев. Знакомство не только приятное, но и самое необходимое – с замначальника цеха, где мы будем работать. Валера Загорский – наш ровесник и коллега: инженер-сварщик, окончил Челябинский политехнический институт. Попов по своей старинной привычке при встрече за несколько метров раскрывает руки для объятий и издает очень радостный вопль: «А-а-а…!». С Валерой они при встрече обнимаются, как старинные друзья, долго бывшие в разлуке. Мне – завидно, я не умею так быстро знакомиться.
Вчера несколько часов я провел с майором и Толей Малышевым: мы наплавляли запорные клинья задвижек. Стальной клин на обеих щеках имеет проточенные круглые выступы, на которые мы должны наплавить хромистую сталь. Проточенные и отшлифованные кольца клина при закрытии задвижки должны точно сомкнуться с кольцами корпуса и выдержать без какой-либо течи огромное давление морской воды. Технология наплавки была оригинальная. Клин зажимался на столе станка так, чтобы наплавляемая поверхность была горизонтальной. Разомкнутое кольцо диаметром около 100 мм (по диаметру наплавки) из хромистой проволоки диаметром более 10 мм имело с одной стороны отогнутый вверх хвостовик. Этот хвостовик зажимался в цанге станка, через него подавался сварочный ток. Цанга могла двигаться вверх-вниз, чтобы выставить требуемое расстояние от плоскости кольца до наплавляемой поверхности. Затем все засыпалось слоем флюса. Угольным стержнем между деталью и началом кольца зажигалась дуга, которая затем, медленно двигаясь под флюсом, расплавляла флюс и кольцо, наплавляя его металлом деталь. (Так производится сварка «лежачим» электродом, тогда длину дуги, которую видно, определяет толщина обмазки). Когда наплавка доходила до хвостовика, дуга удлинялась и гасла. Металла хвостовика, расплавленного до обрыва дуги, не хватало, чтобы замкнуть наплавку.
Мы пытались замкнуть наплавку разными ухищрениями: изменяли в месте замыкания высоту горки флюса, варьировали величину тока и напряжения, – все было напрасно. Через неделю тщетных усилий меня «осенило». Пошел в цех, где изготовляли для нас кольца, и выдал им эскиз слегка измененного кольца: часть хвостовика была наклонной. Слесари сразу изготовили несколько колец по эскизу. С майором и Толей мы провели испытания. Когда дуга дошла до хвостовика, я начал станком опускать его вниз, расплавляя наклонную часть. Очистив деталь от шлака, мы увидели замкнутое ровное кольцо наплавки! У Толи слетел ироничный вид, загорелись цыганские глаза:
– Вот это да!
Майор вообще чуть не пустился в пляс. Наплавили еще пару клиньев и понесли их, чтобы показать Сан Санычу. На его лице отразилась гамма «смешанных чувств»: с одной стороны ему было приятно, что задача решена, с другой стороны – он лично решал ее очень долго и безуспешно, а решил ее присланный «желторотый». Трекало помолчал, затем все же выразил всем участникам «чувство глубокого удовлетворения».
Следующий месяц мы бились над другой важной проблемой – выгоранием хрома. Для того чтобы повысить его содержание, наплавочные кольца макали в жидкое стекло (это обычный силикатный клей), затем обсыпали порошком феррохрома и сушили. Эта дремучая технология повышала содержание хрома на целый процент, но этого было мало. Но главное: ручное макание и обсыпка не давали одинаковых и стабильных результатов. Мы без конца таскали наши образцы в заводскую лабораторию: результаты по хрому неизменно плясали ниже требуемого уровня. Если пересчитать содержание хрома в проволоке колец и в обсыпке, то его должно было быть сверх нужного в два раза больше. Весь избыток пожирал флюс ОСЦ 45, предназначенный для обычных углеродистых сталей. Тут мой майор взбеленился и стал настойчиво требовать примешивать к флюсу его порошок. Толя соблюдал нейтралитет, внимательно выслушивая доводы сторон.
– Ну, хорошо, Андрей Николаевич, мы его подмешаем, – урезонивал его я. – Вы знаете его химсостав? И сколько у вас этого порошка, собранного на полу, чтобы включать его в технологию наплавки?
Однако майор был непреклонен:
– Но ведь я добился повышения хрома! Если мы испытаем порошок и получим результат, то можно наладить это производство!
Я рассвирепел:
– Ну, хорошо – давайте ваш порошок!
Бывший майор, теперь – ученик сварщика, мужчина в летах, начал упрямо собирать по углам цеха пыль, торжественно отмерил большую порцию и добавил в флюс. Дуга долго не хотела зажигаться. На середине наплавки амперметр подозрительно остолбенел на небольшом токе, что означало прекращение горения дуги и начало электрошлакового процесса. Дело в том, что расплавленный флюс проводит ток как обычный резистор. Когда расплавленного флюса слишком много – происходит гашение дуги и поступающая энергия просто плавит флюс еще больше, а металл электрода собирается в виде крупных капель. Майор это знает: так у нас случалось, если был выставлен слишком большой зазор от кольца до детали.
– Вы поставили слишком большой зазор! – не сдается майор. Я заряжаю в станок следующее кольцо и молча уступаю место майору. Он выставляет минимальный зазор. Результат – тот же. На старика жалко смотреть, мы уже потеряли половину дня, но я разрешаю ему:
– Хорошо, Андрей Николаевич, снесите наплавку на химанализ…
Прилепившиеся к клину крупные капли металла трудно назвать наплавкой, но обрадованный Андрей Николаевич хватает протянутую соломинку спасения и бежит с образцом в лабораторию. Возвращается он совсем убитый: хрома очень мало…
– Ну, вот видите, – укоризненно говорю ему я, ни словом не напомнив о потраченных материалах и времени. Пограничник смиряет гордыню, а я приобретаю помощника и прилежного ученика. Уже пожилой, по моим тогдашним меркам, человек по-настоящему увлекся сваркой. Он задавал мне бесчисленные вопросы, я – добросовестно объяснял. В эту викторину постепенно включился и Толя Малышев, обнаружив зияющие пробелы в своих знаниях, особенно по флюсам, сплавам и электричеству. Майор же начал самостоятельно читать техническую литературу по сварке. Не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба; но весьма вероятно, что он мог достичь высот в нашей специальности.
Для решения наших задач нужен был специальный флюс АН-20, разработанный в ИЭС. Завод уже давно пытался изготовить этот флюс, но вместо стекловидной зернистой массы у него неизменно получался некий пемзовидный продукт с другим, совершенно непонятным, химическим составом.
Из любознательности я стал часто пропадать в электродном цехе. Там электродные прессы быстрее пулеметов выстреливали на конвейер обмазанные электроды. Флюсы выплавлялись в футерованных огнеупорами больших печах-ковшах, десяток которых стоял в ряд. Графитовый электрод диаметром более 100 мм опускался внутрь ковша. Там ревела мощная дуга и плавились ранее загруженные, точно взвешенные, компоненты. Через некоторое время ярко светящийся расплав струей выливался в воду, трескаясь на коричневатые стекловидные частицы размером около двух миллиметров. Готовый флюс сушили и упаковывали. Производство было непрерывным: печам с раскаленной огнеупорной футеровкой нельзя было остывать. Когда требовалось выплавить флюс другой марки, то первая плавка шла целиком в плановый брак: ведь на футеровке оставались остатки прежней плавки.
Большим цехом с весьма вредным производством командовали две молодые симпатичные женщины: начальник цеха Женя и технолог Белла. Я познакомился с ними, расспрашивая об их вредно-интересном производстве, которого раньше нигде не видел. Женщины были энтузиастками своего дела и охотно просвещали меня. Вскоре я задал им невинный вопрос:
– Так когда вы, девочки, нам дадите флюс АН-20?
Женя сникла, а на глазах Беллы вообще появились слезы:
– У нас этот заколдованный флюс вообще не получается… Я уже ночами спать не могу из-за этого флюса, меня скоро муж прогонит, – пожаловалась она. Женя начала листать календарь:
– Вот у нас очередная попытка выплавки АН-20 через два дня. Приходи, посмотри, что мы делаем не так. Можешь даже самолично взвешивать все компоненты.
Я соглашаюсь, принимаю приглашение. На выходе из цеха сталкиваюсь с Трекало.
– Ты что здесь делаешь? – подозрительно косится он на меня.
– Да вот девочек проведал. Хочу понять, почему у них наш флюс не получается, может быть, помогу как-нибудь.
Трекало от меня отшатнулся, как от нечистой силы, и замахал руками:
– Да ты что! Не смей и думать об этом! Забудь! Как только они дадут нам флюс, – мы сразу станем крайними, нас сразу же возьмут за горло! Пусть сами выкручиваются, сами, – понял?!
– Хорошо, Сан Саныч. Пусть сами выкручиваются, – примирительно ответил я, чтобы успокоить разгневанного начальника. Трекало еле отошел. Еще долго, взяв меня за локоть, он объяснял мне, какими бедами грозит нам появление на нашем горизонте флюса АН-20…
Конечно, вопреки предписанию начальника, на выплавку АН-20 я пришел: обещал ведь женщинам. При мне тщательно взвесили и загрузили в ковш компоненты, постоянно сверяясь с «букварем» – техническими условиями ИЭС, включили дугу. Ковш мощно загудел, началась плавка. Во время плавки из ковша выделяется столб пыли и дыма, который отсасывает вентиляция. Над нашим все было так же, но среди пыли над ковшом загорелся голубоватый огонь, который продолжал гореть почти до конца плавки. У других флюсов огня не было.
– Что за огонь? – спросил я Беллу.
– Да нечему там гореть, – пожала плечами Белла. – Все негорючее…
Плавку вылили в воду, как обычно. Женя молча нахмурилась, эмоциональная Белла в отчаянии взмахнула руками:
– Ну, видишь? Все то же, как всегда…
Без всяких химических анализов было ясно, что флюс опять не удался: мелкие серые крупинки напоминали раздробленную пемзу, желанной стекловидности не было и в помине. При сварке такой флюс почти не плавится и не поддерживает горение дуги, – это мы уже знали точно… Женщины выжидательно смотрели на меня, изображающего глубокие размышления. А размышлять было не о чем: я ничего не понимал. Еще раз полистали технологию. Может быть, упустили запятую в весах компонентов? Нет, запятые были в порядке: сумма процентов сложенная в столбик показала 100.
– Вот что, милые дамы… Трекало запретил мне сюда ходить, поэтому дайте мне с собой все химанализы АН-20 и патоновские ТУ. Дома поработаю, может быть, что-нибудь пойму…
Дома работать было почти невозможно, о чем я дальше расскажу. Тем не менее, я приладился и разложил пасьянс химических анализов выплавленных неудачных партий нашего флюса. Анализ, как и в патоновских ТУ, велся по десятку элементов и соединений. Все числа были разные, ничего нельзя было понять: увы, ошибки были везде. Тогда я стал вычислять среднее содержание каждого элемента из всех анализов и определять возможные отклонения. Эта работа заняла несколько вечеров. Сравнивать цифры стало легче. По восьми соединениям данные анализов совпадали в пределах погрешности измерений.
Только два соединения резко выпирали из общего строя. В «нашем» флюсе было в четыре раза больше извести CaO и в несколько раз меньше фтора! Уяснив эту истину, я обратился к компонентам загружаемой шихты. Фтор подавался в шихту в виде плавикового шпата CaF2 и никуда не мог деться: этот минерал широко используется в сварке для флюсов и обмазок. Непонятно было, откуда брались избыточные кальций и кислород? Я вновь и вновь перебирал все компоненты шихты и не находил ответа. Задача захватила меня и даже мешала спать и думать о чем-то другом.
И вдруг (это, увы, было совсем не «вдруг») я начал догадываться, рассматривая формулу каолина, находящегося в шихте патоновского флюса. Каолин имеет формулу Al2O3.SiO2.10Н2О, – то есть в его формулу входит также 10 молекул кристаллизационной воды H2O! Куда девается она? Если предположить реакцию:
CaF2 + H2O = CaO + 2HF
то все ставало понятным и простым. Фтористый водород – горючий газ, это его горение давало голубое пламя над ковшом, унося из флюса фтор! Как же вода могла соединиться с нерастворимым минералом и почему она не делала это в патоновской шихте?
Постепенно пришла разгадка и этой несуразности. Кристаллизационная вода, жестко связанная в молекулах минерала, при температуре дуги более 6000 °C диссоциировала – распадалась на активные атомы водорода и кислорода, которые могли соединиться с чем угодно. Патоновцы же, очевидно, плавили свой флюс в платиновых или графитовых тиглях посторонним источником тепла с температурой не более 1600–2000 градусов. Тогда вода оставалась связанной или просто испарялась молекулами, никого не беспокоя! Все совпадало, мне казалось, что я разгадал этот ребус…
Но это была всего лишь теория, а флюс нужен был реальный. Надо было исключить из шихты зловредную воду, чтобы можно было плавить флюс в дуговых печах. Я полностью исключил из шихты каолин, и вместо него рассчитал и добавил в шихту два новых компонента – кварцевый песок SiO2 и глинозем Al2O3: они широко применялись для других флюсов и были в цехе. Меня терзали большие сомнения: а вдруг кристаллизационная вода остается в патоновском флюсе и придает ему ценные свойства? Надо было пробовать. Я умолчал о своих сомнениях и с рецептом новой шихты пришел в цех к его начальницам. Просмотрев состав шихты, не обнаружив там каолина, требуемого по ТУ, и, увидев два новых компонента, начальница посуровела и окатила меня холодным душем:
– Коля, у нас производственный цех с государственным планом, а не свободная частная лаборатория для проверки сомнительных идей…
Огорошенный неласковым приемом трудно выношенных идей, я взмолился:
– Евгения Александровна, Женя! Вы на этот флюс уже столько затратили времени и ресурсов! Ну, попробуйте еще раз, всего одну плавку!
Меня активно поддержала Белла:
– Женя, ты что? У нас же нет никаких других вариантов! Опять будем долбить лбом стенку?
Скрепя сердце Женя соглашается на эксперимент. Она разрешает провести опытную плавку в качестве «планового брака»: одну из печей надо переводить на другую марку флюса.
Незадолго до этого Трекало уходит в отпуск. Его последнее указание остающимся: «Папки должны расти и пухнуть». Это в переводе на русский означает, что мы должны настойчиво наплавлять клинья по различным вариантам, сдавать образцы в лабораторию на химанализ, подшивая полученные результаты в нужную папку. Заместителя на время отпуска он не назначает: каждый сам по себе. Как-то незаметно получается, что майор и Толя всегда со мной, Зина снабжает пирожками и чаем всех сразу.
Попов от наших дел и забот отходит все дальше. Он каким-то образом вошел в состав Кировского райкома комсомола и основное рабочее время проводит там: всякие пленумы, совещания и заседания… Комсомол, конечно – по призыву партии, готовится осваивать целину. Попов, как деятель районного уровня, на собраниях и митингах доказывает, как это нужно Родине…
Я без зазрения совести забираю Толю и майора и веду их в электродный цех, на ходу объясняя, что сейчас мы будем выплавлять «свой» флюс. Они удивленно посматривают на меня: «С чего бы это?», но идут с интересом. Мы втроем начинаем отбирать и точно взвешивать новые компоненты для плавки. Майор задумчиво просыпает «пыль» из мешков сквозь пальцы: оказывается, пыль может иметь различный химсостав и храниться в больших мешках!
Смешанная шихта засыпается в обреченную печь, опускается электрод, печь начинает гудеть от мощной дуги. Я напряженно всматриваюсь в выходящие газы: голубого огонька нет. Ознакомленные с проблемой, мои помощники тоже начинают волноваться и «болеть». Наконец расплавленный флюс выливается в воду, и мы сразу видим стекловидные зеленовато-голубые кристаллы флюса! Толя с волнением отбирает порцию неостывших влажных кристаллов, чтобы бежать в лабораторию. Я напутствую:
– Пусть первыми определят фтор и окись кальция!.
Белла восторженно рассматривает флюс небывало красивой окраски и очень похожий на настоящий. Женя скептически покачивает головой:
– Что-то еще химанализ покажет…
Я напоминаю, что мы варили флюс в «грязной» печи и наша задача – только получить увеличение фтора и уменьшение извести. Жене тоже не терпится узнать результат: она звонит в лабораторию и просит поторопиться с анализом. Через некоторое время появляется Толя, его рот растянут до ушей: выплавленный флюс точно «сидит» в заданных пределах по всем десяти соединениям, несмотря на свою «грязную» предысторию!
На радостях Белла обнимает всех участников плавки, Женя сдержанно пожимает мне руку и говорит: «Спасибо». Мои ведомые проникаются «чувством глубокого удовлетворения»: мы сделали это!
Несколько следующих дней мы проверяем выплавленный флюс по– настоящему: делаем наплавки кольцом без всяких маканий и обсыпок. Дуга загорается и горит отлично. Химические анализы показывают: в наплавленном металле хрома достаточно. Нашей гордыне нет пределов: наш родной ВПТИ решил, наконец, задачу наплавки на клинья уплотнений из хромистой стали! По договору завод оплачивает нашему ВПТИ приличные деньги, что-то перепадет и нам…
Через некоторое время мы узнаем, что заводу это уже не интересно: технология наплавки кольцом медленная и трудоемкая. В стране уже освоено серийное производство порошковой проволоки для автоматической сварки. В непрерывную стальную ленту, как творог в тесто, запрессовывается любой порошок требуемого состава. Бесконечный стальной «вареник» обжимается, протягивается через калибры и превращается в бухты проволоки. Такой проволокой автоматом или полуавтоматом можно быстро и просто наплавлять любые поверхности с любыми заданными свойствами, в том числе – химическим составом, твердостью, износостойкостью, жаропрочностью…
Параллельные миры
В нашем общежитии вечером идет совсем другая жизнь. Еще недавно Михаил и Иван с братом «пахали» в колхозе и на собственных так называемых «приусадебных» участках. Работа в колхозе – сама по себе тяжелая, на нее нужно время и силы. Тем более – нескончаемая череда неотложных забот в собственном маленьком хозяйстве не оставляла времени на безделье и «расслабление». Надо было добывать дрова, воду. Кормить и поить живность: корову, теленка, свинью, собаку. Следовало позаботиться также об их кормах на зиму, о ремонте покосившихся забора и сарая и погреба. Да и за банькой в огороде надо было ухаживать. И еще делать тысячу жизненно необходимых в сельской жизни дел. «Оттянуться» можно было только по большим праздникам, да и то – только поздней осенью и зимой, когда «гуляла» вся деревня. Материальная основа таких «оттяжек» – конечно, сверхпотребление алкогольных сивух различного происхождения, духовная и интеллектуальная вершина «оттяжек», впрыскивавшая адреналин в рутинное существование, – драки. В крупных драках – «деревня на деревню» – обычно всегда появляется покойник, а разговоров о последней драке хватает на полгода – год, или – до следующей «оттяжки».
С переходом в сословие рабочих все меняется. Восемь часов на производстве, на заводе, остаются как бы продолжением прошлой трудовой жизни. Но вот окончен трудовой день, и величайшее благо цивилизации – свободное время – начинает сокрушать своих незрелых сыновей. Они еще молоды, сил – избыток. Но они не знают, чем заняться и как можно использовать это свободное время и эти силы. Чтению книг они были необучены с детства: читались только школьные учебники, и то – по суровой нужде. Кино, конечно, было проще и достаточно доступно по ценам. Но несколько фильмов шли практически одновременно в ближайших кинотеатрах, да и фильмы были не те, которые хотелось бы смотреть по несколько раз, как это делал мой деребчинский друг Миша Беспятко. Посещение театров и музеев требовало громадных расходов времени и денег, но главное – было скучно «среднему уму».
Пояснительная вставка из будущего. Сочетание слов (по-научному: слоган) о «среднем уме» мной заимствованы у моего друга – матроса-электрика Гены Степанова. Когда его спрашивали о том, что он не хотел или не мог объяснить, Гена вежливо отвечал: «Среднему уму это недоступно». Из его ответа нельзя было понять, кто именно является обладателем «среднего ума»: спрашивающий или отвечающий.
Жильцы нашей квартиры, конечно, были разными. Ироничный Алик Вейцман практически всегда отсутствовал: все вечера и выходные он проводил в своем национальном обществе, возможно – женского пола. Техник Олег Ломакин был городским жителем и отличался повышенной, хотя и весьма избирательной, половой возбудимостью: по нашему определению – «ё…арь-спортсмен». Сам худощавый и жилистый, он не мог пропустить ни одной женщины с пышными формами. Когда же ему встречалась дама с формами уже просто неприличных размеров, чувства Олега так обострялись, что таким же неприличным ставало его поведение. Он мог часами преследовать свою симпатию, всемерно выражая ей свое восхищение и любовь и умоляя о «сатисфакции» своих чувств.
Юрка Попов жил в другой квартире, и у него там была своя «тусовка». Чуть позже он начал вращаться в комсомольских кругах, пропадая на всяких мероприятиях. В это время начала разворачиваться кампания «освоение казахстанской целины» и Попов нашел себя в этом благородном деле, яростно агитируя вместе с партийными и комсомольскими высокопоставленными функционерами на митингах и собраниях. Однажды он пришел весь сияющий от счастья и заявил:
– Час назад я поздоровался за руку с самим Семичастным!!!
– А кто такой Семичастный? – без всякого энтузиазма поинтересовался я. Большего удара Попову я не наносил никогда. Он полностью остолбенел и даже задохнулся от моего невежества. Семичастный в то время, кажется, был главным комсомольцем СССР и яростным помощником Никиты Сергеевича Хрущева в деле освоения целины. В каких-то современных мемуарах я вычитал, что позже Семичастный стал министром КГБ и сыграл чуть ли не главную роль в свержении Хрущева. Неисповедимы пути твои, Господи…
Так вот, перед «средними умами» нашей квартиры-общежития после рабочего дня возникал насущный вопрос: как убить время? Особенно остро эта проблема возникала недели за две до получки, когда имеющиеся деньги уже иссякали. У меня такой проблемы «убиения времени» не существовало никогда, но проблема «отсутствия присутствия» средств заставляла меня иногда примыкать к основному ядру нашего жилища.
Кстати, о средствах. Мой оклад 880 рублей был примерно на 250 рублей больше студенческой стипендии, которую я получал на 5 курсе в институте. «В действительности было не так, как на самом деле»: доходы стали раза в два меньше. Возросли налоги и расходы из-за другого образа жизни: инженеру надо было приличней одеваться, столовые и харчи в Питере намного дороже студенческих в Киеве, появились расходы на жилье, транспорт, стирку и т. д. и т. п. Кроме того, как работающий, я чувствовал моральный долг хоть немного помогать Тамиле и маме. С грустью я смотрел на начинавшие «сечься» рукава своего последнего костюма, приобретенного на выигравшую 500 рублей облигацию: на другой костюм собраться с силами «не представлялось возможным». Правда, родной ВПТИ потихоньку добавлял зарплату: за январь 1955 года я уже получил более 1100 рублей… Чтобы закрыть тему доходов, следует рассказать о неожиданном предложении. Где-то в конце ноября меня вызвали в Кировский районный военкомат. Военком участливо расспрашивал о работе, о зарплате, о жизни, затем неожиданно предложил:
– А не хотите ли пойти служить в Армию?
Он начал перечислять, сколько я буду получать в звании лейтенанта: оклад, доплата за звание, доплата за паек или бесплатное питание, доплата за выслугу лет, бесплатное обмундирование, да там, куда я поеду, – все в двойном размере…
Я категорически и без колебаний отверг все лестные предложения военкома. Я уже не хотел быть военным. Я с интересом занимался своим делом, мне начинал нравиться мой город, тем более теперь мне не хотелось убыть в те места, «где все выплаты в двойном размере».
– Ну, нет – так нет, – разочарованно вздохнул военком. – Пройдите медкомиссию, все офицеры запаса должны ее пройти…
Медкомиссию я прошел и вскоре забыл и о ней, и о предложении военкома: было не до того…
Следует продолжить рассказ, как убивали время «средние умы». Часам к 18-ти общество собиралось дома и начинало «бить копытами»: куда бы двинуться. Поиски в карманах показывали, что если скинуться на желанную «полбанку», то завтра не хватит на обед. Принимается решение: просто прогуляться, подышать свежим воздухом. Выходим к Нарвским воротам. Там стоит бочка с разливным пивом (бутылочное бывало крайне редко). Но к бочке уже выстроилась такая длинная очередь «синюшников», что по расчетам мы подойдем к источнику около 23 часов, бочка же закроется в 22. Пытающихся обойти очередь «слева» народ безжалостно одергивает на тему «вас тут не стояло», возле бочки уже назревает мордобой. Уходим не солоно хлебавши. Я делаю попытку направить нашу энергию на спорт: у входа в фабрику-кухню расположен тир, в котором за несколько копеек можно нащелкаться по жестяным ветрякам, уткам, медведям. При попадании в черный кружок начинали вертеться мельницы, падали медведи, начинали крякать утки и петь петухи. Иван недовольно кривит губы:
– Вот если бы на интерес…Младший брат оживает:
– А что? Давай будем стрелять по мишеням! Каждому по пять пуль. Сколько не добрал до 50-ти – столько рублей на бочку!
Брат почему-то посматривает на меня, очевидно надеясь пополнить свой бюджет из моего тощего кармана. В деревне братья слыли охотниками и неплохо стреляли. Деваться без потери лица мне некуда, и я нехотя соглашаюсь. Служитель тира, предвидя оживление своего бизнеса, вешает четыре мишени, каждому выдает по пять ершиков-пуль и раздает пневматические винтовки, предупреждая: «эта центрального боя, эта – под яблочко». Спасибо товарищу Гайдыму, который затащил меня в стрелковый кружок: сейчас на кону, возможно, стоит мой завтрашний обед… Тщательно прицеливаюсь, закрываю глаза и делаю вдох – выдох. После этого прицел не должен сбиться. Если прицел смещается, – значит, положение выбрано неправильно. Мои партнеры уже сделали по одному – два выстрела, а я все еще прицеливаюсь.
– Ну не корову же ты проиграешь, – рычит Иван. – Всего-то полсотни!
У него после двух выстрелов пятерка и семерка, то есть проигрыш уже восемь рублей. У брата и Михаила результаты чуть лучше. Я делаю первый пристрелочный выстрел: у меня семерка на 12 часов. Понимаю, что «тирщик» слегка напутал: у меня винтовка не центрального боя, а «под яблочко». Корректирую прицеливание и всаживаю оставшиеся ершики в десятку или девятку.
Мои партнеры, особенно младший брат Ивана, здорово разочарованы: в банк я должен вложить всего 5 рублей, они втроем – по 15–20. В банке набралась бы приличная сумма более 50 рублей, но таких денег ни у кого нет, и мы принимаем решение: аннулировать все материальные проигрыши. Теперь утверждение этого решения – «по понятиям» – зависит от меня: я выигравшая сторона. Я отпускаю всем, в том числе – себе, все грехи и мы движемся в кинотеатр «Москва» на проспекте Газа. Там три зала и знакомая Михаилу кассирша. Мы всегда можем попасть на ближайший сеанс: они смещены на треть длительности фильма…
Вскоре наше свободное времяпрепровождение кардинально меняется. Михаил приводит в гости свою знакомую – веселую разбитную бабенку. Им больше негде встречаться, и мы освобождаем для них на несколько часов маленькую комнату. Веселая Маша готовит немудреный ужин для всех, находятся «средствА» и для остального. Маша понимает, что не может долго оставаться в нашем обществе «эксклюзивом», и на следующий вечер приводит с собой Таню, Таня приводит Веру и Любу, которые в свою очередь приводят своих подруг, вытесняя предыдущих. По выражению О. Генри, это был «трест, который в самом себе нес зародыш собственной гибели».
Удивительно, сколько в Питере было непристроенных женщин, нуждавшихся хоть в каком-нибудь мужском внимании! Теперь после работы всегда в нашем жилище были две-три женщины, которые на кухне что-то варили для всех, в ванной что-то стирали или мылись. Ужин теперь был всеобщим и ритуальным, все чаще для ликвидации некоторой первоначальной неловкости стало применяться спиртное…
Женщины утром или поздним вечером разбегались по своим домам. На следующий вечер все начиналось сначала, иногда – с частичной заменой участниц… По выходным «тусовка с фуршетом и развлечениями» начиналась почти с утра…
Среда неумолимо засасывала. С грустью я вспоминал наше студенческое общежитие в Киеве, где поздними вечерами все работали, где было по-настоящему весело, а малые дозы спиртного принимались только по большим праздникам.
Я начал «выходить из пула», хотя деваться мне было некуда. Помог Валера Загорский, добрый и деликатный мужик. Как-то незаметно мы поняли, что мы «одной крови». Мы одинаково относились к работе и еще к тысяче вещей.
Горячая дружба Валеры и Попова кончилась внезапно почти анекдотическим случаем. Валера пригласил после работы Попова в полулегальную баньку, которую руководство цеха устроило в одном из подсобных помещений. Попов отказался: у него не было полотенца.
– Ну, как-нибудь поделимся одним моим, – предложил Валера, и Попов принял приглашение. Пошли, помылись, потерли друг другу спины. Валера, как истинный сибиряк, окатил себя ледяным душем. В предбаннике радушный хозяин предложил гостю первым попользоваться единственным полотенцем. Попов (в этом он весь) тщательно и не торопясь протер все части своего тела, в том числе – потайные, всей поверхностью полотенца. Дрожащий от холода хозяин с удивлением, но молча, наблюдал за этой процедурой. Окончательно добило его последнее действо протирания. Попов тщательно серединой полотенца протер себе все до единого промежутки между пальцами ног, принюхиваясь к удаляемым загрязнениям. Деликатный, задубевший после холодного обливания, Валера бросился уже под горячий душ, затем вытерся собственной майкой. Попову он смог только сказать:
– Ты меня не жди: у меня еще много работы…
Полотенце он выбросил вместе с дружбой – раз и навсегда, хотя внешне с Поповым был по-прежнему спокоен и вежлив.
Валера жил в общежитии на улице Шкапина, в еще не очень старом, но уже разрушающемся доме с высокими потолками и снующими по коридору крысами. Его напарник пристроился к женщине и не бывал дома. Перед выходным я перебирался к Валере, чистил и варил картошку. Заранее мы покупали «маленькую» Столичной, селедку, сырки, вареную колбасу. Не торопясь, устраивали «пролетарский ужин», в котором главной закусью после наркомовских ста грамм была картошка с селедкой. На сладкое был неизменный крепкий чай с сырками или колбасой, дополненными черным ржаным (это обязательно!) хлебом. Во время ужина спокойно обсуждали все дела на заводе. Если позволяла погода – немного прогуливались до Балтийского вокзала, затем читали книжки, которых у Валеры набралось изрядно, и ложились спать. Утром, после чайного завтрака, направлялись в центр и долго бродили по улицам, знакомясь с архитектурой, книжными и другими магазинами, кинотеатрами. Иногда посещали детские сеансы, которые были дешевле. Валера в Ленинграде тоже появился недавно, и мы таким образом познавали Великий Город. Один выходной мы решили полностью посвятить Эрмитажу. На четвертом часу головы стали распухшими от впечатлений и уже ничего не воспринимали. Приняли решение: будущие посещения ограничить двумя часами и несколькими залами…
В декабре 1954 года наша внепроизводственная жизнь круто изменилась. В Автове на проспекте Стачек 67 был отстроен огромный дом в виде замкнутого прямоугольника, часть которого была общежитием кораблестроителей. Вдоль длиннющих коридоров располагались комнаты площадью около 15 м2, рассчитанные на четырех человек. Нас, одиночек, живущих в квартирах, переводили туда. Сформировалась четверка нашей комнаты: Попов, Олег Ломакин, я и Павел Смолев, техник из Ждановского завода, проживавший раньше вместе с Поповым. Вообще у Павки родители жили в Гатчине, но ему дали общежитие, чтобы ценный кадр не тратил 4 часа ежедневно на поездки домой.
У нашей четверки, наученной предыдущим опытом, сразу была заключена «конвенция»: комната в общежитии только для отдыха и работы. Никакие особи женского пола не должны переступать порог нашего жилища.
Переезжали мы в Автово со смешанными чувствами. Жилищные условия почти не менялись: в новом общежитии были и кухни, и душевые комнаты. Наша комната на 4 этаже смотрела единственным большим окном на запад – в сторону Угольной Гавани и завода имени Жданова, – всю вторую половину дня у нас могло бы быть солнце, когда оно было в Питере. Но Автово в то время было далекой окраиной города. Чуть дальше, перед Красненьким кладбищем проспект Стачек обрамляли два высоких дома, за которыми кончался город. Дальше, за Красненьким кладбищем, была деревня Дачное, с вполне деревенским бездорожьем. По болотам до самого залива во время недавней войны проходила линия фронта. Стрельна и Петергоф уже были на территории, захваченной немцами. На теперешней Краснопутиловской улице (тогда она носила имя неизвестного никому Якубениса) стояло несколько домов в начале нечетной стороны, улица была грунтовой, на четной стороне был пустырь. На месте треугольного сквера, где сейчас стоит скульптура «изломанного комсомольца», было болотце с несколькими березками и покосившимся бревенчатым домиком. Короче, это была далекая окраина города, и, чтобы добраться даже до «далекой Нарвской заставы», надо было проехать несколько трамвайных остановок. Трамваи тогда ходили по проспекту Стачек, а номер 22 возле нашего дома сворачивал по дороге на Турухтанные острова…
Постепенно мы привыкли к новому жилищу и своему удалению от «центра». Сейчас Автово само является почти центром: город далеко ушел на юг, вобрав в себя Дачное, Сосновую Поляну, Стрельну и даже Петродворец…
Жить стало лучше, жить стало веселее. Теперь Валера Загорский стал нашим частым гостем. Часто приходил Юра Павлов, инженер с завода «Электрик». С ним и его женой Элеонорой я познакомился еще во время практики. Очень прочно вошел в наше общество Павка Смолев, невысокий паренек, техник-судостроитель с Ждановского завода. Об одной нашей встрече на крейсере «Мурманск» в 1956 году я надеюсь еще рассказать.
В «параллельном мире» происходят разные мелкие события, некоторые из них имеют продолжение в будущем, о чем мы, конечно, еще не знаем. Например, Попов усиленно агитирует комсомольцев в поход на освоение целины. Внезапно кто-то из высокопоставленных бонз задает ему простой вопрос:
– А вы сами не хотите освоить эту целину? Молодой, опять же – сознательный активист, холост, да еще к тому же по диплому – инженер-механик!
Надо было видеть, как Попов «включил реверс»! Руководство ВПТИ по горячим просьбам Попова начало писать всякие бумаги о совершенной «необходимости участия инж. тов. Попова Ю. А. для выполнения важнейших заказов промышленности, от которых зависит укрепление обороноспособности СССР». В ход идут также кучи медицинских справок о перенесенных в раннем детстве насморках и скрытых патологиях важнейших органов… Обновляются и укрепляются комсомольские связи с руководящими товарищами, – на частном уровне… Еле удалось отвертеться! А вот безответный Валера Загорский через несколько месяцев «загремел» на целину, где самым настоящим образом пахал почти два года…
Вставка из будущего. Из казахстанских степей Валера вырвался спустя два года и осел то ли в Куйбышеве (теперешней Самаре?), то ли в Саратове на авиастроительном заводе. Я получил от него письмо с подробным описанием всех приключений инженера на целине. Я не успел ответить, когда случился непоправимый пустяк: в метро у меня открылся спортивный чемоданчик, с которыми тогда вместо грядущих кейсов ходили все. Содержимое вывалилось на рельсы перед подходящим поездом… Нашли всё, кроме блокнота, в котором были записаны все адреса, в том числе моего близкого друга Валерия Загорского… Прости, Валера. Я до сих пор надеюсь, что мы встретимся еще в этом мире.
В комнате общежития на проспекте Стачек мы принимали нашего Деда – Ивана Петровича Трочуна, о чем я уже рассказывал. В Ленинград на практику приехали ребята из нашего факультета. Юра Скульский женился на студентке Химфарма Наде. Они познакомились еще в Киеве, где Надя тоже была на практике. На этой свадьбе, кроме Попова и меня, были Павка Смолев и Валера. Все мы тогда, в качестве представителей убывающего в Киев мужа, получили приглашение на день рождения Нади, до которого оставалось пару месяцев.
Никто, слава Богу, не знает своего будущего. Устраиваясь надолго, мы не предполагали, что скоро все разлетимся по разным уголкам нашей необъятной Родины…
Есть контакт!
Однако следует повернуться лицом к производству и вернуться на завод. Разочарование освоенной нами наплавкой придет чуть позже. Сейчас мы, упоенные победой, хватаемся за новое дело: контактную сварку бугелей. Бугель – это П-образная конструкция над крышкой вентиля или задвижки. В центре перекладины П находится гайка с резьбой, в которую ввинчивается шток вентиля. При вращении штурвала шток вентиля движется вверх или вниз, проходя через сальник в крышке, открывая или закрывая тем самым вентиль. Завод изготовляет вентили и задвижки разных размеров; соответственно отличаются по размерам бугеля и крышки.
Крышки вентилей и бугеля изготовляются и обрабатываются отдельно, затем две стойки бугеля привариваются к крышке ручной сваркой. Более 10 сварщиков и обрубщиков литья в две смены трудятся в поте лица в дыме и грохоте над этой операцией, чтобы обеспечить программу цеха: все операции уж очень трудоемкие и длительные. Качество и точность при этом «оставляют желать лучшего»; много готовых деталей идет в брак…
Мы должны по договору освоить на заводе новую технологию – контактную стыковую сварку. Завод сообщает, что изготовил, наконец, для нашей работы оснастку на сварочную машину МСМ-150. Сама машина уже давно сиротливо стоит в цехе, покрытая пылью забвения…
Майор, Толя и я получаем на складе изготовленную оснастку, протираем машину, и монтируем на ней новые детали. Для моих помощников это дело совершенно новое, и они полностью доверяются мне. Я вынужден руководить и важно надувать щеки, хотя тоже никогда не делал ничего подобного. Спасибо моим слесарным учителям: я запросто отличаю ключ от молотка, знаю в какую сторону надо крутить гайку, а институтская теория без устали указывает, – к чему надо стремиться…
На неподвижной губке машины мы собираем зажим для крышек. Крышка любого размера надежно прижимается к вертикальной плите строго по центру, два торчащих «рожка» на крышке, к которым будет приварен бугель – в горизонтальной плоскости. Все основные детали оснастки весьма массивные и отлиты из бронзы: они должны пропускать токи в десятки, иногда – в сотни тысяч ампер. На подвижной губке монтируем пневматический зажим для бугелей. Оба рога бугеля должны быть точно нацелены на рожки крышки при любых размерах деталей.
Процесс контактной стыковой сварки оплавлением (есть еще сварка сопротивлением, которой сваривают, например, кольца цепей) происходит так. Включается мощный трансформатор, понижающий напряжение сети до нескольких вольт. Сближаются до касания торцы деталей (в нашем случае – сразу в двух местах). Огромная сила тока разрушает металл в местах касания, выбрасывая с треском веер искр. Деталь на подвижной губке продолжает подаваться вперед, не допуская остановки процесса оплавления. Несколько секунд машина работает как большой фейерверк, расплавляя с микровзрывами сближающиеся торцы. Тепло от места контакта распространяется в деталь чуть быстрее. Когда торцы раскалятся на несколько миллиметров вглубь, происходит резкое сжатие – осадка, сжимающая нагретые до состояния теста торцы. При этом ток выключается, сварка окончена. Если все сделано правильно, то соединение равнопрочно основному металлу, а выдавленный на сторону металл, так называемый грат, – совсем небольшой.
Так вот: значения «правильных» режимов нам и предстояло установить. Важнейший параметр – длина заготовок, требуемая для «сгорания» и величина осадки. Бугеля на заводе изготовлялись горячей штамповкой. Чтобы приваривать их на нашей машине, «рога бугелей должны быть увеличены на длину «Х», – на величину оплавления и осадки. Для этого нужны новые, весьма дорогостоящие, штампы. Но требуемый размер «Х» я мог определить, только выполнив хотя бы десятков несколько опытных сварок с уже удлиненными «рогами», испытав их прочность на разрыв. Само собой: разрушение детали должно происходить не по сварке, а по основному металлу.
Ситуация была почти неразрешимой. Конечно, можно было «измордовать» завод и заставить его сделать опытный штамп, изделия которого годились бы только для опытов. Наша бригада спокойно бы дожидалась изготовления штампа, затем провела бы опытную сварку и испытания, уточнила режимы, определила точно размер «Х», дождалась бы изготовления уже рабочего штампа. Только потом мы бы окончательно отладили режимы и передали готовую технологию заводу.
Только так бы и сделал Трекало, блаженствующий в отпуске. Возможно, такое же решение принял бы Иван Кузьмич Дагаев, если бы я вывалил ему все сомнения и заботы по размеру «Х». Однако Дагаев был в командировке, а на меня ожидающе смотрели мои верные помощники – Толя и майор. Да и завод я не мог уже «мордовать»: теперь абстрактный «завод» был в облике близкого друга Валеры Загорского, заместителя начальника цеха. Это именно ему приходилось каждый день «изыскивать резервы»: уговаривать на сверхурочную работу сварщиков и обрубщиков, «химичить» с нарядами, чтобы цех выдал планируемое число собранных крышек…
Я был молод и глуп, избыток совести опять заставил меня взять все «рули на себя». Я выдал заводу размер «Х» для рабочего штампа самого ходового размера бугеля.
В свое оправдание могу сказать, что это я сделал не совсем «с бухты-барахты». Несколько дней на «куцых» образцах я с помощниками учился хитростям работы на контактной машине: меняли ток, скорости движения и т. д., читал литературу по контактной сварке, анализировал сваренные образцы и даже построил некоторые кривые зависимостей. Тем не менее, в выданных размерах была изрядная доля интуиции. Конечно: интуиция – дитя опыта, а его было, увы, еще очень мало. Я мог сесть в большую лужу… Гораздо позже я прочитал в умной книжке, что большинству руководителей приходится принимать ответственные решения при отсутствии полной информации и при недостатке времени, говоря простым языком, – почти наобум. Да и Владимир Ильич, бывало, говаривал: «Любая политика лучше политики колебаний». Правда, руководителем я был очень маленьким и не должен был принимать самостоятельно такие решения…
Сварочный цех насел всей мощью на дирекцию завода, и та обязала инструментальный цех срочно изготовить новые штампы для бугелей, отодвинув другие важные и срочные заказы. Штамп изготовили в рекордно короткие сроки, и вскоре штамповщики завалили цех удлиненными бугелями, совсем непригодными для ручной сварки по прежней технологии. Все взоры обратились на мою группу: план завода мог блистательно сгореть…
И тут на меня обрушились два сильных удара. Первый – от главного энергетика завода. Мощность нашей машинки по паспорту была всего 150 кВА. Но это была средняя потребляемая мощность цикла. В момент осадки, когда ток еще не отключался, пиковая потребляемая мощность на 0,5–1,5 секунды увеличивалась в 5-10 раз, то есть практически была равна мощности, выделенной всему заводу. Кроме того – трансформатор нашего монстра был однофазным, – нагружались только две фазы, что создавало дикий перекос фаз, а это уже отражалось на работе оборудования и приборов всего завода. Через два дня заседаний, разговоров, вызовов на «ковры» вопрос был решен блестяще: нам разрешили работать, но только ночью…
Совершенно неуместная вставка – анекдот. Когда американцы высадились на Луну, в ЦК вызвали главу космонавтов и дали задание – высадиться на Солнце. Космонавт робко возразил: там, дескать, жарковато. «Вы что думаете, тут дураки сидят? Полетите ночью!»
Второй удар был еще сильнее: из отпуска возвратился дорогой наш руководитель Сан Саныч Трекало. По пути он зашел в электродный цех и несколько даже игриво обратился к Жене:
– Ну, так когда вы нам, дорогая, дадите флюс АН-20?
– Да полно его, хоть ешьте ж…, – Женя была чем-то обозлена и не расположена к шуткам. Трекало, рассчитывавший на обычное нытье: «ну никак он, зараза, не получается», был уязвлен в самое сердце.
– Что, вы уже выплавили удачный флюс? – с дрожью в голосе усомнился Трекало. Женя удивленно осмотрела его:
– Так ваши же ребята и выплавили этот проклятый флюс!
Трекало как ошпаренный бросился в наш офис и, не здороваясь, набросился на меня:
– Я запретил тебе заниматься флюсом! Почему ты туда полез вопреки прямому приказу? Ты поставил под удар весь институт! Что теперь будет делать вся наша бригада?
Я был ошарашен неожиданным натиском и начал что-то блеять в свое оправдание. Трекало был в таком состоянии, что казалось его вот-вот хватит кондрашка. Понемногу я сосредоточился и начал возражать членораздельно. Сказал, что теперь, имея новый флюс, все вопросы наплавки уже решены, хром без всяких обсыпок уже в норме, и мы можем сдать заводу готовую работу по наплавке. А что касается работы, то ее более чем достаточно по наладке контактной сварки бугелей, где у нас уже есть некоторые успехи. У Трекало глаза полезли на лоб:
– Как??? Вы и в контактную сварку влезли? Вы в ней что-нибудь смыслите? Этим же должны заниматься совсем другие люди – опытные специалисты!!! – он был так возмущен моим самоуправством, что начал обращаться ко мне на «Вы».
Я еще надеялся окончить все разногласия мирно, но уже начинал понемногу звереть.
– Александр Александрович! Кроме флюса мы делали только то, что написано в договоре. Что касается моего неумения, то на инженера-сварщика меня учили целых пять лет! И результаты сварки бугелей я могу вам показать немедленно!
– Ну, покажите, – угрожающе выдохнул Трекало и почти бегом двинулся в цех. За ним бежал я, следом бежали Толя Малышев и майор. Они оба присутствовали при наших «прениях» и только молча переводили глаза на говорившего. В цехе к нашей бегущей четверке пристроился вынырнувший из закоулка Валера Загорский, устремив на меня вопросительный взгляд. Я только развел руки, не снижая темпа бега.
У машины по моему сигналу майор и Толя быстро установили и зажали дефектные крышку и бугель. Я включил машину. На половину цеха под самые стропила взлетел и рассыпался сноп ярких искр, Через несколько секунд нашему «фюреру» был предъявлен пышущий жаром сваренный узел. Я начал было объяснять Трекало о сложностях определения размера «Х», но он, не слушая, почти бегом, бросился из цеха. Я взглядом приказал Толе следовать за ним. Через пару минут Толя прибежал уже настоящим бегом и выдохнул:
– Он пошел к пожарнику…
Нельзя было терять ни минуты. Трекало нашел наше больное место: искры расплавленного металла рассыпались по всему цеху. Я планировал сделать ограждение, но руки до него еще не дошли. На следующую ночь у нас была намечена сварка опытной партии. Если пожарник нам запретит работу, то все отодвинется на неопределенный срок.
– Валера! Срочно: лист металла, два уголка, двух сварщиков!
Валера мгновенно все понял и рванул с места в карьер. Спустя несколько минут лист металла был согнут дугой и приварен над истоком нашего фейерверка к ограде возле машины. Распрямиться дуге мешали два уголка: сварка их соединила и даже аккуратно обрезала излишки. Вся наша бригада поднялась в конторку Валеры на втором этаже, откуда весь цех был как на ладони. В воротах цеха открылась калитка, и показался сначала живот, затем – Трекало, который почти силой тащил «пожарника» – инженера, отвечающего за пожарную безопасность на заводе. Трекало размахивал руками, показывая, как разлетаются искры. Он подтащил пожарника к машине, продолжая что-то говорить, пока не увидел над ней защитное ограждение. Сан Саныч поперхнулся и заглох на полуслове, удивленно разглядывая конструкцию, которой просто не могло быть. Пожарник удовлетворенно развел руками и пошел прочь, хотя Трекало что-то говорил ему вдогонку. Мы звуков не слышали, но все было предельно понятно. Толя, майор и Валера радовались и прыгали, как дети. Я же радовался тому, что они полностью поддержали то дело, которое мы делали вместе.
О том, что мы будем работать ночью перед выходным, по предложению Толи, Сан Санычу решили не говорить.
– А то он еще какую-нибудь палку придумает, чтобы вставить ее в наше колесо, – объяснил Толя свою позицию, яростно отсвечивая цыганскими глазами и вспоминая свою пробежку к пожарнику. Все дружно согласились с этим железным соображением.
Как тати нощные собрались мы в цехе к 21 часу – времени окончания работы второй смены. Само собой получилось, что в нашу бригаду органично «влился» Валера Загорский. С собой он прихватил еще двоих рабочих из цеха. «На всякий случай для переноски грузов», – объяснил он.
С трепетом мы приступили к работе: сваривать предстояло не экспериментальные образцы, а «деловую» продукцию, выданную смежными цехами и прошедшую по всем документам. Майор установил и закрепил крышку, Толя – бугель. Я дотошно проверил центровку и настройку машины на автоматический цикл, бессознательно оттягивая решающий момент. Все настороженно наблюдали за моими манипуляциями.
– Ну, не тяни кота за половые органы! – не выдержал Валера.
Я перекрестился и нажал кнопку «Пуск». Несколько секунд вокруг машины бушевал фейерверк. Теперь он распространялся только в маленьком пространстве: его перехватывало и направляло за машину так быстро изготовленное ограждение.
Машина выключилась. Сняты все крепления, и вот она первая деталь с быстро остывающими местами сварки. Внимательно осматриваем сварку, измеряем размеры. Все как будто бы нормально. По характеру и размерам грата вижу, что испытания на прочность деталь выдержит. Немного увеличиваю время нахождения детали под током во время осадки: расход энергии небольшой, а гарантий качества – много. Еще несколько деталей свариваем с опаской и тщательно осматриваем. Все в норме. Работа идет все быстрее, каждый осваивает «свой маневр», избегая лишних движений. Два мужика «от Валеры» тоже не лишние: подают к машине заготовки и оттаскивают готовые детали.
Часа через два заготовки кончились: мы выполнили месячный план цеха! С удивлением рассматриваем дело рук своих: аккуратно сложенную гору почти готовых к установке деталей. Валера прыгает от радости: не нужны сверхурочные и сверхусилия для выполнения плана! Мои Толя и майор испытывают «чувство глубокого удовлетворения». Обо мне и говорить нечего: на карту я поставил своим нетерпением слишком много. Удача снимает с плеч тяжелый груз сомнений и ответственности: все получилось!
С удивлением замечаем, что время еще детское, транспорт еще ходит, и мы спокойно предвыходную ночь можем провести дома. Быстро расходимся по домам.
Расплата
Инициатива – наказуема.
(военная примета).В понедельник вместе с Трекало на завод приходит Дагаев. Наш Трекало мрачнее тучи, вопреки обыкновению, руки не подает. Иван Кузьмич, напротив, здоровается за руку поочередно со всеми. Трекало объявляет производственное собрание нашей группы и первым выступает с речью-докладом, обращаясь в основном к Дагаеву. Дела по наплавке уплотнений на клинья шли хорошо, мы уже добились определенных результатов. У нас был еще резерв времени, пока завод осваивал выплавку нужного нам флюса АН-20, но необдуманные действия некоторых сотрудников (кивок в мою сторону), сорвали планомерную работу коллектива. Эти сотрудники (опять кивок в мою сторону) вопреки прямому его, начальника, запрету, пренебрегая заданной работой, занялись анархистской самодеятельностью во вред ВПТИ. Теперь завод выдал нам флюс и требует немедленных результатов, угрожая санкциями и разрывом договора, что ставит нас всех в тяжелые условия.
Вторая крупная промашка инженера Мельниченко (Трекало впервые из-под лоба взглянул на меня, обозначив таинственных «некоторых» сотрудников) – самовольное получение со склада приспособлений для контактной сварки бугелей. С этого момента уже начался отсчет времени, в течение которого мы должны выдать заводу технические условия на проектирование и изготовление новых штампов, а мы ведь еще должны дождаться, когда освободится и придет к нам группа настоящих наладчиков контактной сварки, которая сейчас по уши завязла на Судомехе и неизвестно, когда освободится. (Трекало явно не знает о наших ночных подвигах).
Я кругом виноват. Ругаю себя последними словами: вечно ты, идиот, лезешь не в свое дело. Тем не менее – наблюдаю за своими «соратниками» и начальством. Дагаев склонил голову и слегка барабанит пальцами по столу; выражение его лица совершенно непроницаемо. Попов не был на работе почти целую неделю и сейчас верноподданически переводит глаза с Трекало на Дагаева, пытаясь понять, что происходит, кого следует кусать, а кого – гладить. Майор задумчиво качает головой, Толя Малышев сверкает цыганскими глазами и порывается что-то возразить. Я взглядом приказываю ему не возникать. Заметив наши немые переговоры, Трекало забивает последний гвоздь в крышку моего гроба:
– Мельниченко также пытается командовать другими сотрудниками, хотя его на это никто не уполномочивал, и он такой же рядовой сотрудник, как и другие. Хорошо бы самому выполнять все поручения как следует, а не вовлекать других в свои авантюры… В таких условиях я не могу… мне очень трудно… работать… и я прошу руководство отдела (кивок в сторону Дагаева)…разобраться… оградить меня… от таких работ…, – Трекало весь дрожит и запинается, его лицо даже побелело от возмущения, на лбу выступили капли пота. Мне его жалко.
Можно как-то оправдываться, дескать, хотел – как лучше. На меня наваливается апатия: «А гори ты всё синим пламенем!», и я молчу. Дагаев поднимается и берет под руку все еще кипящего Трекало:
– Ну, не волнуйся так, Сан Саныч! Пойдем по заводу погуляем…
После их ухода на меня просто набрасываются Толя и майор:
– Почему ты не сказал, что у нас контактная сварка получилась? Почему про флюс все не рассказал? – ребятам обидно, что нас ругают за то, что они считали достижениями.
– Ну и что с того, что получилось? Институту навредили, Сан Саныча чуть до кондрашки не довели, – вяло оправдываюсь я. – Сидели бы, как все люди, не выпендривались…
Ребята возмущены моей апатией и разделывают меня «под орех». Они мне поверили, «огнем и колесами» помогали делать общую работу, а теперь я своим молчанием предал не только эту работу, но и их тоже. Толя сверкает глазами, чуть ли не собирается мне «врезать» за малодушие и пассивность. Я начинаю его понимать и понемногу наглею:
– Ладно, пойдем, объясним все Дагаеву…
Однако на заводе уже нет ни Дагаева, ни Трекало. Я категорически отказываюсь идти в институт «качать права». В спорах проходит остаток рабочего дня. Вокруг нас крутится Юрка Попов, выясняя наводящими вопросами: что же мы натворили?
Договариваемся: на следующий день быть на работе, – как обычно. Про себя решаю: повиниться перед Сан Санычем. В целом – он неплохой мужик, хорошо нас принял, хотя и немного ретроград и слишком осторожный. А кто без недостатков?
Крушение
Но что это, что? Я в глубоком пике!
И выйти никак не могу!
(В. Высоцкий)На следующий день Иван Кузьмич Дагаев приходит к нам сам. Он опять всех собирает и зачитывает приказы по ВПТИ. Старший инженер А. А. Трекало для усиления группы переводится на Балтийский завод. Начальником наладочной группы на заводе имени Молотова назначается инженер Мельниченко Н. Т.
С заводом заключается новый договор, который я должен подписать тоже. В этом договоре три основных пункта, по которым наша группа оказывает заводу техническую помощь и наладку:
а) освоение и выплавка всех новых флюсов для судостроения;
б) освоение наплавки хромистых и других сталей порошковой проволокой;
в) освоение контактной стыковой сварки широкой номенклатуры узлов;
г) иные исследовательские работы, возникшие при выполнении пунктов а, б, в.
Прежний договор на наплавку кольцами считать выполненным и закрытым.
Валера, Толя и майор ликуют. Иван Кузьмич хитро подмигивает мне: он простой волшебник, который умеет отвечать на незаданные вопросы. Попов в тревожном ожидании: он понимает, что в нашем сугубо техническом обществе комиссару тоже придется заняться железяками…
Наше совещание переходит на совершенно другие рельсы: мы обсуждаем, что, как и кому надо сделать по этим пунктам в первую очередь, чего нам не хватает, какая помощь нужна от института. Дагаев работает с нами на равных…
Засучив рукава, с большим желанием беремся за работу. Все папки будем наполнять только отчетами о выполненной работе: показуха нам ни к чему!
Через несколько дней счастливой работы мне передают, что меня просил зайти Кировский райвоенком. В обед я, не переодеваясь, забегаю в военкомат. Военком, полковник в летах, вручает мне маленькую бумажку. Читаю:
«Директору ВПТИ. Прошу Вас рассчитать полностью инженера Мельниченко Н. Т. в связи с его уходом на действительную военную службу в Советскую Армию».
Смысл написанного до меня доходит не сразу.
– Да вы что, товарищ полковник? Я же вам тогда еще четко сказал, что в Армию я не хочу! Я и сейчас работаю фактически на Армию, но по основной специальности!
Военком сочувственно смотрит на меня, вздыхает, открывает сейф и достает оттуда две бумаги с грифом «Секретно». Первая – за подписью Министра Обороны (?) маршала Булганина.
Историческая вставка из 2004 года. Чтобы понять, кем был в то время Н. А. Булганин – Министром Обороны или Министром Вооруженных сил СССР, я заглянул в БСЭ. Оказывается, маршал Булганин был Министром Вооруженных сил и заместителем Председателя Совета Министров СССР с 1947 по 1949 год. С марта 1949 года он только зам Предсовмина; с 1955 по1958 год – Председатель Совмина СССР. За участие в «антипартийной группировке» Н. С. Хрущев разжаловал Булганина до генерал – полковника и отправил Председателем Ставропольского Совнархоза – были такие территориальные органы во времена Хрущева. Приказ от 30 декабря 1954 года, о котором я пишу, был точно подписан Булганиным – это подтвердили все мои «годки» – друзья, «мазаные» этим приказом. Если не Булганин, то кто был в это время Министром Обороны СССР – установить не удалось (Г. К. Жуков стал им только в феврале 1955 года). Есть версия, что офицеров запаса из гражданки тогда мог призвать только Совет Министров СССР, – тогда подпись зама Предсовмина находится на месте.
Военком находит мои строчки: «младшему инженер-лейтенанту Мельниченко Н. Т. присвоить очередное воинское звание инженер-лейтенант, призвать на действительную военную службу и направить в распоряжение Главкома ВМФ СССР». Вторая секретная «бумага» с подписью Адмирала Флота СССР Н. Г. Кузнецова о направлении инж. – л-та Мельниченко Н. Т. на должность старшего офицера группы в 741 Отдельный монтажно-технический Отряд ВМФ».
Военком прячет важные бумаги в сейф и превентивно отвечает на вопрос, готовый вылететь из моего открытого рта:
– Сами понимаете, что такие приказы не отменяются. Очень советую – не дергаться и не делать глупостей: вы уже офицер Военно-морского Флота. Рассчитывайтесь полностью в ВПТИ, директор Института уже предупрежден, и приходите к нам за воинскими документами…
Все кончено. Ленинград. Завод, на котором так ладно началась интересная работа. Теперь уже «моя» наладочная группа… Невесомые листики приказов образовали жесткую воронку, куда неотвратимо и бесповоротно, не считаясь с моей волей и желаниями, неведомая сила затягивает мою жизнь…
Оглушенный услышанным и увиденным, я выхожу в приемную военкома, вертя в руках предписание.
– А тебя зачем вызывали? – спрашивает меня ожидающий приема вальяжный мужик в дорогом ратиновом пальто, мохнатом белом шарфе и огромной шапке из меха невиданного зверя.
– Да вот… призывают в кадры…
– А Вы тоже инженер? – модник критически осматривает мою рабочую форму, но переходит на «вы». – Меня вот тоже призвали. Я был в командировке в Китае, недавно поступил запрос оттуда на второй срок, а здесь – такое безобразие… Я буду жаловаться…
На меня нет запроса из Китая, и жаловаться мне некуда. Я молча ухожу.
Служить нам придется в соседних частях. А через полгода мне придется столкнуться с лейтенантом Борисом Симагиным и его «войсками» в Забайкальских сопках, но этого еще не знаем ни я, ни мой случайный знакомый по Кировскому военкомату…
КОНЕЦ 1 ЧАСТИ







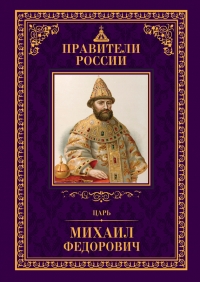
Комментарии к книге «Еще вчера. Часть первая. Я – инженер», Николай Трофимович Мельниченко
Всего 0 комментариев