Николай Трофимович Мельниченко Еще вчера. Часть 2. В черной шинели
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
© Н. Т. Мельниченко, 2015
© ООО «Написано пером», 2015
13. В черной шинели
Винтовка грудь мою сдавила.
Шинель на плечи мне легла.
Фуражка, лента и кокарда
Мою свободу отняла…
(Песенка из детства)Надеть ВСЁ! Равняйсь! Смирно!
А форменные есть отлички:
Погоны, выпушки, петлички!
(Кажется, Грибоедов)4 февраля 1955 года получаю «окончательный расчет» в ВПТИ. Получка за январь неожиданно весомая: можно было бы «жить и размножаться», как обозначают студенты отличные условия жизни. Иван Кузьмич огорчен: план по заводу Молотова стает неопределенным. Попов откровенно завидует: оказывается, надеть погоны, тем более – морскую форму, – его старая мечта. Валера, Толя и майор наполнены унынием и мрачными предчувствиями: вернется Трекало, и опять начнется прежняя тягомотина. Я их успокаиваю:
– Ну, что вы, ребята, вы сами все можете сделать!
По бумаге из военкомата сдаю в милицию свой «молоткастый – серпастый», взамен дают невзрачную бумажку. Теперь я – никто, бомж без всяких прав и жилья. Получаю в военкомате предписание: явиться 05.02.1955 г. по адресу Московский проспект 10. Совсем недавно это был проспект Сталина.
«Являюсь» по указанному адресу между Сенной площадью и Фонтанкой и вижу вывеску: «Трикотажная фабрика». Заглядываю внутрь. Сквозь открытые боковые двери вижу стрекочущие диковинные агрегаты, вокруг которых вращаются десятки бобин с нитками, – все без обмана. Обошел весь большой дом: с тыла только обычные подъезды с номерами жилых квартир. Обход завершается у той же «трикотажной» двери. Внезапно вижу человека в форме морского офицера, который смело поднимается к двери фабрики. Перехватываю его, показываю предписание. Он молча берет меня за локоть и ведет мимо двери грохочущей фабрики вверх по лестнице. На площадке второго этажа стоит уже военный пост: старшина и матрос, которые проверяют документы и пропуска. На четвертом этаже открывается большой коридор, по которому деловито снуют люди, большинство их в военной форме. Дежурный офицер подводит к двери «Начальник Управления Монтажных Работ». Напоминает: надо «представляться» и коротко объясняет, как это делать. Минут через 10 у начальника оканчивается совещание, оттуда выходит десяток офицеров. Вхожу, «представляюсь»:
– Товарищ подполковник, инженер-лейтенант Мельниченко прибыл для дальнейшего прохождения службы.
Из-за стола поднимается высокий симпатичный офицер, пожимает руку, усаживает на стул напротив. Расспрашивает, где учился, работал, семейное положение, есть ли жилье в Ленинграде. Моя гражданская специальность его очень интересует, военную «автотракторную службу» пропускает мимо ушей.
– Автомобилистов у нас более чем достаточно, а вот грамотных сварщиков, особенно инженеров, – нет совсем. С жильем пока вам ничего обещать не могу. Пока не уедете в командировку сможете жить в прежнем общежитии? Попробуем договориться с Минсудпромом.
– Ваша часть сейчас размещается в Первом Балтийском флотском экипаже, туда Вам и надлежит явиться к подполковнику Афонину.
Начальник УМР подполковник Сергей Емельянович Сурмач велит дежурному офицеру провести меня по комнатам оформления. Заполняю анкеты, пишу заявления. В ответ получаю кучу аттестатов. На новое удостоверение личности надо фото в военной форме, а формы еще нет…
Первый Балтийский флотский экипаж размещается напротив воспетого Утесовым Поцелуева моста, который, в отличие от остальных – «не разводится». Опять представляюсь отцам-командирам. Подполковник Афонин – весьма потрепанный жизнью, с водянистыми глазами неопределенного цвета, не то чтобы худощавый, но тонкой кости человек, правда, с кругленьким как арбузик животиком. Выговор отца-командира – «спесифисеский», – звук «с» в его речи заменяет несколько других согласных. Держится вальяжно, курит сигареты, элегантно добывая их из инкрустированного портсигара; пепел стряхивает отставленным мизинцем. Главный инженер майор Чайников – невысокий и плотненький – полностью оправдывает свою фамилию, если иметь в виду кипящий чайник. Именно от него получил я свое первое взыскание: 10 суток ареста без содержания на гауптвахте. Это значило, что я должен был являться не позже 6:00 к подъему личного состава (далее – «л/с»), а уходить не раньше отбоя в 22 часа. Забегая вперед, следует сказать, что именно тогда, во время несправедливого ареста, я смог несколько раз посетить Мариинский театр, до которого от Экипажа всего метров 200. Спектакли начинались около 19 часов, когда в части оставался только дежурный офицер, который был почти всегда таким же «тотальником», как и я. («Тотальниками» у нас называли инженеров, призванных из гражданки, как при «тотальной» – всеобщей – мобилизации).
Последнее знакомство было с замполитом подполковником Баженовым. Это был уже пожилой, подтянутый, невысокого роста офицер, с серыми неулыбчивыми глазами. Судя по количеству орденских колодок на кителе, Баженов неплохо и долго воевал. Знакомился он с молодыми офицерами, в том числе – со мной, совсем не формально, обстоятельно и просто. Вместе мы повздыхали о жилищной проблеме для офицеров и мичманов, особенно тех, у кого есть семьи. Опять забегая вперед, скажу, что за 33 года военной службы я больше не встречал политработника, даже отдаленно похожего на Баженова. Это был человек большой души и обаяния. Всегда он стоял горой за своих офицеров и матросов перед любым высоким начальством, никого не боясь. Защищая матросов и офицеров, требуя «положенное» для них, никогда подполковник Баженов не искал лично для себя какой-либо выгоды, преимуществ, послаблений. Даже в самых собачьих условиях, он всегда был вместе с матросами и офицерами, разделяя их быт и невзгоды.
Постепенно наша часть заполнялась «тотальниками», прибывавшими из разных концов СССР. Всех на службу собрали насильно, как меня. Служить же никто не хотел. У многих уже были семьи, дети, которые остались где-то на просторах страны без мужского «призрения», как говаривали в старину.
Призванные ранее матросы уже занимались строевой подготовкой на плацу под командованием старых мичманов. Нас, в разношерстной гражданской одежде, к этому увлекательному занятию еще нельзя было допускать. С первых дней нас начали «об-мун-ди-ро-вы-вать».
Это – поэма! Никогда не подозревал даже, что молодой офицер должен иметь такое невероятное количество всяких предметов в своей одежде. Младшему офицеру было «положено»: носки, белье летнее и зимнее (а вот тельняшек – не было), рубашка белая парадная со сменными воротничками и манжетами, ботинки повседневные и парадно-выходные, синий китель х/б рабочий; фуражки – повседневные и парадно-выходные – черные и белые со сменными чехлами, шапка меховая кожаная. Шить в военных ателье полагалось: шинель, китель (синий), тужурки – повседневную и парадно-выходную, брюки – к кителю и обеим тужуркам.
К каждой «пошивочной единице» материал соответствующего артикула отрезался от больших рулонов по таблицам, соответственно зафиксированным размерам носителя. К каждой «единице» полагались подкладки нескольких сортов: саржа, сатин, сукно «пионер», которое вовсе не сукно, и даже ткань из конских волос и мешковина. На каждую «единицу» выдавались масса пуговичек разных сортов, окраски и размеров. Чтобы рабочий китель можно было стирать, пуговицы там были съемные: добавлялись хитрые кольцевые затворы.
Погон тоже набиралось до десятка пар. Погоны были разных размеров, жесткие съемные на пуговичках и мягкие пришивные, белые и черные – для рабочей и повседневной одежды. На каждую «погонину» надо было закрепить по установленным канонам две (пока) звездочки и по одному «молотку», говорящему о нашей технической сущности. Кстати, наши серебряные инженерные погоны с молотками при синем кителе весьма напоминали форму железнодорожников, и нас часто путали. Я не преминул закрепить на кителе свой парашютный значок, что вообще вводило любопытных в ступор: кто же перед ними красуется? Любопытствующим я представлялся как морской парашютист-железнодорожник.
«Положена» нам была для защиты от дождя также широченная и длиннющая черная плащ-накидка с капюшоном. Каждый, надевший ее, ставал похожим на собственную статую перед открытием мемориала…
Эту великолепную гору военной амуниции венчали совсем уже сказочные предметы. На каждую фуражку полагалась «капуста» с якорями, листьями и звездой (именно за такую в Деребчине пострадал от флотского старшины Алик Спивак). Очень ценилась «капуста», почерневшая и потрепанная жестокими океанскими штормами. Правда, можно было нарваться на недалекого начальника, который задавал вопрос: «Вы что, на нефтеналивной барже служили?»
На парадные фуражки (белую и черную) добавлялся еще серебряный шнур и металлические листья неведомого растения – орнамент на козырек, как у старших офицеров. На лацканы парадной тужурки также следовало закрепить орнамент и огромные якоря: такую красотищу вообще только адмиралы носят.
А дальше – чистая фантастика: выдали настоящее боевое, правда – холодное, оружие – номерной кортик. На золотых боках его ножен несся с раздутыми парусами старинный фрегат, с другой стороны – увитый цепями якорь; на золотых концах рукоятки – герб СССР. К кортику придавался черный тканый ремень с позолоченными массивными пряжками. На пряжках красовались львиные морды, – одна большая – для ремня и две поменьше – на «постромках» – для крепления кортика… Пояс моряки носили под кителем или тужуркой, кортик «блёндался» внизу слева. (Позже глубоко сухопутный маршал Гречко унифицировал флот с армией и ввел позолоченный пояс для кортика, который следовало носить поверх парадной одежды. Если на приталенных армейских мундирах это, возможно, и смотрелось, то на просторных двубортных тужурках моряков это не лезло ни в какие ворота. Моряки роптали, но вынуждены подчиняться этой нелепости до сих пор).
Навьюченные, как верблюды на Шелковом Пути, отрезами и отрезочками, пуговицами, крючками и погонами, мы двигались в пошивочное ателье, благо оно было недалеко: в Круглом доме на канале Крунштейна (Новая Голландия). Там снимали мерки, а все наше добро опять перемеряли, пересчитывали и оформляли заказ, если не могли подобрать что-нибудь «готовое из брака». Отдельные предметы были готовы раньше других, но носить смесь гражданской и военной одежды – категорически нельзя, поэтому пред ясные очи начальства мы предстали полностью экипированными и приняли торжественную присягу спустя почти месяц.
Моя вторая военная шинель в своей основе, конечно, была черной. Но, неизвестно почему, из черной массы в разные стороны торчали абсолютно белые и жесткие волоски длиной до трех сантиметров, что создавало светлый ореол, весьма напоминающий нимб святого, правда, – только вокруг туловища. Вызывая удивление зрителей, я щеголял в ней довольно долго, пока не догадался осмалить свой нимб газовой горелкой и превратиться в обычного советского офицера в черной шинели…
Перебираю в памяти гору амуниции и понимаю, что охватил еще не все. Ну конечно, – это белый китель и такие же белые ангельские брюки! С выдачей брюк была, правда, некая задержка: наверху решался вопрос – нужно ли выдавать их при нашем климАте. А все прелести ношения белого кителя я изведал вполне. Дело в том, что из этого Эвереста амуниции можно было надевать и носить отдельные предметы строго по приказу: форма одежды объявлялась в приказе «старшего на рейде», – в Ленинграде это был командующий Военно-морской базой. Так вот, если у сухопутных коллег было только две формы одежды – зимняя и летняя, то у моряков их было целых шесть, причем с подпунктами! Анекдот тех времен: главный разведчик США выбросился из окна небоскреба. Об армии и флоте Советского Союза он знал все, но не мог никак сосчитать, сколько форм одежды у советских моряков!
Задержанным патрулями за нарушение формы одежды – это, кажется, самое распространенное нарушение – было вовсе не до смеха. Задержание грозило выводами уже в части: матросам – лишением очередных увольнений, офицерам и мичманам сверхсрочной службы – нежелательными записями в карточке взысканий и поощрений. А нарушением могло быть многое, например, – «неуставной цвет носков» (они могли быть только синими или черными, даже при белых брюках!). И если объявлена форма 1 (шутка: форма «раз» – трусы и противогаз), то ты как миленький в городе должен появляться только в белом кителе с соответствующим сочетанием остальных причиндалов. Обычно, «форма один» объявлялась при длительной несусветной жарище. Белый китель, конечно, неплохо отражал лучи палящего солнца при прогулке по морским набережным в Сочи. Но надо знать, что этот китель имел высокий и жесткий стоячий воротник, который должен быть всегда наглухо застегнут, чтобы надежно пережать шею. Это сводило «на нет» теплоотражающие свойства кителя. Дополнительно: его девственная белизна немедленно подвергалась поруганию при проходе возле коптящих заводов, проезде в гортранспорте и еще от тысячи причин, например, – от собственных черных брюк. К вечеру китель настойчиво требовал новых стирки и глажки у изрядно уставшего владельца. Впрочем, были варианты. Если форма один была без приставки «парадная», то можно было надевать черную суконную тужурку с белой рубашкой и галстуком, что в жару напоминало мёд тоже очень отдаленно. В общем, все по закону военной службы: «Мне все равно, как ты служишь, – лишь бы тебе тяжело было». Гуманные кремовые рубашки с погонами и галстуком были введены спустя лет пятнадцать, а уж без галстука и с коротким рукавом – совсем недавно, когда меня лично это уже не касалось…
Отличники БПП и отстающие
Солнце всходило и заходило строго по расписанию.
А вертеться приходилось Земле.
(WWW)Пока мы, тотальники, были в своей гражданской одежде, сохранялось некое подобие свободы передвижений. В часть мы приходили к 9:00, уходили после шести. Обедали, не торопясь, в столовой возле Главпочтамта, некоторые – с коньяками, которые там были весьма приличны, например – армянский (?) КВВК (коньяк выдержанный высшего качества). В те далекие времена не могло даже возникнуть мысли, что наклеенная «лейбла» может не соответствовать содержимому тары…
Я уже говорил, что служить в армии не хотел никто из призванных офицеров. В своем кругу мы интенсивно обсуждали способы освобождения. Некоторые писали рапорты об увольнении, которые, после соответствующих внушений, клались под сукно или подшивались в личное дело с отказной резолюцией. Но понятие воинского долга в те времена не было пустым звуком, – совсем недавно была война, в которой миллионы военных людей вообще сложили головы; поэтому большинство призванных с запаса офицеров добросовестно тянуло надетый принудительно хомут. «Жила бы страна родная»…
Некоторые же наши тотальники, не особенно отягощенные совестью, пускались во все тяжкие, добиваясь увольнения разными хитрыми и не очень способами. Был среди нас «целый» старший лейтенант Гальцев. Так он в почтамтскую столовую заходил с утра, окружал себя бутылками и к обеду уже лыка не вязал. После нескольких взысканий, идущих по нарастающей, его все же из армии выгнали. Мне кажется, что и в мирной жизни он, даже в «освобожденном» состоянии, уже не сможет остановиться…
Другой хитрый, киевлянин с украинской фамилией Онищенко, был отправлен в командировку с четырьмя матросами. Через недели две командование послало в Балаклаву запрос: как там освоился молодой лейтенант? «Какой? – ответили оттуда. – К нам никто не приезжал!». Все комендатуры от Ленинграда до Балаклавы были поставлены «на уши»: пропали, возможно – погибли, офицер и 4 матроса! Довольно длительные поиски дали неожиданный результат: лейтенанта нашли на его даче под Киевом, загорающего на солнце, – в трусах, в панамке и в глубоком «расслаблении». Матросы у него днем работали на огороде, а вечером, переодевшись в гражданскую одежду, отправлялись в окрестные села к девушкам, в обиходной речи – «по бабам»…
Пришлось отцам-командирам года через два службы все же уволить также и моего коллегу – инженера-сварщика Севастьянова. Он, напротив, – страстно хотел служить, но был настолько туп, слаб и не организован, что любое, даже самое простое, дело блистательно заваливал…
Остальные плотно втягивались в служебную лямку, вырастая аж до отличников «боевой и политической подготовки» – БПП. Каждый получил график дежурств по части, взвод матросов, которых надо было тоже делать отличниками БПП – по строевым и политическим занятиям, по дисциплине, а главное, – по овладению монтажными специальностями. Долгими часами на плацу внутри Экипажа доводили мы своих матросов, а заодно – и себя, до строевого состояния. Весь периметр двора был уставлен щитами с показательными фигурами матросов и назидательными лозунгами, например: «Приказ начальника – закон для подчиненных», «Приказ должен быть выполнен безоговорочно, точно и в срок», «Приказ командира – приказ Родины», «Учиться военному делу самым настоящим образом» и т. п. Устный военный фольклор тоже изобилует лозунгами и истинами, которые и без «публикации» на щитах не менее точны: «При встрече с начальством всякая кривая короче прямой», «Не спеши выполнять распоряжение, ибо может последовать его отмена», «Не е… где живешь, не живи, где е…шь». Не нравится мне, но, увы, во многих случаях справедлива мудрость: «Куда солдата ни целуй, – всюду задница». И уж специально для меня придумана формула: «Не давай умных советов начальству: тебя же заставят их исполнять».
Началась техническая учеба и у офицеров. Инженер-майоры Шапиро А. М. и Чернопятов Д. Н. прочитали нам курс «Топливные склады и трубопроводы». Лекции Шапиро были яркими и остроумными, хотя и «по верхам». Более суховатые лекции Чернопятова зато были более глубокими и насыщенными неведомой нам технической и житейской информацией. Кем были эти майоры с «березовыми погонами», – нас тогда не очень интересовало. Меня только удивило, как преображался и лебезил перед ними наш командир части – «золотопогонный» подполковник Афонин. Позже все прояснилось и стало на свои места. Под руководством этих выдающихся людей, особенно – Дмитрия Николаевича Чернопятова, я работал (служил?) много лет и многому у них научился. Надеюсь, мне еще удастся рассказать об этом.
Тогда, «на заре военной юности», отличником БПП, увы, я не был. «Срезал» меня на пути к этой благородной цели майор Чайников, объявив мне в приказе 10 суток «домашнего ареста». Дело было так. Обычно маленький майор с комплексом Наполеона появлялся в части во всем блеске своих «двухпросветных» погон с сиротливой звездой, однако – побольше наших двух, и начинал «кипеть» с порога. Он непрерывно извергал из себя приказы, приказики, распоряжения, запреты и замечания, – насколько мелкие, настолько же бесполезные. Чайникова в нашем кругу изображали позой: одна рука согнута калачом, вторая, фасонно изогнутая, дрожит от выбрасываемой в пространство струи распоряжений. В тот день я дежурил по части, когда появился Чайников. Я представился:
– Товарищ майор. Дежурный по части лейтенант Мельниченко.
Эффект был неописуемый: пар негодования забил у Чайникова не только из «носика», но из всех щелей и отверстий. Извержение длилось несколько минут, последними остатками «пара» мне и был объявлен арест. Оказывается, командир части вчера вечером убыл в командировку, назначив своим «врио» Чайникова. А командиру, если он даже «врио», я был обязан отдавать рапорт:
– Часть, смирна-а! Товарищ майор! За время моего дежурства в части происшествий не случилось! (Или случилось то-то). Дежурный лейтенант Мельниченко».
Командир, выслушав рапорт, может действовать двумя методами. Если есть с кем, он может поздороваться, например: «Здорово, орлы (львы, морские волки и т. п.)», и только после ответного «Здрам жлам тырщ майор!!!» отдать команду: «Вольно!», которую повторяет во весь голос дежурный. Если больших военных масс вблизи нет, то командир просто здоровается с дежурным, говорит «вольно», что в полный голос и радостно должен повторить дежурный…
При параде…
Гораздо позже я понял, что, не отдав майору громогласный рапорт, испортил ему весь сладкий праздник появления в должности «врио» командира и должен был понести за это суровое наказание. А тогда, в своей лейтенантской прямолинейности, я кипел в душе не хуже Чайникова: «За что??? Откуда я мог узнать, что его назначили врио командира?»
Когда вернувшийся Афонин стал меня отчитывать за взыскание, я, военный малолетка, стал негодовать, пренебрегая законом «приказ должен быть выполнен беспрекословно…». В ответ отец-командир разразился тирадой:
– Ну, сто ты, сто ты так разволновалса? Ты у меня на хоросем ссету… Севастьянов – дурак, а ты – на хоросем ссету! Поедесь у меня на юга, на арбусное место! Зеним там тебя! Ты зе холостой?
Я, салага, успокоился. У командира части я на хорошем счету, он собирается послать меня на юга, на арбузное место. Даже об улучшении семейного положения побеспокоился, отец родной!
Спустя несколько месяцев его пошлет майор с белыми погонами – А. М. Шапиро прямо «на юга» мне на помощь, уже обжившему эти Забайкальские «юга». Оказывается, наша в/ч является только одним из подразделений Строймонтажа-11, которым командует Шапиро, где главным инженером – Д. Н. Чернопятов. Только они и решают, кого и куда послать. И возможностей ссылки у них больше, чем у Императора Всея Руси. Царь на Север посылал не дальше Архангельска, а Шапиро добавил еще все острова и полуострова Кольского залива, Новую Землю, остров Хейса и др. Гораздо дальше на восток от Нерчинских рудников были Находка, Хабаровск, Владивосток. На западе – Албания, на юге – не только Крым, но и все Закавказье. (Я называю города и страны только для краткости. Асфальт городов обычно не является местом наших длительных прописок…)
Светские развлечения
И грянул бал… (Не помню – чей)
Я продолжаю жить в общежитии на Стачек 67. Сначала вахтеры балдели, увидев человека в военно-морской форме, пробирающегося в общежитие поздно вечером, потом притерпелись. Для выданной впрок амуниции мне пришлось соорудить антресоли на платяном шкафу. Юрка Попов завистливо поглядывает на мое новое облачение. На заводе и в ВПТИ у него не все клеится, да еще на целину чуть не вытолкали. Армия была бы для него блестящим выходом. Павка Смолев и Валера Загорский просто радуются, что их друг (я) так «милитаризовался». Павка называет меня микроподполковником. Когда мы вместе идем по улицам, Павка ревниво следит, чтобы мне своевременно отдавали честь младшие по званию. Правда, большинство встречных попадается почему-то с более «толстыми» погонами, и тут уже мне надо держать ухо востро, чтобы патруль не «замел» меня самого за «неотдание»…
В. Загорский, я и П. Смолев
У молодой жены Юры Скульского Нади, которая учится в химико-фармацевтическом институте, – день рождения. Юра из Киева приехать не может, и Надя приглашает его друзей – Попова, Смолева, Валеру Загорского и меня на свой праздник в общежитие на улице профессора Попова. Приглашение было настоятельным: там много подруг, которым без нас будет грустно. О другой причине мы узнали чуть позже.
Наша компания появляется в точно назначенное время вечером в субботу. Девушки вместе с именинницей нас радушно встречают. В большой комнате общежития кровати сдвинуты к стенкам; большой стол посредине уставлен яствами, среди которых преобладают салаты. Наши средства на праздник были переданы заранее, подарки и еще кое-что «у нас с собой было». Раздеваемся в соседней комнате, рассаживаемся, начинаем праздновать, всем радостно и хорошо. Я – единственный военный и единственный, который знает почти всех участников, поэтому меня избирают тамадой. Я стараюсь, чтобы смех не прекращался…
Внезапно появляется некая дева – «гонец из Пизы»; девушки волнуются, и обстановка резко «затуманивается». В общежитие с поздравлениями Наде пришел ее бывший «воздыхатель» из Военмеха – Военно-механического института. Пришел не один: с ним четыре «бойца». Среди девушек – разногласия, некоторые призывают Надю дать новым гостям от ворот поворот. Надя колеблется, она явно не хочет этого. Впрочем, – уже поздно принимать решение: военмеховцы вваливаются в комнату, ставят на стол бутылки, вручают имениннице подарки. Девушкам деваться некуда: сдвигаются и добавляются стулья. Наконец все участники усаживаются за стол, и уже не праздник, а «заседание сторон» – продолжается. «Стороны» сидят лицом к лицу, их разделяет только стол. Шуточки стают более целенаправленны и напоминают проскакивающие искры высокого напряжения. Девушки мечутся, пытаются усиленным потчеванием смягчить напряжение. Принятое «на грудь» всеми участниками несколько «анестезирует» обстановку, но на очень короткое время. Увы, – драки не избежать, и я начинаю оценку сил противников и своих.
Спасают открывшиеся в рабочей комнате общежития танцы. Девушки облегченно поднимаются из-за стола, трое жертвуют собой и уводят самых агрессивных кавалеров из Военмеха на танцы. Мы остаемся, теперь нас большинство. Я уже начал надеяться, что удастся избежать прямого столкновения.
Мои миролюбивые планы срывает Павка Смолев. За Надей неотрывно кружит по комнате ее прежний воздыхатель, изрядно окосевший, и, как незабвенный Васисуалий Лоханкин, умоляет ее о любви. За ними как тень следует Павка. На его лице ясно написано желание: не допустить этого безобразия. На повороте Павка не выдерживает и со всей силой залепляет кулаком воздыхателю в глаз. Главный противник на какое-то время отключается. На Павку с кулаками бросается самый рослый из «бойцов». Я успеваю схватить его за обе руки и удерживаю их перед его «мордой лица», чтобы он не смог ударить меня головой. Противник вертится, но вырваться из моих рук не может. Происходит перегруппировка сил: немедленно «линяет» наш Попов, взамен вбегают два военмеха с танцев. Прибывшее подкрепление повисает на мне. Краем глаза вижу: Валера Загорский вращает над головой как боевую палицу бутылку из-под шампанского. Спрашивает меня:
– Бить?
– Не надо! – кричу ему. Я и сам не бью, – только удерживаю самого сильного. Валера отбрасывает бутылку и вдвоем с Павкой начинают оттаскивать висящих на мне врагов. «Мала куча» сваливается на пол и начинает кататься по нему, все сметая на пути: стол со скатертью и тарелками, стулья, постели, даже занавески с окон. Вокруг мечутся девчонки, поколачивая оказавшихся сверху военмехов. Их больше, как только из моих рук освободится самый сильный, нас троих сомнут и начнут бить…
Внезапно полностью распахиваются двери комнаты. На пороге стоят несколько человек из руководства общежития и студсовета. Скрестив руки на груди, они наблюдают наши упражнения. Вращение кучи тел как-то останавливается. Девчонки отрывают оттуда военмехов по одному и выталкивают их из комнаты. Они быстренько одеваются, и активисты энергично выводят их всех за дверь общежития.
Очень приближенно восстанавливается «довоенная» обстановка, и мы опять готовимся сесть за обедневший стол в исходном составе. В комнату впархивает Попов и весело спрашивает:
– Здесь была какая-то потасовочка?
Вежливый, интеллигентный Валера берет его за грудки и влепляет мощную оплеуху:
– Ты, гад, где был, когда нас с Колькой тут метелили???
Их дружно растаскивают по углам ринга: не хватает нам еще междоусобицы. Праздник продолжается. У Попова алеет вся щека. Павке прикладывают холодные компрессы к разбитому носу, Валера лепит холодные пятаки к синяку под глазом, мне пришивают оторванные погон и пуговицы на кителе…
Утром собираемся в путь. Бог шельму метит: больше всех пострадал Попов. Его роскошную кожаную шапку с натуральным мехом увели военмехи. Взамен оставили шапку такого же рыжего цвета, только тряпичную и с пластмассовой шерстью…
Опять завод, да не тот
Вытапливай воск, но сохраняй мед
(К. П. № 39)В Экипаже тесно, и нашу часть выставляют куда-то на Петровские острова. Я со взводом учеников-сварщиков остаюсь на месте. Мы прикомандированы к «десятке», которая остается пока в Экипаже. Эта часть – такой же Отдельный монтажно-технический отряд, как и моя часть, только по-настоящему отдельный: напрямую подчиняется Управлению монтажных работ. Его офицеры и матросы самостоятельно производят работы на разных флотах по всему СССР. Над нашей частью имеется еще командная надстройка в виде Строймонтажа-11, со своим командованием, начальниками участков и прорабами, – тоже офицерами, а также различными техническими, снабженческими, плановыми и финансовыми службами. Это – схема строительных УНРов – Управлений начальника работ. Офицеры УНР руководят строительством, а офицеры и сверхсрочники стройбата занимаются только личным составом. На производстве они присутствуют, в лучшем случае, в качестве надсмотрщиков. Но в нашей в/ч все офицеры – инженеры, за исключением, пожалуй, командира Афонина и замполита. Однако самостоятельно вести работы мы не можем: у нас нет требующихся для этого технических служб и отделов. Это противоречие скоро разрешится, о чем речь впереди.
Мой учебный взвод состоит из трех десятков матросов, одного сверхсрочника – старшины Кадникова и меня. Учимся мы на сварщиков на заводе подъемно-транспортного оборудования (ПТО) имени Кирова, находящимся между Балтийским и Варшавским вокзалами. В громадном основном цехе завода, где собирают махины различных кранов, мои ребята распределены по бригадам сварщиков, где, по идее, они и должны овладевать мастерством непосредственно в условиях «максимально приближенных к боевым». Теоретические занятия с матросами проводят инженеры завода за небольшие копейки: так мы «благодарим» руководство цеха за согласие принять нас в свои объятия.
Мои первые матросы
Предполагается, что после первичной учебы на заводе, сварщик идет на монтаж, где быстренько совершенствуется и достигает вершин мастерства.
В теории и на взгляд новичка или дилетанта все выглядит блестяще: если ПТУ готовят сварщиков за три года, то мы справляемся всего за шесть месяцев. Наши ученики, правда, не проходят школьного курса наук, но зато они несут все тяготы срочной военной службы (матросы тогда служили по 5 лет). Конечно, наши специалисты еще сыроваты, но уж на реальном своем производстве они быстро усовершенствуются и станут асами…
Уже через несколько месяцев я на своей шкуре почувствую все недостатки этой благостной теории и, увы, – общепринятой практики, повсеместно действующей до сих пор. Хорошо, что будущее нам неизвестно, а то бы заранее пришлось переживать…
Я, молодой лейтенант, летом 1955 года якобы хорошо учу сварщиков на заводе, одновременно постигая азы военной службы. Моя группа состоит из ребят с Украины, России и нескольких прибалтов – латышей и литовцев. Все ребята «из войны»: привычные к работе и трудностям, к уважению начальства. Я старше их всего на несколько лет, но пока у меня особых проблем с дисциплиной не возникает.
Первое серьезное столкновение с матросом происходит из-за пустяка. У нас в цеху комната со шкафчиками, где мы переодеваемся в рабочую одежду. Все уже переоделись, готовимся к выходу в цех. Один матрос замешкался и попадает в мое поле зрения.
– Степив, останься минут на десять, подметешь пол, – даю ему команду. Рослый симпатичный украинец вдруг «бычится».
– Не буду я подметать!
– Как это «не буду»? Я тебе приказываю!
– Не буду я подметать! – закусил удила упрямый Степив.
Матросы остановились и с интересом ожидают конца поединка. Они знают, что офицеры с гражданки – не совсем командиры, и при случае быстро садятся им на шею. Мне отступать некуда: я твердо знаю, что командир обязан добиваться исполнения приказов, тем более – собственных. Сейчас пропустить открытое неповиновение, да и просто замешкаться, для меня – потеря лица. Я даю команду старшине второй статьи Бутану, – заместителю старшины группы:
– Построить группу!
– В шеренгу по два становись!
Это команда, отданная по уставу. Не выполнить ее невозможно. Долгие часы строевой подготовки заставляют группу быстро и автоматически построиться.
– Равняйсь! Смирно! Товарищ лейтенант! Группа по вашему приказанию построена.
Группа привычно замирает и «поедает» командира глазами: она вся внимание.
– Матрос Степив! Выйти из строя!
– Есть – выйти из строя! – Степив начинает понимать, что шуточки кончились.
– За попытку невыполнения приказания объявляю Вам взыскание: десять суток ареста с содержанием на гауптвахте!
– Есть десять суток ареста, – севшим голосом отвечает по уставу Степив.
– А сейчас – подметите комнату. Разойдись!
Степив набирает в грудь воздух, чтобы что-то еще возразить, но матросы толкают его в бок кулаками: «заткнись, пререкаться с Командиром нельзя!» и вручают веник.
Я выхожу первым, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны: «командир быстро и решительно подавил бунт на корабле»; с другой – мне жаль Степива, в целом исполнительного и трудолюбивого матроса. Вот так же, совсем недавно, мне самому ни за что, ни про что влепил домашний арест Чайников. Позже узнаю, что матросы составили график уборки и Степив совсем недавно добросовестно отдежурил, еще и отругав предыдущего неряху…
Вечером я несу на подпись командиру части подполковнику Кащееву Глебу Яковлевичу на подпись записку об аресте Степива. Я, командир отдельного взвода, пользуюсь дисциплинарными правами командира роты, но и ему не дано посадить «на губу» на десять суток. Кащеев внимательно изучает меня, как будто впервые увидел и начинает подробно расспрашивать, за что я объявил такое большое взыскание. Я без утайки рассказываю все как есть. Мне уже жалко Степива, я бы уменьшил наказание, но – слово сказано… Тут Кащеев со мной согласен и подписывает записку об аресте, но затем делает мне командирское «вливание», которое я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Его смысл таков: ты командир, ты старше и должен быть умнее строптивого подчиненного. Ты должен уметь просчитывать не только первый шаг, но и все последующие. Если ты видишь, что подчиненный закусил удила и лезет на рожон, зачем и тебе переть на этот самый рожон? При пустячной причине – отойди, преврати все в шутку, и стой намертво, если речь идет о принципиальных вещах…
Глеб Яковлевич – умный и рассудительный, прошедший войну, командир. Ему я безусловно доверяю и полностью принимаю его нравоучения. Меня он тоже как-то выделяет и не скупится тратить на меня свое время. А вот крушение его методов воспитания мне пришлось наблюдать спустя всего несколько месяцев: они применимы только к нормальным людям, увы, – некоторых гориллоподобных гуманное воздействие только поощряет на новые подвиги…
Через пару недель я дежурил по части. Около часа ночи решаю проведать свою группу и обнаруживаю две кровати пустыми. Поднимаю командира отделения:
– Где твоих два матроса?
Командир отделения со сна чешет репу и молчит. Повторяю вопрос, после чего он нехотя докладывает, что они, наверное, после вечерней поверки и отбоя сбежали на завод. На территории завода есть женское общежитие… Размышляю: отсутствие матросов обнаружится на утренней поверке, и к дежурному офицеру, их непосредственному командиру, будет много вопросов. Самовольщики могут торопиться к утренней поверке, но их наверняка задержит патруль в ночном городе или на КПП Экипажа, что тоже не мёд по оргвыводам. Да и вообще – бардак в моей группе!
Поднимаю командиров отделений с приказом разбудить, одеть и построить группу: сбежали Панин и Сенченко. Матросы, конечно, прекрасно знают, где находятся беглецы, и тихо чертыхаются, оторванные от крепкого сна. Чувствуется их отношение к любвеобильным Донжуанам… Я бы и сам им впилил в полную силу, если б не погоны…
Передаю дежурство помощнику и вывожу свой отряд на почти безлюдные, но довольно прилично освещенные, улицы ночного Ленинграда. Строй движется почти бегом, я – впереди, с сине-белыми «рцами» дежурного на рукаве кителя и с пистолетом на боку. Проходим Театральную площадь, огибаем слева Никольский собор, переулками выходим на Измайловский проспект. Наталкиваемся на патруль, который недоуменно смотрит на нашу группу.
– Спецзадание, – сурово бросаю им, не снижая темпа рыси. Не хватает мне еще разговоров с патрулями…
Наконец подходим к проходной завода. Охрана, конечно, нас не пускает: видок группы возбужденных матросов живо напоминает им о штурме Зимнего. Договариваюсь о впуске троих. Командир тройки – Бутан. Это жесткий младший командир, кажется, с уголовным прошлым: матросы его побаиваются. Он отбирает себе двоих «знатоков общежития» и исчезает за дверью проходной. Мы расслабляемся и закуриваем.
Минут через десять из проходной вываливаются два беглеца, за ними – «группа сопровождения». У Панина расквашен нос, Сенченко смотрит только одним глазом. Строю группу и молча отправляемся в обратный путь. На Измайловском нас догоняет дежурный трамвай. Останавливаю его и загружаю туда всю группу. Вскоре мы на родном Поцелуевом мосту. Прошу водителя (на трамвае он – вожатый) остановиться здесь. Вскоре всей группе повторно дан отбой. «Разбор полетов» – завтра. Мое дежурство продолжается до 17 часов…
Следующую самоволку обнаруживаю опять на дежурстве при обходе ночью своей группы. Отсутствует Андрей Мельник, коренастый и трудолюбивый паренек из украинской глубинки. Разбуженный командир отделения, не просыпаясь окончательно, говорит мне:
– Так Мельник, товарищ лейтенант, каждую ночь работает на камбузе.
– Как это? Кто ему дал наряды вне очереди?
– Не-а, не наряды. Он – добровольно, – бормочет почти во сне командир отделения.
По каменным плитам ступеней, стертыми поколениями матросов, спускаюсь в огромный камбуз. А вот и мой Мельник. В рабочей робе с закатанными штанинами и рукавами он старательно драит каменные плиты пола. «Прихватываю» дежурного мичмана:
– Почему мой матрос вкалывает у вас?
– Так он сам приходит, спрашивает, что надо сделать…
Я недоверчиво-вопросительно продолжаю глядеть на мичмана.
– Ну, мы ему даем за работу две буханки хлеба… Полторы он съедает сразу, полбуханки – относит ребятам, или – откладывает на потом…
Я поворачиваюсь и ухожу. Возможно, вспоминаю, как мечтал сам о хлебе в Казахстане, а особенно во время голодовки на станции Аягуз… Моя попытка увеличить норму хлеба для матроса Мельника – ничего не дала: он не был гигантом, которому это «положено».
Дальние проводы – лишние слезы
– А я на ней женюсь, – заявил замполит, когда парткомиссия обвинила его в сожительстве с козой.
(Из морских баек)Я никогда не вел и не поддерживал разговоров об отношениях с женщинами в мужских компаниях. Тем более, – не хочется писать об этом в своей биографии. Делаю это сейчас только ради разнообразия и для предостережения несведущих, возможно – внуков-правнуков. Именно их я хочу предостеречь от расчетливых и хладнокровных стерв. Они, стервы, сначала изображают самоотверженную любовь, и умеют вовремя лечь под выбранную жертву, одурманенную игрой своих гормонов. Прозревать жертва начинает позже, когда появляются настоящие дорогие люди – дети, и обратной дороги уже нет…
А вот доводы против. 1) Стервы – тоже женщины, их тоже можно понять: замуж невтерпеж. В конце концов, они делают то, к чему предназначены самой природой. А мы, караси, не должны зевать, когда щука охотится. 2) Главный урок истории состоит в том, что из нее никто никогда не извлекает никаких уроков. 3) За долгую жизнь я успел осознать, что «добрые советы» участникам отношений «мужчина – женщина» – слышны гораздо слабее гласа вопиющего в пустыне. Тем не менее – надо как-то «возопиять» об уроке, полученном лично.
В выходной я повел группу матросов на экскурсию в один из музеев Ленина, тот, где во дворе стоит броневик. К группе примкнули три девушки, одиноко тынявшихся по пустынным залам: на нашу группу выделили экскурсоводшу, которая с ложным пафосом что-то вещала.
Вскоре две девицы попроще «слиняли», а третья совсем вошла в нашу группу, весело и остроумно разговаривая сразу со всеми матросами, но находясь почему-то всегда рядом со мной. В зале, где показывали документальное кино о Ленине, был могильный холод – как в Мавзолее. Девушка в тоненьком платьице совсем замерзла, и я, филантроп несчастный, накинул ей на плечи тужурку.
При расставании Алла при всех матросах призналась чуть ли не в любви ко мне, их командиру, и попросила адрес для переписки. Я, под веселое ржание матросов, дал ей адрес и фамилию самого маленького моего матроса Вани Потапенко. Уже через несколько дней Ваня подошел ко мне с улыбкой до ушей:
– Товарищ лейтенант, Вам письмо!
– Да нет, Ваня, это тебе письмо, – ответил я, поглядев на конверт.
– Вам, вам! Вы прочитайте!
Я невольно прочитал письмо. Грамотно, хорошим почерком написан был облегченный вариант письма Татьяны к Онегину, нацеленный на меня лично. Я рассмеялся и возвратил письмо Ивану:
– Письмо подписано тебе, Ваня. Вот и выкручивайся…
Потапенко ушел озадаченный. Позже стало известно, что один из матросов решил под моей маркой ответить Алле и договориться о встрече. Видно, его письмо не отличалось грамотностью, и он был разоблачен. Пришедшее к Потапенко следующее письмо было наполнено благородной сдержанностью: «извините, ребята, мне действительно понравился ваш командир. Теперь я понимаю, что он просто пошутил, дав адрес. Бог ему судья, и т. д. Если он захочет все же извиниться передо мной за свою шутку, то вот мой телефон…».
По телефону мои извинения не были приняты и предложена встреча. Мы встретились, шутили, смеялись, побывали в кино. Поздно вечером я проводил Аллу до дома: она жила прямо в лаборатории, где работала.
– Тебе очень поздно ехать в Автово. Может быть, заночуешь у меня? Утром и в часть тебе близко. Только – ни-ни!
Я поколебался, но доводы были веские. С «ни-ни» я тоже был согласен.
Утром я был несказанно удивлен: меня уже ожидал завтрак, от которого я уже успел отвыкнуть в своей холостяцкой жизни. При веселом разговоре Алла пожаловалась, что давно хочет посмотреть один спектакль, но нет спутника. Мне тоже уже надо было приобщаться к культуре, чтобы забыть о суровых военных буднях, поэтому я обещал взять билеты. Посетили «Чертову мельницу» в театре Ленсовета, смеялись до упаду. Опять было поздно, опять ночевка, опять «ни-ни», опять завтрак, приготовленный заботливыми руками…
Встречи продолжались, «ни-ни» однажды незаметно прекратилось… Я потихоньку начал втягиваться в такую жизнь. Была «эпоха безвременья»: юность и первая любовь ушли, со своей малявкой я расстался навсегда. Да и маленькая она еще: «сменит не раз младая дева…».
Прозрение было жестким, но очень своевременным. Я случайно услышал разговор с подругой, из которого узнал, что я не единственный, а просто главный кандидат в мужья из-за своей «лопоухости». Что если я начну «вилять» на пути к бракосочетанию, то на меня есть управа – политотдел и командование, которое всегда защищает «права обманутых женщин». Облик умной и коварной «охотницы» за мужьями раскрылся полностью…
Я не стал устраивать «сцену у фонтана», а просто объявил, что срочно уезжаю в длительную командировку. На просьбу писать я малодушно пообещал, «если это будет возможно».
В общежитии я блаженствовал всего несколько дней. Однажды вечером открылась дверь нашей полностью засекреченной берлоги, и Алла рыдая упала мне на грудь…
Я безвольный человек и не могу выносить женских слез… Спасла меня настоящая долгая командировка в Забайкалье, в которую я отправлялся с небывалой радостью.
Уже через неделю в Забайкалье я, не сообщив еще свой адрес даже родной матери, начал еженедельно получать письма от Аллы, якобы тоскующей в разлуке. В Забайкалье я мог быть также на объекте возле Улан-Уде. Так и оттуда мне передали пачку ее писем. Конечно, я не отвечал, но тональность писем месяца два нисколько не менялась. Затем пришло требование выслать деньги на аборт, затем пошли прямые угрозы обратиться к командованию и в политорганы, где на офицера и комсомольца всегда найдут управу. Теперь моя совесть вполне стала спокойной: поступил я правильно, а вот шантажу военные моряки не поддаются. Просторы СССР надежно защищали меня от прямого вторжения агрессора…
… Встретились мы в метро случайно спустя почти год. Алла была накрашена и спешила на свидание.
– Ну, что, ты пожалел для меня денег? – насмешливо спросила она.
– Ты же знаешь, что нет. Просто я вычислил, что тебе не деньги нужны, а перевод от меня.
– Конечно! Деньги – очень приятное дополнение, но главное – бумага!
– Ты бы из этой «бумаги» сразу изготовила булавку. И вместе с политруками этой булавкой прикололи бы меня к брачному свидетельству!
– Ох, и догадливые пошли мужики, – рассмеялась Алла. – Ну, ускользнул – живи дальше! Сейчас мне некогда: другой карась на крючке!
На том и расстались – навсегда…
Недавно умерла жена моего старого приятеля, мягкого и доброго человека. Женат он был именно описанным способом очень давно. Выросли дети, прошла и молодость, и – жизнь. Поплакав после похорон немного, он неожиданно признался соседке:
– Ох, и доставала она меня всю жизнь!
Ясно, что он к старости стал очень умный, и следующая жизнь у него будет совсем другой… Кстати: «доставала» она его за неумеренные возлияния. Теперь, приняв на грудь, он плачет, вспоминая жену. Ему чего-то не хватает…
Я – не циник, но «такова се ля ви».
14. Забайкальские сопки
Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части.
(К. П. № 109)Опять Восток
Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален.
(К. П. № 111)В конце августа 1955 года кончается учеба моей группы на заводе. Нас с нетерпением ждут объекты Военмормонтажупра, который в Москве, и которому мы принадлежим. Отпуск в 1955 году мне не светит: в часть я прибыл 5 или 6 февраля. Именно столько суток не хватает до 11 месяцев, которые дают право на отпуск за этот год. Сейчас это положение в армии, кажется, отменено. Высокие умы поняли, что это слишком: даже новый человек появляется уже через 9 месяцев.
Большая группа матросов и офицеров двинулась на Восток. Среди матросов – вся моя учебная группа, правда, половина ее должна остаться в Улан-Уде, остальные едут со мной в Читу. Моя группа – 36 матросов и старшина Квасов Тихон Васильевич – пожилой, невысокий и «кругленький», хлопотливый и заботливый… И Чита, и Улан-Уде – увы, всего лишь названия ближайших больших городов. Наше место – в романтической глуши, среди сопок и лесов, куда не всякая птица по собственному желанию долетит.
Дня через два наш поезд выходит на знакомый по 1941 году маршрут: Урал, степи Челябинска, Омск… Прошло 14 лет, когда мы с мамой и Тамилой обозревали неведомые просторы из дверей теплушки, а навстречу неслись воинские эшелоны в пекло войны, от которой мы успели убежать…
Сейчас – все другое, другая страна. А я – офицер, веду свое морское войско к каким-то неведомым берегам на Востоке. В Новосибирске уже не поворачиваем на юг, поезд идет дальше на Восток. Величавая природа: тайга, широкие реки. Изредка проносятся селения – убогие и серые. Закопченный Кузбасс, узловая станция Боготол. Здесь совсем недавно водил поезда друг юности – паровозный машинист Толя Размысловский. На станциях блистательно отсутствует какая-либо пища; бабушек, торгующих горячей картошкой и пирожками – и в помине нет. Кое-где остались надписи со стрелками «Кипяток», но он у нас есть и в вагоне. А вот выданный на дорогу сухой паек матросы весь уже «смолотили». Кое-какой снедью удается разжиться в Красноярске и Иркутске. Впереди – озеро Байкал; говорят, на прилегающих станциях торгуют знаменитым омулем. Но большинство станций мы проскакиваем без остановки, на некоторых – стоим далеко от мест торговли. Вместо омуля на одной из станций удается купить морковку. Тоже нужно: как никак – витамины…
Вот голубая громада Байкала, долго отсвечивающая слева, остается позади. В Улан-Уде треть нашей команды «сходит на берег»: до Онохоя им придется ехать рабочим поездом. Спустя половину суток мы высаживаемся в Чите, пересаживаемся на рабочий поезд и часа полтора едем опять на восток до станции Новой: пассажирские поезда там не останавливаются. Железная дорога – почти единственная ниточка, связывающая огромные просторы Сибири и Дальнего Востока с остальной страной. Поезда в обоих направлениях по ней проносятся с интервалом всего пять минут, – гораздо чаще, чем городские трамваи на самом загруженном маршруте…
Станция Новая в 1955 году, кроме собственно станции, – это небольшой поселок с леспромхозом в 40 километрах восточнее Читы. Наш объект, огороженный колючей проволокой военный городок и стратегическая топливная база, которую мы должны построить, расположены севернее километрах в пяти от станции ближе к сопкам. Рядом по сопкам вьется серпантин шоссейной дороги, построенной пленными японцами. На карте железных дорог СССР 1982 года рядом с названием станции Новая в скобках стоит название поселка или городка – «Новокручининский». Наверняка, это наша разросшаяся стройка: поселок Кручинино был в 5 км от базы по шоссейной дороге.
Огромные военные топливные базы, которые мы строим возле Читы и Улан-Уде, именно здесь несомненно нужны. Здесь в 1945 году накапливались силы Забайкальского фронта для броска на территории, занятые японской Квантунской Армией; и одной из главных проблем фронта были ограниченные запасы горючего. Кроме того, – на необъятных, труднопроходимых территориях всегда нужны какие-то центры с запасами энергии для преодоления пространства, обеспечения обороны, да и самой жизни населения. Расположение баз, конечно, просчитывалось. Например – недосягаемостью для бомбардировщиков тех времен «Х», взлетающих с аэродромов «У». Наполняться хранилища баз могли медленно и постепенно даже по сверхзагруженной Транссибирской ж/д магистрали, – как с Дальнего Востока, так и из Сибири.
Единственно непонятным было и тогда и теперь: почему эти базы были флотскими? В том, что они предназначались в основном для снабжения флота, сомнений не было. Дело не только в том, что строили и эксплуатировали базы подразделения ВМФ. Значительной частью разнообразных хранимых нефтепродуктов был флотский малосернистый мазут, на котором работали тогда котлы для ходовых турбин военных кораблей. Выдача топлива на Тихоокеанский флот (ТОФ) возможна только по той же Транссибирской железной дороге, что дорого и неэффективно…
Впрочем, такие стратегические соображения тогда мало занимали умы лейтенантов монтажных частей ВМФ: приказали строить здесь – и строим. Гораздо больше удивлялись жители окрестной глухомани, да и ее столиц – Улан-Уде и Читы, когда среди абсолютно сухопутных мест стали очень часто встречаться люди в форме военных моряков.
Пополнение – к бою!
Принимаясь за дело, соберись с духом.
(К. П. № 56)Нас ждало с нетерпением руководство участка Строймонтажа-11. Людей для неотложных работ на участке очень мало, да и те вот-вот должны быть уволены в запас: им положен «дембель» уже осенью этого, 1955-го года. Теперь мое прямое начальство – начальник участка старший лейтенант Маклаков Иван Алексеевич, худощавый с усиками москвич, инженер-сантехник, окончивший МИСИ, призванный в армию тремя годами раньше меня. Второй начальник – прораб Павлюков Коля – техник-лейтенант, с женой и двумя детьми, тем не менее – слегка инфантильный человек, руководимый супругой. Вскоре Коля безропотно подчиняется мне, долго еще обращаясь на «вы» и только по имени-отчеству…
С Маклаковым – отношения прохладные. Он замкнутый человек, озабоченный делами участка. Меня он воспринимает как строевого начальника матросов. Я хожу вместе с ним по всем объектам огромного строительства: везде работают мои матросы. Я никогда еще не видел таких трубопроводов в каналах, такого большого количества огромных резервуаров со всей непонятной оснасткой и оборудованием. Я засыпаю Маклакова всевозможными «почему», «что это», «зачем». Маклаков сдержанно и не очень охотно просвещает меня – он уже опытный инженер, и его немного раздражают наивные, столь очевидные для него самого, вопросы. Но я схватываю науку быстро, а кое-что из жизни железа и электричества и я объясняю Ивану. Он также начинает понимать, что я не любопытствующий турист, а его правая рука. Постепенно лед недоверия тает, и мы по-настоящему начинаем дружно работать вместе. Иван понимает юмор, и если Коля Павлюков на шутку просто «лыбится», то Иван, сосредоточенно хмурясь, выдает нечто еще более неадекватное, после чего мы ржем уже оба…
На базе работает еще группа в/ч «десятки», у которой тоже около 40 матросов. Командует ими «батя» – инженер-майор Удовенко, пожилой и красивый, с седеющей окладистой бородой, бывший оперный певец из Киева, неведомо какими путями оказавшийся на военно-морской стройке. Вторым номером у него мой старый знакомый по Кировскому военкомату – лейтенант Боря Симагин. Видно, руководство СССР не вняло доводам об особом значении его повторной командировки в Китай и послало незаменимого спеца чуть поближе. Борю поставили на свободный в то время штат – офицер группы обмуровщиков котлов. Свято уверовав в свое «обмуровочное» предначертание, Боря добросовестно просиживает все рабочее время возле двух (!) обмуровщиков, совершенно не касаясь дел всей остальной группы. В команде «десятки» (так в быту называют часть Кащеева) еще пять мичманов – каждый по своей специальности и со «своими» матросами. Они должны смонтировать и запустить котельную с тремя паровыми котлами ДКВР и локомобилем, вращающим генератор – тепловое и энергетическое сердце базы.
У нас дела не то чтобы плачевные, – просто их очень много. К концу года часть резервуаров уже должна быть заполнена, а на многих трубопроводах и конструкциях еще конь не валялся; не хватает много арматуры – маленьких, больших и огромных вентилей и задвижек. На огромных резервуарах не везде стоит дыхательная арматура, измерительные устройства, комплекты пожаротушения. (При близком рассмотрении «большие банки» резервуаров оказываются не такими простыми: они насыщены всякой всячиной). Еще не окончен монтаж железнодорожной приемо-раздаточной и сливной эстакады с массой арматуры и огромными «гусаками». Особенно тяжело было со сваркой: три солдата-сварщика пахали просто день и ночь, но не успевали. Солдат давно уже надо было уволить в запас, но их удерживали «ласками и сказками»: без сварки все вообще остановится…
Моих учеников – 22 человека – ставить на сварку трубопроводов, увы, было нельзя. Они никогда не варили трубы, особенно непроницаемым швом, тем более – неповоротные стыки, в которых потолочный шов плавно переходит в вертикальный и нижний… Рисковать сдаточными ответственными трубопроводами, которые через короткое время должны принять бензин, солярку, мазут и десяток различных сортов масел под большим давлением, никто не хотел. Моих учеников просто распределили в бригады монтажников, где они трудились как слесари, теряя остатки приобретенных навыков.
Особо позорной для сварщиков, которых мы учили полгода, была работа по зачистке от мусора и ржавчины днищ огромных стальных резервуаров – пятитысячников, т. е. вместимостью 5000 кубических метров. Я уговаривал Маклакова поставить моих ребят на ответственную сварку, но он категорически противился. Да я и сам понимал, чем это грозит объекту. Дело в том, что плохая сварка на ответственной конструкции, – это своего рода отрицательная работа, или – «антиработа». Чтобы исправить ее, надо провести большую работу, возвращаясь к исходному «нулю»: вырезать дефектный стык и близкие «мертвые» опоры, изготовить вставку «катушку», снять фаски под сварку, стянуть концы вместе и подготовить к повторной сварке уже два стыка вместо одного. Точная резка бензорезом – сама по себе трудная операция, и не каждый резчик способен ее выполнить…
Большинство моих сварщиков тяжело переживают свою «неполноценность» и пытаются ее преодолеть, – тренируясь после рабочего дня в 10–12 часов: в остальное время заняты сварочные агрегаты – САКи – генераторы с приводом от бензинового двигателя. Я всячески им помогаю: реквизирую для учебы куски труб, заставляю варить неответственные заготовки в потолочном и вертикальном положениях. Особенно старается Ваня Кудра, невысокий худощавый парнишка из Украины. Он поднимается вместе с мотористами, помогает им заводить САКи, затем тренируется, пока подойдут основные силы. После работы иногда я прогоняю его на отдых силой…
Сопки вокруг нашей базы полыхают багровыми и желтыми красками осени. Вся «эксплуатация» – войсковая часть, которая будет эксплуатировать базу, ходит на сбор грибов и каких-то ягод: им просто нечего делать. Их командир, полковник Морозов, невысокий крепыш с курчавыми волосами фавна, и подобно фавну, не пропускающий ни одной женщины, подтрунивает над строителями и монтажниками, строящими ему базу. Он твердо уверен, что мы никак не управимся в срок, и ему еще долго придется валять дурака, – вместе с вверенной частью…
Бытие и быт
Бытие определяет сознание
(марксистская аксиома)Никто не даст нам избавленья…
(Тоже она, родимая)С самого начала моих матросов поселяют в отдельном ветхом домике с сенями и небольшой печкой. Металлические кровати заполняли всю площадь единственной комнаты, по-морскому – кубрика. На кроватях и под кроватями хранились и выходная и рабочая одежда матросов: больше было негде. На мои обращения начальство только разводило руками; иных помещений, больших по площади и лучше приспособленных к жизни, – не было. Приближалась зима, а наша печка еле согревала помещение уже теперь. Со всех окон и щелей в полу дуло. Пошел по начальству с протянутой рукой, – обеспечение нас приличным жильем – дело генподрядчика, то есть строителей.
Начальник строительства подполковник Журид – высокий и полный, с хитрыми масляными глазами– жалобным голосом мне пропел:
– Ну где, лейтенант, я тебе могу взять досок для ремонта? Ну, где, если мне недопоставили их даже на устройство опалубки? А где я тебе возьму кирпичи и цемент??? А стекол мне не хватает даже для сдаточного объекта – котельной!
Я понял, что просить что-либо у Журида – бесполезно. Маклаков подтвердил мои опасения, – Журида он знал уже давно. Своим субподрядчикам начальник строительства не только не помогал, но ставил палки в колеса, где только мог…
Решили действовать по проверенной формуле: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Обошли с Иваном всю огромную стройку и наметили, что можно украсть (реквизировать) без ущерба для производства, кое-что выпросили у строительных начальников поменьше (мы им тоже помогали – «огнем и колесами»), кое-что добыли на собственном складе. На ночь Иван отдал мне машину – полуторку без номеров, которую использовали для перемещений грузов внутри объекта. На следующий день основные требующиеся материалы были в кубрике. Половина матросов на работу не пошла и под руководством старшины Квасова занялась благоустройством своего жилища.
Кровати были сварены в два яруса – освободилось пространство для рабочей одежды с сушилкой и для большого стола со скамейками, за который могла усесться почти вся группа. Печь разобрали, увеличили топку, над ней вмуровали горизонтальные продольные и поперечные стальные трубы, резко увеличившие поверхность нагрева. Кроме того, в трубах можно было сушить электроды, что было очень нужно. Заделали все щели в полу и окнах, застеклили их и помыли стекла. Изготовили и установили умывальник с горячей водой, которая нагревалась на печке, в том числе – для утренней заливки в САКи. Добавили несколько светильников по углам. Матросы, вернувшиеся вечером с объектов, не узнали свое жилище: в нем стало тепло, просторно, светло и уютно. На второй ярус многие забирались добровольно: там было теплее и спокойнее.
В суточный наряд по очереди назначались по два дневальных, которые круглосуточно поддерживали чистоту и порядок в кубрике. В строевых частях смена наряда в 17 часов. Это значит, что заступающие в наряд днем не работают: отдыхают перед нарядом. У нас смена нарядов – в 22 часа, перед отбоем, поэтому сменившийся наряд спокойно отдыхает перед трудовым днем. А вот усталым после работы заступившим в наряд (на вахту), разрешается поочередно спать. В месяц мы экономим 60 человеко-дней и сохраняем порядок…
Я подробно пишу о таких на первый взгляд мелочах, которые мелочами вовсе не являются. Твердый, понятный всем порядок, просто обязан установить и поддерживать «старший на рейде». Что без этого бывает, – мне вскоре придется рассказать.
В обязанности вахты также входила ближняя доставка дров и «борьба за огонь» в печи. Когда начались морозы под 50 градусов, наша печь успешно поддерживала нормальную температуру в кубрике. Что было бы, если бы мы своевременно не провели эти «оргтехмероприятия», – можно только представить… К нам заходили погреться во время больших морозов даже строители со «штатных» казарм с центральным отоплением. Правда, «патронов» дневальные не жалели: и дров, и деревянного лома было полно вокруг.
Кормили матросов довольно сносно – по морской норме, с белым хлебом, сливочным маслом и подобием компота. Конечно, свежие овощи почти отсутствовали, вытесненные крупами и макаронами, но это почти общая беда армии, когда отцы-командиры подвержены лени и/или равнодушию и не заботятся о питании пацанов, вверенных их попечению…
Вставка – иллюстрация. В книге воспоминаний участников испытаний атомного оружия «Частицы отданной жизни» есть очерк «Рядом с Новоземельским полигоном» капитана В.Г. Даева, человека поразительной наблюдательности и незаурядного литературного дарования. В начале холодной войны обе стороны уже имели ядерное оружие, но еще не имели средств его межконтинентальной доставки. Если США могли достичь своими дальними бомбардировщиками любой точки СССР, взлетая с аэродромов в Турции, Германии или Японии, то наши самолеты долететь до США и вернуться – не могли. И тогда вспомнили о полетах Чкалова и ледовом дрейфе папанинцев: кратчайшая дорога к США пролегала через Северный полюс. Но и это была очень длинная дорога, даже для стратегических бомбардировщиков. Поэтому в начале 50-х годов севернее 80-й параллели на арктических островах была построена сеть аэродромов подскока, где тяжелые самолеты могли бы сесть и дозаправиться. Для содержания взлетно-посадочных полос и всего хозяйства в постоянной боевой готовности возле каждой «точки» была «комендатура» из нескольких десятков солдат, десятка офицеров и собак. Жили они всю полярную ночь в деревянных домиках, заметенных выше крыш твердым арктическим снегом, в котором были прорублены ходы и улицы. Жизнь в этих городках была совершенно разная. В одних – дружная семья единомышленников, с безусловной поддержкой чистоты, твердым распорядком дня, подтянутыми и выбритыми офицерами. Все заняты, отдых и прием пищи – в общей, выскобленной и хорошо освещенной, кают-компании. О субординации никто не думает, но панибратства – тоже нет. Все с юмором как бы играют в некую игру, например – пиратский корабль. Когда командир в настроении, некоторые начальники, при обращении почтительно-гнусаво добавляют «сэр». Дальше – цитата из очерка, описывающую комендатуру в полутора часах лёта от первой, что для Арктики – рядом.
«…Спустившись в коридор-улицу подснежного городка, попадаешь как бы в арестантскую зону. Душно. Грязь. Лампочки давно потеряли свою прозрачность. Столы расшатаны, «пол» на вершок покрыт талой водой. Ругань режет слух. На завтрак и на ужин вместе не собираются. Чай кипятят каждый в своей каморке. Офицеры изолировались в своих «люксах» и не хотят разбирать ссоры подчиненных. Нам, транспортникам, передают толстые конверты с адресом «Москва, Кремль. К. Е. Ворошилову». Возбуждались уголовные дела. Случались ЧП: или кто-нибудь упадет в трещину, или во время пурги потеряется, или ректификатом отравится, или от удушья в дизельной погибнет. С материка прилетали военные прокуроры. Но лучше не становилось…»
Эти различия, считает В. Г. Даев, зависят «от особой атмосферы взаимных отношений, сложившихся на первой зимовке». С ним вполне можно согласиться, если считать, что эта «особая атмосфера» на 90 % задается первым лицом – командиром. Само собой, – командир должен быть лидером не только по должности. Раньше я считал, что от командира зависит все даже на 100 %, но позже – «сбавил обороты». Если в замкнутом коллективе количество плюс «качество» негодяев превышают некую критическую величину, то никакие усилия никакого командира не смогут кардинально улучшить обстановку. Увы, мне придется дальше рассказать об этом печальном опыте…
Хуже, чем у матросов, обстояли дела у их командиров. Правда, с жильем все было в порядке: мы с Квасовым поселились в комнате жилого домика с центральным отоплением. А вот с питанием дела обстояли не очень… Квасов по аттестату питался вместе с матросами, Павлюкову готовила жена. Мы с Иваном кормились, фактически, один раз в сутки в общественной столовой на станции Новая, до которой было ходу около трех-четырех километров. Добегали мы туда часам к 14-ти, голодные как две собаки сразу. Заказывали в двух экземплярах: две холодные закуски, одно первое блюдО, два вторых и компот или чай. Рассчитывались мы для удобства поочередно: один день Иван, другой – я. Эта система «на доверии» нам дорого обошлась, о чем расскажу дальше.
Заглатывали мы свой неслабый обед мгновенно: время не ждет; поднимались, как перегруженные самолеты с грунтовой взлетной полосы, и двигались на объект. Уже через километр наши шаги ставали легче. Пока доходили до базы, были опять голодны почти так же, как до обеда. Признаки голода особенно быстро стали проявляться, когда температура наружного воздуха достигла 40 градусов мороза Как ни странно, страдал от голода больше Иван: меньше меня габаритами и «тоньше костью», он мог съесть гораздо больше. Я считал, что он подобен библейской корове, которая, несмотря на обильные кормА, всегда оставалась тощей, Иван же считал, что я сыт тем салом, которые съели мои украинские предки. В ответ я назидательно советовал ему перенять цыганский опыт по обучению кобылы жить без кормов…
Один раз в неделю в кассе столовой вручную выписывался экзотический чек: «Чай – 100 шт». Эти 100 штук чаев мы уносили в освобожденном от воды виде: два цыбика грузинского чая и килограмма полтора сахара. Если прикупить к ним буханку хлеба и добавить горячей воды, то получатся наши ранние завтраки и очень поздние ужины…
А ужины были очень поздние, – после обхода всех объектов, проведения всех планерок и раздач заданий на завтра всем бригадам. В комнате Ивана мы не могли остановиться, и продолжали производственное совещание уже вдвоем, хоть и с чаепитием… Часам к двенадцати Иван спохватывается:
– Да что мы все о трубах, да трубах!
– Ну, давай поговорим… например, о листовом железе, – предлагаю я.
Сходимся на том, что надо говорить о чем-нибудь мягком и пушистом… У Ивана в Москве осталась девушка, которая очень хотела, чтобы Иван на ней женился. Она часто бывала у него дома, общалась с родителями, но Иван колебался: его просто пугала ее целеустремленность и властность.
– Да она меня если не съест прямо, то будет водить как цуцыка на поводке… Но если б ты, Коля, слыхал, как она поет! Прямо за душу берет…
Через несколько лет голос девушки Ивана – Людмилы Зыкиной – услышал не только я, а весь Советский Союз. А вот о женитьбе Ивана – речь впереди.
В стиле ретро с И. Маклаковым
Первое «черпание»
Вправо, влево наклон –
и его не спасти…
(В. В.)Ивана очень мучила одна проблема, к которой он не знал, как подступиться. Уже была построена котельная и ряд сооружений вокруг нее, кончался монтаж котлов. Но на котельной не было одного пустячка: дымовой трубы. Собственно, сам пустячок был в наличии: 30-метровая стальная труба, диаметром около метра и весом более 8 тонн. Только труба состояла из четырех отдельных частей и не стояла, а лежала. Ее следовало собрать, покрасить и установить вертикально на кирпичный постамент высотой 4 метра. Все очень просто. Только вот поднять такой пустячок было нечем. Даже если чудесно появится 10-тонный кран с небывало высокой стрелой, то ставить его некуда: вокруг постамента все застроено, кроме узкой щели. И еще один «нюансик»: кирпичный постамент – фундамент трубы – журидовские орлы сооружали под Новый год еще прошлой зимой, стремясь выполнить план за счет выгодной кирпичной кладки.
– Хлорочки побольше, хлорочки! – висел над ними сам Журид. Раствор, соединяющий в монолит кладки отдельные кирпичи, успевал замерзнуть раньше, чем схватывался. «Хлорочка» – соли соляной кислоты – могла понизить температуру замерзания раствора на десяток градусов, но это почти ничего при морозах 30–40 градусов. Тем не менее – план был выполнен, и фундамент гордо поднимался на целых 4 метра ввысь. Полковник Морозов, укоряя Журида за халтурное качество, ударил слегка ногой по углу постамента, и оттуда вывалился десяток кирпичей… «Не хулиганьте, товарищ полковник!» – закричал Журид, опасаясь, что жизнелюбивый фавн Морозов таким способом разрушит все построенное… «Паны» ушли переругиваясь, а Ивану надо было ставить на это эфемерное сооружение трубу…
Само собой получилось, что я начал просчитывать варианты подъема трубы. Это была чистая теормеханика и математика, которые я любил. Если на верху кирпичной тумбы соорудить шарнир поворота, рассчитать по экстремуму точку крепления, взяв производную от уравнения усилий, да использовать две ветви троса, то усилия при подъеме со стрелы были не более 4 тонн. Это усилие вполне достижимо для имеющихся ручных лебедок. Но сразу возникает несколько «но». Цоколь при подъеме трубы нагружается боковой нагрузкой тонн пять, что явно больше толчка ногой полковника Морозова. Соответственно мог несколько увеличиться и размер ущерба: труба бы рухнула, возможно – на котельную, а ее постамент целиком превратился бы в большую кучу кирпичей.
О переделке постамента Журид и слушать не хотел:
– Вы что, ребята? Все сдано, подписано… Если вы там собираетесь чем-то, не предусмотренным по проекту, давить, то это ваши проблемы, а не мои…
Хитрая лиса Журид понимал, что переделка фундамента не только грозила затратами материалов, сил и времени, но и делала его «крайним» в деле воздвижения дымохода.
Пришлось мне рассчитать стальной «корсет» вокруг хлипких кирпичей, который самостоятельно выдержал бы возникающие нагрузки. Красивые расчеты сразу «приземлялись»: они велись только для конструкции из стальных профилей, которые уже были в наличии на складе. Позже такие действия выразятся песней: «Я его слепила из того, что было…». Точно так же были рассчитаны и изготовлены шарнир подъема, падающая стрела и всякая друга мелочевка. Я работал в амплуа бригадира и конструктора, исполнители – только «мои» сварщики. Все потолочные и расчетные швы варили тоже они по очереди. Кудра, во имя светлого будущего, тренировался только на трубах…
Поднимать стрелу, на вершине которой был блок с тросом, тоже было нечем. Пришлось придумать схему подъема с одной установки лебедки: сначала поднималась стрела, натягивала (набивала) троса своих оттяжек, и затем начинался подъем трубы. Сразу же возникла проблема с тросами: все имеющиеся были короткими. После настойчивых поисков Иван нашел трос в леспромхозе. Опять «но»: трос был длиной 200 метров, и владелец категорически возражал против его деления на части. Такой длинный трос не помещался на барабан лебедки. Пришлось ставить две лебедки, а для выравнивания усилий ставить специальный блок на вершине мачты.
Через неделю ударной работы по 12 часов наша сваренная в одно целое «трубочка» одним концом лежала на шарнире на высоте фундамента, вторым упиралась на землю. На трубе были закреплены два яруса тяжелых оттяжек с талрепами: потом эти работы пришлось бы выполнять на большой высоте. Подъемная стрела – рама из толстых труб – лежала с другой стороны фундамента, упираясь в его основание. Лебедки надежно закреплены на бетонных якорях, к которым потом будут крепиться оттяжки трубы. Заведены все троса, все готово к подъему.
И тут мы спохватились: трубу надо красить до подъема. Чем? «Старожилы» и маляры об этом ничего не ведали. Опять листаем многократно уже пролистанный проект – нет ничего. И только в смете находим стоимость краски, приготовляемой на месте. Ее компоненты, «забитые» в смету, – битумный лак и алюминиевая пудра, – две вещи «несовместные», как гений и злодейство. Чтобы доказать это, смешиваем толику компонентов и получаем некую бурую субстанцию. С отвращением покрываем ею металлический лист и видим все ту же бурую красоту, да еще с неопрятными разводами. Чертыхаясь, уходим на ночное чаепитие: утром предстоит что-то решить…
Утром приятно «обалдеваем»: бывшее бурое пятно, высохнув, сверкает чистым алюминиевым покрытием!!! Возносим благодарственную молитву добросовестным сметчикам, готовим бочку бурой смеси, бросаем половину личного состава на покраску трубы и всех ее оттяжек. Завтра – подъем.
Все-таки мало развлечений на военно-морской стройке: все руководство расселось в удобных местах, на приличном, однако, расстоянии, для созерцания редкого зрелища. Отдельно сидит Журид со своим штабом, отдельно – «морозовцы-эксплуататоры», некоторые – с женами. В сторонке стоят Иван и Коля: при таких подъемах должен быть только один командир.
Я напряжен до предела. Если не выдержит шарнир или внезапно просядет ограда фундамента – махина трубы рухнет, сокрушая всё. Хорошо бы, чтобы в это «всё» не попала котельная с котлами и локомобилем… Вторая моя тревога – уравнительный блок на вершине подъемной стрелы-рамы: у него очень мелкая канавка, и трос может соскочить и заклиниться при несинхронной работе двух лебедок. Каждую лебедку вращают по два матроса, один из них следит за моими командами: «быстрее», «медленнее», «стоп». Лебедок две, поэтому для каждой выделена отдельная рука – правая и левая. Команды – строго оговорены: вверх – быстрее, горизонтально – медленнее, вниз – стоп. Забираюсь на крышу пристройки, поближе к проблемному блоку и так, чтобы меня хорошо видели «лебеди» – вращатели лебедок.
Первый подъем
Обе руки горизонтально – лебедки медленно начали набивать троса. Правая лебедка движется чуть быстрее, и блок нехотя проворачивается. Немного снижаю правую руку, лебедка замедляется, блок останавливается. Пошел подъем стрелы. Подлый блок все же поворачивается то в одну, то в другую сторону: очень трудно синхронно вращать лебедки. Дело не только в оборотах: барабаны с тросом разного диаметра, и мне все время приходится замедлять то правую, то левую лебедки…
Наконец подъемная рама поднята почти вертикально и натягивает троса, прикрепленные к анкерам. Дальше начинается подъем собственно трубы, вращать лебедки станет труднее, но и трос плотнее ляжет в желобок блока. Продолжаем подъем. Конец трубы под радостные крики матросов отрывается от земли, на нем закрепляют красный флажок. Теперь труба одним концом лежит на шарнире, большая часть ее веса приходится на туго натянутые троса. Останавливаю лебедки, обхожу и осматриваю хозяйство. Как будто все в порядке: троса и блок держат, махина трубы стоит без перекоса, шарнир, опора и стрела – держат. Забираюсь на прежнее место, продолжаем подъем. Вот уже достигнуты 45 градусов – половина пути, вращать лебедки становится легче, и подлый блок начинает это чувствовать: вращается туда – сюда. Скоро у трубы будет самое опасное положение: тяга тросов ослабевает, ее держит только шарнир внизу. Достаточно ветерка – и труба может завалиться в любую сторону. Совсем некстати, ветерок, кажется, усиливается, судя по трепету красного флажка, еще недавно бывшего у земли.
Труба поднимается все легче, угол с горизонтом уже градусов семьдесят. Я на минутку теряю бдительность, чтобы дать отдохнуть шее, долго держащей голову в задранном к небесам положении. Трос тут же соскакивает с уравнительного блока и защемляется между блоком и щекой! Стоп лебедки! Маклаков с ужасом смотрит на меня, «царственные» зрители не понимают, почему остановился спектакль. Я молча начинаю надевать монтажный пояс со страховкой: надо лезть на стрелу и монтировкой вытащить защемленный трос. Ко мне подбегает матрос Пронин, рыжий-рыжий, густо покрытый веснушками:
– Товарищ лейтенант, я! Разрешите мне! – его глаза просто горят от желания совершить подвиг.
– Нет, Женя, что я буду говорить твоим родителям, если ты разобьешься?
– Да не разобьюсь я! Товарищ лейтенант… – Женя умоляюще смотрит на меня. Я осматриваю его гибкое и сильное тело, – такой действительно не разобьется… И тут меня осеняет:
– А никому не надо лезть! Черт с ним, с этим блоком! – я понял, что усилия на тросе стали совсем маленькими и мы вполне можем поднимать трубу только одной лебедкой, второй достаточно просто выбирать слабину троса, чтобы избежать резкого скачка при случайном проскальзывании троса. Объясняю задачу «лебедям» – подъем одной лебедкой.
Все получается. Двигаемся дальше. Огромное тело трубы уже полностью в небе: чтобы увидеть ставший совсем маленький флажок, надо смотреть почти в зенит. Дальше поднимать опасно: махина может перемахнуть через вертикаль, не останавливаясь. Матросы заводят оттяжки на штатные якоря. Одну оттяжку «набиваем». Теперь подъем возможен только после ослабления талрепа оттяжки. Труба стоит уже почти вертикально, тросы к лебедкам бессильно повисают: махина сама уже хочет стать на место. Мы разрешаем ей это, отпуская один талреп и набивая противоположный.
Спектакль окончен, труба – на месте, зрители расходятся. Они в целом довольны, хотя потом скажут, что во время подъема я слишком выпендривался, непонятно зачем размахивая руками…
Нам еще остается работы на несколько часов, чтобы точно выверить и закрепить трубу, убрать все троса, приспособления и лебедки.
Подходит Иван: с его плеч свалился большой груз. Он радостно жмет мне руку:
– Быть тебе черпалём, а не на подхвате!
Я не понимаю и вопросительно смотрю на него: о чем разговор? Иван объясняет, что «черпаль» – самая высокая, а «на подхвате» – последняя квалификации в среде московских золотарей (ассенизаторов). Я благодарю друга за столь высокую оценку моего скромного труда, незаслуженно сравненного с доблестным трудом и высочайшим мастерством столичных асов.
Иван сам разрушает всю торжественность момента:
– Я сказал «быть» – о будущем времени. Ты сейчас еще не совсем погрузился в «золото», чтобы черпать полной мерой…
– Спасибо, сэр, за предостережение: буду погружаться дальше. Надеюсь – с Вами вместе…
Мы оба чувствуем звериный голод, но столовая на станции уже закрыта. Надо бы и «поднять бокал» за успешную работу, но поднимать нечего: местный магазин выбрал годовые фонды на «сучок» (водку из опилок) еще в марте. Спасает нас Мао Цзе Дун: недавно мы купили целый ящик китайских зеленых яблок. Достаем их из-под кровати и витаминизируемся до оскомины, затем переходим к «ста чаям».
Впрочем, не так все плохо: один раз в месяц мы с Иваном едем в Читу – в банк за деньгами. Там мы обедаем в ресторане «Забайкалец». Традиционно – обед у нас длится до позднего вечера, когда уходит наш последний поезд. За это время, к удивлению официанток, укладываем в свое нутро все богатое меню сверху донизу и вливаем грамм по 400 отличного тираспольского коньяка четыре звездочки… Поездка в Читу предстоит через несколько дней.
Скоро начинаются морозы, и у нас появляется еще один деликатес, более чем съедобный. Окрестные крестьяне на санках мешками развозят молоко в виде замороженных дисков, отформованных в мисках и тарелках. Мы закупаем по несколько дисков сразу и храним их, подвешивая за окнами. Одна сторона ледяного диска особенно вкусна: там – сливки…
Элегическая вставка. Я так нудно и подробно описываю подъем большой железяки только потому, что он был первым. Его успех позволил мне «обнаглеть» и почувствовать себя способным на любые «подвиги». Хуже всего, что так думало и начальство. Уже через несколько месяцев я понял, как мне повезло с первым, таким наивным и робким подъемом: у меня были идеальные условия, которые больше никогда не повторялись. Во-первых, у меня было время, чтобы все тщательно рассчитать. Во-вторых, были технические и людские ресурсы, а также богатые возможности изготовить все расчетные детали с большим запасом прочности. В-третьих, была в целом отличная погода. Наконец, в этом театре даже были зрители и болельщики…
Вскоре ничего этого не будет, работа будет труднее, а время уплотнится до предела…
Эстетически-архитектурное послесловие. Наша труба – сверкающая на солнце вертикальная полоса – становится, как говорят архитекторы, «высотной доминантой» округи. Она видна отовсюду, в том числе из окон проезжающих поездов. Еще несколько лет проезжающие на Дальний Восток друзья радостно сообщали:
– Видели, стоит!!!
ЧП – соседские и наши
Легче держать вожжи, чем бразды правления.
(К. П. № 57)Майор Удовенко – «батя» – частенько пьет с нами вечерний чай и жалуется на свое войско – группу «десятки». Мы с Иваном недоумеваем: матросов у него столько же, зато есть лейтенант Симагин и целых пять мичманов. Батя уныло рассказывает нам, что все мичманы пошли «враздрай», перессорились «из-за баб». В возникшей драке победил мичман Сухоручкин: лет 6 назад он был чемпионом по боксу Черноморского флота и сохранил боевые навыки. Мичман Воропаев неделю ходил с подвязанной челюстью. Но это была Пиррова победа, матросы тоже разделились «по мичманам» и ведут непрерывные драки.
Батя – бывший артист, – добрый, «неорганизованный» и сентиментальный человек с седеющей роскошной бородой. Все производство и личный состав он отдал на откуп Симагину и мичманам, сам целыми днями сидит дома и готовит сдаточную документацию по объектам.
Мой старшина Квасов с округлившимися глазами рассказывает мне о подъеме в группе соседей, который он наблюдал.
– Знаете, Николай Трофимович, я такого никогда не видел раньше! Заходит в кубрик мичман Воропаев, командует «Подъем!» Матросы – ноль внимания. Начинает будить их персонально; поднимаются нехотя только некоторые. Один, открыв глаза, говорит: «А пошел ты на …, ты – не мой мичман!». И Воропаев забирает только своих матросов, а остальные продолжают спать!
При таких порядках группу соседей начинают потрясать ЧП. К обеду «незадействованные» своими мичманами матросы просыпаются и начинают искать развлечений. Большая группа срывается в самоволку в Читу. Там очень хорошо «сидят». Возвращаются совсем веселые. Проводница в вагоне по просьбам пассажиров делает им замечание за шум. Они в ответ не только избивают проводницу и некоторых пассажиров, но и разносят в щепки вагон: выбивают половину окон и дверей, разламывают сиденья…
Пяток других матросов угоняют у строителей автокран и уезжают за водкой в Кручинино. На обратном пути опрокидывают кран и бросают его исковерканным…
Вскоре с этой разболтанной группой мне пришлось столкнуться вплотную. В воскресенье в клубе на станции кино и танцы, и я обычно отпускаю в увольнение всех желающих: ребятам надо отдыхать. Иван дома отсыпается, а я появляюсь в клубе минут за 15 до начала кино. В вестибюле толкучка: матрос Куценко из «десятки» стоит в дверях, держит в руках ремень с бляхой и никого не пускает в зал. Спрашиваю матросов, есть ли здесь Симагин. Говорят, – сидит в читальном зале. Действительно, Симагин сидит там, спокойно уткнувшись в газету.
– Боря, ты что не знаешь, что твой Куценко там беснуется? Почему не приведешь его «в плоскость истинного меридиана»?
– А он меня не пускает в зал, – отвечает лейтенант Симагин. – Что я могу сделать? – в его голосе начинает звучать слеза.
– Ну, хоть что-нибудь, чтобы не позорить офицерскую форму! – в сердцах бросаю ему.
Боря недовольно отворачивает от меня холеный фейс и снова утыкается в газету. Я опять выхожу в вестибюль: там еще полно народа, не успевшего пройти в зал, среди которого виднеются и мои матросы. Изгнанная билетерша выжидательно глядит на меня. Я младший офицер другой части и не являюсь прямым командиром для рядовых другой части, но билетерше эти тонкости неведомы. Да ей и наплевать на них: беснуется матрос, а офицер не принимает никаких мер…
Прохожу в дверь, отодвигая Куценко, и обращаюсь ко всем:
– Заходите!
Опомнившись от неожиданности, Куценко хватает меня за отвороты шинели и, бешено вращая ремень с бляхой над головой, орет на весь клуб:
– А-а, суки, матросские лейтенанты! Продали нас, предали!!! – на его губах выступила пена, острые черные глаза совсем безумные, смрад перегара распространяется вокруг. Я стою неподвижно. Сжимаю рукой в кармане шинели тяжелый немецкий фонарик: если меня заденет бляха, – я со всей силы буду бить бесноватого в висок. Мои матросы начали приподниматься, из «десятки» – тоже. Драка нескольких десятков матросов будет мало напоминать детский утренник, остальным тоже будет не до кино…
– Что стоите? Уймите его! – я обращаюсь не к своим, а к матросам «десятки», дружкам Куценко, которые уже изготовились к бою. Они нехотя спохватываются и оттаскивают рвущегося из рук матроса на улицу. Зал постепенно заполняется зрителями. Последним входит Симагин и деловито втискивает свои телеса в узковатое сиденье.
Какой фильм показывали тогда, – почему-то не запомнилось…
Количество ЧП в группе Удовенко уже превышает некоторую критическую величину. Для «разбора полетов» приезжает командир части, мой «крестный» – Глеб Яковлевич Кащеев, и замполит – подполковник Яковлев. Кащеев неделю разбирается со всеми безобразиями, наводит в группе некоторый порядок. На общем прощальном построении Кащеев произносит пламенную речь о выполнении воинского долга, которое немыслимо без дисциплины, о больших и почетных задачах, стоящих перед группой. Матросы, мичманы и офицеры покорены речью, обещают: «Товарищ, командир, дальше все будет хорошо». Он уезжает, оставляя Яковлева в группе.
Но, очевидно, набранные обороты группе уже не снизить. Один матрос пьянствует вблизи, на станции, да так крепко, что просто умирает во сне… Вскоре дюжина самовольщиков из «десятки» оказываются пьяными на танцах в Дарасуне. Там разгорается драка, и они избивают «туземных» парней. Один из них вскоре возвращается на танцы с ружьем. Ружье матросы успевают отнять до начала стрельбы, а избушку, в подполье которой спрятался убежавший стрелок, раскатывают по бревнышкам до основания… А замполита Яковлева чудом спасают мои матросы.
Дело было так. В день Советской Армии замполит сильно навеселе «гулял» по станции. Радушные аборигены пригласили «защитника Отечества» в высоком звании и морской форме за праздничный стол как свадебного генерала. Яковлев дополнительно «принял на грудь», затем ошарашил всех заявлением, что у него украли наручные часы. Хлебосольные хозяева перерыли все в доме и вывернули карманы у всех гостей: часов нигде не было… Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы сам Яковлев не нашел часы в собственном кармане. Сели опять за стол. После очередного «принятия» совсем уже развеселившийся Яковлев полез под подол к молодой и симпатичной хозяйке дома. Это развлечение почему-то не понравилось ее мужу…
Часа через два мои матросы в темноте случайно наткнулись на почти бездыханного, замерзающего под забором, подполковника. Его так хорошо туземцы отблагодарили за все, что он не мог двигаться и не мог смотреть ни единым глазом. Матросы дотащили подполковника до квартиры Удовенко. Недели две замполит не выходил из комнаты, затем был отозван в Ленинград…
Очень маленькая вставка из длинного будущего. Вскоре, в начале 1956 года, Яковлев, а за ним и Кащеев и ряд старших офицеров были уволены из армии; то есть – «десятка» была практически расформирована, остался только номер и высокий статус. Формально были ликвидированы Строймонтаж-11 и «афонинская» в/ч. Старые же меха «десятки» были наполнены другим вином: возглавили ее командиры Строймонтажа – Шапиро и Чернопятов, забрав с собой всех матросов и офицеров в/ч, где служил и я…
Почти полвека с тех пор моя жизнь связана именно с этой частью —»десяткой», Отдельным монтажно-техническим отрядом ВМФ, затем – УСМР– Управлением специальных монтажных работ.
Время моих матросов расписано почти по минутам, «разлагаться» им некогда, но как сказал классик, «в жизни всегда есть место подвигам». Матросу Изотову за невыполнение задания старшины Квасова перед строем объявляю трое суток ареста. Через день захожу на гарнизонную гауптвахту проверить, как себя ведет арестованный. Он сидел, сыто жмуря глаза, возле большой кастрюли каши. Оказывается, сердобольные повара кормили арестантов сверх всяких норм, – страдает, дескать, человек. А все страдания – длительный сон. Изотова с курортной гауптвахты я забрал и больше арестов с «губой» здесь не применял.
Однажды с вечерней поверки старшина Квасов пришел «без лица».
– Нет, что он мне сказал, Николай Трофимович, – вы не поверите! Он мне, – мне! – говорит: «Что это нас лейтенант и старшина зажали с дисциплиной? Вот такой же лейтенант был в Онохое, так когда ему приставили ребята нож к горлу, он упал на колени и стал просить: «Ребята, буду делать все, что хотите, только оставьте мне жизнь!».
Квасова колотила дрожь, он еле мог говорить. Я налил ему воды и спросил:
– Кто это говорил, Тихон Васильевич?
– Так, Курков же, разве я не сказал?
Курков, здоровенный верзила по пятому году службы, недавно переведенный из Онохоя в мою группу. Я молча одеваюсь и иду в кубрик, до которого было полкилометра молодого леса. Стоит уже глубокая ночь, светит только луна, снега почти нет, мороз – градусов под 30. В кубрике свет приглушен, все матросы уже спят, дежурный шурует печку. Нашел кровать Куркова, тронул его за плечо. Он проснулся сразу, как будто и не спал.
– Поднимайся.
Молча поднялся.
– Одевайся.
Так же молча оделся.
– Иди за мной.
Я вышел из кубрика и пошел обратной дорогой, не оборачиваясь. Сзади, за спиной, все так же молча, следует верзила Курков: я слышу его дыхание. Заходим в комнату. Квасов, уже лежит в постели. При виде Куркова у нас дома, его глаза становятся «квадратными», он просто застывает под одеялом. Я усаживаюсь за стол, жестом предлагаю Куркову сесть напротив. Смотрю ему прямо в глаза, говорю спокойно:
– Ну, расскажи, как ты меня собрался резать.
Курков не выдерживает, отводит глаза и начинает ерзать на табуретке.
– Из-за чего это ты меня собрался резать? Из-за дисциплины? Если ее не будет, то что будет взамен? Будешь и дальше резать? Кого уже?
Вопросы я задаю негромко и с паузами. Время для размышления и ответа на каждый вопрос – есть. Курков уже совсем согнул голову и после каждого вопроса склоняется все ниже.
– Наша вся группа выполняет очень важное задание командования. А ты – чье? Кто велел тебе запугивать командира этой группы?
– Поддерживать дисциплину и порядок мне приказала Родина. А тебе кто приказал расшатывать дисциплину в группе?
Душеспасительная беседа в таком ключе продолжается минут двадцать. На глазах верзилы совершенно неожиданно появляются слезы, он несвязно бормочет:
– Товарищ лейтенант… я не… я ничего такого…я не думал…
Пока не скончался Квасов под одеялом, – надо закругляться.
– А теперь иди, Курков, в кубрик. Дослужи оставшийся срок честно. Разговор наш останется между нами: я не буду тебя даже сажать на губу. И не пугай меня больше никогда: я не пугливый…
Курков пулей вылетает из комнаты. Квасов жадно пьет воду, его колотит дрожь. Я тоже не совсем спокоен: уснуть почему-то долго не удается.
Оставшихся пару месяцев Курков служит и работает отлично: тяжелые железяки двигает как кран, без всяких понуканий выполняет любую работу.
Следующее ЧП в моей группе – трагикомическое. Матросы Хайн и Заика работают жестянщиками в отдельной небольшой мастерской. Друзья задумали что-то купить и копили деньги. Источник накоплений – и скудное «денежное довольствие» матроса, и немного побольше – «прогрессивка», для которой мы «закрываем наряды» с выполнением виртуальных «норм» более 100 %. Иногда я разрешаю им работать сверхурочно, – очень много заказов от жильцов военного городка. Наверное, за это им благодарные заказчики платили какие-то копейки, которые тоже шли в «кассу».
Однажды они подошли ко мне убитые горем: кто-то стащил их деньги – довольно крупную сумму, которую они хранили в своей мастерской. Подозревать можно было только своих: о их деньгах никто чужой не знал. Проводить «всеобщий шмон» нельзя по моральным соображениям, да и бесполезно: деньги наверняка уже перепрятаны. Я принял меры: на почте попросил не отправлять без меня переводы от моих матросов, а в магазине – не выдавать крупных покупок. Хайну и Заике велел молчать и наблюдать.
Через несколько дней, после отбоя, в комнату Маклакова, где мы распивали вечерний чай и проводили обычную планерку, постучался запыхавшийся дежурный по группе:
– Товарищ лейтенант, бегите быстрее, а то Дегтяря убьют!
Я побежал в кубрик. От маленького матроса Дегтяря из Молдавии отскочили несколько человек. На божий мир смотрел уже только один его цыганский глаз, из носа и губ капала кровь, ухо раздулось до неприличия, следы остальных воспитательных мероприятий, судя по позе, скрыты под тельняшкой. Вопросительно смотрю на дежурного. Он докладывает, что когда после отбоя Дегтярь забирался на свой второй ярус, у него из-за пазухи выпал сверток с деньгами Хайна и Заики, после чего все дружно начали учить Дегтяря незыблемым правилам матросской этики.
Матросы все возбуждены, если бы не мой приход, – воспитательный процесс шел бы всю ночь, – уже почти 23 часа. Матросы ожидают от меня каких-то немедленных разборок с «гадом»: надо еще проверить его чемоданы. Это – мероприятие на всю ночь, а утром надо работать…
Командую: чемоданы Дегтяря положить на стол посредине кубрика. Дежурный отвечает за их неприкосновенность. Строевое собрание – утром, сразу после завтрака. Сейчас всем – полный отбой, включая Дегтяря и обрадованных владельцев денег.
Матросы сразу успокаиваются: возбужденная толпа, получив четкую и понятную команду, сразу превращается в воинский коллектив. Трагедия закончилась, не успев дойти до суда Линча.
Утром, на свежую голову, начинается уже комедия. Матросы сидят вокруг, Дегтярь с опущенными глазами – рядом со мной – за столом в центре кубрика. Открываю первый чемодан – он доверху забит всякими предметами. Поднимаю первый – дамские перчатки – есть хозяин? Вскакивает матрос Иванов и говорит, что он купил эти перчатки еще в Ленинграде для девушки, но они куда-то потерялись. Отдаю счастливцу перчатки…
«Аукцион» содержимого двух чемоданов продолжается около часа. Своих прежних владельцев обретают: сломанный фотоаппарат, авторучки, открытки, флаконы с одеколоном и без него, станки от бритв, шарфики, носовые платки, детские погремушки, несколько зеркалец и еще масса столь же занимательных предметов. В кубрике царит настоящее веселье. Невостребованной дребедени набирается на половину чемодана.
Под общий хохот вручаю его Дегтярю, а веселящимся матросам объясняю, что клептомания – болезнь. Больной так же нуждается в кражах, как китайцы в рисе. Матросы уже посматривают на виновника смеха даже с некоторым сочувствием: это же надо, – молчаливый «цыганистый» малыш Дегтярь обладает такой экзотической болезнью! Сейчас бить его уже не будут, но и сладкой жизни ему в этой группе не видать никогда: любые пропажи будут теперь автоматически вешать на него. Да и климат в группе будет скверный, если каждый пустяк надо будет прятать под замок. Принимаю решение: переправить Дегтяря в Онохой, куда мне вскоре предстоит поездка. Пусть попытается начать жизнь в новом коллективе с чистого листа…
Бурятские этюды
Глядя на мир, нельзя не удивляться!
(К. П. № 110)Мне надо ехать в Онохой – маленькую станцию возле столицы Бурятии Улан-Уде. Там мы тоже воздвигаем базу, немного поменьше, чем на Новой. В Онохое надо поставить трубу на котельной, разобраться со сварщиками и помочь в некоторых вопросах по технологии. Иван скрепя сердце отпускает меня. Забираю Дегтяря, отправляюсь в Онохой. Наша стройка там, в прекрасном сосновом лесу, недалеко от станции. На самом въезде стоит памятник «отсутствию памяти» – пятитысячный огромный резервуар, сморщенный как сушеная груша. Сооружал резервуар, по преданиям, Боря Лысенко, будущий главный инженер «десятки». Строили его старым полистовым способом, долго и нудно. Начали испытывать наливом воды: это испытание и плотности, и прочности резервуара, – вода на 20 % тяжелее бензина. Залили, осмотрели – все в порядке. Открыли вентили на слив воды. Пять тысяч кубометров воды сливается долго, поэтому все ушли на длительный обед с последующей сиестой. Часа через три раздался ужасающий грохот, и огромный резервуар сморщился, напомнив наблюдателям, что мы живем на дне воздушного океана, и что воздух не совсем невесомый. При сливе воды забыли всего-навсего открыть дыхательную арматуру, и в резервуаре создался вакуум. Природа, как известно, – не терпит пустоты, и наружный воздух попытался ее заполнить…
Стенки сморщенного резервуара немного растащили тракторами, но его жеваный вид исправить, увы, было невозможно, и он остался назидательным памятником. У Бори пунктик «дыхательная арматура» остался навсегда открытой раной: он теперь по несколько раз напоминает подчиненным об открывании дыхательной арматуры при сливе – заливе резервуаров.
Участком Строймонтажа-11 в Онохое командует гражданский человек средних лет Сазыкин. «Хромой Жора», как за глаза все называют его, – мужик агрессивный, напористый и голосистый. У него в подчинении два офицера и несколько сверхсрочников. Сазыкин сразу набрасывается на меня: сварщики не умеют варить. Мне крыть нечем, да и мои оправдания ему «до лампочки»: нужна работа. Встречаюсь с Кадниковым, моим старшиной на заводе ПТО, где мы готовили сварщиков. Не все так плохо. Вырвались вперед, как у меня Кудра, и пашут в полную силу два наших ученика – киевский радиолюбитель Эдик Граб и бывший новгородский колхозник Миша Пакулев (будущий мичман и воспитатель сварщиков). Почти хорошо получается сварка труб еще у двух матросов.
Совсем потерял лицо и подвергается бесконечным насмешкам моя правая рука на заводе – техник-сварщик Саша Богомолов. У него сварка труб «не пошла». Надежды на него были неоправданно завышены: сразу «целый» техник-сварщик. К сожалению, первый его стык оказался дефектным, и его пришлось вырезать полностью, затем – долго переделывать. На бедного Сашу посыпались насмешки и оскорбления, а «хромой Жора» громогласно «отлучил» его от сварки «навсегда».
Подробно разбираюсь с каждым. Граба и Пакулева хвалю за настойчивость – умение приходит к тем, кто работает. Двум «дозревающим», посмотрев их работу, объясняю ошибки, и они быстро «входят в режим». Хуже всего с Сашей Богомоловым: вежливый и интеллигентный, он в глубокой депрессии от своих неудач, среди прежних товарищей чувствует себя прокаженным, замкнулся, считает дни до «дембеля», который будет очень не скоро…
По рассказам Кадникова, гарнизоны вокруг Улан-Уде потрясают ЧП. Одно из них – в недалеком гарнизоне танкистов. Во время драки танкистов с гражданскими парнями, среди которых много уголовников, был убит солдат. Тогда танкисты завели танк, связав дежурного офицера. На танке прошли по длинной улице селения, «слегка» задевая боком танка бревенчатые избы, которые проседали, рассыпались или поворачивались… На гауптвахте один солдат пришил себе на голый живот все пуговицы от шинели; другой разжевал и проглотил пачку лезвий… Да, Куркову было где набраться впечатлений и науки… У нас пока относительно нормально, особенно на фоне окружающего мира…
Дымовую трубу здесь уже поставили без меня: был большой кран, цоколь был нормальный, а труба – поменьше. У меня освободилось время для решения некоторых других дел: запустил два генератора на САКах, которые просто-напросто размагнитились, научил мотористов запускать холодные двигатели САКов, используя сварочный генератор как стартер, наладил неработающий бензорез и т. д.
Никому не нужные технические подробности (кроме мотористов, и то при морозах). Это была очень необходимая для забайкальской зимы идея: электрический запуск замерзших САКов. В сварочных агрегатах того времени был предусмотрен запуск бензинового двигателя вручную – «кривым стартером», как называли матросы заводную рукоятку. Если на дворе лето, да двигатель новый и отлаженный – особых проблем не возникало. Но при морозах даже 20–30 градусов запуск ставал мукой: надо было раза два заливать горячую воду, которая, прогревая двигатель, сама успевала иногда замерзнуть, опасно нагревать паяльной лампой или факелом масло. И только после этих процедур можно было провернуть рукояткой двигатель. Иногда матросы, сменяя друг друга, крутили его до одурения. Запуск десятка САКов участка при больших морозах ставал большой проблемой. Несмотря на то, что мотористы начинали работу на час раньше, сварщикам часто приходилось ожидать победного рева вращающегося двигателя. Теперь, имея хотя бы один работающий САК, мы запускали остальные, подавая сварочное напряжение на генератор неработающего САКа и заставляя его работать в режиме электродвигателя. Такой могучий «стартер» запускал бензиновый двигатель САКа на любом морозе…
Моя «миссия» в Онохое была окончена, но неожиданно «хромой Жора» прямо– таки воспылал ко мне любовью и попросил остаться еще на пару дней, чтобы «разобраться» еще с десятком вопросов. Георгий Георгиевич лукавил: эти вопросы он решал и без меня. Договариваемся: я остаюсь на один день, с собой забираю Богомолова. Сазыкин отдает Сашу без сожаления, и мы вдвоем уезжаем в Новую. При расставании Сазыкин обещает:
– Засыплю Шапиро телеграммами, чтобы тебя оставили здесь!
Эта фраза надолго становится крылатой, культовой, настолько она многофункциональна. Мои друзья и близкие ее знают: им часто приходилось применять ее, – как угрозу, как похвалу, или как предостережение при моих очередных «заскоках»…
Техническая психология
Легко только писать под теплым душем.
(Народная примета)Работающих на объектах солдат-сварщиков все же придется отпускать. Неизбежно «задействование» моих. Уговариваю Ивана; он скрепя сердце отдает мне на откуп ввод в одопровода в котельную. Это 50 метров трубы диаметром 57 мм в траншее глубиной около 4-х метров, – такая большая здесь глубина промерзания. Самый подготовленный у меня – Кудра, его и бросаю на это дело. Укрупняем трубы по две-три на бровке, поворачивая их. Сам осматриваю стыки, сомнительные места сразу исправляем. А вот неповоротные стыки надо варить в траншее. Вспоминаю свой деребчинский опыт, когда я пытался заварить стык без маски и вниз головой, подвешенный за ноги. Ивану я погибнуть не дам: два матроса вырывают под стыками обширные приямки, заботливо мостят для Кудры лежак, подают кабель, электроды, маску, зубило, щетку, центруют стык. Сварщик не имеет права напрягать свои руки: ему предстоит выполнять очень точную работу. От всех забот матрос начинает волноваться, и мне приходится его успокаивать, перегибая палку в другую сторону:
– Ну, что ты, Ваня! Подумаешь – дефект, большое дело! Вырежем, заварим снова… Ты не торопись, не волнуйся: времени у нас навалом… (Я знаю, что именно времени у нас нет).
Долго варит три стыка. Заливаем воду, прессуем. Десяток течей, все – на неповоротных стыках. Матросы разочарованы, собираются выразить свое недовольство, но «затыкаются» под моим взглядом. Кудра и сам в отчаянии, почти в истерике: он готов бросить маску навсегда, чтобы никогда-никогда больше не заниматься сваркой… Я ему говорю:
– Ты, Ваня, молодец! 10 маленьких дырочек на трех стыках – сущий пустяк. У меня на первом стыке вообще было тысячу струй, не считая мелких. Сейчас перекурим, спустимся вместе и все исправим. А ты поймешь, где ты их допустил и больше делать не будешь!
Перекуриваем, спускаемся вниз, внимательно осматриваем места течи. Кое-какие причины дефектов ему объясняю я, но он видит их уже сам. Зачищаем, исправляем, подвариваем, испытываем снова. Опять дефекты, но только три: мы их просто не исправили в первый раз. Уже темнеет, но я заранее приготовил освещение: две лампочки на 36 вольт подключаются последовательно, но параллельно сварке. Пока не варишь – есть свет, а при сварке он не нужен. Работаем дальше.
После третьего испытания остается только одна отпотина, и Иван ее исправляет сам.
Глубокая ночь. Я оканчиваю работу бригады:
– Все, ребятки. Всем – объявляю благодарность от лица командования, всем – большое спасибо. Тебе, Ваня – особое. Ты будешь отличным сварщиком.
Усталые, но довольные матросы уже смирились даже с тем, что остались без ужина. Но я заранее приказал Квасову получить и доставить их ужин в кубрик. Хорошо быть твердо уверенным: Квасов не может подвести…
Через пару дней Кудра варит уже около ста метров трубопровода из коротеньких отрезков, бывших заготовок, – кончились трубы этого диаметра. На целой сотне(!) стыков нет ни единого дефекта, а его шов просто поражает точностью и красотой. Прямо по Марксу – Энгельсу: количество скачком перешло в качество… Матрос стал даже выше ростом, распрямились плечи, по-другому ходит, по-другому смотрит. Он – мастер своего, очень важного, очень нужного дела. От него сейчас зависит очень много. Его слово теперь для друзей – закон, а изредка можно возразить и начальству. (В казенных характеристиках о таком состоянии обычно пишут: «Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей и руководства»).
Вскоре у меня открывается почти идеальный учебный класс, через который я пропускаю всех сварщиков на ускоренное «дозревание». Нам предстоит изготовить и сварить больше сотни паровых калориферов. Это изделие состоит из пяти параллельных труб, врезанных своими концами в короткие коллекторы. В коллекторах надо вварить патрубки входа-выхода пара и заглушить торцы. Маклаков под эту работу выбивает у Журида помещение – бывшую столярную мастерскую. Мы немедленно оснастили мастерскую и начали там работу: на открытом пространстве уже стояли сильные морозы. На небольшой площади мастерской, покрытой обычной пылью, – варили, резали, сверлили и стучали молотками полтора десятка матросов, ревел САК, шипели бензорезы, и стучал компрессор.
Кроме тепла (к сожалению, – и копоти), прелесть нашей работы была в том, что вся довольно сложная сварка труб тут была на виду и сразу же проверялась на плотность давлением воздуха. В таких условиях сварщики быстро совершенствовали свое мастерство. Сварщика, заварившего без дефектов несколько калориферов, смело можно было допускать к сварке стыков и врезок на любых трубах. Кудру сюда я иногда посылал в качестве инструктора: он только показывал другим, как надо варить.
Вот в этот «инкубатор» я и помещаю Сашу Богомолова. Он с дрожью в руках берет электрододержатель, к которому уже давно не прикасался. Конец электрода, который должен делать точные движения, выписывает немыслимые «восьмерки».
– Успокойся, сядь поудобнее. У тебя все получится, – если не сразу, то с – надцатого раза – обязательно.
Это – слова. Сейчас они до Богомолова не доходят. Вместе с ним дрожит электрод в руках. Заваренный стык – сплошное безобразие: его надо вырезать. К счастью, это всего лишь пробный стык, образец. У Богомолова на глазах слезы, матросы вокруг насмешливо переглядываются, но зная мои требования, – помалкивают. После второго и третьего стыка, сваренного так же, матрос отбрасывает держатель и со словами «гори она огнем, эта сварка» убегает… К сожалению, при этом срыве меня уже не было, – об этом мне рассказывает старшина Квасов. Неотложные дела не позволяют мне вплотную заняться Богомоловым, я успеваю только подтвердить ему задание: продолжай тренироваться. Еще через день Квасов рассказывает мне, что Богомолов на ужине почти не ел ничего, а матросы насмехаются над ним, а больше всех – Кудра. Слова Квасова меня пугают:
– Николай Трофимович, он в таком состоянии, так его достали, что и в петлю может полезть!
После утреннего развода отвожу в сторонку Кудру. Мои вопросы для него как оплеухи.
– Давно ты стал мастером сварки, Иван? Сколько у тебя дефектов было на вводе в котельную? Тебя Богомолов тащил по теории, когда ты в ней был ни «бе», ни «ме»? А ты его как благодаришь за ту помощь?
Кудра склоняет голову все ниже, – он еще не потерял совесть.
– Так вот, Ванечка, Богомолов – техник-сварщик, знает он заведомо больше, чем ты. А чтобы он преодолел страх и был просто сварщиком, – ты ему помоги. Я очень-очень тебя прошу!
Кудра размышляет немного, и говорит задумчиво, не совсем «по уставу».
– Попробую, товарищ лейтенант…
Богомолов при встрече опережает меня:
– Я не хочу быть сварщиком: у меня ничего не получается! Прошу меня назначить в любую бригаду! – на его глазах выступают слезы. Мне жалко его, обиженного мальчишку, потерявшего веру в себя… Пытаюсь укрепить его ослабевший дух весьма длинными разговорами…
– Саша, тебе обязательно надо преодолеть этот барьер. Мы с тобой здесь единственные специалисты-сварщики. Мы можем не делать, то что делает обычный рабочий: других дел хватает… Но, – надо это уметь делать, Саша! Тогда твои распоряжения те же сварщики будут принимать совсем по-другому… Учти еще одно: сварщику нужны ежедневные тренировки, как балерине. Я, например, сейчас тоже не смогу заварить этот стык: надо тренироваться! А у тебя все будет хорошо, просто ты сейчас очень волнуешься, когда берешь в руки держатель, из-за прошлых неудач… Тем более – когда вокруг «подъелдыкивают». Спокойней, Саша, держи удар! Вари, проверяй, исправляй, не обращай ни на что внимания! Ты будешь отличным сварщиком!
Богомолов уходит задумчиво. О моих требованиях к Кудре я ему ничего не сказал. Иногда видел, что они что-то обсуждают вместе. В мастерской я стараюсь не смотреть в сторону Богомолова: варит человек изделие и пусть варит.
Уже через два дня Саша подходит ко мне радостный:
– Николай Трофимович, я уже три калорифера заварил без единого дефекта!
– Конечно, Саша, я и не сомневался! – подмигиваю ему. – «А ты, дурочка, плакала, боялась!».
Саша счастливо улыбается. Еще через недельку он начинает «пахать» – варить с большой скоростью и неизменно высоким качеством, обгоняя даже Кудру. Кроме того, он понимает смысл работы, которую выполняет: все-таки образование сказывается. Его авторитет в группе вырастает до небес. Нам нужны грамотные и инициативные вожаки, и старшему матросу Богомолову присваивается звание «старшина второй статьи», а вскоре – и первой…
Вставка из будущего. Где-то в конце 80-х годов в лабораторию, где я работал уже просто сварщиком, заходит полноватый мужчина средних лет, совершенно лысый, и с улыбкой смотрит на меня. Я узнаю его сразу, несмотря на разительные перемены за прошедшие три десятка лет.
– Саша! Богомолов!
Он счастливо улыбается, довольный моей памятью, и мы крепко обнимаемся. В сбивчивом разговоре мы со смехом вспоминаем о его службе и первых шагах на пути к мастерству. Я ему только теперь могу рассказать, какое предостережение мне сделал старшина Квасов. Саша подтверждает: тогда он был очень близок к самоубийству. Вместе горюем об рано ушедшем хорошем человеке – старшине сверхсрочной службы Тихоне Васильевиче Квасове…
Саша работал тогда шефом сварщиков-аргонщиков на оборонном заводе в Таллине. Женат, взрослые дети, дом – полная чаша…
Вскоре началась «перестройка». Эстония вышла из состава СССР. Начала активно превращать в металлолом все оборонные объекты, которые мы там по глупости построили, и при этом еще и притеснять русских. Не знаю, как сложилась дальше судьба человека, которого я считаю немного своим крестником…
Начав разговор о психологии, автор уже не может остановиться, не описав случай, повысивший его грамотность в вопросах любви, семьи и брака. Кончал службу в моей группе матрос Юра Денисюк, – крепкий хлопец с Украины, добросовестный и работящий. И начал он «прилепляться» к разбитной бабенке Наталье Забелиной, женщине старше его лет на 10, которая работала кладовщицей у строителей. Иван эту Наталию знал давно и очень хорошо. Вот мы, два командира, задумали отвернуть беду от несмышленыша. Пригласили его на приватную беседу. Иван выдал проповедь рассказом про «облико морале» и деяния подшефной Наталии.
Забелина работала заведующей складами у строителей, что в эпоху тотального дефицита было равноценно заведованию пещерами Аладдина. Окружающее население бесконечно нуждалось во всем том, что у Забелиной было в большом изобилии: гвозди, цемент, краски, сантехника, огнеупорные и обычные кирпичи, жесть, металл, трубы и еще тысяча вещей, совершенно необходимых туземцам. Наталия развернулась широко: стройки в окрестных селах получили необходимую подпитку дефицитом и стали расти как на дрожжах. Почему-то при этом личное благополучие Забелиной, ее наряды и украшения стали превышать разумные пределы. Но такое большое шило в мешке утаить вообще трудно, тем более – в небольшом мешке. Над Забелиной стали сгущаться тучи в виде слухов о большой ревизии складов. И первыми не выдержали слухов именно склады: прекрасной ночью они полыхнули ярким пламенем. Случайно под корень сгорел и соседний штаб строителей со всеми документами.
Вполне уместная, хотя и пожарная, вставка. Сам Иван тяжело пережил пожар именно этого штаба: погибли уникальные Приказы по строительству, с которых он не успел снять копии для Истории и потомков. В этих Приказах начальник стройки, предшественник Журида, никем и ничем не сдерживаемый, полностью давал волю своему яркому литературному дарованию. Например, один из приказов кончался словами: «Да здравствует Первое Мая, а у нас гвозди везде валяются!». Иван клялся, что будь он тогда на месте, он бы ринулся в бушующее пламя, чтобы спасти только эти драгоценные Приказы…
После пожара ревизионной комиссии осталась только очень легкая работа: развести руками и написать акт о списании всего-всего чохом, потому что даже перечислить все-все было невозможно. Пострадала, правда, крупно и Забелина: теперь она по должности стала не заведующей, а только главной кладовщицей с теми же обязанностями и правами… Тем не менее, любвеобильная Наталия горевала недолго: у нее появился постоянный любовник (теперь это называется гражданский брак). Это был дембель из строителей – крепкий парень из Белоруссии. Он стал работать на стройке по вольному найму, чтобы под крылом заботливой Натальи основательно «прибарахлиться»: в колхозной Белоруссии, как и во всем СССР, с этим тогда было туго. Намеченный им тайный план в течение целого года выполнялся весьма успешно. И дорогая, ничего не подозревающая, гражданская жена, тому весьма способствовала. Муж уже начал потихоньку присматривать объемистые чемоданы, чтобы разместить в них перед отъездом свои богатства… Но, как сказала Поэт (Поэтесса?), – не всегда поймешь, кто есть охотник, кто – добыча. Однажды, придя с работы, «гражданский муж» нашел только голые стены и записку от любимой: «Не жди, уехала надолго». Надеть что-либо вместо замасленной спецовки и купить билет до далекой Белоруссии парню помогли прежние сослуживцы…
Иван излагает эту душераздирающую историю Денисюку с подробностями. Матрос только молча и горестно качает головой: у него тоже раскрываются глаза. Тут и я вступаю в бой:
– Так зачем тебе связывать свою судьбу с такой женщиной? Езжай на Украину, там знаешь, какие девчата ждут тебя, не дождутся? Красивые, нежные, молодые! И будешь нормально жить-поживать, растить детишек!
У матроса даже глаза загораются от такой перспективы. Он благодарит за науку, вскоре уезжает в часть для увольнения в запас. Нас с Иваном прямо-таки распирает от гордости: хоть одну душу отвернули от гибельного пути!
Не прошло и двух месяцев, как старшина Квасов говорит мне между прочим:
– Вы знаете, Николай Трофимович, наш Денисюк вернулся; живет у Забелиной!
У меня округляются глаза и отвисает челюсть. Именно такими признаками сопровождаются частичные прояснения извечной загадки природы, именуемой «мужчина и женщина»…
Все флаги в гости будут к нам
Понаехало там егерей…
(В. В.)Первым из руководящих гостей к нам прибывает мой командир части подполковник Афонин. Видно, майор Шапиро тоже захотел двинуть подчиненного подполковника на «арбузное место» вслед за нами. Афонин сразу попадает в наш кубрик. К счастью, там в это время был Квасов, который докладывает ему по всей форме.
– А где се Мельнисенко? – недовольно вопрошает командир Квасова. Тот докладывает, что я, как всегда, на работе.
– А он не в сагуле?
Квасов непонимающе таращит глаза, пока не соображает, что речь идет о «загуле».
– Никак нет, товарищ командир, они работают, – Квасов говорит обо мне в множественном числе.
Посылают за мной дневального. Я отрываюсь от работы и прямо в рабочей одежде спешу на доклад. Представляюсь, докладываю, – дескать, вверенная мне группа находится на объектах. Афонин ходит молча и недовольно по кубрику, затем начинает настоящую «головомойку».
– Посему ты к своему командиру приходись одетым не по форме?
– Виноват, товарищ подполковник, торопился, не успел!
– Посему у тебя эта кровать не заправлена? Посему один дневальный спал? В тумбосках лисного состава – беспорядок: хранится хлеб. Под кроватями – семоданы, понимаесь. Сто это са выгородка в кубрике? А где у тебя наглядная агитасия?
– Все будет исправлено, товарищ командир! – я уже достаточно опытный служака, чтобы оправдываться по пустякам. Горячий Квасов пытается как-то возразить, но я смотрю на него и кладу палец на свои губы. Квасов возмущенно сопит, но молчит.
Афонин оттаивает, греется возле нашей печки, разговор продолжается уже в другом ключе.
– Меня сам Сапиро направил сюда, стобы проверить, как задействованы сварссики!
Я чистосердечно признаюсь, что с этим делом плохо: трубы они варить не могут, а «простой» сварки на 22 человека – не хватает.
– Надо тебе насать на Маклакова! – советует командир. – Вот я сам на него насму!
В конце доверительного разговора Афонин неожиданно спрашивает:
– Слусай, Мельнисенко, у тебя деньги есть?
– Для чего? Немного есть… – я тяну резину, не понимая, что хочет узнать Афонин.
– Сто, для сего? Для лисного состава! Ты в баню людей водись? Платись?
– Ну, на баню хватает, товарищ командир… (Деньги в Читинском банке я получаю для матросов и себя, кроме того, я могу их взять в долг у Маклакова, но говорить об этом «товарищу командиру» мне почему-то не хочется…)
Через день на почте знакомая девушка вручает мне телеграфный(!) перевод из части на 400 рублей. Недоумеваю, но получаю. Вечером Афонин обращается ко мне очень ласково:
– Слусай, Николай, там должны придти тебе деньги…
Я говорю, что уже пришли какие-то непонятные 400 ре, которых я не просил.
– Это я са тебя послал телеграмму… Снаесь, пока к тебе ехал, в поесде меня обыграли в пух и прах, расбойники. Теперь не на сто взять билет насад. Ты мне эти деньги одолси, а я, как только вернусь в Питер, срасу тебе послю…
Деньги перекочевали из моего кармана в афонинский – навсегда. Правда, мы с Иваном начисто «объели» подполковника Афонина. Дело было так. Афонина поселили в комнату рядом с Маклаковым, и в первый вечер он пришел к нам на «сто чаев». К чаям у нас был только хлеб, что не устроило Афонина: он принес грамм 100 колбасы и широким жестом, как жареного мамонта, бросил ее на общий стол. Негоже лейтенантам поедать личные харчи командиров. Из вежливости мы отрезали по тонюсенькому кружочку, чтобы дать возможность высокому гостю вкусить полной челюстью харчи принимающей стороны – местный хлеб и яблоки от Мао Цзе Дуна. Все это он от души вкусил, плюс – полностью свою колбасу. Через день от дружественного строительного капитана, члена кружка преферансистов, который немедленно нашел Афонин, мы услышали удивительную историю. Жена капитана решила побаловать преферансистов чайком кое с чем. Оправдывая свой зверский аппетит, Афонин рассказал всем, что у него было с собой уйма продуктов, но я с Иваном, молодые и здоровые, все у него «сосрали» за один вечер, и он, заслуженный командир, вынужден теперь голодать из-за своих прожорливых подчиненных. Давно переваренные тоненькие лепестки афонинской колбасы со скрежетом провернулись в наших пустых желудках, от стыда выступили слезы…
В столовую на обед Афонин стал ходить вместе с нами. По нашему обычаю за обеды расплачивался поочередно кто-нибудь один. В конце обеда Афонин неизменно озабоченно спрашивал:
– Сегодня за обед кто платил? Маклаков? Сколько платил? Тридцать три? – мучительно подсчитывал и радостно объявлял:
– Это по одинадсать рублей! Угу!
На третий день, мы, не дождавшись, что Афонин возьмет обед на троих, продолжили свою гнилую тактику, взамен получая неизменно вежливые вопросы о суммах, затраченных на ёдово. Недели через две Афонин простился с нами, взяв в долг у Ивана и рассчитавшись напутствием:
– Ты давай, Маклаков, задействуй моих сварссиков!
Чтобы закончить тему «мой первый командир части» навсегда, загляну чуть вперед. В Североморске вскоре Афонина поймали за руку офицеры, когда он ночью экспроприировал деньги из карманов их брюк. Его прилично побили, наплевав на субординацию и звания: вора давно искали. Особенно от неуловимого ворюги страдал будущий главный инженер «десятки» – мой друг Боря Лысенко: деньги он всегда небрежно распихивал по карманам не считая, и уже давно недоумевал, почему они так быстро стали иссякать?
Разгорелся скандал: Афонина заставили вернуть все долги офицерам, у которых он «одалживал» таким же способом, как у меня и Ивана, а затем выгнали из армии. К сожалению, мы с Иваном находились слишком далеко, и золотой дождь на нас не пролился. Зато афонинский слоган «арбусное место» стал крылатым и долго согревал наши души…
Следующий наш именитый посетитель – зам начальника УМР по строевой части подполковник Есипов, – красавЕц-мужчина с кудрями светлых волос, пронзительными голубыми глазами, родом из донских казаков. Его появление началось почти с анекдота. Появившись на КПП одной из частей, он начал там форменный разгром.
– Почему дежурные нарушают форму одежды? Почему оружие не в порядке? Начальника караула – ко мне! Вызвать командира! Построить офицерский состав!
Прохаживаясь легкой походкой перед понурым офицерским строем, Есипов у каждого нашел нарушение формы одежды, недостаточную выбритость, слабую строевую выправку и еще массу других недостатков и нарушений, пообещав разобраться со всеми этими безобразиями, подготовить и издать приказ командира «N». по поводу обнаруженных безобразий.
– Товарищ подполковник! Генерал «N» не является нашим командиром! – робко возразил грозной «столичной штучке» дрожащий от страха командир «разносимой» части, тоже в звании подполковника.
– Как это – не ваш? Вы – войсковая часть ****?
– Нет, товарищ подполковник! Мы – в/ч хххххх, и подчиняемся генералу «У»!
– Ну, все равно: недостатки надо исправлять! – назидательно изрек Есипов, нисколько не смущаясь. Сохраняя за собой инициативу и последнее слово, он скомандовал:
– Вольно! Разойдись! – после чего величественно удалился из части, которая не имела ни малейшего отношения не только к Есипову, но вообще – к нашему ведомству.
Обстановка на объектах совсем накаляется: приближается время сдачи и приемки горючего. К нам приезжает и остается надолго главный инженер Строймонтажа 11 Дмитрий Николаевич Чернопятов. Он – пожилой, высокий и крупный, с короткой стрижкой – его мучает экзема; внимательные глаза смотрят на собеседников поверх очков. Он – старый инженер, его тоже не так давно призвали из гражданки. Почти никогда не повышает голоса. Говорит мало и не терпит суесловия. Требует точности и достоверности докладов. Его любимый вопрос после получения информации:
– Сам видел, или тебе докладывали?
К нам он обращается сначала на «вы», позже – на «ты», но только по имени-отчеству. Замечаем, что «выкает» он не столько старшим, сколько людям, которым не доверяет и которых не любит.
Д.Н. Чернопятов
Утром, когда мы только поднимаемся, Чернопятов уже обошел все объекты, все увидел, все знает. Незаметно он становится подлинным руководителем участка, а Маклаков, я и Павлюков – бригадирами. Точнее, мы – «направленцы»: у каждого по несколько бригад и по несколько горячих объектов. Работы сразу идут быстрее: большинство вопросов решается немедленно.
Наши ежевечерние планерки стают короче и, на удивление, – плодотворнее. Например, так:
Чернопятов. – Скоро опрессовка линии масла. Надо поставить вентиль в колодец А7.
Маклаков. – Хорошо, поставим.
Ч. – Когда?
М. (что-то прикидывает). – В среду.
Ч. – Хорошо.
Планерка в среду. Решаются масса других вопросов. Внезапно Чернопятов спрашивает Маклакова:
– Вентиль на колодец А7 установили?
Маклаков замотался и о вентиле просто забыл. Он выкручивается:
– Нет, Дмитрий Николаевич. У нас нет вентиля шесть БР.
– Неправда. Он у вас лежит в складе на второй полке слева. – Чернопятов спокойно смотрит на Маклакова поверх очков. Маклаков покрывается румянцем:
– Хорошо, Дмитрий Николаевич, мы его поставим завтра с утра.
Вопрос закрыт окончательно: Маклаков и теперь, и дальше, – никогда не забудет своих обещаний… Ставится задача мне:
– Николай Трофимович! Надо закрыть сливные каналы мазута на железнодорожной эстакаде. Штатных щитов не дождаться. Придумай и свари что-нибудь жесткое и легкое из стальных листов и проката, которые есть на складе. Надо закрыть около ста метров канала.
В разговор неожиданно вмешивается Есипов, случайно попавший на планерку:
– А вы что, не знаете, что есть постановление Партии и Правительства об экономии металла и замене его железобетоном?
Сдержанный и вежливый Чернопятов просто яростно взрывается; ни до, ни после я его таким не видел. Впервые при нас он употребил «русские» слова. Возможно, это было продолжением каких-то прежних разговоров с вальяжным Есиповым.
– Если Вы ни х… не понимаете, то, по крайней мере, не суйте туда свой нос!!! Только последний мудак может поставить железобетон на съемные щиты!!!
Грозный «строевик» Есипов совершенно не к месту хихикает и со словами «Ну, я, пожалуй, пойду!» удаляется. Планерка продолжается.
Вскоре мы на своем горбу почувствуем это Постановление, а огромная база просто не сможет работать… Но об этом – чуть позже.
Полученное мной задание не такое простое. Изучаю металл, который есть на складе, проектирую несколько вариантов. Один – трудный в изготовлении, другой – слишком тяжелый, третий – хлипкий в эксплуатации. Кстати, одно из незыблемых правил Чернопятова: делать так, чтобы было удобно людям, которые будут потом работать на объекте. Обычно «мастера», построившие «козью морду», оправдываются: «А так нарисовано в проекте (вариант – забито в смете)!». Чернопятов эти возражения гневно отметает:
– Вы для себя лично так бы сделали???
Думать днем и вечером – некогда. Мало-помалу появляется привычка думать до утреннего подъема… Некий – надцатый вариант кажется сносным. Проверяю. Нет, очень много резки, а это – лишнее коробление, не только работа. А если резать лист поперек? Проверяю размеры: получится, если… Изменяю конструкцию. Теперь, вроде, ничего. Мое изделие получилось проще грибов, любой усомнится, что для этого надо что-то еще соображать. К прямоугольному листу снизу приварены два уголка – ограничители по ширине бетонного сливного канала. Сверху такие же уголки приварены поперек – для подъема и жесткости. Изготовляю образец, показываю Дмитрию Николаевичу (дальше – ДН). Он только спрашивает:
– Почему уголки приварены ребром? Приварить уголок полкой же удобнее!. Объясняю: так в несколько раз больше прочность и жесткость щита в целом.
– А почему приварено точками? Прочнее ведь сплошной шов?
Доказываю: прочности более чем достаточно: точки равноценны болтам через 50 мм, а это очень много. А сплошной шов покоробит всю конструкцию. ДН – строитель и не понимает меня. С интересом выслушивает минутный курс по теории сварочных напряжений, затем говорит:
– Молодец. Действуй. Когда сделаешь все щиты?
Обещаю сделать за два дня, но прошу снять с меня окраску: надо строить без чертежей угольный бункер в котельной. ДН говорит «Хорошо». Я уверен, что действительно будет хорошо, что он не забудет того, что обещал, и через два дня изготовленные моей бригадой щиты кто-то будет красить…
Кстати, ДН по настоящему интересуется не только сваркой, но и любыми техническими новинками и достижениями, в этом мне придется убедиться позже. Сейчас я ему показываю удивительный образец творчества, и мы оба смеемся. Это – тяжелая рама для выравнивания дороги трактором, изготовленная плотником. Стальные балки – двутавры соединены «в лапу», как бревна деревянного сруба, затем тщательно обварены…
Время уплотняется еще больше, говорят, во Владивостоке уже заливают в цистерны мазут для нашей базы, и она просто обязана быть готовой к приему топлива. Это чувствуется по рангам приезжающего начальства. Сначала приезжает начальник УМР полковник Сурмач. Сергей Емельянович быстро приводит в чувство Журида: часть наших работ зависла из-за строительной неготовности. Сурмач запросто обеспечивает для строителей помощь ЗабВО из Читы: округ немедленно присылает тяжелую технику: бульдозер и кран…
Затем приезжает главный инженер московского главка – Главвоенмормотажупра – полковник Васильев. Это осанистый человек, таким я себе представлял купцов первой гильдии. У него роскошная рыжая борода лопатой и голубые глаза. Васильев не слезает с линий связи с Москвой и Владивостоком на телеграфе почты в Новой и с ВЧ-связи в Чите. К нам немедленно начинают поступать оборудование и приборы, которых напрасно ожидали на стройке уже несколько лет. Мы лихорадочно устанавливаем и подключаем их к кабелям и успевшим заржаветь трубам…
Стоит уже настоящая зима с морозами до 40 градусов, хотя снега очень мало. Особые объекты – котельная и насосные, некоторые офицеры там и ночуют, тем более – в наших комнатах – очень «не жарко». Любая наружная работа стает проблемой, и везде жгут костры, чтобы хоть немного обогреть людей. Но стройка стремительно «зачищает хвосты», чтобы база вскоре заработала…
Канареечка галку родила
Потому, что без воды
Ни туды, и ни сюды…
(Из очень смешной песни)База не может работать без своего сердца – котельной, которая должна дать тепло и большую электроэнергию, способную вращать огромные насосы. Сейчас государственная сеть еле обеспечивает нужды стройки и городка.
Котельная же не может жить без воды. На комплексе водоснабжения почти все уже «закруглено». Он находится в полутора километрах от котельной, на возвышенности. Там мощный глубинный насос добывает воду с неведомых горизонтов и наполняет ею тысячекубовый резервуар, спрятанный под землю, чтобы вода не замерзла. Я видел этот резервуар еще открытым, вскоре после приезда на Новую. Удивился, что резервуар бетонный: бетон ведь пропускает воду. В ответ на мои «почему» Иван мне нехотя ответил, что резервуар «торкретирован». Бедный Иван еще не знал, что на таком ответе я не успокоюсь. А когда узнал, то ему пришлось выжать из себя дополнительно все сведения о торкретировании, когда жидкий расширяющийся цемент специальной пушкой под большим давлением заполняет все поры днища и стенок…
Согласно упомянутому Постановлению Партии и правительства об экономии металла, трубопровод от резервуара к котельной был выполнен из асбоцементных труб диаметром 100 мм. Широченная траншея глубиной 4 метра (глубина промерзания в Забайкалье – более трех метров!) тянулась к котельной через весь городок; на дне траншеи сиротливо смотрелась серенькая трубочка с муфтами на резиновых уплотнениях. После испытаний трубопровода на плотность и прочность (опрессовки) солдаты стройбата слегка присыпали его песочком – материалом тоже дефицитным.
Приближалась годовщина Октябрьской революции, а огромный ров сильно усложнял передвижение людей и транспорта по стройке и городку. Да и вообще – его давно надо было закрыть: стояли уже крепкие морозы. Операцию «засыпка» возглавил сам замполит стройбата. Его руководство состояло из двух слов: «давай!» и «быстрее!». Работал бульдозер, сваливая в траншею крупные глыбы смерзшейся земли. Дело было сделано быстро; руководитель работ занялся наглядной агитацией – по основной специальности. О трубе на какое-то время забыли, а именно там была зарыта чрезвычайно наглядная агитация…
На котельной все работы в результате героического штурма близились к концу; пора было подавать воду и запускать котлы.
Открыли задвижки полнехонького резервуара, и вода ринулась по трубе вниз к котельной. Через несколько минут она туда пришла. Струя оказалась мутной, но все присутствующие сошлись на том, что это промывается трубопровод и дальше все будет лучше. Однако дальше все начали задумываться: грязь не убывала, а сила струи стала совсем слабенькой. Раздумья прекратил прибежавший «гонец из Пизы»: он сказал, что рядом с большим складом бочек открылся фонтан. Все устремились туда. Из-под мерзлой земли метра на три бил большой фонтан. Вода, растекаясь, подмывала угол склада, а на периферии уже образовала каток. Фонтан «работал» примерно посредине трассы резервуар – котельная.
На Журида жалко было смотреть. Однако он распорядился перекрыть воду и начать раскопку трубопровода. Целый взвод солдат под нетерпеливыми взглядами начальства начал яростно долбить мерзлый грунт…
Не дай вам Бог, когда-нибудь копать вручную мерзлую землю: это гораздо труднее, чем долбить бетон и гранит. Земля не колется, лопата ее не берет, а лом заходит в землю на миллиметры даже при сильном ударе… Через пару часов адской работы кирками солдаты углубились в землю сантиметров на 10. Оставалось «всего» 3,9 метра. Кто-то соображает: грунт надо оттаивать. Приносят дров, разжигают костер, рискуя спалить склад рядом. Через час под углями костра земля оттаивает. Ее быстро выбирают глубиной на штык лопаты; дальше опять несокрушимая мерзлота. Да и выкопали всего узенькую ямку; с такой шириной на 4 метра не углубиться. Надо разводить настоящий костер! Привозят машину дров. К утру героический труд двух смен солдат дает «плод»: труба отрыта!
Внимательный осмотр показывает: труба, к величайшему сожалению, – цела. Вода пришла издалека, просочившись параллельно трубе, через рыхлости в траншее. Здесь она просто вышла наружу, найдя еще одну рыхлость – вертикальную. Что дохленькая асбоцементная труба, экономии для проложенная вместо стальной, просто перебита или раздавлена, – теперь нет никаких сомнений… Как далеко находится место повреждения – неизвестно. Надо от этой точки идти вверх, чтобы найти разбитую трубу…
Собирается «форум» для решения наших извечных вопросов: «кто виноват?» и «что делать?». Обсуждаются даже фантастические предложения: пробросить временный стальной трубопровод, взорвать траншею над асбоцементным трубопроводом. Чтобы вода не замерзла во временном трубопроводе – греть тысячекубовую емкость до кипятка и т. д. Любые такие идеи сразу увядают при холоде ниже 30–45 градусов: на пути к котельной вода замерзнет. Да и нагреть огромный резервуар невозможно: электроэнергии не хватает на самое необходимое…
Принимается решение: а) искать дефект водовода, он должен быть близко; б) вместо прожорливых котлов ДКВР временно использовать для выработки пара котел локомобиля, которому воды надо мало. Воду доставлять машинами, для чего…
Уже через пару часов мои матросы начинают выполнять эти «для чего»: в котельной мы сооружаем бак на 5 тысяч литров и эстакаду для водовозок возле котельной: вода должна сливаться самотеком. Я конструирую и «леплю» все эти сооружения из имеющихся материалов. Сварки – уйма. Слава Богу, теперь у меня уже несколько сварщиков, которые работают быстро и без дефектов… Сроки – очень жесткие: из Владивостока к нам уже идет мазут.
Мазут, оказывается, – черный
Отнюдь не принимай почетных гостей в разорванном халате!
(К. П. № 25)Эстакада для слива воды из водовозок вскоре обрастает ледяными наростами и становится похожей на айсберг. Так же обрастают льдом грузовики с открытыми баками в кузове, которые доставляют воду с недалекой насосной. Взвод стройбатовцев скалывает лед и посыпает песочком въезд на эстакаду, оббивает лед с автомашин. День и ночь горят костры на трассе водовода, там работает в две смены целая рота. За сутки каторжного труда, который и не снился каторжанам-рудокопам недалекого Нерчинска, выполняется всего метра полтора проходки. И оголенная труба в траншее по-прежнему цела. Дефект – где-то выше по течению…
Надежда обнаружить поврежденную трубу тает вместе с понижением температуры. Забегая вперед, скажу, что разбитая труба находилась метрах в двухстах выше фонтана. Чтобы добраться до нее понадобился целый эшелон дров и несколько месяцев каторжного труда десятков людей.
Героическая работа «водовозов» дает плоды. Котел локомобиля, наконец, ожил и даже выдал на-гора гудок, но какой-то хилый и неуверенный. Зато громко и нагло заревел паровоз, подавая на эстакаду пяток цистерн с мазутом, остальные стояли рядом в очереди. Морозовские кадры, давно не работавшие и очень привыкшие к «расслабленному состоянию», без всякого понятия толкутся возле цистерн. Начальник приемки, капитан, с трудом взбирается на цистерну и не может открыть люк. Люк открывает мой Пронин: он все-таки очень ловкий и сильный парень. Капитан сует в люк термометр полностью, затем вытаскивает его и обиженно заявляет:
– А он черный… и ничего не видно!
Отыскивают и подают ему тряпку. Температура мазута оказывается минус 20 градусов. При таком «градусе» сливать мазут невозможно. Его надо сначала разогреть прямо в цистерне. В толщу мазута должны быть погружены специальные перфорированные трубки-иглы, в которые через резиновые рукава подается острый (очень горячий) пар. Пар нагревает мазут, но, конденсируясь, добавляет в него воду, что не очень хорошо. Поэтому – греть надо быстро. Морозовские орлы неумело и долго начинают выяснять, что и куда надо опускать, и где и что крутить. Чернопятов, сначала молча наблюдавший всю эту бестолковщину, берет штурвал на себя, и неумехи начинают бегать быстрее и совершать некие осмысленные действия. Иглы погружаются в цистерну. Открывается пар.
А дальше начинается непонятное. Ничего не происходит, пар почему-то не проходит, резиновый шланг быстро остывает. Вытаскивают иглу из мазута, – из нее ничего не истекает, как ни крути вентиль пара. Игла просто замерзла в холодном мазуте, и лед закупорил все отверстия… Слабенький котел локомобиля дает мало пара. К иглам доходит уже почти конденсат, который там сразу же и замерзает…
«Созидательный труд» замирает. Все офицеры эксплуатации смотрят на Чернопятова, ожидая распоряжений не от своего обленившегося начальства, а только от него. ДН минуту размышляет, переспрашивает марку мазута. Мазут – флотский, достаточно жидкий при низких температурах. Чернопятов принимает решение: сливать мазут без подогрева. Под нижними люками цистерн открывают «мои» щиты, – вот почему они должны быть легкими! Из открытых люков цистерн в канал лениво выползают струи мазута и неспешно движутся к сливной горловине нулевой емкости, зарытой внизу под землей. На дне емкости (резервуара) смонтированы паровые калориферы. Они разогреют мазут до жидкого состояния, и мощные центробежные насосы почти мгновенно «выплюнут» несчастные 500 кубометров мазута в резервуары хранения…
Пока все происходит по-задуманному, несмотря на осложнения. Цистерны, хоть медленно, но опорожняются, нулевая емкость спустя несколько часов наполняется до горловины. По требованию ДН на котле максимально поднимают давление-температуру, проверяется и дополнительно утепляется канал паропровода к емкости. Открываем пар и контрольный краник на обратной трубе, чтобы увидеть, когда кончится конденсат и начнет идти пар. Ожидаем сначала 5, затем – 10 минут. Ничего не происходит, из открытого крана не выходит ничего…
Дмитрий Николаевич требует чертежи нулевой емкости. Ужасная истина открывается сразу. На выходе батареи калориферов отводящая конденсат трубка сначала поднимается вверх, затем выходит в канал. Это значит, что образующийся конденсат не мог стекать свободно, пока им не заполнятся все калориферы до верхней точки обратной трубы. И времени этого заполнения вполне хватило, чтобы первые порции конденсата успели замерзнуть, перекрыв трубу; затем без движения замерзло уже все…
– Какой идиот это проектировал? – снимая очки, устало спрашивает сам себя Чернопятов. Но Иван, посмотрев на чертеж, четко докладывает:
– ГИП (главный инженер проекта) – Шумаков, Дальвоенморпроект, город Владивосток.
– Немедленно этого ГИПа надо высвистать сюда, пусть расхлебывает, что натворил! – свирепеет Чернопятов. – А вы, – обращается он к Маклакову и ко мне, – думайте, что можно сделать!
Думать есть о чем, расхлебывать – тоже есть что. Под землей находится 500 кубометров застывшего мазута. Чтобы его откачать – надо разогреть. Чтобы разогреть, надо переделать систему подогрева. А чтобы переделать систему – надо откачать мазут…
Время близится к 23 часам. Понурив головы, мы отправляемся пить «100 чаев»: привычка, знаете ли, – вторая натура…
Проектные страдания (частушки)
Мой наган семизарядный,
В реку брошу я тебя.
Ты зачем осечку делал,
Когда резали меня?
(Детская песенка)Мы с Иваном напряженно думаем. Лучшее из придуманного – вычерпать «нулевку» ведрами. Неясно – куда сливать и как доставить в резервуар. На стройке все напряженно работают головой или руками. Стоит неподвижно только дело: нет воды и пара, но полно неподвижного холодного мазута, не крутятся насосы, простаивают неразгруженные цистерны…
Приезжает Шумаков из Дальвоенморпроекта. Во главе с ДН наша делегация приходит к нему в местную гостиницу. «Маститый ГИП» встречает нас высокомерно, он очень недоволен, что его потревожили и заставили выехать в такую дыру:
– Ну что вы тут еще натворили? В чем не можете разобраться?
Через полчаса разговора на тему «кто виноват» спесь с него начисто слетает: злополучная «загогулина» с контруклоном, разрушившая систему нагрева нулевой емкости, красуется на подписанных им чертежах. Он будет вынужден подписать акт о «техническом ляпе» Дальвоенморпроекта вообще и собственном – в частности, который привел к тяжелым последствиям на базе.
Начинаем второй раунд переговоров уже на тему «что делать». Нам, чтобы исправить положение, немедленно нужны чертежи новой работоспособной системы подогрева нулевого резервуара. Я уже сформулировал общие требования к ней: а) никаких обратных уклонов (контруклонов); б) увеличить число калориферов в 1,5–2 раза; в) греть не все 500 кубов мазута и стены емкости, а только ту часть, которая идет к насосам.
При обсуждении моей эскизной схемы размещения калориферов обнаруживаем, что «маститый Главный Инженер Проекта» не понимает простейших вещей. Долго доказываю ему, что один калорифер имеет такое же сопротивление для пара, как четыре, но соединенных параллельно – последовательно…
Ликбез затягивается. Шумаков, наконец, заявляет, что ему для создания такого проекта нужно 3 месяца и штат сотрудников, которые могут работать только дома – во Владивостоке… Мы настаиваем на немедленной выдаче проектных решений, хотя бы в черновом, эскизном виде. За нами стоит бездействующая база и полковник Васильев, который может в Москве весьма испортить жизнь Дальвоенморпроекту и лично – ГИПу. Понимая это, Шумаков невнятно блеет, что он изучит вопрос и будет думать… Удивительные ГИПы «произрастают» в Морпроектах!
Чернопятов уже понимает, что наше светило проектной мысли ничего не соображает и ничего не решит. После ухода от Шумакова он задумчиво говорит мне:
– Давай, Николай Трофимович, рисуй. Тебе же и делать…
Я давно уже подозревал, что такая фраза будет произнесена. В голове крутятся совершенно несовместимые мысли. Что, дурак несусветный, опять выпендрился? Тебе больше всех надо? Опять стаешь «любимчиком командира», который будет тебя бросать во все «горячие» места, как было на сахарном заводе? Зачем пренебрег мудрой морской заповедью «не давай умных советов начальству, а то тебя же заставят их исполнять»? Вот теперь и вертись, идиот одержимый, вкалывай, – хочешь-не хочешь! Давай, груздь, полезай в кузовок!
А вот и противоположные мысли. «Если не ты, то кто»? Ты же не глупый пингвин, который «робко прячет тело жирное в утесы», когда надо выложиться? Не только Горького, – Карла Маркса вспоминаю, который нам поведал, что только тот достигает сияющих вершин чего-то там, «кто без устали карабкается» туда по очень неудобным и очень каменистым тропам…
Наверное, все проще: я близко узнал и очень «зауважал» своего командира – Дмитрия Николаевича Чернопятова, и мне не хочется валять дурака. Да уже и «не можется»…
Продолжаю работать. Рисовать чертежи – негде и некогда. Если я также и «исполнитель», то достаточно будет только эскизов. Размещаю максимум калориферов в два этажа в двух дугах, расходящихся от всасывающего отверстия насоса. Никаких контруклонов: самая низшая точка системы лежит выше уровня обратной трубы. Это означает, что калориферы (регистры) надо поднять, чтобы конденсат свободно вытекал, не заполняя все сечение трубы. Дальше. Нельзя сразу нагревать весь мазут. Нагретый мазут сразу поднимается вверх, а трубы калориферов непрерывно охлаждаются поступающим снизу холодным. Насос откачивает мазут снизу, поэтому его нельзя запустить, пока не нагреется весь объем. Это долго и неразумно: горячий мазут вверху тоже быстро отдает тепло крыше емкости. Надо одеть всю систему калориферов в непроницаемый кожух, открытый только по двум торцам. Только туда будет заходить холодный мазут. Он будет нагреваться все сильнее по мере продвижения к всасывающему входу насоса.
Четко сформулировать идеи – это гораздо больше, чем половина дела. Регистров у нас заготовлено достаточно, их размеры известны. Размеры кожуха, где это возможно, выбираю такими, чтобы меньше резать имеющиеся на складе листы.
Со всеми подходами-отходами все проектирование укладывается в два дня, не считая ночных размышлений. Все чертежи от руки, но почти в масштабе, – выполнены на нескольких листах школьной тетради «в клеточку». Детали – только самые важные.
Обсуждаем проект с Иваном. Общую концепцию мы формировали вместе, а вот по деталям он вносит ряд замечаний. Кое-что изменяю, упрощаю: свежий взгляд всегда полезен.
Уже вместе идем к ДН. Он задает короткие вопросы, остается доволен ответами и выносит короткое решение:
– Действуйте.
Нулевая жизнь
Судьба – индейка, жизнь – копейка.
(Что-то народное)Основное решение уже есть. Будет ли оно успешным – не знает никто, даже автор, который всего лишь «надеется». А вот до «действий» – еще далековато: надо сначала удалить из «нулевика» – нулевого резервуара – полтысячи тонн застывшего мазута.
Я не помню сейчас, кому принадлежит идея – попробовать откачать нулевую емкость зачистным насосом, не нагревая мазут. О маленьком плунжерном насосе в большой насосной под землей все забыли. Его обнаружили случайно; он был подключен к трубам и энергопитанию. Насос этот предназначен для откачки в резервуар остатков мазута из больших трубопроводов.
Включаем насос. Крутится двигатель, зубчатая передача, плунжер начинает бегать туда – сюда. Приоткрываем вентиль на входе. Насос засасывает мазут, слышно, как напрягается электродвигатель. Насос качает мазут, ура! Мы с Иваном чуть не пускаемся в пляс, пожимаем друг другу руки. Очевидно, испугавшись наших воплей, насос заклинивает. Двигатель гудит, не в силах преодолеть сопротивление плунжера. Радость слетает с нас мгновенно. Теперь, даже при закрытом вентиле впуска, двигатель не может провернуть насос. Ломиком проворачиваем шестерни в такое положение, когда усилие минимально. При закрытом вентиле насос запускается. Беда состоит в том, что так он ничего не качает. Приоткрываем входной вентиль. Двигатель опять напрягается и через пару минут опять ревет в заторможенном состоянии. Уясняем: если впускать мазут понемножку, только слегка приоткрыв вентиль, то насос качать может. Часа два подбираем это «слегка», чтобы насос работал. Вот насос работает уже пять минут, десять…
Мы уже снова готовы радоваться: качает, хоть и «чайной ложечкой»! И тут насос просто отключается, уже без всякого гудения. Двигатель и провода горячие, напряжение отключил тепловой автомат. Иван электричества не любит и с ужасом смотрит, как я снимаю крышку щита и включаю пускатель доской, валявшейся на полу. Все работает опять: двигатель натужно гудит, но вертит насос. Все же приходится чуть-чуть зажать вентиль впуска: пожар на насосной, находящейся почти под нулевой емкостью, заполненной мазутом, нас бы сильно огорчил…
Спустя несколько часов мы с Иваном приобретаем драгоценный опыт общения с насосом. Только мы понимаем, чего он хочет, – по звуку и температуре двигателя, по особенностям урчания плунжера и даже по миганию лампочки под потолком. Таких уникальных специалистов заменять нельзя: последствия будут не очень веселыми! Мы с Иваном, сменяя друг друга, стоим двухсуточную непрерывную вахту.
Это просто чудо: мы не сожгли ни двигатель, ни насосную, не сломали насос и перекачали в большой резервуар 500 кубометров совершенно холодного мазута!
Я теперь получаю возможность в темном подземелье, покрытом мазутом и снабженным единственным маленьким люком в потолке, реализовать свой эпохальный проект. Дмитрий Николаевич и Иван стоят на нулевике, но не суетятся и не мешают: все, что можно, уже сделано. Со мной бригада матросов и куча техники, кабелей, шлангов. Работают на малых оборотах два САКа, в стороне лежат кислородные баллоны. Сварена прочная стальная лестница. Рядом лежат новые калориферы и стальные листы для кожуха…
Луч фонарика высвечивает в пятиметровой черной глубине такой же черный скелет размороженных регистров, черные стены и тускло поблескивающие мазутные лужи на черном же днище… Мы уже готовы десантироваться в преисподнюю, но ДН, заглянув туда, вдруг требует официального признания безопасных условий работы: мазут ведь выделяет пары легких фракций, даже бензина. Пусть пожарник базы проверит наш железобетонный мешок и выдаст допуск – разрешение на работы. Иван приводит пожарника – молодого лейтенанта из части Морозова. Он с опаской заглядывает в черную дыру: видно, что он не знает, как можно проверить объект на взрывобезопасность. Под нашими нетерпеливыми взглядами он зажигает спичку и, сожалея, что длина его руки не достигает хотя бы нескольких метров, отклонив голову, приближает огонек к краю черной дыры люка. Догорающую спичку он заботливо отбрасывает подальше от люка…
– Объект не взрывоопасный, – заключает лейтенант. – Можно работать!
Смеются даже матросы. Я сообщаю лейтенанту, что температура сварочной дуги – шесть тысяч градусов, а нефтепродукты при контакте с кислородом образуют взрывчатые смеси. Глаза его удивленно округляются: если они это и проходили в училище, то данную лекцию он просто проспал. Но продолжать эксперименты по взрывобезопасности он явно не желает и подтверждает свое заключение. Тогда я провожу свое испытание: отогнав всех, – направляю факел зажженного резака прямо в горловину.
Преисподняя не взрывается. Мы тут же наполняем ее собой, кабелями, металлом и освещением. С пожарного лейтенанта берем обещание: немедленно доставить нам несколько пенных огнетушителей из помещений.
– Лучше – углекислотных, – советует лейтенант с остатками прежнего апломба.
– А чем мы будем дышать, когда потушим пожар? – простой этот вопрос заставляет его вспомнить, что вытесненный углекислотным огнетушителем кислород поддерживает не только вредное горение, но и саму жизнь…
Работать мы начинаем с опаской. Особенно страшно резать кислородом промазученные, разорванные льдом, трубы. Вентиляция – только через люк в потолке, на треть заполненный кабелями и шлангами. Резчикам приказываю очень экономно расходовать кислород: его избыток в нашем бетонно-мазутном мешке более чем вреден.
Вскоре мы забываем о всякой опасности, тем более – когда начинаем работать с чистым металлом. Наше черное пространство теперь заполнено дымом и копотью. Зато – постепенно согревается, и работать стает легче. Хуже тем, кто наверху: там мороз под 40 градусов. «Верхними» командует Иван. Они вытаскивают через люк вырезанные конструкции, подают новые, поддерживают работу САКов, меняют кислородные баллоны…
… Штурм продолжается непрерывно, днем и ночью, двое суток. Матросы по очереди ходят в столовую. Там Квасов договорился, что они будут питаться, не переодеваясь: некогда. Некоторых матросов отправляю на отдых, их сменяют другие. Не меняются только два сварщика: Богомолов и Кудра. Они теперь лучшие друзья и заботливо помогают друг другу. Кудра – маленький, поэтому он варит все стыки у самого днища и в узких местах, куда тяжелей добраться более крупному Богомолову. Дмитрия Николаевича мы с Иваном просто прогоняем: в единственной шинели ему, очень крупному мужику, в «банку» от мазута забираться нельзя, а наверху – очень холодно…
Я из этой «банки» практически не вылезаю. Термос с чаем, какие-то бутерброды и даже котлеты мне опускают периодически Иван и Квасов.
Система калориферов готова. Тщательно проверяем все уклоны: «контриков» – нет. Делаем временную врезку и испытываем систему воздухом. Ни единой течи. Я показываю своим ребятам большой палец: они горды своей работой, а я горжусь своими мастерами. Быстро закрываем листами оставшиеся для контроля проемы в кожухе, завариваем их. Здесь можно расслабиться: герметичность не нужна, мазут будет со всех сторон. Убираем все из нулевой емкости, я прошу открыть пар. Через минуту из контрольного краника сливной трубы вне нулевика начинает хлестать конденсат, затем – пар. Мне радостно об этом кричит Маклаков. Калориферы уже раскалены, но в нулевике температура почти не меняется: тепло удерживает кожух вокруг калориферов. Ради этого и старались…
Матросы убирают освещение. Предпоследним из теплого нулевика вылезаю я, последней – вытаскивают лестницу. Люк закрывают: не лето. Меня слегка пошатывает. Ослепляет яркое солнце, тридцатиградусный мороз почти не чувствуется. Замерзший «в сосульку» Иван сообщает, что сегодня, пятого декабря, праздник – День Сталинской конституции, и что ради этого великого праздника он погнал свой грузовик без номеров за спиртным. Водки там, конечно, нет, годовые лимиты на «сучок» магазин выбрал еще в начале года. Но Иван выделил «средствА» на закупку дорогущих ликеров «Шартрез» или «Бенедиктин», которые уже давно пылятся на полке магазина из-за неплатежеспособности туземцев. У нас текут слюнки от предвкушения божественной продукции средневековых монахов…
Обескураженный гонец сообщает, что все раритеты уже раскуплены, и он на свой страх и риск взял две бутылки мятного ликера, – больше ничего не было. Мы, обрадованные ростом покупательной способности советского народа, начинаем наливать в стаканы доставленную зеленую жидкость. Увы, она уже совсем не жидкость, и не хочет вылезать из насиженного места. Проволочным крючком вытягиваем из бутылки нечто тягучее и зеленое. Пить это тоже нельзя, ложек у нас нет. Кое-как слизываем со стакана «нечто», затем дружно начинаем плеваться невыразимо мерзким концентратом мяты…
Согревает нас одна единственная мысль: Дальвоенморпроект, в лице своего ГИПа товарища Шумакова, усиленно трудится над проектом переделки нулевой емкости!
Рейс, полный счастья
Если хочешь быть счастливым, – будь им.
(К. П. № 80)Приближается Новый 1956 год. Дел у нас и после «нулевой эпопеи» – выше макушки. Надо ехать в Читу за деньгами, но времени на обычную поездку нет: поезда отнимают целый день. К нашему счастью Иван узнает, что в Читу идет автомашина с грузом, едет строительный бухгалтер, есть одно место. Иван решается ехать, чтобы сэкономить время. Я говорю, что поеду с ним в кузове, Иван меня отговаривает, но я уже решил. Уже давно и очень хочется пообедать…
Для посещения забайкальской столицы мы должны одеваться по полной форме: там полно патрулей и свирепствует твердолобый комендант. Нас уже прихватывали в Чите за белые шарфики под шинелью, – черные тогда почему-то не предусматривались формой одежды. В комендатуре дежурный нам долго доказывал, что шарфики должны быть как у всех – серые. Спасла нас не логика: «серый шарфик не может быть на черной шинели», а толстенная книга с формами одежды, в которой, к счастью, оказались и морские формы одежды, в том числе – с белым шарфиком. Хуже было с обувью. Единственный вид обуви для морских офицеров – ботинки. В этих ботинках надо продеть шнурки в два десятка дырочек. Это очень удобно: пока зашнуруешь по тревоге ботинки, война может уже и кончиться. Подошвы у ботинок, как теперь говорят, – «экологически чистые», то есть натуральные, кожаные. Носочки – тоненькие х/б. На морозе 30–40 градусов создается впечатление, что ходишь босиком по горячей сковородке. Впрочем, это длится недолго: скоро ноги перестают что-либо чувствовать… Немного спасает «разрешенное» ношение галош, хотя «видок» человека в военно-морской форме и в галошах при сухой погоде навевает воспоминания о чеховском «человеке в футляре»…
Экипированный, как надо коменданту, я подбегаю к машине. Ее кузов доверху наполнен кислородными баллонами, даже за кабину спрятаться не удастся. Отступать поздно, и я, под философские пассажи Ивана о некоторых упрямых хохлах, забираюсь в кузов. Машина выезжает на шоссе, построенное трудолюбивыми японцами в плену. Серпантин шоссе кружит по склонам заснеженных сопок. Иногда, глядя на какой-нибудь поселок, кажется, что смотришь на него с самолета. Смотреть вперед я не могу: встречный «ласковый ветерок» действует на лицо подобно рашпилю, которым сапожники обдирают лишнюю резину каблуков. Мою тяжелую шинель этот ветерок превращает в легкое ситцевое платьице, защищающее только от солнца. Ноги в ботинках задубели уже давно, перчатки висят пустыми пальчиками на сжатых кулаках. Надежно утеплена только голова: кожаная шапка, если завязать веревочки не сверху, а снизу – отличная штука. И почему это великий Суворов призывал охлаждать голову?… Я ложусь на баллоны, чтобы не создавать машине дополнительное сопротивление: пусть бежит быстрее… Через пару минут температура баллонов достигает моих печенок: баллоны оказываются холоднее воздуха. Тогда я начинаю танцевать, если можно назвать танцем движения еще живого карася на горячей сковородке. В отличие от молчаливого карася, я громко ору в такт что-то лирическое, типа «Лоц, тоц, первертоц…»
Эти мероприятия несколько скрашивают мой досуг. Мы уже преодолели больше половины пути, когда мотор замолкает, машина останавливается. Обеспокоенный Иван выскакивает из кабины и стаскивает меня с баллонов. Водитель, пожилой мужик, произносит несколько русских слов и поднимает капот. Там – дизель, который я знаю только в теории. Пытаюсь ему помочь отвернуть топливную трубку, но у меня руки стали такие же деревянные, как и у него. В кабине так же «жарко», как на улице. Бухгалтерша там уже совсем окоченела, и только заиндевевшее лобовое стекло говорит, что она жива и даже дышит. Мы с Иваном пытаемся толкать друг друга кулаками, чтобы согреться, но замерзшими ногами толкаться неприлично. Танцы типа чечетки тоже помогают мало: нужен внешний источник тепла.
На дороге других машин нет, – ни встречных, ни поперечных – слишком рано. Взошедшее солнце еле просматривается сквозь серую изморось, накрывшую сопки… Мы просто-напросто замерзаем. Замерзаем среди бела дня, прямо на японской дороге «союзного значения». Японский бог равнодушно смотрит на нас из морозного тумана…
Однако наш водитель не сдается. Он сует тряпки в топливный бак и с трудом разжигает несколько коптящих черным дымом факелов. Два из них он ставит под двигатель, в огонь остальных сует свои руки. Мы с Иваном поочередно суем в пламя то руки, то ноги, все же стараясь уберечь от дыма наши белые шарфики.
Несколько раз водитель переносит руки из пламени факела в двигатель. Из нас уходят последние остатки тепла, вместе с ними – надежда, – все в машине тоже уже застыло…
Внезапно двигатель, уныло чихнув два раза, начинает вдруг уверенно реветь!
Боже, какое большое счастье, какое наслаждение – слышать этот рев, обонять и вдыхать гарь и копоть работающего двигателя!!!
Всю остальную дорогу я уже не чувствовал ничего, кроме тревоги за работающий двигатель. Только его – то натужный, то неравномерный рев я и слышал…
В Чите заскакиваем на вокзал и немного приводим себя в порядок. Затем спешим в банк. Тут нас огорчают: наши деньги еще не пришли. Других денег у нас нет, даже на обратную дорогу. А как хочется есть, – не описать словами! Глубокая депрессия очень голодного человека при сильном холоде – не приведи, Господи!
А вот приходит и счастье: вспоминаю, что у меня за обложкой удостоверения когда-то была спрятана 100-рублевая облигация. Проверяю: есть!!! Эта бумага свободно продается и покупается!
Летим, спешим в ближайшую сберкассу. Там мы получаем удар с совсем неожиданной стороны: касса принять облигацию не может, так как сегодня производится очередной тираж выигрышей, и наша облигация может выиграть.
– Ну, вот и выиграйте, – советую кассирше я. – Разбогатеете, мы будем рады.
Но работница рубля твердо стоит на своем: запрещено, «низзя». Мы ругаемся, доказываем, – все бесполезно. Наконец, вызванная заведующая сообщает нам, что сегодня нашу облигацию можно продать только в Центральной сберкассе Читы, но там скоро начинается обед. Несемся аллюром «три креста» в Центральную. В кассе очередь из трех человек, до начала обеда еще 15 минут – в зале стоят большие часы. Почти счастливы: успели, добежали. В проходе появляется некая молодая красотка и грозно заявляет:
– Не занимайте очередь: у нас скоро обед!
Объясняем даме, что у нас – секундная операция и времени еще много. Она исчезает, мы, без пяти минут до обеда, подходим к заветному окошку. Однако, наша красотка уже там. Она захлопывает окошко непосредственно перед нашими носами. Мы просим, уговариваем, – бесполезно. Злобное выражение лица сразу превращает красотку в обыкновенную мымру типа «грымза»:
– Я сказала – не занимать! – твердит она одно и тоже.
Пока уговариваем, минутная стрелка переползает через 12 часов, и тогда мымра (она оказывается руководит этой конторой) показывает на часы и торжествующе заявляет:
– Вы отнимаете у меня время обеда!
«Баба на должности – грозное оружие в руках сатаны!» – вспоминаем мы мудрую народную примету. Решаем ждать конца обеда здесь: деваться нам некуда. Стоим в «предбаннике»… Через полуоткрытую дверь слышим разговор:
– Это комендатура? Пришлите патруль, тут два морских офицера, комсомольцы(?!), – пьяные, дебоширят, не хотят уходить…
Капитан с красной повязкой «Патруль» и два бойца выводят нас к зеленому козлику с зарешеченными окнами. Через считанные минуты – центр Читы небольшой – мы предстаем перед глазами самого Коменданта с погонами полковника. Тяжелым взглядом исподлобья он осматривает нашу морскую внешность.
– Документы.
Выкладываем свои военные «ксивы». Он просматривает их и пододвигает дежурному офицеру, который тут же раскрывает толстенную «Книгу задержанных» и начинает заносить на ее скрижали данные из наших удостоверений.
– Ну, – рассказывайте, как пили, как хулиганили, – полковник сверлит нас взглядом. – Вы, – он тычет пальцем в Маклакова.
Иван начинает подробно объяснять, что мы не пили и не хулиганили, а просили выплатить деньги по облигации, – за 10 минут до перерыва. А заведующая – закрыла окно перед нашими носами еще в рабочее время, после чего мы тихо ожидали конца «еённого» обеда в предбаннике сберкассы: на улице очень холодно…
– Что вы мне сказки рассказываете?! Ягнята какие у нас вдруг объявились! Да еще в морской форме! Не дебоширили, не пьяные! Зря мне заведующая сообщила о ваших художествах?! Отвечайте вы! – его палец направлен на меня.
В книгу задержанных мы уже занесены, – теперь я могу спокойно орать полковнику:
– Почему Вы верите всяким б…м, а не верите своим офицерам??? Мы – не хулиганы!!! Мы – не пьяные, мы – голодные!!! Только в этой гнусной сберкассе мы могли получить деньги по вот этой облигации, чтобы пообедать!!!
Совершенно неожиданно сверлящие глаза полковника стают почти человеческими, и он еще раз осматривает нас. Недолго размышляет. Затем забирает у дежурного наши удостоверения и отдает их нам с неким подобием улыбки:
– Приятного аппетита! – Потом добавляет, почти по-отечески: – Не нарывайтесь…
… Да, – это великое счастье: вместо губы, получить пожелание приятного аппетита от самого грозного читинского коменданта! «Счастье – когда тебя понимают!» – скажет позже юный герой популярного кинофильма…
Мы возвращаемся в ту же сберкассу за пять минут до конца перерыва. Прямо язык чешется: рассказать подлой мымре, что мы о ней думаем. Нас удерживает отеческое «не нарывайтесь». Впрочем, уже само наше появление приводит мымру в ступор. Мы подходим к кассе и через 10 секунд (!!!) получаем свои 100 рублей.
«Забайкалец» – совсем недалеко. В меню там есть всякие заливные языки, икра, крабы, шницеля, отбивные, эскалопы, ростбифы, бифштексы, мясо по-всякому и еще уйма вкуснейших вещей, к которым тебе дадут поджаренную картошечку с зеленью. Коньячок – «до того» и «во время»; «после того» – можно черного кофейку, а можно – и источающего пузырьки газа боржоми… Сто рублей – огромные деньги, у нас еще останется…
Это ли не счастье?
Еще раз мы испытываем счастливые минуты через неделю, когда я проверяю таблицу выигрышей. Радость – неописуемая: номер моей облигации даже близко не находится от выигравших номеров. Это – тоже счастье! Было бы очень обидно, если бы выигрыш был тысяч сто: подлая мымра, возможно, придержала нашу облигацию до объявления таблицы…
Возвращение в прошлое
Где начало того конца, которым оканчивается начало?
(К. П. № 78)Новый 1956 год мы встречаем на «боевых постах». Топливная база флота, которую мы почти соорудили, работать в полную силу не может. Нет воды, значит – нет тепла. Мазут больше не присылают, теперь база понемногу принимает солярку, бензин, масла.
Как ни странно, – работы у нас не убавляется. Это всевозможные недоделки и переделки. Кроме того, морозовцам очень понравился кожух вокруг регистров «нулевика». Они требуют соорудить такие же кожухи в больших резервуарах хранения: там мазут перед выдачей тоже надо греть, а это намного трудней, чем в маленьком и закрытом «нулевике». Но это большая работа: нужно решение «на Олимпе», корректировка планов и смет, обеспечение уймой металла. Пока ничего этого нет; мы можем готовиться только по мелочам, для которых есть металл.
День уже заметно увеличился. Ночами стоят морозы до 40 градусов. Ветра нет, и дым из домов вертикально поднимается кудрявой свечкой. Днем ярко светит солнце. Из крыш даже появляется капель, хотя термометр показывает еще 20–25 градусов мороза. Весна – близко.
Моя личная весна начинается прямо в январе. В письме от Тамилы – киевский адрес моей малявки. После расставания летом 1954 года наша переписка практически заглохла: за полтора года было всего два-три письма. Эмма меня просила добыть лекарство для матери, когда я еще был в Ленинграде. Я тогда отвечал сдержанно; просто делал, что мог. С моим «убытием» в забайкальские сопки наша связь естественно прекратилась. Да и что может быть общего между дитем, только начавшим яркую студенческую жизнь в столице цветущих каштанов, и закопченным обитателем мазутных емкостей в несусветной холодной дали? Нет места лирике в нашем суровом бытие.
И вот я получаю некую весточку, которая, оказывается, была ожидаемой в подсознании. К Тамиле в Киеве пришла ее подруга Ира Стрелецкая, родственница Эммы и старшая сестра «второй малявки». Эмма при общей встрече расспрашивает обо мне, беспокоится, почему я молчу уже почти год? Тем более, что в последнем послании я обещал написать большое письмо…
Господи, я же ее люблю! И никогда не переставал любить, оказывается. Люблю это юное дитя, то доверчивое, то взбалмошное, с такими прекрасными глазами…
По присланному Тамилой адресу я пишу письмо – 13 января 1956 года. Еще инстинктивно сопротивляюсь, притворяюсь: обращаюсь «Эмма, здравствуй!», подписываюсь «Николай». Но в письме уже непроизвольно возникает: «…Пиши, очень-очень жду».
Я смог дождаться письма. Там – тоска разлуки, мечты о встрече. Снятся плохие сны: здоров ли я? Бабушка гадала на картах «на меня» – мы скоро должны встретиться…
Ну что же, что так долго молчали: мы никогда не расставались… В следующем письме, боясь еще себе поверить, я обращаюсь: «Эмма, милая», а оканчиваю: «Целую тебя крепко-крепко».
И планы, в которых как вопль о воде, погибающего от жажды в пустыне: встретиться, встретиться, встретиться…
Вставка из будущего. Сейчас, спустя почти полвека, накануне 2005 года, мы, двое стариков, измученных болезнями и потерями всех близких, подняли свой архив. Моя дорогая жена заботливо сохранила все мои письма, записки, телеграммы… На них стоят даты и обозначены «места на глобусе», позволяющие всю нашу жизнь привязать к бегущему времени и пространству. А вот первые свои, драгоценные для меня письма, моя любовь и жена – не сохранила, скромно считая их пустыми и ничего не значащими: об их содержании можно узнать только из моих ответов… Мы читали свои письма и снова были молодыми…
Планы на будущее, мечты о встрече, сначала выглядели вполне реально и пристойно. Из Забайкалья я приезжаю в Ленинград и ухожу в отпуск. Больше месяца я – свободная птица. Мы можем встретиться везде: в Киеве, Ленинграде, Виннице, Деребчине, Брацлаве…
Суровая военная реальность возвращает меня из мечтательных облаков на грешную землю. Как говорится, – я успел себя «зарекомендовать». Такая же огромная топливная база строится флотом где-то под Ульяновском, и руководство считает, что я уже созрел для принятия на свои плечи этой нагрузки. Для меня есть и другой вариант: остаться в Чите, заменив Ивана Маклакова. Дело в том, что Иван всеми силами стремится уйти из армии. Тем более – сейчас: у него в Москве отец заболел раком, мать и младшая сестра настойчиво подают «SOS». Иван «засыпает Шапиро телеграммами»…
Вскоре читинский вариант, по-видимому, отпадает: здесь основные работы практически уже закончены. Ульяновск становится близкой реальностью. Туда меня усиленно прочит главный инженер Главка полковник Васильев, у которого, увы, я тоже успел стать «любимчиком командира». Во всех этих раскладках мой скорый отпуск и желанная встреча, – ну никак не просматриваются…
В начале марта мы с Иваном выезжаем в Ленинград. Несколько дней похищаем у державы и проводим их в Москве у Ивана. Целыми днями мотаемся на метро по городу, – Иван знакомит меня со столицей и своими друзьями. Правда, Людочку Зыкину опасливо обходит стороной: родители сказали, что она приходила несколько раз.
Ранним утром возвращаюсь в ставший родным Ленинград. На Московском вокзале привычно, как в Москве, сажусь в метро и еду в Автово в свое общежитие. На полпути спохватываюсь: я же первый раз еду в ленинградском метро!!! Я уезжал, когда метро еще только строилось. Его пуск был очень долгожданным, особенно для жителей окраинного Автово. Мы ходили тогда по всем строящимся наземным вестибюлям – от Автово до Площади Восстания, удивлялись толщине бетона куполов, важно рассуждали, что этот купол должен выдержать почти прямое попадание атомной бомбы… Начиная примерно с Технологического института, жадно рассматриваю станции под землей. Серо-голубой Балтийский вокзал, нарядная Нарвская, металлический Кировский завод… Поражает смешением стилей и стеклянной вычурностью Автово; но метро в целом – не хуже, чем в Москве. Как же быстро теперь можно проехать по знакомым маршрутам! Это подумать только: далекое Автово стало в 20-ти минутах от Невского!
А зря я ехал в общежитие: нельзя войти в одну реку дважды… Сюда меня уже не пускают, а в нашей комнате живут совсем другие люди. Валера – на целине доит коров (или верблюдов), Павка несет боевую вахту на крейсере, Попов подался в Латвию под крыло папы-директора…
Наша в/ч тоже изгнана из Экипажа в центре, и я долго и нудно добираюсь к ней куда-то на Петровские острова. Мой должник и командир Афонин куда-то послан. Радушно встречает заботливый замполит подполковник Баженов. Для ночлега он может предложить мне только стол в канцелярии: кубрики переполнены матросами. Зато Баженов обещает быстро обновить гардероб: на моем – неистребимые следы читинских штурмов…
Много ударов мне наносит родной Строймонтаж-11, располагавшийся тогда на територии 122-го завода на Магнитогорской (сейчас там офисы завода Лепсе, – это рядом с большим спортивным магазином). В финотделе мне заявили, что за мной числится большой долг. Я поднял все свои записи о посланных авансовых отчетах, – по ним я был чист, как ангел. Оказывается, финотдел не учитывал мои затраты на личный состав. Например: в круглую копеечку обошлась державе отправка из Забайкалья в Ленинград большого ящика с изношенными матросскими носками и трусами. Это интимное обмундирование выслужило свой срок и превращалось в ветошь, но, по написанным в некоем «Наставлении» правилам, – только после проверки каким-то лицом, которое было в Ленинграде…
Всякими рапортами и квитанциями я довел свой долг до нуля, подтвердив верность постулата «никто не даст нам избавленья». После этого я задал руководству вопрос: «А почему мне не платят прогрессивку, как, например, Павлюкову, если я так же работаю на монтаже?». После вмешательства Чернопятова историческая несправедливость была устранена за предыдущие полгода. Через несколько часов бумажной работы, вместо долга, – у меня появилась кругленькая сумма. Везде должен быть порядок и обилие, особенно – в личных финансах…
Следующий удар был мощным и неотразимым. Столь желанный отпуск «накрывался» полностью и отодвигался в неопределенное будущее. Правда, одновременно отодвигалась и моя длинная командировка в Ульяновск. Командование Строймонтажа-11 мне приказало немедленно начать подготовку к совершенно секретной командировке – экспедиции, в совершенно секретное место, с совершенно секретным правительственным заданием. Сидящие рядом Шапиро и Чернопятов смогли только рассказать, что работы будут на одном из арктических островов, что работать там можно только полностью автономно, не рассчитывая на какую-либо помощь с Большой земли. Все необходимое для работ надо подготовить и увезти с собой: любой просчет может обернуться провалом. В качестве успокоительной таблетки Шапиро сказал, что в группу мне дают лучших из лучших матросов, среди которых – Житков, работавший на монтаже домны в Череповце…
Информация из будущего. Гораздо позже я узнал, что между Чернопятовым (главный инженер) и Шапиро (командир) возникли большие разногласия по кандидатуре командира группы в эту экспедицию. Задачи были в ней настолько важными, что в случае неудачи полетели бы головы многих начальников. Победила кандидатура Шапиро: начальником был назначен мой приятель Василий Васильевич Марусенев. Василий окончил институт водного транспорта (ЛИИВТ) и до «тотального призыва» уже работал на монтаже на «гражданке». Марусенев был включен во все списки, которые проверялись по линии госбезопасности и утверждались в Москве. Однако в последний момент Васе удалось отвертеться от почетного задания: он положил на стол руководства медицинские справки о болезнях – собственной и жены, которой требовался уход и лечение. Марусенева пришлось срочно менять. Вот тут ДН и настоял на моей кандидатуре, заверив осторожного Шапиро, что я справлюсь с поставленными задачами. Вот что значит – быть «любимчиком командира»!
Я взвыл пред ликом отцов-командиров. Напомнил им, что последний раз был в отпуске еще весной 1954 года, когда окончил институт, и что с того благословенного времени прошло почти два года, как я непрерывно «трублю», от чего наблюдается некоторая усталость организма. Тезис об усталости не произвел на отцов-командиров ни малейшего впечатления. Оглядев с ног до головы подчиненного ему лейтенанта, Шапиро уверенно заявил, что на мне еще лет пять без отпуска можно возить воду в отдаленные поселки в пустыне…
– Да я свою невесту в Киеве не видел уже два года, – без всякой надежды уныло произнес я.
Совершенно неожиданно этот довод для начальства оказался неотразимым. Шапиро заколебался. Поставленные ему задачи требовали, чтобы я начал немедленно работать. Но встреча с невестой – тоже святое дело.
– Деньги есть? За свой счет полетишь туда и обратно?
– Конечно, – без всяких колебаний отвечаю я.
Шапиро несколько ошарашен моим расточительным ответом и удивленно поднимает брови. Он размышляет недолго, затем принимает решение:
– Хорошо. Мотай в свой Киев. Даю тебе одни сутки: туда и обратно, одним и тем же самолетом…
– Можно ему выписать командировку в Институт Патона для консультаций, – размышляет вслух ДН, который знает мои незавидные финансовые дела. – Сможешь там ее отметить?
– Конечно, но тогда мне нужен будет еще один день, – «борзею» я.
– Ну – наглец! – восхищается Шапиро и распоряжается выписать мне командировку в ИЭС на два дня. За время до отлета я должен изучить в секретной части проекты сооружений, которые надо соорудить, продумать и написать заявку на оборудование и материалы, необходимые для экспедиции.
Мои командиры пришли к единодушному мнению по моим каникулам, но двигали ими совершенно разные мотивы. ДН (Чернопятов) хотел это сделать как гуманист, АМ (Шапиро) – как рачительный хозяин, не забывающий доливать масло в работающий двигатель, чтобы он и дальше работал…
Впрочем, для «двигателя», каковым я был тогда, важен был только результат, и «объект заботы» просто увеличил обороты. С этого часа на многие месяцы мое время начало измеряться по минутам; а жизнь завертелась в еще более бодром, чтобы не сказать – бешеном, темпе…
Киевские каникулы
Моменты свидания и разлуки суть для многих самые великие моменты в жизни.
(К. П. № 85)Старенький ИЛ–14 взревел всеми своими двумя моторами и, разбежавшись, оторвался от полосы в Пулково. Я сижу у окна, разглядываю незнакомые с воздуха поселки и городки, покрытые снегом. В голове – полный сумбур, сквозь который прорывается залихватская мелодия: «Еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей…».
Самолет – самый быстроходный транспорт. Сейчас полет до Киева занимает чуть больше часа. Если бы можно было знать об этом тогда, то путешествие на винтовом ИЛе показалось бы мукой. Поэт Мартынов сказал:
Это почти неподвижности мука:
Мчаться куда-то со скоростью звука,
Зная наверно, что есть уже где-то
Некто летящий со скоростью света…
Не зная этого, темп движения кажется вполне приемлемым. Часа через два «с гаком» мы садимся в Минске. Народ выходит размяться и купить знаменитых минских конфет с разными ликерами в шоколадных бутылочках. Увы, я не могу этого сделать. Меня «обули», точнее я сам совершил эту глупость с обувью. Чтобы быть неотразимым во всех аспектах (по Чехову), я надел новенькие ботинки. После всех переходов я почувствовал, что они начали немилосердно жать. Чтобы не портить себе настроение, я снял их в самолете, благо носки тоже были новыми. В Минске я уже не смог коварную обутку напялить на нижние конечности в обратный зад. Сейчас я давно уже знаю, что надо делать в таких случаях: просто залить стакан спирта или водки в каждый ботинок. А тогда за незнание пришлось платить: оставшиеся до Киева несколько часов я работал «Кожемякой», – пальцами и подручными средствами разминал жесткие верх и подошву ботинок. К прилету в Киев ботинки стали очень похожими на выброшенные накануне читинские, но вести себя начали почти пристойно.
Самолет сел на знакомой Соломенке – «реактивный» Борисполь был тогда чисто военным. Такси по знакомым улицам, в которых я ревниво высматриваю изменения, подвозит меня к Институту Патона. В вестибюле сразу же ловлю знакомую физиономию кого-то из младших курсов. Через пять минут вокруг собирается куча друзей: Юры – Яворский, Скульский, Вахнин, Серега Кучук-Яценко, Витя Каленский, Жорка Олифер, Кока Загребенюк и еще несколько. Охрана удивленно зрит, как столпы сварочной науки радостно тискают незнакомого офицера в морской форме…
Однако надо торопиться. Объясняю ребятам цель прибытия: для общения с ними времени нет. Прошу собрать для меня к завтрашнему дню какую-нибудь информацию о новинках в печатном виде, чтобы оправдать цель командировки. На командировочное предписание в графах «прибыл» и «убыл» к концу братания уже были поставлены две гербовых печати Института.
Лечу на такси по заветному адресу. Это длинный одноэтажный дом, стоящий прямо за тротуаром поднимающейся вверх улицы. Вход со двора. Вижу нужный номер, Звоню. На пороге возникает старая толстая женщина с необъятным бюстом и начинает задавать мне вопросы – «интересоваться». Я машинально говорю ей «Здравствуйте», и отодвигаю плечом в сторону: в темноте жилища я увидел ее глаза.
Мы не бросаемся в объятия друг другу: между нами ледяная стена последнего расставания и двух долгих лет разлуки. Я беру ее за руки и погружаюсь целиком в эти глаза – тревожные, ожидающие, почти забытые – и такие знакомые и до боли родные…
В квартире появляются и ходят какие-то люди, задает вопросы неугомонная «тетя Лиза» – квартирная хозяйка. Кажется, я что-то даже отвечаю: так можно реагировать на досадное жужжание мухи. Эмма одевается, и мы уходим в город: только там, в безразличной толпе, можно побыть вдвоем.
Мы бродим по разным улицам, держась за руки. Сообщаем друг другу какие-то отрывочные, совершенно не главные, сведения из наших жизней. Эмма рассказывает о Нине Фоминой, которую она вынуждена была пригласить к себе на одну кровать, когда Нину выгнала их прежняя хозяйка, о причудах этой хозяйки – «тети Нюси». Как «пасет» своих девочек новая хозяйка – «тетя Лиза». За Эммой ухаживают некто Бебех и аспирант: они ведут долгие беседы с тетей Лизой. А я – грубиян, и уже нажил себе врага в лице этой самой «тети».
Я рассказываю Эмме о молоке в мешках, про Ивана, о Чернопятове и Шапиро. Впрочем, сообщаю и о «существенном факте», как теперь пишут в газетах о делах во всяких ОАО и ЗАО. Скоро я уезжаю (улетаю? отплываю?) в Арктику. Связи со мной не будет какое-то неопределенное время. А вот после этого – мы непременно встретимся…
Наше витание в заоблачных высях земля прерывает очень грубо. Из-за киоска на тротуаре Крещатика (недалеко от современного «майдана Незалежності» – бывшей площади Калинина) выскакивают два курсанта и капитан с красной повязкой «Патруль». Капитан проверяет мои документы и сообщает, что я совершил воинское преступление – «неотдание чести» какому-то старшему офицеру, который следовал на встречном курсе. Капитан заносит мои данные в свой «гроссбух» и выписывает мне предписание: завтра в 9:00 явиться на железнодорожный вокзал для прохождения в течение одного часа строевых занятий. В случае неявки, – в часть уйдет сообщение с требованием наказать меня там…
Моя подруга издали с ужасом наблюдает за процедурой задержания. Потом, узнав о его причинах и последствиях, возмущается:
– За такой пустяк – такое наказание? Наказать человека, у которого так мало времени?
После размышления добавляет:
– А я, глупая трусишка, – испугалась, убежала… Надо было отбить тебя у этих крокодилов! (Должен заметить, что эти выводы моя подруга запомнила и потом не один раз отбивала меня и нашу семью у разных «крокодилов»).
Обнаруживаем, что мы голодны, как верблюды после похода через пустыню. Во всех «пищеварительных» точках, куда мы заглядываем – страшные очереди. Можно подумать, что все киевляне одновременно и жутко проголодались… Тогда мы закупаем в магазине студенческий харч: толстую вареную колбасу, батон, кефир и еще какие-то припасы. По пути на Сталинку есть холм, покрытый недавно освободившейся от снега травой и не изобилующий освещением. Забираемся туда, устраиваемся на камнях и приступаем к своей «тайной вечере». Далеко внизу сверкает огнями и шумит город, над нами только необъятное звездное небо…
Военная гостиница приютила меня всего на несколько часов. В 9-00 на вокзале я вливаюсь в дружную команду – человек двадцать задержанных офицеров; среди них есть даже два майора и один подполковник. Занимаемся мы в отдалении от вокзала, на асфальтовом плацу между рельсами. Отметив всех прибывших, комендантский капитан строит группу. Пару раз мы делаем «ать-два» по плацу. Капитану неловко командовать старшими офицерами: он передает бразды правления подполковнику и уходит. С этого момента унылые строевые занятия превращаются в спектакль, после которого у всех болели скулы от смеха. Наш новый командир оказался потрясающим режиссером и шутником, а в представлении участвовали все задержанные. Командир был серьезен и свиреп. Опоздавшему старлею был учинен грозный разнос: за отсутствие строевой лихости, которая объявлена непременной уже месяц назад в приказе Министра. Старлей с перепугу сознался во вчерашней пьянке, в которой он участвовал «по принуждению». Ему пришлось выслушать: а) библейские советы о вреде пьянства; б) советы интенданта – младшего лейтенанта из строя о требуемых для такого питья закусках. Указано на несоответствие Уставу цвета носков и блеска обуви. Объявлено взыскание – десять суток строгого ареста на кухне. В конце концов, за понесенный моральный ущерб, подполковник объявил ошалевшему старшему лейтенанту о досрочном присвоении ему звания «майор». Новоиспеченный майор уже участвовал в розыгрыше следующего опоздавшего лейтенанта…
Полчаса провожу опять в Институте Патона: знакомлюсь с добытыми материалами и прощаюсь с добытчиками. Опять по-быстрому отодвигаю «тетю» Лизу, забираю Эмму: мы несемся в аэропорт. До вылета еще пару часов, процедуры посадки тогда были просты как репа. И мы движемся в настоящий ресторан. Там заказываем всякую всячину, в том числе котлеты – то ли «пожарские», то ли «киевские». Название забылось, а вот сама котлета прямо стоит перед глазами: толстый огурец, внизу – баранья косточка, вверху – розочка. Кусать надо осторожно: может вылиться жир. Рассказываю Эмме, что в «Забайкальце» обнаружил на такой косточке надпись: «Вася + Маруся = любовь, 1939 год». Сидевший за соседним столом морской летчик, уже немножко теплый, в ответ приводит еще более убедительную историю из жизни крабов, на панцире которого была наколота надпись «Не забуду мать родную!» и десяток имен знакомых крабих. Мы ахаем, разговор становится общим, моряк восхищенно смотрит на Эмму. Узнав, что улетаю я один, он прямо в ужасе:
– Как?! Ты оставляешь такую девушку одну? Да ее же тут немедленно схавают волки! Забирай ее с собой. Обязательно!
Докладываю новому приятелю, что стол в канцелярии части, где я ночую, – «сугубо» односпальный. В ответ он грустно сообщает, что приютил бы нас в Питере, но сам живет на птичьих правах у очень-очень вредной тетки. Что он только не делал, чтобы извести ее – не помогает. Однажды даже положил ей в суп муху. Тетка муху проглотила. Тетке – хоть бы хны, а ее истязатель – упал в обморок от избытка чувств…
В самолете достаю толстую книгу – новеллы О. Генри, которую мы с Эммой купили прямо в лотке на Крещатике. Когда-то давно Юра Яворский, узнав, что я не знаю этого писателя, страшно возмутился и обрадовался одновременно. А затем притащил мне книгу новелл из отцовской библиотеки. Он же мне открыл «Золотого теленка» и «Двенадцать стульев». Раньше такие книги не продавались. Теперь – оттепель…
На странице после обложки надпись моей любимой:
Коленьке
Читать только
при северном сиянии
в часы досуга.
26. III. 56 г.
г. Киев
Глупая, маленькая девочка! Северное сияние бывает только зимой! А я очень хотел бы тебя увидеть раньше, хотя бы осенью…
Самолет опять прыгает по кочкам, набирая скорость для взлета. Смешными оказались киевские каникулы весной 1956 года…
15. Новая земля
Говорят что пуп земли – Европа,
Только в этом смысл еще не весь:
Если шар земной имеет ж…у,
То, конечно, это место – здесь.
…………………………………………..
Блин, да что там толковать о лете,
Всякую хреновину меля,
Если нам для жизни на Планете
Выделена Новая Земля…
(Из поэмы неизвестного автора. Дальше – не пропечатывается)Были сборы недолги…
После киевских каникул у меня начинается страда, почище деревенской. За считанные дни надо продумать и составить все заявки на все, получить на разных складах, упаковать так, чтобы груз выдержал множество перевалок. Сотни наименований: сварочные агрегаты, кабели, маски, электроды, бензорезы, редукторы, запчасти ко всему, что может поломаться, тросы, сотни позиций инструмента, спецодежда, рукавицы и т. д. и т. п.
Снабженцы по «высочайшему приказу» выворачивают для меня все «специальные хранилища» и тайные «загашники». Проблема в том, что всегда из заказа выпадает какая-нибудь мелочь, которая оказывается главной. Ведомость-заявка после каждого просмотра пополняется:
– Из чего заправлять САКи? – Тут же добавляем канистры, воронки, ведра, рукава.
– Чем размечать металл для резки? – Добавляются мелки, шпагат, угольник … Вспоминаем, что надо подметать: берем швабры, веники, ветошь.
Кстати, реальный анекдот – радиограмма из Москвы на НЗ: «Запрашиваемые вами мётлы поставлены не будут тчк организуйте заготовку зпт изготовление на месте тчк» (Самая «рослая» флора НЗ – нежные однодневные цветки без запаха).
Все немедленно выделяется и укладывается в прочные ящики. Складские ящики – гладкие; я настаиваю, чтобы на них обязательно были ручки для переноски. Эта «мелочь» потом нам здорово облегчит жизнь. На каждый ящик наносим номер и большой красный треугольник. Содержимое каждого ящика – в отдельной ведомости.
Мне выделена группа из 25 человек, в том числе – 10 солдат, которыми командует техник-лейтенант Козлов Олег Сергеевич. Олежку я вижу впервые. Это высокий вальяжный почти брюнет с вьющимися волосами и «волоокими» почти серыми глазами – красавЕц и любимец женщин. По слухам – за ним тянется череда скандалов по этому поводу. К чести Олежки, – он никогда об этом не распространяется и не хвастает, возможно, – только при мне. Меня, своего командира, он воспринимает без всякого пиетета: обращается ко мне «Никола», сразу на «ты». Я сначала, было, пытался ему давать поручения, чтобы немного разгрузиться, но вскоре понял, что на Олежку «где сядешь, там и слезешь»: он блистательно все перепутывал, прикрываясь невинным возражением: «А зачем это надо?». Кроме того, Олежка – большой любитель поспать. При всем при том, – Олежка неплохой человек, если воспринимать его с некоторым юмором. Я махнул на него рукой и делал все сам. Любопытно, что его солдаты из другой части, подчиненной Строймонтажу, тоже не воспринимали его всерьез как начальника и обращались только ко мне. Старшины мне не дали, и все вопросы с личным составом приходилось решать единолично.
Матросы и солдаты – уже опытные монтажники, сварщики, мотористы, резчики, – сняты с других объектов. Выделяется среди них старшина 1-й статьи Николай Житков. Он старше многих по возрасту, уже работал монтажником домны в Череповце. Вокруг него всегда толпятся и ржут матросы: Житков очень серьезно «вещает» на «вологодском» языке, в котором главная буква – «О».
– А не надо тебе, сын мой, на дембель итить, ой – не надо… Пропадешь ты тама, на гражданке. Опять на соломе спать-то будешь, да кушать макароны непродутые. А просыпаться поутру как будешь-то? Старшины уже вить не будет! Небось, и умываться перестанешь! – это Житков «разводит» матроса, считающего дни до «дембеля».
Выделенная группа солдат и матросов экипируется отдельно: им выдают и меняют «положенное» несколько наперед. У матросов набирается повседневной и выходной одежды на огромный рюкзак и пару чемоданов. Единственное, о чем мы не заботимся, – о камбузе и посуде: питание личного состава – обязанность КЭЧ (квартирно-эксплуатационной части) экспедиции. Впрочем, у матросов всегда с собой есть незабываемая часть алфавита: «КЛМН» – «кружка-ложка-миска-нож» – минимальный джентльменский набор людей, привыкших надеяться не только на начальство…
Грузы отправлены большой скоростью. Вслед за ними в начале апреля 1956 года мы загружаемся в поезд Ленинград – Мурманск. Вперед – на Север!
Каникулы с личным составом
Люби ближнего, но не давайся ему в обман!
(К. П. № 63)В Мурманске нас встречает майор В. И. Прудко. Всю команду автобусами через КПП отвозят на мыс Шавор. Здесь у нас большой кубрик, поэтому сюда также поселяют команду «пятнашки» – это электрики и связисты. Работ у них очень много, поэтому в команде несколько офицеров и старшин сверхсрочников, в том числе мой знакомый по Чите мичман Воропаев.
Матросов поселяют в кубрике на втором этаже, офицеры и сверхсрочники – в малом кубрике на первом этаже. Большинство офицеров, в том числе – я, «дома» не сидят. У нас оформлены пропуска в Мурманский порт, где стоит под погрузкой наш «пароход» – дизель-электроход ледокольного типа «Енисей». Несколько таких однотипных судов для нас построила Голландия, – это также «Индигирка», «Обь», «Лена». (Последняя – переоборудована для комфортной доставки зимовщиков в Антарктиду). Наша задача в порту – отыскать свои грузы и погрузить их в трюмы ледокола. Только здесь я впервые вижу в металле свои «железяки»: пятитонные прямоугольные секции, которые нам надо состыковать, сварить и испытать на плотность. Секций всего 45, плюс к ним еще много всякого «гарнира». Среди огромной горы ящиков кое-где видны наши красные треугольники. Горько сожалею, что эти метки не ставили со всех сторон ящика, – искать их было бы легче.
Нашей «штатной» группой на мысе Шавор командует легендарный майор Корнильцев, пославший телеграмму самому Сталину. Со своими матросами в 1951 или 1952 году майор построил возле Североморска несколько резервуаров, которые заказчику тогда были не нужны. Чтобы не обременять себя приемкой и последующей консервацией объектов, заказчик просто не принимал их у монтажников под разными предлогами, в основном – якобы из-за неудовлетворительного качества. Несколько месяцев майор не мог сдать готовые объекты; заваливались все планы, простаивали люди. Доведенный до отчаяния майор нашел телеграф в глухой деревушке (ни в Мурманске, ни в Североморске ни одна почта не приняла бы телеграммы Сталину). Только там приняли и отправили телеграмму:
«Москва, Кремль, генералиссимусу И. В. Сталину. Враги народа на Северном флоте не хотят принимать в эксплуатацию построенные резервуары. За качество ручаюсь головой. Прошу Вашего вмешательства. Майор Корнильцев».
Пока Корнильцев на стареньком «козлике» возвращался из дальней деревушки, его уже искал весь штаб Северного флота с полностью оформленными и подписанными актами на сдачу объектов…
Корнильцев своих матросов поднимает очень рано и разводит по объектам. Он не очень доволен своими бездельничающими постояльцами, которые спят до завтрака. Я его очень хорошо понимаю. Пытаюсь пристегнуть к «загрузке» нашего личного состава Олежку Козлова. Он страшно удивлен:
– Да зачем это нужно?
После объяснений – милостиво соглашается проводить утреннее построение, но только своим солдатам, и только в том случае, если я его своевременно разбужу. Это мне накладно, я сам поднимаю всю свою группу и до завтрака делаю с ними пробежку километра два по заснеженным тропинкам мыса. Глядя на нас, начинают заниматься и матросы в/ч 15107, правда, офицеры там бегают по очереди.
На рейде недалеко от Росты стоит крейсер «Мурманск». Там трюмным машинистом служит срочную службу Павка Смолев. Очень хочется увидеться с Павкой, да и рассмотреть вблизи крейсер – тоже интересно. Утром от пирса отходит небольшой посыльный катер ПК, и я отправляюсь на крейсер: в морской офицерской форме никаких проблем не возникает. Вступив на палубу крейсера, отдаю честь флагу и представляюсь дежурному по кораблю. По громкоговорящей связи вскоре на весь крейсер звучит: «Старшине второй статьи Смолеву прибыть в вахтенную рубку!». Влетает в рабочей белой робе Павка, докладывает дежурному, затем мы обнимаемся. Дежурный кап-три нас милостиво отпускает мановением руки: телефонов и забот у него навалом…
С Павкой мы не виделись с осени 55 года. У нас есть о чем поговорить. Павел бегло знакомит меня с крейсером. Наибольшее впечатление производят, конечно, башни главного калибра. Я тоже слегка подкованный: узнаю торпедные аппараты, сбрасыватели глубинных бомб, зенитные установки. В наше общение неожиданно вторгается та же громкоговорящая связь: «Боевая тревога!». По этому сигналу действия каждого из тысячи матросов, старшин и офицеров крейсера расписаны по секундам; по крутым трапам в трюмы падают и из трюмов вылетают и бегут по палубе десятки людей, чтобы занять свои посты согласно боевому расписанию…
Только для одного меня – «Лейтенанта Флота Ее Величества Королевы», – нет места в этой четкой беготне. Павка размышляет секунду, затем запихивает меня в боевой пост дыма на верхней палубе: это его боевой пост по какой-то другой тревоге. Павка оставляет щель в двери, чтобы я мог дышать, и «ссыпается» вниз к своим котлам. Я сижу почти в темноте на стальном сиденье, зажатый со всех сторон вентилями и штурвалами.
Минут через сорок следует «Отбой!», и мы с Павкой возобновляем «мирную конференцию». Она длится минут десять, после чего все наши «тревожные» действия повторяются. Вторая тревога длится уже около часа. Появившийся после отбоя Павел говорит, что мы так не сможем даже поговорить, и забирает меня в трюм к своему основному посту. Там я располагаюсь на стальном решетчатом настиле прямо над фронтом котлов. При очередной тревоге Павка просто спускается вниз, не теряя времени. Я в шинели, снимать ее опасно, и в жарком дыхании котлов я уже мечтаю о пронизывающем северном ветре. Друзья Павла добывают для меня на камбузе какой-то мобильный харч, что вовсе не кажется лишним. Тревога повторяется еще несколько раз. В паузах я даже успеваю рассказать котельным машинистам анекдот.
Хан вызывает евнуха и приказывает:
– Подготовь мне жену номер триста пять!
Евнух готовит, умащивает жену благовониями, похлопывает, растирает и т. д. Через часик следует команда: подготовить жену № 298, затем – № 302…
Через месяц – евнух умирает от инфаркта; вновь назначенный – продолжает его дело с теми же последствиями. Перед смертью он обратился к Мудрецу, и задал ему вопрос:
– О, достопочтеннейший! Почему хан работает так тяжело и напряженно, – и ему хоть бы хны. Мы же, евнухи, только суетимся, а мрем, как мухи???
– Милый мой, – отвечает ему Мудрец. – Умирают ведь не от работы, а именно – от суеты…
В привычное чередование команд «тревога» – «отбой» вплетается вдруг нечто совсем новенькое:
– Корабль к бою и походу изготовить! По местам стоять, со швартовов сниматься!
Я пулей слетаю со своего жаркого насеста и по многочисленным трапам поднимаюсь к дежурному. Докладываю, что я еще здесь, и мое войско на берегу осиротеет без командира. Дежурный разводит руками: получен приказ выйти в море, катера больше не будет. Куда идем и когда вернемся – неизвестно. Я «заколдобился», начал переживать и Павел… Мы уже не уходим с верхней палубы, напряженно вглядываемся в прячущийся в тумане берег, – такой близкий и недостижимый: вплавь в шинели не доплыть…
Командир крейсера видно опытный моряк, и знает морское правило: не спеши выполнять плохой приказ, ибо может последовать его отмена. Громада крейсера неподвижно стоит на рейде еще около часа, затем из тумана к нам подваливает, стуча движком, знакомый ПК. Мы торопливо прощаемся с Павкой. Несколько офицеров и я ступаем на зыбкую палубу ПК, который вскоре отваливает от слишком гостеприимного крейсера…
В нашем офицерском кубрике на Шаворе – ЧП. Ребята из 15107 для монтажных работ везут двадцатилитровую канистру спирта. Она, желанная, опечатанная несколькими печатями и пломбами, неотлучно находится рядом с кроватью материально ответственного мичмана. Любой, проходящий мимо начальник, может убедиться в неприкосновенности печатей и пломб. Однажды при уборке мичман передвигает канистру и непроизвольно издает длинный вопль: канистра совершенно пуста при полной сохранности печатей и пломб… Расследование по горячим следам ничего не дает. Корпус канистры тоже совершенно цел, 20 литров спирта исчезли сквозь металл. Загадка природы долго волнует умы монтажников…
Наш ледокол уже почти загружен. Начальник строительства полковник Френкель Д. И., собрав руководителей монтажных групп, объясняет, что после основной загрузки трюмов надо будет еще закрыть проемы на уровне второго твиндека, чтобы образовать жилое пространство для людей. То, что нужно для разгрузки будем размещать после этого на верхней палубе. Давид Ионович – обаятельный «громоздкий» мужик, с огромным чувством юмора. Он уже знает по именам всех офицеров экспедиции и обращается с нами как равный. При кажущейся неторопливости суть любой проблемы схватывает мгновенно, решает ее капитально и весело.
Неизвестно, кто дает команду вывезти мою группу в порт. Я, возвращаясь из порта, сталкиваюсь с ней на КПП между Мурманском и Североморском. Везет группу на двух грузовиках майор Прудко, с ним мой «подручный» Олежка Козлов.
– Кто, кроме меня, мог дать команду грузить людей? – задаю прямой вопрос майору. Между нами происходит жаркий разговор с выяснением отношений: Прудко себя чувствует в Североморске наместником Бога на земле, а если не Бога, то, во всяком случае, – командира части. Я просто зверею и твердо требую от майора вернуть людей на место: погрузка личного состава возможна только через несколько дней. За экспедицию отвечаю только я, никто больше, и мне нет дела до амбиций местных царьков. Эти соображения я без всяких сокращений и смягчений довожу до сведения Начальника Североморской группы. Прудко даже опешил перед таким натиском неизвестного ему лейтенанта. Майор не хочет потерять лицо и находит компромиссный вариант: разместить людей недалеко от Мурманска на Ростинском заводе, где есть свободная казарма. Я соглашаюсь: у меня много времени уходит на поездки от порта до Шавора…
Забегая вперед, скажу, что, наверное, после этой стычки у нас началось полное взаимопонимание и дружба с Василием Ивановичем Прудко. К сожалению, он рано ушел из жизни. Это был талантливый и веселый человек…
В Росте у меня случается ЧП, довольно рядовое, но выводы из которого я сохранил на всю оставшуюся жизнь. В моей группе был сварщик старшина второй статьи Петр Письменный. Подтянутый, трудолюбивый и исполнительный, он был моей правой рукой и фактическим старшиной группы. Наша новая казарма на Ростинском заводе располагалась среди домов с местным населением, в том числе с женскими общежитиями. Подходит ко мне вечером Письменный и, смущаясь, говорит такие слова:
– Товарищ лейтенант, Николай Трофимович, мы тут с Симоновым хотим немного посидеть с девушками… Ну, грамм по 50 выпить: уходим ведь надолго, а тут моя давняя хорошая знакомая… Вы разрешите?
– Петя, ты в своем уме? Ты спрашиваешь у меня разрешения на пьянку?
– Ну что Вы, что Вы… Никакой пьянки! Так – символически… расстаемся надолго. Да вы сами зайдите, увидите, я Вас познакомлю со своей девушкой…
Я уже достаточно опытный офицер, чтобы знать: если матросы задумают выпить, – они это сделают. Я решаю, как теперь говорят, «взять процесс под личный контроль». Или как говаривал один замполит: «Если массы идут не туда, куда следует, то надо забежать вперед и возглавить массы, чтобы плавно вывести их на правильную дорогу».
Две очень милые девицы, двое моих ребят и я собираемся в уютной комнате общежития. Накрыт стол. Письменный разливает бутылку водки всем поровну. Выпиваем со всякими прибаутками, обильно закусываем. Выпивки больше нет, все магазины закрыты. У моих вояк – ни в одном глазу. Я прощаюсь, ребятам надо побыть со своими девушками…
Утром меня разыскивает офицер Мурманской комендатуры: не мой ли старшина второй статьи находится на гауптвахте? Документов при нем нет, говорить ничего не может.
Иду на гауптвахту. На бетонном полу камеры, весь изгаженный от ботинок до прически, валяется мой Письменный…
– Поднимайся! Как же ты мог дойти до такого состояния?
Мой ранее вежливый и подтянутый старшина открывает один заплывший глаз, видит меня и заплетающимся языком произносит:
– А пошел ты на х…!
Первое мое движение: поднять левой рукой говоруна, и тяжелой правой «врезать» между глаз… Мичман, сопровождающий меня, расшифровал это движение и предостерегающе поднял руку: нельзя. Я и сам понимаю, что нельзя… Прошу мичмана продержать его до следующего утра. Затем пришлю за ним человека: утром у нас погрузка на ледокол.
Утром Козлов приводит Письменного с гауптвахты, бледного и смиренного. Что-нибудь говорить ему – некогда, да и нечего: сам виноват.
Загружаемся в трюмы
Как разведчик разведчику скажу вам, что вы болван, Штюбинг!
(Из кино)Наконец назначен день «Ч». Мы – совершенно секретные. Офицерам дано указание снять эмблемы с шапок и погоны с верхней одежды. Накануне офицерам выдали новенькие «спецпошивы»: серая куртка с капюшоном и брюки, все на тяжелом искусственном меху. Все солдаты и матросы надевают шубы из лакированной в черный цвет овчины. Звездочки с шапок тоже велено снять. Десятки грузовиков загружаются людьми, плотно сидящими на скамейках в кузовах, без всяких военных знаков отличия, но в одинаковых черных шубах и «спецпошивах».
Без опознавательных знаков… (стоят Л. Мещеряков и О. Козлов, сидят – я и Е. Дедов)
В Мурманске – яркий весенний день. Под лучами уже ощутимо пригревающего, почти не заходящего солнца, все дороги покрываются лужами, журчат ручейки. Цивильный народ торопится снять изрядно надоевшие шапки и капюшоны…
Колонна наших грузовиков, растянувшаяся на половину Мурманска, вдруг останавливается: в порт почему-то не пускают. Мы, в черных и серых непонятных одеждах, рассчитанных на арктическую стужу, оказываемся в положении голых на людной площади. Стоим часа два. Народ нас разглядывает как диковинку, вслух рассуждая: что бы это явление могло значить? Рассуждают примерно так. По количеству людей, однотипности одежды и номерам грузовиков – ясно, что это военные собрались для большого дела. По отсутствию погон и звездочек – понятна секретность операции. По теплой одежде – на Крайнем Севере. По очереди в порт – двигаться надо морем. Так, что могло задумать большое начальство там, за морями, что там будут делать эти многочисленные люди без погон?
Присутствующие в толпах шпионы, несомненно, знали из других источников, что именно придумали большие начальники. Не знали этого только мы – исполнители, люди без погон…
Элегическая вставка о секретности. Всю свою военную жизнь, а это 33 года, мне приходилось жить и работать под грифами «секретно», «совершенно секретно» и «совершенно секретно особой важности». Я подписал кучу бумаг о «неразглашении» и свято соблюдал это везде и всюду. Даже в 1990 году, когда всем и все уже было известно, нас, участников испытания атомного оружия, загадочно назвали «ветеранами подразделений особого риска». Простой народ теперь называет нас ребятами из «группы риска». Приходилось многажды разъяснять, что «группы риска» – это проститутки, а мы – не такие…
Много раз мне приходилось видеть, как элементарное недомыслие открывало все шлюзы информации об этой самой секретности, – даст Бог, я еще напишу об этом. В то же время известны анекдотические случаи соблюдения буквы правил секретности. Однажды я по глупому выпендрежу на частном письме в свой производственный отдел, где я просил выписать наряды матросам, сделал надпись: «Секретно – только И. Е. Пасуманскому». Добрейший Илья Ефраимович ведал нарядами, а у меня не было времени выполнить эту работу самому. И. Е. все сделал, а конверт случайно оказался среди бумаг в общем обычном шкафу. Там его нашли доблестные Штирлицы. Два месяца таскали меня и Пасуманского по разным учреждениям с вопросом: почему секретная бумага лежала в обычном шкафу, не зарегистрированная должным образом? А вот еще случай. Издан приказ: справку о допуске выдавать не на полгода, а только на три месяца. Бдительные стражи режима секретности не пускают меня в Проектный институт с полугодовой справкой, несмотря ни на какие мольбы и доводы. Чертыхаясь, из Московского района возвращаюсь через весь город на Охту, делаю разгон секретчику, беру новую «обрезанную» по времени действия справку, опять проезжаю через весь город.
– Ну, вот теперь – все нормально! – удовлетворены местные Штирлицы. За полчаса решаю все вопросы с проектировщиками. На выходе забираю свой «допуск». Приглядываюсь: выписан он правильно – на квартал. Вот только печати на нем не было вообще никакой…
Кстати, кличка «Штирлиц», которую я применяю, была присвоена работникам бывшего Смерша («смерть шпионам») гораздо позже, когда всенародный любимец Штирлиц оброс анекдотами еще больше, чем другой народный герой – Василий Иванович. Тогда же эти ребята обозначались по-другому: что-то типа «Шнапсмюллер» – из кино «Подвиг разведчика». Курирующий нас тогда задумчивый и заторможенный майор имел очень похожую фамилию. И с этим майором мне пришлось общаться очень часто по разным поводам. Один из них: моей фамилии нет в списках, везде был Марусенев. Допуск на меня пришел позже шифровкой, но видно не ко всем, из-за чего меня часто «стопорили» в самых неожиданных местах. Прекратил все Френкель. Однажды, после очередного «стопорения», когда майор не нашел меня в своих списках, я не выдержал и потащил «Шнапсмюллера» к Френкелю.
– Давид Ионович, сколько можно?
Френкель осмотрел унылого майора веселыми желтыми глазами:
– А что, майор, пусть у нас будет один иностранный шпион! Ну, – один единственный! Можно? А то тебе совсем нечего будет делать.
Шнапсмюллер, кажется, принял все за чистую монету, и пробормотал:
– Никак невозможно, товарищ полковник…
Френкель вызвал своего секретчика и показал бдительному майору шифровку о моем зачислении в экспедицию. На прощание он ласково сказал майору:
– Не приставай, дорогой, к занятым людям… Если сможешь…
Майор от меня отстал, но часто провожал задумчивым взглядом, решая про себя задачку, – на какую же именно разведку я работаю…
Наконец нашу колонну пускают в порт. Начинается посадка людей на ледокол. Точнее – начинается кино, а мы все толпимся зрителями вокруг. Кинокамера нацелена на трап, перекинутый с причала на палубу. После длительных разъяснений режиссера, следует команда «Мотор!». На трап входит матрос из взвода охраны. Автомат у него за спиной, больше – ничего нет. Мичман, тоже зачем-то «слегка» вооруженный автоматом, вручает первому матросу спасательный пробковый пояс. Затем оба с любопытством смотрят на стрекочущую камеру.
– Не смотреть сюда! – надрывается режиссер. – Смотрите только вперед!
Опять инструктаж, опять «Мотор!». Все идет хорошо, но в кадр попадает наш матрос, вместо автомата реально обвешанный рюкзаками и чемоданами. Режиссер звереет, все начинается сначала… Снимается секретный документальный (!) фильм для Главкома ВМФ. Начинаем понимать, что такое документальное кино, снятое для высокого начальства. Просто это значит, что пароход был настоящий, а не построенный из фанеры в студии. Конечно, речь не идет о технической съемке неуправляемых событий, например атомного взрыва. Впрочем, сейчас можно изобразить и это…
Наконец дана команда на посадку личного состава. Здесь уже можно было бы снимать художественный фильм на тему «Бегство Белой Армии из Крыма»… Реальные матросы, обвешанные рюкзаками и чемоданами, толпами хлынули на палубу. Обилие имущества и множество независимых военных подразделений создают толчею и неразбериху. Командиры, в том числе и я, стоим на палубе у трапа и напряженно отсчитываем своих, чтобы не допустить ситуации «отряд не заметил потери бойца».
Палуба вся заставлена техникой; очень много гусеничных тракторов С-80, – они кажутся совершенно чужеродными и громоздким даже на большом ледоколе. Много тяжелых тракторных саней с мощными полозьями полуметровой ширины. Много грузовиков с закрытыми фургонами. Мои кубические секции все уже сидят глубоко в трюмах.
По узким проходам наши люди доходят до сооружения, похожего на очень крепкий, но наспех сколоченный, сельский нужник. Это вход в трюм – наше жилище. Собственно трюм перекрыт настилом из сырых досок на уровне верхнего твиндека – окраек второй палубы. Это – пол нашего морского вигвама. Потолок образуют верхняя палуба и трюмный проем, закрытый прочными щитами. По краям образовавшегося пространства сооружены из досок двухъярусные нары с матрацами, которые будут почти полмесяца служить нам и офисами и спальными местами. Для части матросов и солдат нар не хватает. Они заполняют среднюю часть трюма, расположив свои матрацы прямо на полу вокруг горы пожитков.
После загрузки в трюм целой тысячи людей, в нем создается особый «густой дух» из запахов сырых досок, кирзы, портянок, немытых тел и еще бог знает чего. Отопления нет, все живут и спят в своей верхней одежде. Впрочем, в трюме от дыхания сотен людей достаточно тепло: на открытых частях корпуса корабля конденсируются и стекают вниз ручейки влаги.
Плавание по-пластунски
Вечером 18 апреля 1956 года наш ледокол тихонько отваливает от портового причала и выходит в залив. Через несколько часов ледокол прибавляет скорость: дрожь корпуса усиливается, начинается небольшая качка. Мы вышли в Баренцево море. Вскоре берег растворяется на линии горизонта.
Погода нам благоприятствует: ледокол почти не раскачивается, светит солнце. Однако морем любоваться особенно не приходится: ветер на палубе пронизывает до костей даже в наших комплектах спецпошива. Правда, почти все офицеры надели только куртки. Брюки из комплекта чрезвычайно тяжелы и неудобны. Чтобы справить даже малую нужду, на брюках надо отстегнуть несколько пуговиц и отбросить передний фартук, затем начать расстегивать вторые брюки и белье, удерживая при этом от падения наружные вериги. Позже рационализаторы, пользуясь отсутствием на острове дам, усовершенствовали штаны: в переднем клапане просто прорезалась щель в нужном месте. Потом, когда дамы все-таки появились, от усовершенствованных брюк пришлось отказаться: они стали немодными для выхода в свет. Мои личные брюки были возвращены «довольствующей организации» в первозданной чистоте.
Вообще экипировка на Севере имеет колоссальное значение: она зависит не только от времени года (читай – погоды) но и от рода занятий одеваемого. По подсказкам бывалых и по собственному разумению мне удалось угадать нужную пропорцию подвижности и утепления, особенно в обуви. Можно было выбирать: валенки, сапоги кирзовые, сапоги резиновые. Я выбрал резиновые сапоги, но не фасонные – литые, тяжелые и узкие, а легкие клееные «сорок последнего» размера. Большой размер позволял надеть на ногу обычный носок, затем – кожаный мехом внутрь и намотать толстую портянку из мягкого сукна. Ногам всегда было тепло, уютно и сухо, – и в снегу, и в смеси воды и снега. Увлажнялась конденсатом от сапог только внешняя портянка, развернуть и просушить которую очень легко. В обычный брючный комплект органично вписались в качестве вторых кальсон студенческие шаровары, изготовленные киевскими умельцами, – раньше я писал об этом знаменательном событии. Свитер из чьей-то, якобы – верблюжьей, шерсти под курткой спецпошива закрывал также шею, что позволяло отказаться от мелкобуржуазных шарфиков. Шаровары, вместе со свитером и меховыми носками, позже вполне заменяли пижаму при краткосрочном отдыхе в палатках. Вместо красивой шапки Робинзона пришлось надеть форменную, но она тоже была теплой, непромокаемой, а местами – где-то даже красивой.
На палубе в полевых кухнях варится пища для тысячи едоков. Увы, она лишена ресторанного разнообразия: это бесконечные щи из «сильно квашеной» капусты. После первой пробы начинаю понимать, что этот праздник жизни не для меня: сильнейшую изжогу пришлось гасить содой, а затем долго работать в режиме пенного огнетушителя. Как заявила медицина, после «импульсного» читинского питания у меня развился гастрит. Долго не поем – болит, много поем – тоже болит. От национального напитка – водки начинается изжога (коньяк почему-то проходит превосходно!). Один из эскулапов мне посоветовал пить неразбавленный спирт. Позже, в часы редкого досуга, опытные товарищи показали, как это делается. Набираешь полную грудь воздуха, залпом принимаешь планируемую дозу, затем – долгий выдох и закусывание, чем Бог послал. В крайнем случае, при бескормице, – запить водой. Я не являюсь певцом пьянки, но должен поделиться полученным эффектом. Изжоги и боли после общественного распития канистры «шила» (так на Севере называют спирт) вскоре прекратились, и вот уже полвека (постучим по дереву!) я не знаю, что такое гастрит… Спирт я теперь не пью, но рюмкой водки по праздникам и будням – не брезгую (коньяк в эпоху дикого капитализма чаще всего поддельный, хоть цены на него и стали заоблачными).
Ледокол бодро и круглосуточно движется на северо-восток. Справа уже иногда просматривается земля с белыми контурами гор. Через несколько дней мы с хода влетаем в бесконечное белое поле. По инерции ледокол продолжает двигаться вперед, за кормой всплывают сине-зеленые льдины с белыми шапками снега. Постепенно лед становится толще, и ледокол перед полной остановкой со скрежетом вползает носом на льдину. Какое-то время ледяное поле удерживает на себе вес половины ледокола, затем поднявшийся нос с треском проваливается, а вокруг вздыбливаются в кипящей воде огромные осколки сине-зеленого льда. Ледокол останавливается, несмотря на напряженно работающий винт. Дрожь корпуса стихает, затем опять появляется, но мы уже движемся назад, раздвигая кормой ледяное крошево и крупные льдины. Перед носом ледокола оказывается метров двести почти чистой воды. По этой дорожке ледокол снова разгоняется вперед и немного правее, опять вылезает на треть корпуса на кромку ледяного поля, опять проваливается и отходит назад. Следующее наползание на лед происходит немного левее, затем опять – немного вправо. За час усиленной работы мощных дизелей ледокола мы продвигаемся вперед метров на триста – четыреста.
На сверкающей под невысоким солнцем снежной равнине за нами остается широкий шрам взломанного льда, в котором среди белого крошева зеленые и синие включения перевернутых льдин. Этим зрелищем, как и пламенем костра, можно любоваться бесконечно. Большинство народа находится на палубе и занимается именно этим. Особо активные спускаются «на сушу» – твердый наст, и начинают играть в волейбол, и даже футбол. Иногда, во время отлива, льды за нами смыкаются, и ледокол не может отойти назад для разгона. Тогда мы на несколько часов замираем. Если зажатие слишком сильное, на лед спускается бригада подрывников. Они бурят во льду пунктир лунок, закладывают в них взрывчатку. При одновременном взрыве из лунок бьют фонтаны, а массив льда колется на очерченном пространстве.
Сам ледокол среди бесконечной снежной равнины со стороны смотрится как нечто фантастическое: мозг отказывается понимать, как эта черно-красно-белая махина могла здесь оказаться.
К концу апреля мы уже «долбимся» в бухте: справа и слева возвышаются покрытые снегом сопки, кое-где скалистые. Где кончается вода и начинается берег – неизвестно: все покрыто слепящее-белым снегом. Всем выдают темные защитные очки: солнце почти не заходит, и ослепнуть от сверкающих снегов очень просто. В бухте лед прочнее и толще, продвигаемся все медленнее. Совсем обессилевший ледокол делает последний рывок и замирает. Дальше – пешком. До точки выгрузки – круглой черной палатки геодезистов на высоком берегу – несколько километров.
Кое-что из географии и истории. Мы зашли в губу Матюшиха (на некоторых картах пишут – Митюшиха), расположенную севернее пролива Маточкин Шар. Этот пролив (шар), соединяя Баренцево и Карское моря, разделяет Новую Землю на две неравные части. Во время войны в этой губе немцы устроили базу подводных лодок для перехвата союзнических конвоев, идущих в Мурманск и Архангельск. Это нам рассказали две семьи промысловиков, живущих по разным сторонам бухты. А вот тяжелый немецкий крейсер «Адмирал Шеер», обогнув Новую Землю с севера, проник даже в Карское море, где в августе 1942 года расстрелял и потопил наш ледокол «Сибиряков»… В книге немецкого адмирала Фридриха фон Руге «Война на море» подробно описываются действия немецкого флота в нашей Арктике. К сожалению, книгу эту у меня «увели», и я многое забыл. Помню, что на ряде арктических островов у немцев были отряды синоптиков, которые по радио передавали сводки погоды для своего флота. Затем у синоптиков начались непонятные болезни и гибель личного состава. Позже выяснили, что они питались печенью белых медведей, чрезвычайно богатой витамином А, и погибали от гипервитаминоза…Кстати, Руге одной из причин поражения Германии во Второй мировой войне, называет «континентальный образ мышления» Гитлера, который недостаточно уделял внимания военному флоту и войне за овладение морскими коммуникациями. И это при «засилье» немецких субмарин в Атлантике и северных морях…
Наши точки
Наш охотник Женя Дедов, пока долбили лед в бухте, умудрился ранить и захватить белька – малыша нерпы или тюленя (?). На усатой мордочке малыша были большие, почти человеческие глаза, наполненные мукой. Из глаз катились настоящие слезы. Не знаю, смог ли Дедов содрать с него шкуру и как-то воспользоваться ей. Нет, такой хоккей нам просто противен.
Из ковчега – на волю
Выгрузка ледокола начинается 1 мая 1956 года. Это две недели напряженной круглосуточной работы. Природа нам помогает: мы забыли, что бывает ночь. Солнце почти не заходит, температура – легкий мороз. С ветром – отношения сложные. Новая Земля разделяет два моря: «теплое» Баренцево и совсем холодное – Карское. Ветры из таких разных морей встречаются над нашей Землей, соревнуясь в силе. Вот светит солнце, все тихо, на небе – ни одной тучки, полная идиллия. Мгновенно налетает снежный заряд, в круговерти снега ничего не видно за два метра, ветер может свалить с ног. Спустя минут десять как ни в чем не бывало восстанавливается прежняя «лепота»…
С интересом наблюдаю, как работают корабельные краны. За пределы бортов выведены вершины наклонных мачт – выстрелов. Двумя одновременно действующими лебедками можно груз поднять из трюма и опустить с любой стороны ледокола. Я еще не знаю, что через недельки три использую эту идею как единственно возможную и буду похожим способом монтировать свои конструкции.
Сначала с верхней палубы сняли трактора и сани. С тракторов приходится снимать кабины. Дело в том, что на льду бывают закрытые снегом скопления отверстий, которые «протаивают» для своего дыхания нерпы. Были случаи, когда трактор, попав на такой участок, проваливался и мгновенно уходил под воду, уволакивая за собой сани. Тракторист в закрытой кабине в этом случае – обречен. Да и вообще: раскатывая по льду на тяжелых тракторах, не надо забывать о морских глубинах под грохочущими гусеницами. Тем более, что вскоре рядом с бортами ледокола, где загружаются сани и ездят трактора, на поверхности льда образуются глубокие ямы, заполненные водой. Лед в таких местах, естественно, стает тоньше…
После разгрузки верхней палубы вскрываются трюмы, и наше убежище оказывается без крыши и пола. Теперь у нас остается единственная возможность отдыха – только «по Павлову»: меняя род работы. Согревание, даже избыточное, достигается тем же универсальным средством – работой…
Все силы строителей брошены на строительство палаточного городка из утепленных 40-местных палаток. На деревянном настиле (гнезде) на двух мачтах – опорах натягивается брезентовая с подкладкой палатка. Она оснащается освещением, металлическими кроватями, столом и двумя чугунными буржуйками, которые непрерывно топятся углем. В таких же палатках штаб, столовая, радиостанция. «Здесь, ребята, чай пить можно, стенгазету выпускать», – сказал раньше поэт. Только времени для выпуска стенгазеты у нас нет. Официальный рабочий день матросов – 12 часов в две смены, практически – часов 15–16. Офицеры работают часов по 20. Во-первых, надо обеспечить работу двух смен матросов, во-вторых, надо строить баню. Если учесть, что мы уже почти месяц не раздеваемся и практически не умываемся, то баня даже оказывается «во-первых».
Бревенчатую баню мы привезли с собой, но ставить ее на вечно-мерзлый грунт нельзя: от тепла все поплывет. Не якорить баню тоже нельзя: первый приличный ветерок ее просто сдует с лица земли. Ушлые проектировщики решили ставить баню на «стульях»: отрывалась яма, куда ставился крестообразный «стул» из бруса. Из центра стула торчала свая. На десятке таких свай, в метре от земли, собиралась баня. В теплом уюте проектных кабинетов все выглядело замечательно. Реально, – все застопорилось при копке ям в вечной мерзлоте. В Чите мерзлую землю оттаивали кострами. Здесь дров в таком количестве не было. Попробовали бурить шурфы и взрывать. Отверстия перфоратора немедленно забивались тающей землей и перекрывали воздух. Только пики отбойных молотков могли отковыривать мерзлоту по кусочку. Сами пневматические молотки при этом быстро замерзали, и их надо было отогревать в костре. Было принято решение: каждый офицер должен был 2–3 часа в сутки поработать отбойным молотком на строительстве бани. Почти месяц можно было наблюдать картину: ревут два компрессора, десяток офицеров стрекочет отбойными молотками, десяток молотков отогреваются в костре…
Справка. Один бур-столбостав установил бы десяток свай, правда – без дурацких «стульев», за один час работы. Можно придумать еще десяток способов поставить баню на мерзлоте за сутки – двое. Просто для этого надо кое-что знать и хоть кое-как шевелить извилинами
Для моей группы проблема бани решилась раньше. «Лепший друг» монтажников, главный механик строителей подполковник Гайченко Николай Евтихиевич, в ремонтной палатке тайно запустил штатную автопарковую водомаслогрейку и помыл вверенный мне личный состав, заодно – и меня. С Николаем Евтихиевичем мы как-то сразу сдружились, хотя он был значительно старше меня по возрасту, званию и должности. Но когда я изобрел «пену» и мои ребята изготовили для строителей их целых 3 штуки, главмех готов был нас на руках носить… Но, о пенах позже…
Строители начали строить палаточный городок на объекте Д-2 за 20 километров от места выгрузки ледокола. Под снегом там оказалась скала, и прораб просто поставил на нее банный сруб, пригрузив его камнями для «моральной» устойчивости при сильных ветрах. Смекалистый прораб доложил по радиотелефону (к тому времени у нас на основных объектах стояли станции УКВ связи), что баня построена. Начальство уже почесывалось не хуже последнего матроса и ответило немедленно: велело готовить баню для «горячей» приемки комиссией, в составе которой должен быть сам Фомин.
Историческое отступление. Я еще нигде не упоминал фамилии Фомин. Рядом с нашими палатками строился довольно большой, хорошо отделанный, дом для адмирала. Вскоре на вертолете прилетел и сам Фомин. Весь полигон, а соответственно и его строительство, было организовано и подчинялось 6-му Управлению ВМФ, начальником которого и был контр-адмирал Фомин. Именно 6-е Управление ВМФ теперь несло главную ответственность за продолжение испытаний ядерного оружия СССР и его совершенствование. Еще действовал первый Семипалатинский полигон, но там испытания оружия, особенно – термоядерного большой мощности, столкнулось с существенными затруднениями: осадками из ядерного гриба заражались большие населенные территории. Кроме того, в СССР оказалось мало изученным воздействие атомного взрыва на надводные и подводные объекты, что изучить в условиях сухопутного Семипалатинского полигона можно было только условно. США к тому времени провели ряд испытаний ядерного оружия на море, в том числе – термоядерного на атолле Бикини.
Конечно, в то время мы ничего этого не знали. Сейчас все подробные сведения опубликованы в различных мемуарах, особенно в серии «История Атомного Проекта» выпущенного Российским Научным Центром (РНЦ) «Курчатовский институт» и книге Минобороны РФ «Россия Делает Сама». Именно такое название – РДС-1 имела первая атомная бомба, взорванная 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Из этих книг я также узнал, что координаты нашей сверхсекретной стройки были сразу же опубликованы американцами в открытой печати, конечно – своей, которую мы не читали принципиально…
Однако – пора закончить банную эпопею, как ее тогда воспринимал лейтенант монтажников: я ведь пишу всего лишь автобиографию. Бедные строители так были напуганы известием о приезде высокой комиссии, что решили облагородить скамейки и полки в бане и покрасили их олифой. Возможно – заготовки бани были покрыты олифой или лаком по ТУ еще на заводе-изготовителе. Видно, олифа была некачественной, и под влиянием горячего пара растаяла. Факт тот, что комиссию пришлось отмывать после бани керосином, над чем долго смеялась вся Земля. Был ли в комиссии сам Фомин – не известно…
Строительство основной бани длилось еще долго: нам так и не пришлось в ней помыться, хотя я достаточно успел подолбить землю в короткие часы, отведенные для сна.
В свою, практически всегда пустую, палатку мы наведывались на пару часов. Неизменно в ней был «задействован» только один спальный мешок. Из зеленого кокона мешка раздавалось мерное дыхание и торчал веснушчатый нос замполита группы в/ч 15107 старшего лейтенанта Коли Чичева. Вообще-то Коля был таким же инженером-тотальником, как и большинство из нас, но по каким-то соображениям решил податься в замполиты. Сейчас он не изнывал от безделья, а плодотворно отдыхал почти полные сутки. Если, проспав всю ночь, человек после завтрака может опять спать, – значит перед вами о-о-ч-чень опытный замполит. О других развлечениях этих ребят я расскажу позже…
Снежная увертюра
Ой, снег – снег,
Ой, снег – снег…
(Детская песенка)Вся моя группа занята, кроме обживания палатки, еще одним основным делом. В потоке грузов из трюмов ледокола нам надо отловить свои ящики с красным треугольником. Потеря даже одного – чревата. Свои ящики извлекаем из разных скоплений грузов: все перемешивается при погрузке, выгрузке и перевозке на берег. Кроме того, на крутой косогор выгрузки пошли уже наши конструкции. Среди множества грузов надо также «отловить» все причиндалы к ним.
Разгрузка наших кубиков с саней происходит просто: строп зацепляется за что-нибудь тяжелое, и трактор выдергивает сани из-под груза. Но нам надо разгружать их так, чтобы можно было подобраться к каждому пятитонному кубику. С грустью убеждаюсь, что кромки наших секций, которые надо сваривать непроницаемым швом, погнуты во время многочисленных погрузок – разгрузок. Кромки надо выправлять перед сваркой. Провожу опыт. Два здоровенных матроса берут в руки кувалды. Грохот стоит на всю Землю, результат – нулевой: приваренный к кромкам стальной уголок просто пружинит. Металл надо греть. У нас единственный источник нагрева – пламя бензореза. Извлекаем из своих ящиков и собираем бензорез, подтаскиваем кислородный баллон – один из двадцати. Греем – стучим кувалдами, опять греем – стучим. За час адской работы вмятину удается выправить. Расход драгоценного кислорода – почти половина баллона… Всего кислорода экспедиции не хватит на рихтовку даже половины повреждений. А ведь предстоит монтаж, когда без кислорода не обойтись…
Основной объект полигона (я еще, кажется, нигде не говорил, что мы строим полигон для испытаний атомного оружия) – это его центр Д-2, который находится в 20 километрах от места высадки Д-1. Туда, на Д-2, нам предстоит перевезти все свои игрушки.
Там, в вершинах треугольника, каждая сторона которого равна 3 километрам, надо смонтировать три одинаковых бронеказемата – БК. В них размещается разнообразное точнейшее оборудование, системы радиосвязи, автоматики, отопления и вентиляции, большое количество аккумуляторов для автономной работы всей этой техники. Эпицентр воздушного или наземного взрыва находится в центре треугольника. Бронеказематы должны выдержать страшную силу ударной волны, радиации и высокой температуры, сохранив приборы. Поэтому они заглубляются в скалу, сверху их прикрывают каменные холмы. Многочисленные кабели к датчикам, расположенным по всей площади полигона, заводятся в БК через сальниковые трубы, пронизывающие толщу холма. Так это выглядит на совершенно секретной картинке в чертежах…
В действительности: изрядно покореженные секции бронеказематов находятся за глубокими снегами на расстоянии более 20 км от места монтажа. Первый опыт правки – отрицательный. Откладываю его решение «на потом» и начинаю заниматься перевозкой секций.
Трактор подтягивает сани к ближайшей секции. На всю экспедицию имеется только один автокран, да и тот – трехтонный. Долго и муторно в глубоком снегу подгоняем этот кран на обычных колесах к нужной секции в их россыпи. Крановщик, гражданский мужик, говорит, что поднять пятитонную секцию он сможет только при максимальном подъеме стрелы, для чего кран надо подвести вплотную к секции. Подводим, расчищая лопатами снег. Теперь, оказывается, слишком далеко стоят сани. Пододвигаем трактором сани. Укрепляем выносные опоры крана. Зацепляем строп на секцию, кран пытается ее поднять – и не может: срабатывает предохранитель. По моему требованию крановщик загрубляет предохранитель. Кое-как водружаем секцию на сани. Смотрю на часы. Такими темпами мы погрузим свои 45 секций только к следующему году. Погрузка второй секции идет немножко быстрее. При повороте стрелы с грузом кран немного ведет: горизонт не идеальный. Крановщик резко тормозит. Инерция движущейся секции запросто сворачивает стрелу крана, секция плюхается на сани.
Это – конец. Я угробил единственный автокран стройки. Крановщик начинает причитать, наваливается на меня с обвинениями. Он тоже виноват: тормозить надо плавно. Но главная вина, безусловно, – моя: кран-то – трехтонный…
– Ладно, не плачь, исправим тебе стрелу, – успокаиваю я крановщика. – А сейчас – отваливай!
Выталкиваем кран со скрюченной набок стрелой. Силой четырех человек заводим тяжелое дышло саней в сцепное устройство трактора. Крепим веревками секции на платформе саней. В кабину трактора и на сани садится десяток матросов. Трогаемся. Сравнительно легко преодолеваем метров 500 накатанных дорог, выходим на целину твердого наста с переметами свежего снега. Наст спокойно выдерживает вес отдельного трактора. Но под нашими санями наст проламывается, сани погружаются все глубже, пытаясь вообще нырнуть под снег. Трактор буксует. Гусеницы разгребают твердый слой снега, и трактор тоже погружается в снег по самую кабину. Откапывать сани и трактор лопатами – бессмысленно: твердый наст можно разбить только ломом, точнее, – в снегу можно пробить ломом дырку, но неизвестно, что с ней делать дальше…
Откапываем в снежном крошеве только сцепное устройство, освобождаем трактор. Он с трудом вылезает из ямы. Затем заходит сзади и оттаскивает сани назад. Стаскиваем с саней одну секцию, что почти в два раза уменьшает вес саней. Опять прицепляем трактор. Уходим правее на снежную целину. Метров через 50 сани опять уходят под снег, начинает зарываться в снег и трактор. Прекращаю «погружение». Отцепляем трактор, и я возвращаюсь на нем в палаточный городок. Прошу у Гайченко еще один трактор. Он немедленно выделяет его, напоминая о тросе для сцепки. Возвращаемся к «нашему барану», одиноко ждущему на санях.
Теперь в упряжке два мощных гусеничных трактора «Сталинец – 80». Усилие каждого на тяговом крюке – 8 тонн, итого – 16. Это в два раза превышает вес саней и секции. По твердой земле можно без проблем тянуть волоком наш груз. А по скользкому снегу – не получается. Наши сани зарываются под наст. Стоит забуксовать только одному трактору, тут же начинает буксовать и второй; оба трактора немедленно начинают погружаться в снег. Приходится разбирать сцепку, оттаскивать сани назад, опять выстраивать поезд и начинать движение чуть в стороне, в надежде, что там наст под тракторами не проломается. На сани мы уже не обращаем внимания: они вспарывают наст обязательно…
Приглядываюсь к трактористам. Это молодые солдаты, почти мальчики. Один, Саша Зырянов с Алтая, мне особенно нравится. Тракторами он управляет чуть ли не с пеленок, – научил старший брат, колхозный тракторист. Саша немногословный и независимый. Но главное – трактор он ведет с непередаваемым мастерством и, можно сказать, – изяществом и точностью. Его трактор кажется не тяжелым грохочущим монстром, а легкой бабочкой: при разворотах окрестные предметы сливаются в линию, как при вираже на каком-нибудь истребителе. Причем – двигатель трактора всегда работает равномерно, без всякого форсажа. Дело в том, что у дизельного двигателя С-80 есть одна ахиллесова пятка: в некоторых режимах, при снятии нагрузки и при высоких оборотах, двигатель идет вразнос – неограниченно набирает обороты, вплоть до саморазрушения. Сброс газа и даже полное перекрытие топлива – не помогают: двигатель начинает пожирать собственную смазку. На этот случай в кабине есть красная кнопка: только полная декомпрессия (разгерметизация цилиндров) спасает двигатель. Саше эта кнопка не нужна, двигатель его трактора всегда «мурлычет» как сытый кот…
В дороге мы уже более пяти часов. За нами остается рваный снежный ров с петлями и «сучками» возвратов и буксований. Мои матросы уже измучены до предела бесконечными «отцепить», «назад», «прицепить». Правда, теперь в паузах все помещаются в относительно теплых кабинах тракторов. При малейшей возможности матросы засыпают в самых диких позах: в кабине С-80 сидеть могут только 2–3 человека, остальные «размещаются» между рычагами…
Достигаем все же ближайшей точки. Стаскиваем с саней в снег нашу единственную секцию, ложимся на обратный курс. Даже без груза сани зарываются, и приходится их тащить двумя тракторами. Протоптанной колеей возвращаться нельзя: трактора начинают буксовать на развороченном насте. На обратный путь уходит около трех часов. Итого: полный рабочий день на доставку только одной секции из 45-ти… Не скоро нам придется встретиться, моя девочка! И тебя схавают волки, и меня тоже – за срыв очень жестких правительственных сроков подготовки полигона…
Нет, «такой хоккей» нам не нужен! «Арктические сани» – самое дохлое звено в нашей логистике. Я уже знаю, какие сани нам нужны: при полной загрузке удельное давление полозьев на снег не должно превышать давления пешехода; в них не должно быть поперечных деталей, зацепляющихся за снег при погружении. Короче: нужна лыжа, способная держать на рыхлом снегу около 15-ти тонн. Я только еще не знаю, как и из чего построить такую лыжу…
Уже около 2-х часов солнечной ночи. Кубрик спит. Бывшие со мной матросы харчатся запасенным ужином и чаем, нагретым на буржуйке. Даю им отдых до 6 утра. Сам отправляюсь на склад металла: к 7 часам я должен четко ответить на вопрос: как и из чего сделать требуемую лыжу…
Пенная логистика
На разводе в 7 часов после завтрака распределяю людей по работам. Человек 10 забираю с собой. Еще через час у меня на площадке рядом со складом стройматериалов образуется целое производство. Ревут два сварочных агрегата, готов бензорез, кувалды, ломики. Матросы подтаскивают два стальных листа толщиной 4 мм и размерами 1,5Х6 метров. Свариваем их вдоль, получаем полотнище размером три на шесть метров.
– Это назывется «пена», – говорит Житков. На них мы перетаскивали тяжести.
– Хорошо, пусть будет «пена», – отвечаю я. – Только это еще даже не половина «пены». А как вы загибали нос?
Житков отвечает, что делали это на вальцах, а иногда – совсем не делали: нос не нужен. Нам для снега загнутый нос просто необходим: я вспоминаю свои лыжи в Казахстане. Пытаемся его загнуть. Подкладываем под кромку бревно, человек 10 стает на полотнище. Слегка прогибается, пружинит, – никакого результата. Кто-то предлагает наехать трактором. Это опасно – можно покалечить полотнище. Кто-то из матросов сожалеет, что не загнули листы по отдельности до сварки: гнуть было бы все же легче. Стоп! В этой мысли есть рациональное зерно. Решение приходит само собой. Бензорезом разрезаем будущий нос пены на полосы шириной по полметра. Отогнуть по отдельности каждую полосу – просто. Теперь – опять их свариваем. Письменный просто танцует со сваркой: замаливает свои ростинские грехи.
Дальше: по периметру лыжи привариваем обрамление из стального уголка, на уголки – петли для стропов, согнутые из круглого прутка. Хорошо бы сделать дышло, но, будучи жестко приваренным, оно отломает нос лыжи при неровностях, а шарнирное водило «на коленке» – не сделать. Принимаю решение: тянуть будем тросом, для чего привариваем петли с двух сторон носа. Чтобы пена не налезала на трактор при спусках, такие же петли привариваем сзади. Ребята радуются: «пена» готова. Объясняю, что это еще не все. Что с ней станет, если груз будет посредине, а полотнище наедет на яму? Оно необратимо согнется. Поэтому на полотнище крепим «рыбину» из нескольких деревянных брусков на всю длину листов. Наша «пена» теперь стает гибкой и упругой, как лыжа.
Поручаю Житкову изготовить еще одну, точно такую же, пену (название прижилось, и наше изделие и дальше по-другому никто не называл). Сам же с тремя матросами я пытаюсь решить еще одну отложенную задачу – правку кромок. Вся надежда у меня на трактор Саши Зырянова. Изготовляем «мартышку»: к одному концу стального лома привариваем кольцо, к другому – мощную струбцину. Струбцину закрепляем на погнутой кромке, кольцо же тросом соединяем с трактором. Выбираем слабину троса. Показываю Саше размер передвижения трактора пальцами – около 100 мм. Махина трактора легко трогается и тут же замирает. Вмятина выправлена чрезвычайно точно, секция, свободно стоящая на снегу, даже не шелохнулась. Ребята, несколько дней назад до одурения махавшие одиннадцатикилограммовыми «кувалдометрами», просто прыгают от радости. «Не отходя от кассы» исправляем еще несколько близких вмятин: все рихтуется как в сказке. Я наглею: мелкие повреждения требуют перемещения трактора всего 20–50 мм. Это расстояние я показываю Зырянову двумя пальцами одной руки. Просто чудо: Саша умудряется перемещать трактор именно на эти миллиметры…
Теперь нам надо научиться погружать трактором наши секции на пену. Это удается даже легче, чем я думал. Пена над землей (снегом) возвышается всего на высоту бруса, т. е. на 150 мм. Она подвозится к секции, которая просто кантуется на пену. Важно только зацепить трос в нужном месте. Секция падает на деревянные брусья, нисколечко не повреждая себя и само полотнище. Загружаем две секции БК на первую пену. Я не устаю удивляться Зырянову: его трактор быстро-быстро вертится между секциями, ни разу не задев ни одной.
Житков докладывает: готова вторая пена. Загружаем на вторую только одну секцию: в пути будем догружать потерянную в первом рейсе…
Даю матросам несколько часов отдыха и задания на завтра. Участников первого рейса утром забираю с собой: один битый стоит двух небитых.
Утром догружаем секцию и двумя тракторами выходим в дорогу. Я на первом тракторе, конечно, с Сашей Зыряновым. Идем по целине, параллельно нашему прежнему «свинорою». Впрочем, местами он уже не виден: занесен свежими снежными переметами. Трактор легко тянет пену с десятитонным грузом. Пена скользит по поверхности снега и просто заглаживает след гусениц. Останавливаемся, чтобы переключить передачу: на тракторе делать это на ходу нельзя. А вот останавливаться надо очень плавно: пена по инерции наскакивает на гусеницы. Саша добегает до заднего трактора и дает инструкции ведомому. Наращиваем скорость до последней передачи. Трактор несется так же легко, совершенно не чувствуя груза.
Перед спуском останавливаемся. Сначала спускаем ведомого. Тормозить задним трактором надо очень точно, чтобы не оборвать трос. Без особых усилий спускаем обе пены и на равнине опять набираем скорость. Через два часа мы сваливаем секции на точке и пускаемся в обратную дорогу.
Пустая пена вообще стремится обогнать трактор. Приходится сзади цеплять якорь – некую «лохматую» железяку или бревно, чтобы уменьшить прыть пены. Позже каждая пена снабжается небольшим тормозом, который на тросе запускается прямо под загнутый нос.
Обратная дорога тоже занимает почти два часа. Доставлено 5 секций, остается – 40. Нам нужна еще одна пена…
Главный механик Гайченко с восторгом рассматривает нашу пену.
– Я же говорил этим уродам, что сани, которые они проектируют, годятся только для выставки и детского катания на Новый год! Для серьезных грузов в глубоких снегах нужна такая монолыжа, которую вы сделали! Коля, ты можешь изготовить еще несколько таких саней для стройки?
– Николай Евтихиевич! Завтра сделаем еще две, одну – для вас. Перевезу свои игрушки – отдам Вам еще две, или даже все.
Соглашение скрепляется крепким рукопожатием и приглашением в тайную баню, которую Гайченко запустил в ремонтной палатке.
– Николай Евтихиевич! Спаситель Вы наш, отец родной! Вот за это спасибо!
Баня может принять одновременно не более 10 человек. Быстренько договариваемся о времени и порядке тайного следования, чтобы не создать «нездоровый ажиотаж» вокруг мероприятия для здоровья. Заодно решаем с ним кучу других вопросов. Мне нужно четыре гусеничных трактора, в том числе – обязательно зыряновский. Мне нужно шесть метров швеллера, деревянные брусья, метров сто стальных тросов.
– Все, что надо, – получишь.
Приятно работать с человеком. Мы оба знаем, что наша простая договоренность прочнее некоторых письменных протоколов. Все будет именно так, как мы договорились…
На следующий день в путь выходит поезд из трех тракторов. На трех пенах я везу уже по три секции. На базе остается 31, не считая «мелких брызг». Одновременно перевожу на Д-2 половину группы с Олегом Козловым. Задача у них: подготовить место для остальных секций и все необходимое для работ на первом бронеказемате.
В пути у нас случается происшествие. На крутом склоне, где мы спускаем каждую пену двумя тракторами, в снегу уже пропилено бульдозером ущелье до самого грунта. Высота снежных стенок рукотворного ущелья – больше шести метров, – выше двухэтажного дома. Решаем для экономии времени применить «пакетный» спуск. Первый трактор вползает в ущелье, второй придерживает пену первого, продолжая тянуть свою, которую должен удерживать трактор Саши Зырянова, на котором сижу я, замыкая колонну. Свою пену мы отцепляем и оставляем наверху, чтобы потом за ней вернуться двумя тракторами. В самой середине ущелья из-за неумелых действий второго тракториста обрывается тормозной трос первой пены, и она своими 15-ю тоннами накатывает сзади на гусеницы первого трактора. Второй трактор не может оттянуть назад первую пену: у него за спиной такие же 15 тонн. Все замерло. Я задумался: как выпутаться из этой ситуации?
Пока я соображал, Зырянов медленно спускает вторую пену до упора в гусеницы трактора, затем «отстегивается» от удерживающего троса. Наш трактор по большой дуге вылетает на косогор и на бешеной скорости несется к крутому берегу снежного ущелья. У меня даже дыхание остановилось: сейчас мы гробанемся носом вниз с шестиметровой высоты!
За три метра до обрыва трактор останавливается как вкопанный и, обрушивая снежную кромку, мягко опускается на дно ущелья. Мало того: неуловимым движением гусениц Саша успевает повернуть трактор на 90 градусов так, что мы оказываемся точно за наехавшей на гусеницы пеной… Я смотрю на Сашу с почти суеверным ужасом. Есть великие мыслители, поэты, музыканты. А я вижу наяву Великого Тракториста в облике этого худощавого паренька из алтайской деревни…
Следующее чудо он творит недели через две. Мы ведем уже монтаж на дальней точке четырьмя гусеничными тракторами. Возвращаемся с объекта немного другим путем и попадаем на поляну с удивительным снегом. Трактора, свободно бегавшие раньше по нему, вдруг один за другим проваливаются в снег по самую кабину, да так, что даже дверь кабины не открыть. Любая работа гусениц погружает трактор все глубже. Двигатели тракторов работают пока на малых оборотах: если их заглушить, то к пусковому двигателю не подобраться. Мы влипли очень капитально. Картинка не для слабонервных: посреди бескрайнего снежного поля еле видны только верхушки кабин четырех тракторов. До ближайшей базы километров пять: не докричишься. Решаю послать за помощью. С трудом, уплотняя снег, приоткрываем одну дверцу кабины, матрос выползает на снег и проваливается в него по самую шею. Отсюда не выбраться никому, найдут нас неизвестно когда.
Внезапно двигатель зыряновского трактора повышает немного обороты, гусеницы в снегу начинают непонятное движение. Нет, они не вращаются, не выгребают из под себя снег. Судя по движению раскачивающейся кабины, гусеницы тоже качаются вперед – назад. Да так, что снег попадает под гусеницы и уплотняется. Минут через десять кабина трактора уже наполовину вылезает из снега. Трактор делает такие же движения, как человек вылезающий из трясины. Даже кажется, что его жесткий корпус волнообразно изгибается. Через полчаса трактор Зырянова стоял уже на «тверди». Вскоре он длинным тросом по очереди вытащил остальных…
После таких подвигов ювелирная работа Зырянова на монтаже бронеказематов казалась само собой в порядке вещей… Мои монтажники, имея Сашу с трактором, развивающим усилие до восьми тысяч килограммов, совсем забыли о домкратах, лебедках и других «медленных» средствах обычного монтажа. Главное – закрепить трос в нужном месте, и Саша обеспечит нужное перемещение, прижим с миллиметровой точностью
Расставаясь с Сашей, я написал несколько рапортов о его поощрении. К сожалению, я не знаю, как сложилась судьба этого удивительно талантливого паренька…
Семикрылый пятихрен
Где-то к 25 мая мы перевезли все 45 секций бронеказематов к месту монтажа. Последними рейсами в палатки на Д-2 перевезены все люди, имущество и оборудование. Мои матросы и солдаты размещаются в отдельной палатке, мы с Козловым подселяемся в офицерскую.
Передо мной в полный рост стает вопрос: как пятитонные кубики опустить и собрать в довольно глубоких котлованах? Единственный автокран, который мы сломали и затем восстановили, был в состоянии поднять только три тонны, да и то с оговорками. Но даже если бы он поднимал больше, то как его доставить к месту? Те, кто снаряжал экспедицию, очевидно, об этом не думали, решая «глобальные» задачи. Френкель на мои вопросы отвечал улыбкой и вдохновляющим похлопыванием по плечу:
– Что тебе, Коля, стоит дом построить? Нарисуешь – будешь жить!
– Давид Ионович, товарищ полковник! Дайте хоть чертежи, а то я шалаш вместо дома построю! – выпрашиваю я совершенно секретные чертежи. Чтобы взглянуть на них, я теряю уйму времени. Всякие зарисовки – категорически запрещены. – Или дайте вертолет, я к Вам в гости буду летать несколько раз в день!
Тут Френкель перестает улыбаться и вызывает секретчика:
– Лейтенанту нужны чертежи по БК, – это обязательно. Как их держать на площадке Д-2?
Секретчик-мичман мнется: никак невозможно, там нет условий для хранения, у него нет штатов, и т. д. и т. п. Френкель смотрит на него с любопытством, как на забавного котенка, затем четко произносит:
– Иди к своему Шнапсмюллеру и вместе решите, кто из вас будет сторожить чертежи на Д-2. Доложите мне через 10 минут. Чертежи на Д-2 должны быть завтра и находиться там постоянно. Все понятно? (Примечание: фамилию задумчивого майора я не помню, приведенная – просто созвучна).
Секретчик выскакивает как ошпаренный. Уже через час я расписываюсь за получение на руки толстенной папки совершенно секретных чертежей и пистолета ТТ с 16-ю патронами для охраны вышеозначенной папки.
С этого момента я потерял покой, охраняя пистолет. Папка с чертежами, никому, кроме меня, не нужная, спокойно лежит на тумбочке: все мы «совсекретные». А вот на пистолет, особенно на стрельбу строго учтенными патронами, – охотников не счесть. Приходится постоянно таскать с собой довольно увесистую «машинку» и закладывать ее под подушку на время коротких сновидений.
Разговаривая с Френкелем, я немного лукавил, потому что уже давно усвоил науку о спасении утопающих. Наверняка, знал это и полковник. Я уже придумал «монтажного монстра» и даже привез на Д-2 материалы для его сооружения. Основную идею подсказала работа двух корабельных лебедок с «выстрелами» на ледоколе. (Кажется, эта система называется «топенант»). Имея две лебедки (трактора), можно было перемещать грузы по вертикали и горизонтали. Не доставало мне только «выстрелов» – мачт, двух, или хотя бы одной. Требовалась некая точка подвески, расположенная над центром котлована на высоте около 4-х метров, и способная выдержать нагрузку 7-10 тонн.
Эта «точка» в металле выглядела в виде трехметровой наклонной А-образной стрелы из швеллеров, приваренной к сцепному устройству трактора С-80. Чтобы стрела могла выдержать большую нагрузку, ее поддерживала оттяжка тросом, закрепленная на тракторе, стоящем спереди трактора со стрелой. На вершине мачты приварен открытый зев – клюз, со скругленными углами и смазкой, через который свободно мог перемещаться натянутый стальной трос. Это и была нужная мне высокая «точка подвески». Трактора № 1 и № 2 размещали «высокую точку» над серединой котлована, натягивали трос-оттяжку и замирали. Трактор № 3 тяговым тросом подхватывал секцию БК, стоящую на берегу котлована. Трактор № 4 с противоположной стороны оттягивал секцию своим тросом, закрепленным на секции в общей точке с тяговым тросом.
Меня терзают сомнения. Сможет ли работать этот монстр? Точка подвески – низковата, но выше не могу сделать, так как трактор потеряет возможность ездить без поддерживающего троса. Надо бы и вторую точку подвески, как на корабле, но как тогда забирать секции с бровки? Усилия, конечно, я сосчитал, тросы и стрела должны выдержать нагрузки. Но требуется очень точная совместная работа, по меньшей мере, двух тракторов, работающих в режиме «перетягивания каната». А как эту «стаю» тяжелых машин переставить для следующего подъема?
Пару суток готовимся к монтажу. Привариваем стрелу, готовим нужные стропы и троса, сварочные агрегаты, бензорезы. Ближайший котлован готов, На его дно уложена гидроизоляция, сверху – настил из деревянных брусьев. Трактором № 4 управляет Саша Зырянов: мне нужен самый быстрый и точный трактор именно для оттяжки и подгонки секций.
Вся грохочущая колонна утром выходит «на дело». Накануне с Зыряновым все 15 секций были выставлены на снегу рядом с котлованом. Выставляю трактора, затем собираю всех ребят. Объясняю, как будем действовать: каждый на своем месте должен понимать смысл общей работы. Договариваемся о сигналах. Мне опять надо «выпендриваться» и работать двумя руками. Наблюдаю за своими монтажниками. Житков скептически улыбается, но молчит, остальные просто слушают. Сейчас для меня главное – работа трактористов, которые должны «перетягивать канат» с подвешенным пятитонным грузом. Командую: «по местам». Ну, Господи, благослови!
Схема работы «пятикрылого»
Третий трактор натягивает трос, Саша стоит на месте. Секция немного поднимается. Даю одновременный ход обоим тракторам. Секция поплыла в воздухе в сторону котлована. На середине – стоп тракторам – секция зависает немного смещенная к правому берегу. Назад третьему трактору – секция со снижением уходит к центру. Назад обоим тракторам – секция повисает в полуметре от настила. В котловане два матроса подхватывают ее и удерживают над разметкой. Еще назад тракторам – руками показываю 100 миллиметров. Секция одним краем касается настила, но немного уходит за разметку. Житков и Цопа внизу легко сдвигают махину на нужное место. Оба трактора – назад. Секция – на месте, троса свободно повисают. Их приходится снимать. Пока заводятся стропы на вторую секцию, все четыре трактора смещаются на ширину секции вдоль котлована. Зырянов это делает двумя точными движениями гусениц, остальные – тремя-четырьмя. Заводим тяговые троса, опускаем вторую секцию точно рядом с первой. Только с одной стороны зазор – около 15 мм, что для сварки недопустимо. Письменный прихватывает сваркой там, где «срослось». Тросом от зыряновского трактора выбираем зазор на другой стороне секции, другой сварщик – Симонов ставит вторую прихватку. Две секции собраны, стык можно заваривать. Сварщики радостно «бьют копытом»: начинается, наконец, их настоящая работа. Однако я их прогоняю из котлована: опасно.
Следующее перемещение тракторов происходит быстрее: все передвигаются двумя движениями, как Зырянов. Ставим и закрепляем до обеда третью секцию. Теперь и матросы, и трактористы действуют сноровисто и быстро, каждый уже знает свой маневр. У ребят горят глаза: мы делаем свое дело быстро и эффективно. У меня с плеч сваливается огромная тяжесть. Мой монстр, мой несуразный «семикрылый пятихрен» – работает!
Командую: «Обед!». Через две минуты заглушены САКи, отцеплены тросы. Четыре трактора с людьми в развернутом строю победоносно несутся в городок за три километра. Над первым трактором вместо флага колышется стальная буква «А»…
Только теперь у нас начинается настоящая работа. Круглосуточно ревут 4 сварочных агрегата: сварка – самая длительная работа. Я, Житков, 3 матроса, 4 трактора с 4-мя трактористами – собираем бронеказематы. Остальные, разбитые по сменам, сваривают стыки секций и насыщают сооружение всякими деталями – как внутри, так и снаружи.
Детали быстротекущей жизни
Собака, сидящая на сене, вредна. Курица, сидящая на яйцах, полезна…
(К. П. № 136)Я нигде не пишу, что делает вверенный мне техник-лейтенант Олежка. Он блистательно умудряется ничего не делать. Более того: я ему в этом помогаю всеми силами. Бывало, я поручал ему работу в качестве бригадира. Почему-то вся работа после этого немедленно останавливалась; среди людей начинались дискуссии, разброд, идейные шатания, – и это в лучшем случае. В худшем – бригада под его доблестным руководством начинала производить «антиработу»; чтобы исправить потом содеянное приходилось затрачивать уже настоящую работу.
Нельзя было отказаться от использования ценных качеств Олежки: его абсолютной стойкости против всяких высоких званий и авторитетов. Если надо было «подергать за хвост тигра» с большими погонами, довести до кипения нерадивого снабженца, – тут Олежка всегда был на высоте. А уж организовать «междусобойчик» из ничего – никто лучше Олежки этого не сделает. Добыл он где-то по старому блату литра два спирта и благородно бросил их на всеобщее лечение личного состава офицерской палатки от гастритов (именно так вылечился и я). Лечение обычно проходило перед сном, когда усталые до предела руководители собирались вздремнуть пару часов. Камбуз давно закрыт, но Олежка уже «развел» камбузного мичмана, и у нас все есть. Если я опаздываю, Олежка заботливо припрячет для меня «комплект боепитания».
Как известно, – все кончается, а казенный спирт, – так еще и очень быстро. Олежка прихватывает очень важного майора – врача, который имел несчастье однажды попасть к нам «на огонек»:
– Ну, ты майор, не жмись: наше шило пил, – давай теперь свои закрома раскрывай!
Интеллигентный майор не может устоять после такого намека и робко появляется с литровой бутылкой синей жидкости.
– Ты что, зараза, потравить нас задумал? – вопрошает его Олежка. Майор горячо доказывает, что это – «чистейший», а окрашен он «для испуга» жаждущих приобщиться. Общество в тяжелых раздумьях: очень хочется поверить майору, но и себя – жалко. Олежка исчезает. Появляется через минуту с полуведерной банкой консервированных персиков. Объясняет коллективу, что если предлагаемый яд разбавить персиковым компотом, то последствия применения образовавшегося ликера вовнутрь будут не столь ужасными. Банка вспарывается, и «юшка от персиков» наливается в миску. Туда же добавляется синяя субстанция. На наших глазах происходит чудо: смешиваемые компоненты образуют синий студень. Что делать с этим состоянием вещества – никто не представляет. Олежка достает ложку, отважно зачерпывает и пробует. Ошалевший майор, стремясь к реабилитации, – присоединяется. Сомнения успешно подавлены: в едином порыве коллектив осушает миску синего студня ложками. Кто-то вспоминает о томящихся в забвении персиках. Закусывать синий студень желтыми персиками – это круто (или – клёво?).
Смены у нас меняются в 6 часов утра. К этому времени я развожу на тракторе дневную смену по точкам, проверяю работу ночной и даю задание дневной смене. Часам к 9-ти привожу в городок на завтрак и отдых ночную смену. Из палатки появляется проснувшийся от шума Олежка. Сладко потягиваясь и зевая, он вопрошает меня:
– Ну, как там у нас дела, Никола?
– Достопочтенный сэр, разрешит мне сначала откушать, дабы надлежащим образом укрепить свои слабые силы, прежде чем приступить к докладу? Или Его Высокопревосходительство требует немедленной и безоговорочной сатисфакции? – выпендриваюсь я от комизма ситуации.
Олежка заворожено слушает мои рулады, затем восхищенно произносит:
– Ну, ты даешь, Никола!
Когда мне очень некогда, я просто посылаю Олежку куда подальше. Он размышляет секунду:
– Что ты не можешь в осях хотя бы рассказать…
Тогда я спохватываюсь и докладываю, что «в осях» мы бодро движемся к «зияющим вершинам», и советую «Его Высокопревосходительству» проср…ся по нашим великим стройкам для самоличного сбора информации «в осях». (Это его любимое словечко. Он не терпит избыточных точности и подробностей, ему более чем достаточно знать обстановку только «в осях»). Олежка не обижается, а мое пожелание просто пропускает мимо ушей. На следующий день все повторяется.
Матросы и солдаты работают с огромными перегрузками, без отдыха и выходных. Питались они в целом неплохо, но уж очень по-«северному»: макароны, консервы, сухая картошка. При работе по 16–18 часов молодым ребятам, конечно, этого было мало. Особенно страдала ночная смена, особенно сварщики, не вылезающие из задымленных казематов. Обратился к Френкелю; он предложил написать заявку. Ну, мы с Олежкой там порезвились в стиле «голубая мечта голодного детдомовца»: все равно 2/3 срежут. Выдали однако все: рыбный балык, мясные консервы, сгущенку, сахар, сливочное масло, печенье, чай, кофе. Белый хлеб специально досылался через день из пекарни на базе.
Через пару дней «камбузный» мичман пожаловался:
– А куда девались ваши люди? Не приходят теперь ни на завтрак, ни на ужин…
Я, обеспокоенный, пошел в палатку. Моя команда устроила собственный камбуз в палатке и «не отходя от кассы» лакомилась тушенкой, балычком окуня, белым хлебом, разводила и гоняла чаи-кофеи со сгущенкой, печеньем и другими добавками за тяжелую работу. На столе стояла открытая огромная жестянка с томатной пастой.
– А этот деликатес откуда? – удивился я.
– Эту цистерну Симонов еще с парохода прихватил, – объясняет Житков. – Он вахтенным сказал, что на всю команду нам выдали особый крем для смазки резиновых сапог. Только нас всех подло обманули…
– Как это?
– Да мы думали, что там свиная тушенка… А теперь – уже месяц от изжоги мучаемся. Может быть, заберете в офицерскую палатку?
– Спасибо, благодетели! Там изжоги от ваших художеств хватает… Симонов вынес – пусть он и потребляет. Впрочем, сдайте мичману в холодильник: он ее в борщ будет добавлять. А заодно сдайте и пару своих ящиков балыка: здесь все испортится. «Больше дней, чем колбас», – как говорит моя мама. Будете оттуда брать понемногу, да так, чтобы оставалось место для харчей с камбуза, куда вы все будете теперь ходить, – это уже приказание Житкову.
У нас технические неприятности. В одной секции БК есть входная дверь, массивная и герметичная. К ней стыкуется под прямым углом секция-тамбур с аккумуляторами, вентиляторами и отоплением для всего бронеказемата. Если поставить секцию по проекту, то единственной двери некуда будет открываться. Я просто обалдел. Проверяю тщательно по чертежам: открывать дверь будет некуда. Срочно сообщаю Френкелю. Через час рядом с объектом садится вертолет, оттуда выходят Фомин, Барковский, Френкель и еще несколько офицеров рангом помельче. Показываю «клюкву» в натуре и на чертеже. Контр-адмирал «выражается» по-русски, затем приказывает Барковскому, своему заму по строительству, будущему генералу:
– Срочно вызывай сюда этого заср…а Лексакова!
– Петр Фомич, он сможет сюда приехать не раньше, чем через неделю, – отвечает Барковский. – Да и сами монтажники придумают, как исправить.
Фомин втыкает в меня испытующий взгляд:
– Можешь, лейтенант, что-нибудь сделать?
– Можно вырезать отсек с вентиляторами и поднять его выше и ближе к входу. Потребуется усиление конструкции, – отвечаю я.
– Действуй! – решает адмирал. – А Лексакова – вызови, пусть полюбуется на свою стряпню, да в чертежи внесет изменения, – это уже Барковскому.
Несколькими месяцами позже генерал Евгений Никифорович Барковский в Ленинграде даст мне на отзыв проект подводной насосной станции водозабора на новоземельской базе Белушья. Станция эта скоро бы затонула: заварить герметично ее было почти невозможно. (Это я знал из опыта сварки бронеказематов – об «ошибке № 2» я расскажу). Проект после рецензирования исполнителям пришлось капитально переработать. Надо сказать, что они (ГПИ-1) сделали это с благодарностью: очевидная неисправимая авария обошлась бы всем намного тяжелее и дороже.
А меньше чем через год я, дежурный офицер на ледяной трассе от ледокола до берега бухты Черная, выдерну Барковского почти из-под гусениц трактора. Выла пурга, на бровях и ушах генерала намерз снег, и он просто не видел и не слышал надвигающегося сзади трактора. Тракторист, заметенный снегом в открытой кабине, тоже ничего не видел дальше двух метров…
«Ошибку № 2», к сожалению, я заметил слишком поздно. За нее пришлось расплачиваться несколькими сутками адской работы сварщиков и собственной. Стыкуемые кромки секций были обрамлены изнутри стальными уголками на прихватках. Когда секции были собраны на деревянном настиле, а уголки обрамления сварены герметичным швом, то оказалось, что вода свободно проникает в сооружение, используя щель между уголком и наружной обшивкой: уголки были ведь только на прихватках. Наружную обшивку мы теперь смогли заварить только с трех сторон, так как низ сооружения стал недоступным. Пришлось в темноте и тесноте задымленных бронеказематов обваривать с двух сторон уголки обрамления по всему периметру сплошным плотным швом. Поскольку проверить на плотность швы было невозможно, пришлось варить так называемым «гарантийным швом», когда монтажники без испытаний дают гарантию, что сварка не имеет течей. Это значило, что я сам, с лупой и лампой, проверял по миллиметру несколько сот метров сварки в очень труднодоступных местах внутри бронеказематов.
Имея за плечами такой чувствительный опыт герметизации объектов, я без труда обнаружил ту же ошибку в проекте подводной насосной и вовремя ее исправил…
В книге «Частицы отданной жизни. Воспоминания испытателей Новоземельского ядерного полигона» (ИздАТ, 1999) я действительно «с чувством глубокого удовлетворения» прочитал, что наши бронеказематы на Д-2 успешно выдержали несколько десятков атомных и термоядерных взрывов, в том числе – самый мощный взрыв на планете Земля. Он произошел 30 октября 1961 года. Мощность взрыва составляла 50 миллионов тонн тротила.
В упомянутой книге есть и мои воспоминания «Мы свято верили, что превыше всего – интересы Родины». (Записки монтажника 1956–1958 гг.). Там очень сжато описаны некоторые наши приключения. Для экономии времени позволю себе воспользоваться цитатами из статьи.
Однажды чудом избежали ЧП. Во время «светящегося тумана» впереди ничего не видно, зато следы гусениц сзади видны хорошо. От палаточного городка трактор поставили в нужном направлении и поехали, глядя назад. Со мной было 10 матросов (всего на тракторе «размещалось» до 20 человек – правда, нарушая все инструкции). До объекта – около трех километров ровного снега. Почему-то объекта долго не было, затем его заметили справа, остановились. Разведка выяснила, что это палатки, от которых мы уехали, а через 200 метров впереди был обрыв в море…
А вот, – о втором пришествии кинодокументалистов:
Затем снимали уже нас: перевозку металлоконструкций на «пенах». Правда, требования вернуться назад и все повторить мы не смогли выполнить: наши «пены» могли двигаться только вперед. Последнее наше участие в киноискусстве было совсем драматичным. Мы начали монтаж уже 3-го БК своим «четырехтракторным краном». Работники кино сначала хотели присмотреться к нашей работе. Мы развернулись, захватили и опустили в котлован первую секцию. Вдруг деревянный настил и гидроизоляция под ним вздыбились: в котловане была вода. Нашим «краном» поднять секцию назад было очень трудно. Я остановился, размышляя, что делать. «Поехали дальше», – говорит кино. ” Не могу, внизу вода», – отвечаю я. «Ничего, воду мы отрежем», – успокоило меня «кино»…
Пылятся где-то на полках киноматериалы из моей молодости. И если в массовках Киевской студии меня норовили снять со спины, то в кино «Новоземельской студии» я должен быть на переднем плане: сначала на тракторе рядом с Сашей Зыряновым, затем – при руководстве «семикрылым пятихреном»…
Расплата за длинный язык
Вот тебе хрен, а не белая пышка, – сказала тетушка Гульда и со свистом вылетела в печную трубу…
(Из присказок П. Смолева)Наша работа приближается к концу. Мне твердо обещано Френкелем, что, выполнив свою работу, группа будет первой оказией отправлена на Большую Землю (иногда ее называют у нас – Советский Союз). Вся группа в предвкушении конца работы и скорого отъезда «рвет постромки».
Я забыл морскую истину: не спеши выполнять, потому что может быть отмена. Правда, вместо отмены, – следует «прибавка». Мне добавляют еще работы: поставить уголковый отражатель в центре Д-2 и поднять на скалу ОПН – оптический пункт наблюдения. (Когда военные говорят «я», «мне», то в большинстве случаев следует понимать, что речь идет о его войске). Уголковый отражатель – громадная конструкция из трех взаимно перпендикулярных плоскостей, своеобразный «катафот». Он всегда отражает луч радара в направлении источника, поэтому очень нужен для прицеливания самолету, несущему для сброса бомбу. На отражатель у меня (у нас) ушло чуть больше суток. По установке ОПН, металлического сундука весом полтонны, состоялся интересный разговор. ОПН надо было установить на косогор скалы, куда вертолет не мог его доставить из-за воздушных прискальных течений, которые могли прижать вертолет к скале. Я предложил поставить прибор (собственно, – целое скопище приборов) этажом ниже, на отдельный холм перед скалой. Это чуть-чуть снижало прибору угол зрения, но давало колоссальную экономию средств: к прибору надо было ведь еще поднимать много материалов для устройства надежного фундамента. В ответ один из седых академиков, прибывших на площадку, мне разъяснил:
– Сынок, здесь столько затрачено денег, что твоя экономия кажется несущественной копейкой. И мы не можем даже незначительно снижать качество картинки на приборе ради нее…
Тем не менее, наверное, предложение все-таки было принято: эту работу мы не делали.
Меня вызывает на базу Френкель. Являюсь в штабную палатку. На плакате рядом с переговорным пультом женщина в красной косынке, прижимая палец к губам, озабоченно шепчет: «Тс-с-с… Враг подслушивает!» Давид Ионович ведет по радио совершенно секретные переговоры. Шептать он не может: не позволяет качество связи. Поэтому он орет в полный голос:
– Шмель! Шмель! Ты меня слышишь? А черт… Петров, ты меня слышишь? Ну, здоров, здоров. Слушай, к тебе завтра на стрекозе прилетит Арка! Что? Ты не знаешь, кто такой Арка? Это же Лучин! Так ты передай с ним обязательно заявку на недостающие для сдачи материалы! Понял? Ну, будь, не кашляй!
(Чтобы окончательно запутать американских шпионов, всем руководителям стройки присвоены клички. Вертолет именуется не иначе, как «стрекоза». Ничего не поделаешь: враг подслушивает, о чем предупреждает суровая тетенька в красной косынке).
Справка. Вот что пишет О. Г. Касимов, офицер 6-го Управления ВМФ («Частицы отданной жизни», стр. 76):
В конце 1954 – начале 1955 г. накал работы 6-го Управления дошел до «крайней черты». Шла интенсивная подготовка Новоземельского полигона к первому в СССР подводному ядерному взрыву.
Несмотря на строгую секретность и тщательную скрытность подготовительных работ, однажды нам принесли английский журнал «Nature» (Природа), в котором была помещена статья с рисунком контура Новой Земли, районом предполагаемого испытания и кратким описанием развертывания полигона. Впрочем, это никак не отражалось в борьбе за секретность даже там, где секретности и не было. Например, обеспечивающим кораблям были присвоены условные наименования «Почтовый ящик №..». И в вахтенных журналах, детально фиксирующих все события, происходящие с кораблем, появлялись записи типа: «В такое-то время, такого числа п/я №… отшвартовался по правому борту п/я №… (подчеркнуто мной – Н. М.)
Френкель, окончив совершенно секретный разговор, усаживает меня напротив и внимательно осматривает веселыми желтовато-коричневыми глазами.
– Ну, как у тебя дела, Коля?
– Последний БК сдам завтра, Давид Ионович. А с Вашими «добавками» надеюсь справиться за два дня. Так что через три дня – разрешите «взлет» моей группе? Вы обещали, – напоминаю я.
Френкель широко и радушно разводит руки:
– Ну, конечно, конечно, – раз обещал, все так и будет! Все сдаете, и уходите. У тебя ведь есть зам? Лежебока, если не ошибаюсь? – он прицельно смотрит мне в глаза.
На лень моего Олежки Козлова я никогда и не подумал бы жаловаться Френкелю, но откуда-то он все знает. Мне что-то перестает нравиться уклон нашего разговора, и я говорю:
– Да нормальный он мужик…
– Вот ты с этим нормальным мужиком и отправь группу в Советский Союз, – ловит меня на слове Френкель. – А себе отбери человек шесть матросов. Нет, нет, – больше не могу: они у тебя толстыми стали от доппайка, вертолет поломается.
– Давид Ионович… – только и могу произнести я. Глаза Френкеля стают серьезными:
– Коля, тебе надо лететь на Д-8. Фролкин там сидит в дерьме по самые уши. Не может поднять радиомачты. Ни одной. На всем антенном поле. Без поля все наши труды ничего не стоят. А там и после установки мачт еще работы и работы…
Я собственноручно вырыл себе яму, причем не руками, а языком. Во время совещания, еще на ледоколе, Френкель допрашивал капитана Фролкина из «пятнашки»:
– У вас не будет задержки с монтажом антенного поля?
Фролкин неуверенно мялся, сказал, что он никогда не поднимал радиомачт такой высоты. И тут я, самодовольный дурачок, подогреваемый читинской трубой, ляпнул:
– Да что там их поднимать…
Тогда мне казалось, что Френкель и не слышал моей глупости. Оказывается, и слышал, и помнил. Вот теперь пришла расплата за «недержание»… И винить некого.
Френкель видит меня насквозь. Его глаза опять улыбаются:
– Да что такому асу поднять два-три десятка мачт! А уж после них – тебе ковровая дорожка прямо до самого Питера!
Уже серьезно добавляет:
– Готовься. Список матросов Шнапсмюллеру отдай сейчас. Вылет – через два дня.
Я задумываюсь над списком. Самые нужные мне люди, – это те, кто больше всех выкладывался, надеясь на скорый отъезд. Они же – самые трудоспособные, они же – самые независимые и с чувством собственного достоинства. Мне тяжело будет им объявить о новом задании. Но только они мне и нужны. Вздыхаю и составляю список. Первые фамилии в нем: Житков, Цопа, Кравцов…
Собираю всю группу. Без всяких эмоций выкладываю перед ними обстановку. Житков горестно наклоняет голову и только спрашивает:
– А вертолет не забудут смазать? Он не упадет? Хорошо бы в море: там – мягче…
Я заверяю Житкова, что лично прослежу за смазкой вертолета. Прикажу обильно смазать даже лопасти. Больше всех «возникает» Семен Цопа:
– Та не. Я никуда не поеду. Не хОчу. Сколько можно ездить. И летать – тоже.
Матроса Семена Цопу, здоровенного украинского парубка, по всем воинским законам за строптивый язык давно уже пора отправлять в дисциплинарный батальон. Его выступления и «бурчалки» после получения любого задания я просто игнорирую: нет человека надежней и трудоспособней, чем Семен. «Отбурчав» свое, он впрягается в работу всегда по-настоящему. Он очень точно понимает смысл любой работы и всегда занимает самое трудное и самое решающее место. Цопе я возражаю молча: просто даю ему дружеский подзатыльник. Он затихает, понимая неотвратимость событий. Остальные ребята просто собираются; берем только самое необходимое и «сокращенный алфавит» – КЛМН – кружку-ложку-миску-нож. Из остатков доппайка каждому из спецгруппы достается по две рыбины балыка морского окуня и по две банки сгущенки. Перебазирую всю группу на Д-1 в прежнюю палатку. Даю «генеральное» ЦУ Олежке: прорываться. Он подтягивается: теперь он главный. Я уверен: с ним ребята выедут в «Советский Союз» первой же оказией, даже если этой оказии вообще не будет.
Мухи на меду строят радио
Вертолет садится в стороне от палаточного городка вблизи пирса. Мы готовы дальше добираться пешком: палатки недалеко, но нас почему-то сажают на гусеничный трактор. Проезжаем метров сто по раскисшей в лучах солнца дороге. Дальше начинается непонятное. Могучий гусеничный трактор на ровной дороге начинает глохнуть от невыносимой нагрузки. Двигатель постепенно снижает обороты, трактор останавливается. Тракторист выжимает сцепление, движок облегченно начинает тарахтеть бодрее. Сцепение вновь включается, трактор продвигается на полметра и опять бессильно начинает глохнуть, пока тракторист не выжмет сцепление. Такими рывками продвигаемся оставшуюся сотню метров до палаток. Смотрю из кабины на дорогу. Сероватая, хорошо размешанная глина на дороге едва достает трактору до трети высоты гусениц. Я знаю мощь С-80: он может тянуть тяжелый груз, почти погрузившись в грунт. Здесь же – трактор не может продвинуть сам себя на ровной дороге.
Рывками минут через 10 добираемся до палаток. Высаживаемся из трактора на деревянную платформу. От нее деревянные тротуары ведут к палаткам. Люди передвигаются только по этим тротуарам. Позже мы узнаем, что солнечной ночью один из офицеров, по пути из туалета оступился. Он так и простоял, увязший в неглубокой глине, пока его не вытащили проснувшиеся солдаты. Нас сразу предупреждают: ходите только по деревянным тротуарам, если не хотите испытать чувства мухи, неосторожно усевшейся на мед.
Нет сомнения, люди, которые выбирали место под приемно-передающий радиоцентр и палаточный городок, делали это в морозную погоду, исходя только из чисто технических соображений по радиоустройствам. Разве можно было предположить, что оттаявшая Арктика способна выдать такой «суффикс»?
Нахожу Сашу Фролкина: он виновато разводит руками. Пытался, дескать, – не получается, извини, дружище, за беспокойство. Идем на основной объект. Радиоцентр – невысокое, но большое по площади, бревенчатое здание. Оно должно быть обваловано землей и превратиться в холм. Выводы кабелей проходят по стальным горизонтальным трубам через толщу холма. Здание было наполовину обваловано серой глиной. Эту глину раньше как муравьи доставляли наверх в корзинах сотни солдат-строителей, затем все было остановлено. Глиняный холм начал незаметно, но неотвратимо, растекаться. Кабельные вводы, оканчивающиеся большими фланцами в помещении, сила сползающей глины шутя вырывала вместе с фланцами из толстых бревенчатых стен…
Первая 30-ти метровая радиомачта расположена рядом со зданием. Видны следы бесплодных усилий по подъему: в глине лежит падающая стрела из толстых бревен. Стрелу нужно поставить в вертикальное положение, чтобы она, «падая», могла поднять радиомачту. Фролкин рассказывает, что целая рота солдат не смогла поднять именно падающую стрелу. А поднимали ее по технологии бурлаков: тянули за веревки вручную. Потом еле выдернули из липкой грязи самих тянульщиков… Да, такой хоккей нам не нужен: тянуть надо трактором. И стрелу надо полегче и повыше.
Моя главная забота – из чего изготовить стрелу? На Д-8 есть только тоненькие водопроводные трубочки и больше ничего металлического. Часа через четыре у меня готов проект 8-ми метровой стрелы из этих трубочек. Она получается ажурной, но страшно трудоемкой: жесткости недостаточно, и придется сваривать пространственную ферму из сотни элементов. А их придется отрезать и подгонять вручную, затем сваривать. Если стрела не будет прямой, то она потеряет устойчивость и согнется при сжатии. Объясняю эти премудрости ребятам, и начинаем готовиться к работам. Не пропадать же нам в этом липком болоте…
Приходит гонец. Говорит, что к пирсу пришел бот, и на нем лежит какая-то непонятная железяка. Может быть, это для нас? Еду на пирс: нам очень нужны любые «железяки» в этом царстве тяжелых бревен и тоненьких трубочек.
Бог все же есть! На пирсе лежит падающая стрела из двух труб, соединенных фланцем. Все на ней есть, что надо: и опора с шарниром, и кольцо для тросов на вершине! Стрела тяжеловата, но она может разбираться на две части. Зато прочность и жесткость – выше всяких похвал. Не веря глазам своим, загружаем трубу на трактор и рывками «несемся» обратно.
(Позже я узнал, что драгоценный и своевременный подарок нам сделал по просьбе Чернопятова Боря Лысенко, ставший к тому времени командиром Североморской группы. А Чернопятова об этом попросил Френкель: он еще на ледоколе понял, что поднимать мачты будет не Фролкин, а я).
Через часа четыре напряженной работы первая мачта к подъему готова. Отпускаю ребят на подоспевший ужин. Погода тихая, в 22 часа начнем подъем. Ветра нет, солнце светит, лишние зрители будут спать. Майор Ступин, интеллигентный и по нашим меркам – пожилой, курирующий объект от ГВМСУ, советует мне отдохнуть до утра, но ни мне, ни моим ребятам уже не терпится.
В 22 часа все на местах. Лучший тракторист – наш. Я очень жалею, что не взял с собой Сашу Зырянова, и тщательно инструктирую «лучшего».
Деревянная 30-ти метровая мачта – серьезное, но весьма хлипкое сооружение. Она состоит из 5-ти толстых бревен, соединенных врезками встык. Врезки усилены стальными обручами-стяжками, к которым крепятся также 4 яруса оттяжек – «на все четыре стороны». Тросы оттяжек не сплошные: они разбиты на коротенькие участки весьма нежными «орешковыми» изоляторами из белого фарфора. Длинный «хлыст» мачты даже в лежачем положении оказывается очень гибким. На него заведены четыре яруса – всего 16 – довольно тяжелых оттяжек, но использовать их для подъема я не имею права, чтобы не повредить изоляторы.
Падающая стрела собрана прямо на лежачей мачте. Трактор натягивает трос, и стрела поднимается вокруг шарнира, закрепленного на мачте. Когда угол подъема достигает около 800, натягиваются тросы крепления стрелы к мачте. Собственно, трос всего один. Он свободно «гуляет» через кольцо на вершине стрелы. Мачта приподнимается с изгибами. Опускаем мачту и смещаем точки крепления троса. Теперь мачта уравновешена. Даю трактору команду на движение – подъем мачты. Одновременно поднимается паутина оттяжек. Подняли мачту уже градусов на 45. Вдруг она начинает трещать. Я останавливаю трактор: вершина мачты загнулась к земле. Ее отгибают почему-то туго натянувшиеся боковые ярусы оттяжек.
– Опускай! Майнай! Мачту сломаем! – кричит не своим голосом Ступин.
– Тихо! – приказываю я вышестоящему майору. – Не мешать!
Я уважаю Юрия Николаевича Ступина, и только поэтому задерживаю в себе более «конкретные» выражения. Майор удивленно замолкает и лезет в карман за валидолом. Мои ребята молча ожидают решения. Я уже понял, почему оттяжки согнули мачту: якоря боковых оттяжек ниже оси подъема мачты, что сначала было незаметно. По моему сигналу у каждого якоря стают по два матроса.
– Ослабить талреп верхнего яруса, – показываю справа. Цопа вращает талреп, и вершина мачты немного выпрямляется, но уходит в сторону.
– Житков, теперь – ты.
Мачта разгибается на глазах.
– Оба ослабьте набитые оттяжки на всех ярусах. Дайте слабину.
Ребята уже «усекли» свой маневр. Мачта опять становится прямой. Командую подъем. Мачта взмывает в небо. Стоит почти вертикально. Теперь – точная регулировка оттяжками, крепление оттяжек со стороны трактора, демонтаж стрелы. Кравцов, снимавший стрелу, влезает в глину и не может выбраться. Цопа бросает ему конец тросика, который через блочок на вершине мачты потом будет поднимать антенну. Натягивая другой конец тросика втроем, Кравцова выдергивают из липучки и подвешивают на высоте. Это уже кино и всеобщая ржачка, реакция после «напряженки» подъема. Ступин, поглаживая левую сторону груди, смеется вместе со всеми:
– Ну, слава Богу, все обошлось хорошо… А ты крут! – осуждающе говорит он мне.
– Извините, Юрий Николаевич! Подъем при многовластии, – как дитё у семи нянек. Может и без глаза остаться. Или – без двух, если повезет…
– Пожалуй, ты прав. Такую дуру подняли! Молодцы! Ну, – пошли отдыхать…
– Какой отдых, Юрий Николаевич, мы только начали работать. Теперь дело пойдет быстрее: мы уже знаем, чего бояться.
Ступин уходит на отдых один. До шести утра мы поднимаем еще три мачты. После завтрака спим четыре часа до обеда.
К следующему утру стоят уже все тридцатиметровые мачты и несколько поменьше высотой. Их мы «дергаем» половиной стрелы. Еще одна «продленка», и все три десятка радиомачт на Д-8 смотрят в небо, готовые принять нагрузку антенн.
На вертолете возвращаемся на Д-1. Нашей группы уже нет: Козлов вывез ее в Белушку, или «на точку Б». Будем догонять!
Страсти – рыбные, яичные и хрустальные
Френкель благодарит за работу, жмет руку. Подмигивает и смеется:
– А ты, дурочка, боялась! Может быть, хочешь остаться? Есть еще табак в пороховницах? Тут у меня есть для тебя и твоих асов еще кое-что. Да и яйца пошли на базаре…
– Давид Ионович, хотелось бы свои унести подальше! Когда? На чем?
– Ну ладно, – уноси. Послезавтра в Белушку идет «большой охотник». Ты и твои ребята уже включены в списки. Так что все закругляй, и – будь здоров!
У меня вырастают крылья. Домой, домой! Потом только соображаю: куда «домой»? В офицерское общежитие, из узеньких окошек которого видна только обувь пешеходов на Поцелуевом мосту? Нет, не домой, а «к ней»! Вот куда подсознательно и неизменно я стремлюсь, оказывается. Да и маму, и Тамилу я не видел уже два года…
Сначала «последние известия» сообщаю ребятам. Глаза у них радостно загораются, но Житков все же разочаровано тянет:
– Ну, вот Сеня, опять будем спать на старой соломе…
– Ничего, Коля, ты и примять ее не успеешь, как тебя опять на пуховые матрацы Шапиро положит, – утешают его друзья…
День у меня выдается напряженный. Надо сдать всю спецодежду, выписать аттестаты матросам, закрыть командировку и т. д. И главное – получить деньги. В экспедиции нам положены бесплатная кормежка и двойной оклад. Набежало кое-что.
Вечером в офицерской палатке – «отвальная». На огромной сковородке жарится яичница из нескольких десятков яиц, которыми меня соблазнял Френкель. Недалеко от Д-2 огромный птичий базар. На скалистом морском берегу птицы или природа устроила узенькие горизонтальные террасы. Конические, замысловато раскрашенные разноцветными точками, яйца кайр – больше куриных, слегка попахивают рыбой. Их сбор на базаре ведется просто и жестоко. В галдящую птичью массу на веревке опускается собиратель. Выбирает какую-нибудь террасу и ногами очищает ее от птиц и их продукции. Кайры орут и щиплют за ноги, но затем успокаиваются и опять принимаются за дело. На следующий день с этой террасы уже сгоняются только кайры, а яйца собираются все подряд: их свежесть гарантирована. Несколько сотен яиц помещаются в ладный ящик от взрывчатки. В нем и ручки удобные, и дощечки шлифованные…
Кайриную яичницу все едят «от пуза» уже целую неделю. Женька Дедов пытается выйти из привычной колеи: жарит только желтки и с сахаром. Жареный сладкий гоголь-моголь, попахивающий рыбой, смог есть только он один, несмотря на бешеную рекламу продукта.
Другое дело – голец, морской или озерный. Этот хищник северных морей, по вкусу и цвету очень похожий на семгу, – просто лакомство. Гольца можно солить, вялить, жарить: он хорош в любом виде. Пытаются охотиться на гольца многие, но добычу приносит один – пожилой старший лейтенант Завальный. Он – военный топограф, а у них там со званиями негусто. Можно честно прослужить всю жизнь, оставаясь старшим лейтенантом. Маленького роста, рыжеватый и веснушчатый, с нависающими на прищуренные голубоватые глаза кустистыми бровями. Завальный всю свою жизнь проводит в совершенно необжитых местах: прежде чем они станут обживаться, он должен провести съемку и составить карты. Поэтому жизнь в истинно первобытных условиях, когда охотник должен добывать себе ежедневное пропитание, стала его жизнью. Он любит и понимает природу, кажется, что он может разговаривать с птицами, зверями, озером, речкой. Его очерки о природе разных медвежьих уголков Родины, которые охотно печатают журналы, полны поэзии и глубокой наблюдательности. Очень похож на него внешне и внутренне его помощник – молодой лейтенант Витя. Молчаливый Витек просто влюблен в своего шефа и неизменно следует за ним в кильватерном строю с огромным рюкзаком.
Эта симпатичная пара в изобилии поставляет в офицерскую палатку больших свежих гольцов. На буржуйке, свободной от производства яичницы, часто шкварчит огромная сковородка с крупными кусками царских рыб. Жареные гольцы меняют розовый цвет на нежно-желтый, вкус их, особенно – в качестве закуски после «приема вовнутрь, стает еще восхитительней. Завальный и Витек неизменно отказываются от выпивки и с благожелательностью заботливых родителей наблюдают, как мы расправляемся с их дарами… Мне посчастливилось увидеть их «в деле».
В семь утра я с матросами, чистенькими и выглаженными, стоим уже на пирсе, хотя выход в море назначен на восемь. «Большой охотник» стоит у длинного, недавно выстроенного, пирса. Меньше трех месяцев назад на этом месте трактора сходили со льда, чтобы карабкаться с тяжелым грузом на гору. Сейчас бухта свободна ото льда, светит солнце, полный штиль. По всей длине пирса стоят человек пять-шесть военных с двумя просветами на погонах и хитрыми иностранными спиннингами. Это политработники. Они нагрянули на Землю, чтобы «обеспечивать», а заодно и получить двойной оклад. Поскольку все остальные выше макушки загружены работой, то прибывшие «вдохновители и организаторы» маются от безделья. Недавно матрос нашел у скалы прозрачную кварцевую друзу, очень красивую. Так эти ребята взорвали скалу и перебрали все камушки в поисках природного хрусталя. Много драгоценных сил им приходится уделять птичьим базарам и охоте на гусей. Наша шестерка – занята рыбным промыслом.
Блесны улетают далеко в залив, затем катушки благополучно возвращают их к исходной точке. Ни у кого не клюет, поэтому настроение рыбаков мирное и спокойное: рыбы нет. Подходит Завальный с Витей, на обоих огромные рюкзаки: «все свое ношу с собой». Военная судьба бросает их в очередную «черную дыру», где придется не только работать, но и просто выживать.
Мы пришли слишком рано. Топографы снимают свои рюкзаки рядом с пожитками моих матросов. Минут пять Завальный с интересом наблюдает за рыбаками и работой их хитрой оснастки затем не выдерживает и подает знак Вите. Тот раскрывает один из многочисленных карманов рюкзака и подает шефу некую мизерную снасть. Шеф накалывает на крючок бумажку и опускает в воду. Через несколько секунд на веревочке что-то трепыхается. Это оказывается некая фиолетового цвета килька, напоминающая бычка. Этого бычка Завальный кромсает ножом и его кусочки надевает на крючок побольше. Крючок плюхается в воду в метре от пирса, второй конец лески – в руках рыбака. Вода внезапно просто забурлила, и Завальный пошел по кромке пирса к берегу. Ведомый леской выскочил и забился на камнях берега большой голец. Его подхватил мой Цопа, замочив при этом отутюженные брюки и едва не выпустив скользкого гольца.
С корабля сбегает матрос в высоких резиновых сапогах. К этому времени уже второй голец оказывается у самого берега. Матрос подхватывает его и слегка ударяет, голец перестает вертеться. Добыча двух крупных гольцов – событие, но наш рыбак и не думает останавливаться: он таскает гольцов так, как будто их набили в бочку, и они ждут не дождутся, когда им подадут крючок…
Это было невероятно. Спиннинги свернуты, у владельцев «морды лиц» зеленые от черной зависти. Вся команда «Большого охотника» во главе с командиром находится на пирсе. Каждого очередного гольца встречают дружными криками. К командиру БО подбегает вахтенный:
– Товарищ командир, рейд запрашивает: почему не выходим?
Командир – тоже человек: азартный, любящий рыбу и не уважающий иностранные спиннинги в руках «товарищей». Он отмахивается от матроса, как от назойливой мухи:
– Передай – машина неисправна. Исправим – выйдем!
После семнадцатого гольца, размерами немного меньше предыдущих, Завальный сворачивает свою нехитрую снасть.
– Все. Больше ничего не будет, – сообщает он спиннингистам, как будто ему позвонил из морских глубин сам Рыбий Бог. «Ребята» уже готовились забрасывать свои блесны прямо у пирса на таком рыбном месте. После этих слов их лица вытянулись еще больше.
Мои матросы и я незаслуженно греемся в лучах чужой славы. Наше общество с триумфом поднимают на борт. Рыба – на камбузе, матросы – в кубрике, офицеры водворяются в кают-компанию. Наша бригантина поднимает паруса, осторожно выходит из бухты. Вскоре вокруг носа корабля вскипает и делится надвое белый бурун.
Полтора суток до Белушки проходят незаметно. Мы катаемся как сыр в масле, вся команда «большого охотника» старается, чтобы настоящим рыбакам было хорошо на их корабле…
В полдень следующего дня, лавируя среди разношерстных судов на рейде, наш гостеприимный корабль швартуется у пирса, и мы ступаем на землю новой, теперь – военной, столицы Новой Земли. Вид с моря у нее не очень вдохновляет: серые разнокалиберные строения разбросаны в беспорядке. Снега почти нет. Дорога без подобия тротуаров покрыта жидкой грязью, по которой снуют военные вездеходы, некоторые из них лязгают гусеницами.
Оставив матросов на пирсе, сразу отправляюсь к морскому начальству. Представляюсь дежурному – капитану третьего ранга, рассказываю о цели прибытия и острой жажде убытия. Кап-три встречает благожелательно, все понимает с полуслова. Он говорит мне, что через три часа в Мурманск уходит буксир «Амазар», который будет тянуть за собой пустой лихтер (морскую баржу) «Чукотку». Эта самая «Чукотка» могла бы забрать все население Новой Земли, правда – без удобств. Заберет и мою группу, если мы успеем собраться и оформиться. А ежели не успеем, то разговор о следующей оказии может произойти не ранее, чем через две недели.
На последних словах дежурного я уже пускаюсь в бег. Успеваю только слезно попросить кап-три: – задержать выход каравана, если мы будем опаздывать на какие-то считанные секунды…
Я даже не мог представить, какой «суффикс» приготовил мне мой боевой зам – техник-лейтенант Козлов О. С.
Находим казарму, где должны быть наши матросы. Сидят несколько человек, остальные – тоже сидят, но на гауптвахте. Свирепый новоземельский комендант Сосна отправил их туда за разгильдяйский внешний вид. На вопрос, где Козлов, матросы многозначительно пожимают плечами. Мне некогда миндальничать: я ору: «Где? Кто знает?». Точно никто не знает, но знают магазин Военторга, где работает женщина, с которой его видели несколько раз. Выписываю записку об увольнении двум матросам (без нее они на улицах поселка – самовольщики и подлежат заключению на ту же гауптвахту). Матросы тем временем приводят себя в «уставной» вид. Задача матросам: отыскать Козлова и дать ему задачу: немедленно снять команду с довольствия и выписать продовольственный аттестат.
– И все бегом, сынки, а то будете загорать здесь еще долго! (Я еще тогда привык шутливо обращаться к своим матросам «сынки», хотя мы были почти ровесниками. Постепенно обращение перестало звучать шутливо. Сейчас можно бы без юмора употреблять обращение «внучки»).
«Сынки – ровесники» все уже поняли и с места срываются в карьер. Я несусь в комендатуру вызволять своих разгильдяев. Коменданта Сосны нет на месте, а без него никто не решается сократить моим орлам срок заключения, который истекает завтра. Я ношусь по кабинетам замов, прошу, уговариваю. Однако действует только скрытая угроза: если я не заберу эту команду сегодня, сейчас, сей секунд, то они здесь будут разлагаться морально и физически еще очень долго. Наконец, один из офицеров комендатуры не выдерживает натиска, берет «рули» на себя и пишет на гауптвахту записку о досрочном освобождении моих матросов. Несусь на гауптвахту. Моих там нет: они где-то занимаются уборкой территории. Провести туда может только один мичман, который только-только ушел на обед и будет не раньше, чем через час. Я в изнеможении просто падаю на табуретку. Собственная шинель наваливается на меня всей тяжестью и немилосердно греет. Время, остающееся до ухода каравана, стремительно сокращается как шагреневая кожа. Рисуются очертания светлого будущего: две недели «загорания» после трех месяцев круглосуточного штурма…
– Товарищ лейтенант! Я их сейчас приведу: они тут недалеко, – это произносит маленький матросик, который до этого заполнял цифрами какую-то отчетную «простыню». Я с благодарностью смотрю на него и прошу:
– Спасибо, сынок: Родина тебя не забудет никогда! Только очень торопись, – иначе будет уже поздно!
Минут через пять прибегают мои матросы. Им надо еще получить свою одежду и сдать рабочие робы, в которые они облачены. Заботливый матросик из комендатуры уже выписал на них продаттестат. Я с чувством жму его честную руку: есть же нормальные люди. Велю матросам бежать в казарму после переодевания и сам бегу туда.
Козлов уже там. Обращается ко мне с извечным: «Ну, как там дела, Никола?». Мне хочется врезать ему между красивых глаз, чтобы объяснить, как у нас движутся дела, но я только в нескольких словах объясняю ему, что я «об нем думаю», затем спрашиваю:
– Аттестаты взял?
Олежка что-то вальяжно начинает мне рассказывать.
– Взял или нет? – прерываю повествование.
– Да нет же. Я объясняю…
– Имей в виду: у нас остается полчаса до посадки. С командой я уйду, а ты останешься добывать аттестат здесь…
Олежка недоверчиво кривит губы:
– Ну да, а как матросов будешь кормить?
– Да очень просто: за свои деньги. Потом – с тебя вычту.
Олег начинает соображать, что шутки кончились и с места срывается в карьер.
Живописную толпу матросов и солдат я веду в порт. Построить их для передвижения в пешем строю, как велит устав строевой службы, – невозможно: мешают навешенные со всех сторон вещмешки и чемоданы.
В порту доброжелательный кап-три уже выглядывает нас: получено «добро» на выход в море. Начинаем загружать команду на высоченную палубу пустого лихтера. Я тайно приказываю ребятам тянуть время и не торопиться: может, Козлов еще успеет. Вот уже загружены все 25 человек, все чемоданы, все рюкзаки и «сидоры» (именно так в войну называли вещмешки). Мои вещи – на буксире.
– Ну, всё? – спрашивает дежурный. Я очень прошу протянуть время еще на 10 минут. Кап-три скрепя сердце соглашается: ему может влететь за задержку. На исходе восьмой минуты появляется Козлов с чемоданом и продаттестатом «в зубах». Я предлагаю Олежке забираться на лихтер. «А ты?» – спрашивает Олег. Я показываю рукой на палубу буксира. «Ну и я с тобой», – мгновенно принимает решение Олежка и смело ступает на палубу буксира. На радостях я прощаю ему такое самоуправство: команде на лихтере он бесполезен, Коля Житков там справится лучше. С «самоволкой» – самовольной отлучкой с палубы баржи в Баренцевом море – тоже можно быть спокойным…
Идем в Мурманск. Ветерок небольшой, но маленький восьмисотсильный буксир «Амазар» сильно и как-то неритмично болтается: тяжелый двухсотметровый трос, тянущий баржу, вносит в качку от волн свою частоту колебаний. Высоко поднятый над волнами острый нос «Чукотки» выписывает правильную восьмерку. В бинокль видны на носу мои матросы. Перегибаясь через фальшборт, они периодически удобряют Баренцево море недавно съеденной пищей, которой по продаттестату накормил их кок на лихтере…
На «Амазаре», буксире финской постройки, гражданская команда. Мы внесли деньги в судовую кассу и питаемся вместе с командой. На буксире все сделано удобно и надежно. Деревянный стол в уютной кают-компании имеет высокие борта, которые не позволяют тяжелым фаянсовым кружкам сваливаться со стола. Мается команда с одной нерешенной проблемой. На борту есть киноаппарат и фильмы, но смотреть их нельзя: в бортовой сети постоянный ток. Добыли немецкий умформер (преобразователь), но никто не может разобраться в его многочисленных выводах.
Я потихоньку влезаю в это дело и перестаю замечать и качку, и время. Когда кино «пошло», наш караван уже входил в залив. Особенно приятно было увидеть чахлые, но зеленые, сосенки на серых берегах. От зеленого цвета мы совсем отвыкли…
В Ленинград мы приезжаем в последнее воскресенье июля – День Военно-морского Флота СССР. Нас встречает большой грузовик с сиденьями. Я делаю своим ребятам небольшой подарок: мы проезжаем по всем основным набережным Ленинграда. Это можно сделать: грузовики с людьми имеют права автобусов. Да еще в День ВМФ, да еще с людьми в форме военных моряков. На Неве стоит много военных кораблей, по набережной гуляет народ, который дружески машет руками моим ребятам. Если бы они знали, что мы, не щадя себя, строили атомный полигон. Без нашего труда нельзя совершенствовать оружие огромной мощности, которое способно уничтожить не только военного противника, но, заодно, – и всю планету Земля…
16. Горячая осень 56
Если выпадает холодное лето (53 г), то осень может быть и жаркой (56 г).
(Из опыта)Микробам надо расти быстрее
Прокатив «вверенный личный состав» по праздничным набережным Ленинграда на День ВМФ, я отвожу их в часть и сдаю на попечение местных отцов-командиров. Мне нужно еще пару дней с понедельника, чтобы оформить столь желанный отпуск. Ночлег мне предоставляет офицерское общежитие во Флотском экипаже у Поцелуева моста. Вечером Олежка Козлов, очевидно, замаливая свои грехи, тащит меня на танцы в Дом офицеров на Литейном. Деваться некуда: Павка Смолев на своем крейсере, Валера Загорский – доит коров на целине (мы шутили, что он скорее склонен к дойке самих доярок). От скуки и из любопытства плетусь с Олежкой на эти танцы.
Моему удивлению нет предела: Олежку здесь все знают. Маши, Вики, Веры, Нины приветливо произносят:
– Привет, Олежка! Что-то тебя давно видно не было!.
– Служба, Маша! (Вика, Вера, Нина и т. д.), – отвечает мой Олежка, ни разу не перепутав имен приветствующих дев. Олежка расправил крылья: он в своей тарелке. Мне становится стыдно: такого орла я заставлял вникать в монтаж каких-то железяк.
– Откуда ты всех знаешь? Как ты их различаешь? – удивляюсь я: все девицы, довольно пожилые, мне кажутся на одно лицо.
– Да они ходят сюда годами, надеясь найти жениха, – проницательно и пренебрежительно ставит девицам общий диагноз Олежка, одновременно давая понять, что сам он женихом для них не станет никогда. Впрочем, танцевать и поболтать об общих знакомых, – всегда, пожалуйста…
Я – инопланетянин в этом спаянном коллективе и вскоре отчаливаю в свое общежитие. Среди офицеров встречаю одного старого знакомого и коллегу Севастьянова. Он рассказывает мне долго и нудно, как его обижают сверхсрочники и даже матросы. Мне его жаль.
– Ваня, ты же целый инженер-лейтенант! Да поставь ты их всех раком и сделай вливание, как следует, чтобы неповадно было!
Севастьянов только грустно улыбается. Я понимаю, что все будет точно наоборот, и с этими предвидениями засыпаю.
В понедельник Шапиро просто столбенеет, увидев меня. Я докладываю официально:
– Товарищ подполковник! Вверенная мне группа поставленные задачи выполнила и прибыла в часть в полном составе без замечаний. Командир группы лейтенант Мельниченко.
Подошедший Чернопятов и Шапиро начинают недоверчиво расспрашивать меня:
– Что все три БК сделали? И сдали? Не было пятитонного крана? Почему ты мачты согласился поднимать вместо 15107? Френкель тебе так сказал? А стрелу получил? Как, и уголковые отражатели? Как испытывали на плотность? Форму два закрыл?
Вопросы сыплются на меня в течение получаса, я коротко отвечаю. Только теперь узнаю с удивлением, что Френкель еще с ледокола послал шифровку, что поднимать мачты буду я, после чего ДН позаботился о падающей стреле, чтобы я не «пролетел».
Шапиро, наконец, удовлетворенно откидывается на спинку кресла, Чернопятов победоносно смотрит на него. Я понимаю этот взгляд: это Чернопятов настоял на командировке меня вместо Марусенева и теперь молча говорит Шапиро: «Видишь, все обошлось, как я и предвидел». Я рад, что не подвел хорошего человека, у которого многому научился.
Моему долгожданному и многострадальному отпуску наконец зажигается зеленый свет. Завтра я получаю отпускные, проездные, всякие шмотки, и в путь. К ней, к ней!
В части встречаемся с Витей Мурашовым. Он такой же тотальник, но с Урала, мы вместе с ним проходили «курс молодого лейтенанта». Витя после одной командировки уезжает в следующую – на Север, нам есть о чем поговорить. Поскольку хочется еще и поесть, и приобщиться к цивилизации, отправляемся с ним в ресторан «Северный» на Садовой рядом с Невским проспектом (потом там был, кажется, азербайджанский ресторан, сейчас – не знаю что).
Денег у нас достаточно, и мы заказываем всякие вкусные вещи, в том числе – заливной язык, паюсную икру, хороший коньяк. Сидим, наслаждаемся общением, гуторим. Единодушно отвергаем предложение официанта о подсаживании «девочек». Сытые и довольные отправляемся на Московский вокзал, сажаю Витю в поезд, отправляюсь в общежитие и заваливаюсь спать.
Около двух часов ночи просыпаюсь: меня неудержимо «мутит». Принимаю известные меры. Как будто полегчало, но через минуту все начинается сначала. Меня неудержимо выворачивает, хотя я уже все отдал, что имел. Креплюсь из последних сил, один раз непроизвольно застонал. В полубреду вижу над собой обеспокоенное лицо Севастьянова. Он что-то спрашивает, я ему бормочу, что надо сообщить как-то в поезд: там Мурашов, он – отравился… сейчас он в дороге… а я – выдержу. Севастьянов ничего не может понять, но действует правильно: вызывает скорую. Приезжает военная скорая. Медкнижки со мной нет, она где-то в части, и врач начинает заполнять новую, тщательно записывая все-все мои анкетные данные. На вопрос: комсомолец ли я, у меня еще хватает силы сообщить врачу, что для могильной плиты эти сведения не так уже и нужны.
Дотошный эскулап спохватывается, и с недозаполненной анкетой меня загружают в машину. В три часа ночи я попадаю в 1 ВМГ – Военно-морской госпиталь. Раньше он располагался в нескольких домах на проспекте Газа, напротив нынешнего госпиталя.
Дежурный врач пытается сделать мне промывание желудка. Мы вдвоем пихаем толстую резиновую трубку мне в горло. Она упорно туда не лезет, несмотря на совместные усилия.
– Тогда пей! – приказывает врач и ставит передо мной 10-литровое ведро теплой воды, хорошо подкрашенной марганцовкой. Я с усилием выпиваю одну кружку.
– Все ведро надо выпить! – требует врач. Я что-то блею о клятве Гиппократа, которая автоматически должна была превратить моего мучителя в гуманиста, но расстегиваю брючный ремень и начинаю вливать в себя жидкость кружка за кружкой. Вторую половину ведра я закачал в свое чрево, освободившись от предыдущей. Меня уложили в постель и поставили большую капельницу на вену. Я слышал слова «против обезвоживания организма». Какое может быть «обезвоживание организма» у человека, только что выпившего полное ведро воды? Что-то бормоча на эту тему, я проваливаюсь в сон.
Утром я просыпаюсь, совершенно здоровый и голодный, как пес. Поднимаюсь, ищу свою одежду. Ее нет, на мне только матросские, много раз стиранные, белые кальсоны и такая же рубашка. Приходит врач, вежливая пожилая женщина, беспокоится о моем самочувствии. Я говорю, что совершенно здоров, и прошу меня сразу выписать из госпиталя: очень некогда. Врачиха замахала сразу двумя руками:
– Что вы, что вы! У вас может быть инфекционное заболевание! Мы взяли мазки, высеяли микробы… Посев должен вырасти. Только после его анализа можно будет принять решение о вашей выписке…
– И долго они будут вырастать до нужной кондиции?
– Ну, минимум – десять суток!
– Вы что – смеетесь? Целых десять суток я, «тяжело здоровый», буду здесь валяться? Да я в отпуске не был уже больше двух лет! Меня мама и невеста ждут не дождутся!
Женщина проводит со мной беседу о тяжелых инфекционных заболеваниях. О скрытом периоде развития вредных микробов в утробе безответственного носителя, а, следовательно, – и распространителя, инфекции… Призрак 10-ти бесполезных дней встает передо мной в полный рост, и я не могу сочувствовать достижениям медицинской науки. Твержу, что совершенно здоров, и требую немедленной выписки. Врачиха обиженно поджимает губы, доводит до моего сведения правило «закон суров, но это закон» и уходит.
В отчаянии начинаю перебирать способы освобождения из госпиталя. Их почти нет: мои одежда и документы в руках тюремщиков. Приносят завтрак, и я вспоминаю о старом способе психического давления на угнетателей всех мастей: голодовка! Демонстративно отодвигаю вожделенный завтрак и сообщаю сестре, что объявляю голодовку, пока меня не выпустят из госпиталя. Сестра удивленно пожимает плечами и уходит, оставив завтрак на тумбочке.
Хочется есть. Начинаю понимать Васисуалия Лоханкина, тайком таскавшего мясо из борща после объявления голодовки. Отворачиваюсь на другую сторону.
Перед обедом приходит седовласый полковник, начальник отделения госпиталя. Осматривает меня и нетронутый завтрак, покачивает головой.
– Ты, сынок, недавно служишь в армии? Два года всего… Ты должен уже знать, что в армии отказ от пищи является воинским преступлением. Почти как «самострелы». Так что нам придется кормить тебя принудительно. А когда вылечим, – милости прошу на гауптвахту. На полную катушку – десять суток!
Такая перспектива меня сражает наповал. Отдать целых десять суток жизни неторопливым микробам, а потом еще десять – любителям Дисциплинарного и Строевого уставов! Тяжело вздыхаю: от посеянных микробов не отделаться, но еще десять суток на губе – это уже лишнее, ребята. Приносят обед. Сполна воздаю ему должное, кое-что даже добавляю из остывшего завтрака. Аппетит после выпивки целого ведра – зверский, даже если это было ведро марганцовки. Уже через день меня все же выписывают из госпиталя. А я еще ругал бедных микробов! Конечно, они все поняли, и начали расти быстро, как и подобает нашим, монтажным, микробам!
В Североморске трубку берет сам Мурашов. Он удивлен: никаких желудочно-микробных приключений у него не было, – ни в поезде, ни потом. Значит, это был мой личный, сугубо индивидуальный, заскок. Что-то я второпях проглотил такое, чего не досталось Мурашову. Название подлой субстанции осталось неизвестным…
Наконец-то, наконец!!! Все формальности – позади, я в так долго ожидаемом отпуске!!! Для ускорения передвижений лечу самолетом до Киева. Тем более, что в Киеве, на неизвестном Дионисиевском переулке, надо найти жену Левы Мещерякова, поздравить ее с рождением сына, которого папа еще не видел, и передать посылочку с очень далекого Севера. Проделываю все намеченное, знакомлюсь с Людой и новорожденным. Забегая вперед, скажу, что Мещеряковы стали нашими самыми близкими друзьями до сего времени, – а это уже полстолетия без одного года. Саша Мещеряков долгое время оставался нашим единственным ребенком на две семьи…
Через несколько часов из поезда Киев – Одесса я высаживаюсь в незабываемых Рахнах, с которыми связано так много в моей жизни. Оружейной свалки здесь уже давно нет. Почти неизменной осталась старинная дорога к Деребчину, с вековыми липами по сторонам. Целых пятнадцать лет уже прошло, когда я здесь последний раз видел отца. Ты, папа, всегда мне говорил, что наша фамилия – честная и трудовая. Что я должен в будущем тоже заботиться о сохранении этой репутации. За прошедшие пятнадцать лет я ведь не подвел тебя, папа?
Глоток свободы
Свобода – это осознанная необходимость.
(Кто-то из мудрых)Маму из нашего родового поместья выселили. Да и зачем ей, одинокой, разваливающаяся хата и большой огород, которые требуют капвложений и непрерывной работы мужских рук? Теперь мама снимает комнату у знакомых. Впрочем, там все знакомые, и знают даже, что готовит дальняя соседка на обед.
Тамила уже окончила институт и работает по распределению в Вашковцах возле Черновцов. Это уже Западная Украина со всеми вытекающими последствиями. Как-нибудь потом я напишу о печальной судьбе моей дорогой сестренки…
По сельскому обычаю мама созывает всех соседей, готовит угощение. Я уже далек от этих мероприятий, но мама хочет показать всему Деребчину, что приехал такой(!) сын, и я не могу ей отказать. Да и пусть знают ее угнетатели и обидчики, что она стоит за моими широкими плечами… Посещаю знакомых, Яковлевых. Ребят моего поколения, точнее – товарищей, уже нет почти никого. Трудятся на необъятных просторах Родины Славка Яковлев, Боря Стрелец, Леня Колосовский. Однажды я надеваю парадную форму и прохожу к заводу, чтобы отведать стариков Яковлевых и Стрелецких, где мы встречались с Эммой. После моего похода одна знакомая говорит маме:
– Видела вашего Колю. Такой заслужОнный!!!»
Все мои «ордена» в то время составляли только блестящие нездоровым блеском пуговицы и якорный орнамент на лацканах тужурки. После этого я перестал надевать форму, чтобы не вызывать нездоровый ажиотаж среди аборигенов…
Почти неделя у меня уходит на поездку к Тамиле. Был я и у дяди Антона. Он строит дом в Виннице, и мои деньги ему были очень кстати (в жизни чрезвычайно мало ситуаций, когда деньги появляются «некстати»). Дядя хотел записать их к себе в долг, но я ему сказал, что это я отдаю свои долги, и то – пока не полностью.
Эмма в Брацлаве. Меня тянет к ней, хотя я не очень знаю, как там буду «представляться» ее родителям. Вскоре к Яковлевым приезжают гости из Польши, и вместе с ними, веселой компанией, мы едем в Брацлав. У нас там всего несколько дней. Я жду не дождусь, когда Эмма поедет в Киев на учебу. Я туда тоже уеду с ней.
Родители принимают меня радушно. Правда, они вообще гостеприимные люди, тем более – я с польской делегацией. Конечно, они понимают, что я приехал только к Эмме.
Конец лета выдается жаркий, и мы значительное время проводим на речке. Южный Буг в Брацлаве широк и хорош. Со стороны города пляж оборудован всякими скамеечками и удобствами, кроме того, много деревьев, создающих тень. После Новой Земли я «бледный как сметана» и стараюсь загорать понемногу. Федор Савельевич – мужик вообще азартный. Когда-то в Деребчине мы с ним уже соревновались в то, что сейчас называется «армрестлинг». Он испытующе смотрит на меня и предлагает:
– Ну что, посоревнуемся? Кто быстрей переплывет на тот берег?
Я честно признаюсь, что плаваю как топор, но на ту сторону переплыть смогу. Без всяких соревнований мы тихонько переплываем на пустынный противоположный берег, где раньше добывали известняк. Тут на камнях ничего не растет, и мы усаживаемся прямо на солнцепеке.
Федор Савельевич очень осторожно начинает речь издалека. Сначала – о том, что «люди влюбляются, женятся». Это – естественно и хорошо. Плавно переходит ко второй части доклада: что я, вроде, парень «ничего», и ни он сам, ни Мария Павловна, против меня ничего не имеют. В третьей части своего выступления Федор Савельевич кратенько обрисовывает роль высшего образования в нашей жизни. Оно просто необходимо даже тем людям, которые могут заработать себе на жизнь собственными руками, например – мне. А Эмма сейчас только окончила первый курс, и если ее ввергнуть в омут семейной жизни, то окончание института станет или вообще невозможным или окажется слишком трудным. Исходя из вышесказанного, переходим к заключительной части беседы. Федор Савельевич очень просит меня подождать: пусть Эмма хотя бы окончит четыре курса из пяти…
Я назвал наш разговор беседой. Конечно, это была не беседа, а монолог любящего и заботливого отца, его мольба перед жестоким хищником, которому просто самой природой предназначено отнять и съесть его любимого ребенка, его доченьку… Я мог только поддакивать его неотразимым доводам. В итоге: я твердо обещаю ждать до окончания четвертого курса… А что мне оставалось делать? Я очень хорошо понимал заботы и тревоги любящего отца. У меня в голове, конечно, были соображения насчет всяких разных волков, которые жаждут «схавать» моего ягненка. Да и вообще, время – не всегда наш союзник: может случиться, что «сменит не раз младая дева…». Эти мысли требовали просто «демонического» ответа: «Оставь ее: она – моя».
Но другие мысли удерживали меня от столь романтического выпендривания. Я – не всемогущий демон, а всего лишь младший офицер монтажной части ВМФ. И куда же я привезу свою «царицу Тамару»? У Демона в изобилии были хоть какие-то пещеры в преисподней, а меня – так даже с общежития выселили… Он обещал сделать свою Тамару царицей мира. А наше будущее место – не в «межзвездных эфирах» и даже не в «блистательном Петербурге – Ленинграде», а где-нибудь в сопках и на островах обширной Родины, где моя подруга будет жить в шалаше и может стать только дамой местного гарнизона… Разве могу я подвергать девочку, совсем дитя, выросшую под крылом любящих родителей, таким передрягам своей собственной жизни?
Я сдался. Я отложил срок нашей совместной жизни на два года. Целых два года, за время которых могло случиться что угодно…
… Солнце уже припекало по-настоящему. Из цивилизованного берега нам начали кричать, что мы сгорели. Действительно: наши бледно-белые тела за время прений успели приобрести цвета пионерских галстуков.
Киев – наш город
Знову цвітуть каштани,
Хвиля дніпровська б›є,
Молодість мила,
Ти щастя моє…
Мы ненадолго расстаемся, и встречаемся с Эммой уже в Киеве. Я предусмотрительно выписал отпускной билет в Киев тоже. Меня без всяких препон принимают в большое общежитие военной гостиницы «Звезда», – она находится совсем рядом с площадью Калинина, – теперь это знаменитый по Оранжевой революции «Майдан Незалежності». Эмма поселяется на прежнем месте – у «тети» Лизы.
Мы бродим вдвоем по прекрасному городу, по его паркам и набережным. Толпы народа позволяют чувствовать себя в уединении. Еще хорошо – сидеть на скамейке в парке. Чтобы совсем уединиться – мы садимся в такси. Комфортабельные «Победы», у которых нет избыточного остекления, прячут нас в своем уютном чреве. Мы общаемся на каком-то подсознательном уровне. Наверное, мы разговаривали и вслух о чем-нибудь, шутили и смеялись, но это было несущественным и второстепенным…
С первого сентября Эмма начинает посещать институт, и мне приходится забирать ее от тети Лизы, которая меня люто ненавидит. Но, боится – значит уважает. Стоит мне посмотреть на нее, как она немедленно ретируется. «Воздыхатели» Эммы не появляются: тетя Лиза их, наверное, напугала моей мрачной персоной тоже…
Мы не можем не касаться нашего будущего, хотя оно видится в очень далеком тумане. Главная наша нерешаемая беда: нам негде жить. И тут мне в голову приходит одна идея.
– Слушай, Малыш (наверное, я обратился к Эмме как-то по-другому, но я в дальнейшем буду использовать именно это обращение: оно закрепилось у нас окончательно за долгие годы). Слушай, Малыш, дай мне в руки одно оружие для борьбы за наше будущее. Мой малыш вопросительно смотрит на меня. Я поясняю:
– Одинокого холостяка никто ни в какую очередь на жилье ставить не будет. Давай распишемся, получим об этом «бумагу». Для нас ничего-ничегошеньки не изменится. Для всех близких и для себя тоже, – мы просто друзья, а не муж и жена. Но, вооруженный такой бумагой, я смогу обратиться к отцам-командирам: «Ребята, я теперь – женатый человек. Почему бы вам не подумать о жилище для семьи своего офицера?» Вопросы жилья в Ленинграде решаются даже не годами, а десятилетиями. Так эти два года нашей разлуки хотя бы вычтутся из них…
Обсуждаем вопрос со всех сторон. Мой Малыш отважно соглашается «сочетаться со мной законным браком» немедленно, без согласия родителей. Уже потом она мне рассказала, что принять это нелегкое решение ей помогла бабушка Юзя.
О бабушке Юзе, матери Марии Павловны и нашем добром ангеле, стоит рассказать особо. Она жила в Виннице. С первой нашей встречи мы понравились друг другу. Эмма делилась с ней всеми своими заботами и мыслями. Бабушка говорила, что я «хороший хлопець, але, на жаль, в мене буде дві жінки, бо на бороді я маю ямку».
Перед отъездом в Киев Эмма рассказала бабушке, что папа и мама не разрешают ей выходить замуж, пока не окончит четыре курса института.
– А ти плюнь на їх заборони (запреты) і розпишись! А то загубиш (потеряешь) хорошого хлопця!
– Бабушка, какой же он «хороший», если у него две жены будет: на бороде-то ямочка!
– Яка дурна баба тобі про це казала? Плюнь на всі забобони (предрассудки, приметы, поверья), і розписуйся!
– Бабушка, идти против воли родителей?
– А вони мене дуже питали (спрашивали)? Пішли вдвох, тай розписалися!
Так что у моей малышки тайное благословение все же было. У меня – его не было, но я уже давно был в «автономном плавании» и «судьбоносные решения» принимал сам.
Шестого сентября 1956 года мы пришли в бюро ЗАГС Сталинского района города Киева, – по месту временной прописки Эммы, и заявили миловидной усталой женщине, что мы хотим «сочетаться» законным браком. Ради торжественного случая мы приоделись: я был при эполетах, Малыш в самой эффектной черной блузке. Женщина (это была заведующая) оглядела нас:
– Да, конечно. Подавайте заявление и приходите через две недели со свидетелями.
Мы переглянулись. Это был удар, нами не предусмотренный и неотразимый. Постояли, подумали. Я пытаюсь переломить ход событий. Достаю отпускной билет, показываю его женщине:
– Смотрите. Отпуск у меня кончается. Через пять дней я должен быть уже в Ленинграде. Моя невеста остается в Киеве. Неизвестно, когда и где мы сможем найти целых две недели: я ведь человек военный…
Глаза женщины наполняются сочувствием и жалостью. Она говорит, что ее сын – тоже военный, и судьба бросает его по всем углам нашей большой Родины. Еще раз глядит на нас. Мы смотрим на нее честными глазами. Видимо, осмотр ее удовлетворяет, и она решается:
– Хорошо, дети, я оформлю ваш союз сразу и без свидетелей…
Начинает выписывать свидетельство о браке, и тут мы спотыкаемся на одном вопросе: фамилия жены после вступления в брак. Для Эммы наш брак – тайный. Она говорит, что ей надо оставить прежнюю фамилию, чтобы в институте все осталось по-прежнему. И тут женщина делает нам еще один огромный подарок, который мы смогли оценить гораздо позже:
– Доченька, не надо тебе оставлять свою фамилию: потом у тебя будут большие сложности и хлопоты. Смотри: новую твою фамилию я записываю на дальней странице паспорта, маленькими буквами. Никто и знать не будет! А твой паспорт до обмена будет с прежней фамилией на первой странице…
К сожалению, мы не знаем ни имени, ни адреса нашего доброго ангела, чтобы сказать ей спасибо. Союз, который она скрепила, формально нарушив закон, оказался прочнее многих, совершенных с многолюдными и многодневными ритуалами и с пышными свадьбами. Найти эту женщину сейчас невозможно: места нашей юности уже в другом государстве. Если она жива – дай Бог ей здоровья и радости. Если умерла – надежда только на наши торсионные поля: пусть они донесут к ее бессмертной душе нашу благодарность…
Мы теперь семья (06.09.1956)
Посещаем фотографию, где нас увековечивают в нашу главную дату. Праздновать свою свадьбу – только вдвоем – мы отправляемся в ресторан «Спорт» на Красноармейской площади (?), которая рядом с Бессарабским рынком и Крещатиком. У моей Малышки и у меня – пол-Киева друзей, но мы не можем и не хотим никого звать и видеть. Сообщаем, что у нас свадьба, только молоденькой официантке. Она изумленно ахает при виде столь многолюдной свадьбы и проникается к нам сочувствием. Сажает нас в уютное обособленное местечко, где могут сидеть только двое. Советует нам, что выбрать в меню, все наши желания исполняет быстро. Правда, мы никуда уже не торопимся…
Окруженные заботой нашей официантки, мы очень хорошо празднуем нашу свадьбу с минимальным количеством гостей, равным нулю. Впрочем, бывают и отрицательные величины. Из общего зала некое «лицо кавказской национальности», с лоснящейся рожей и усиками, непрерывно пялит глаза на мою супругу. Затем «лицо» не выдерживает и подходит, чтобы пригласить ее на танец. «Нет, не хочу» – отказывает ему жена. На второе и третье настойчивое приглашение говорю ему «нет» уже я, после умоляющего взгляда Эммы.
– Ну, почему? – вопрошает «лицо». У нас считается честью, когда твою девушку приглашают на танец другие…
– А у нас за это морду бьют, – знакомлю я соискателя с обычаями своей страны, после чего межнациональный обмен культурными ценностями как-то сам собой угасает.
Первая брачная ночь
О, ночь мечты волшебной,
Восторги без конца…
(Ария Надира, «Искатели жемчуга», Бизе)Сохраненное меню ресторана «Спорт» в тот день было бы уникальным документом: и нашим, и того времени. Можно было бы узнать, чем именно лакомились мы на нашей свадьбе. Впрочем, один компонент свадебного ужина стает известным очень скоро. Более того, – я запомнил его на всю оставшуюся жизнь…
За час до полуночи мы покидаем гостеприимную харчевню и берем такси. Едем на Сталинку. Не отпуская такси, довожу молодую жену до дверей. Прощаемся. Почти – как юные пионеры. Я возвращаюсь в машину, которая довозит меня до гостиницы. Мои соседи уже спят, тихонько укладываюсь на узкую койку и я, счастливый молодожен…
Через полчаса я уже сижу на койке: меня неудержимо мутит. Как месяц назад в Ленинграде. Только теперь меня гложет тревога за молодую жену. Она тоже отравилась? Она ведь не знает, как надо действовать. Сейчас, сейчас… Я приведу себя в чувство и поеду к ней.
Меня просто выворачивает. В общественном умывальнике я приникаю к водопроводному крану: надо выпить ведро воды. Жаль – нет марганцовки. Я пью, «выворачиваюсь», опять пью. Почему-то стает все хуже, я уже плохо соображаю, сильная боль просто корежит меня. Как сквозь вату доносятся слова:
– Вы – военный? Документы при себе есть? Возьмите документы!
Пытаюсь сосредоточиться. Я, оказывается, успел уже одеться «по гражданке», чтобы ехать к Эмме: на мне белые брюки с «военным» ремнем от кортика и синяя футболка с короткими рукавами. Возле меня стоят два дюжих военных «медбрата» с носилками; в дверях тревожно смотрит дежурная по гостинице, – это она вызвала военную скорую помощь.
Из тужурки забираю удостоверение личности. Медбратья спускают меня с третьего этажа и укладывают на лежак зеленого воронка.
Машина трогается. Подъемы, спуски, повороты вправо и влево. Сквозь окошко видны проплывающие мимо уличные светильники. Едем около получаса. Выходим у ярко освещенного подъезда. Медбратья вводят меня в приемное отделение госпиталя и уходят. Несколько пожилых санитарок смотрят с сочувствием на меня. Одна из них говорит, что мне придется ждать еще долго: у дежурного врача-хирурга сейчас началась неотложная операция…
Беру власть в свои руки. Я уже понял, почему не помогло «водолечение» в гостинице: вода была холодная.
– У вас есть теплая вода и марганцовка? – спрашиваю я у санитарок. Они подтверждают: все есть. Одна приносит кружку теплой воды и стеклянную пробирку с кристаллами марганцовки.
– Нет, девоньки, нужно целое ведро теплой воды…
«Девоньки» служат все-таки в военном госпитале и беспрекословно подчиняются командам. Добавляю в ведро марганцовки и на глазах изумленных санитарок начинаю лечиться, поглощая одну за другой большие кружки розовой воды, периодически возвращая принятое природе, точнее – помойному ведру. Сразу стает легче, боль почти проходит. Большое дело – опыт. Один вопрос стучит в голове: как там моя молодая жена? Начинаю соображать: если меня здесь «оприходуют», то опять заставят ждать, пока будут расти и набираться сил неторопливые микробы…
Удостоверение – в кармане брюк. Надо бежать немедленно.
– Где у вас туалет? – интересуюсь у «девонек». Они дружно выбрасывают руки в сторону входного коридора. Нахожу, очищаюсь от всех лекарств и их последствий, затем проскальзываю к подъезду. В освещенном окне недалекой проходной, клонясь на винтовку, дремлет часовой в форме курсанта. Когда я проходил возле него, он даже не шелохнулся. Я свободен!
Осматриваюсь и понимаю, что влип весьма основательно. При слабом свете светильников над колючей проволокой высоченного забора вижу, что я нахожусь во внутреннем дворе со складами. Оказывается, именно склады, а не вход в госпиталь, охранял задремавший часовой. В освещенном окне КПП вижу, что сейчас он уже бодрствует. В магазине винтовки, конечно, есть патроны. Уж не захочет ли он с перепугу пострелять по человеку, проникшему ночью на вверенные ему склады? Правила для часового известны… В любом случае мне грозит задержание и последующее ожидание, пока подрастут микробы. А что происходит сейчас с моей юной женой???
Возле забора, увенчанного козырьком из колючей проволоки, растут деревья. Крупная ветка одного дерева выходит за пределы ограды. Взбираюсь на дерево, перемещаюсь по этой ветке. Внизу метрах в четырех-пяти различаю булыжную мостовую и грохаюсь туда. Спасибо аэроклубу: приземляюсь по всем правилам, не сломав ни одной конечности, которыми заботливо снабдила меня природа и родители.
Теперь-то я точно на свободе: стою в неширокой, слабо освещенной пустынной улочке. Но где именно? Был такой анекдот. Пьяный спрашивает милиционера:
– Где я нахожусь? (И-де-я нахожусь?)
– На улице Ворошилова, – отвечает страж порядка.
– К черту подробности! В каком городе?
К счастью, я знал – в каком городе. Мне надо было бы узнать даже не столько улицу, сколько район города: название маленькой улочки ничего бы не прояснило без карты. Еще мне нужно было солнце, чтобы определить стороны света. Ничего этого не было. Я наугад побрел в одну сторону, вертя головой в надежде увидеть какой-либо знакомый ориентир. Судьба улыбается мне еще раз: сквозь листья деревьев я увидел далекие красные огни телевизионной вышки. Уверенно разворачиваюсь и начинаю брести кривыми ночными улочками к этой «печке», от которой можно уже «танцевать» дальше. А «танцевать» становится все труднее. Меня сильно пошатывает: наверное, я не долечился…
Добредаю до стойбища такси. Все проблемы можно было бы решить просто, если бы у меня были деньги. Проверяю карманы: нет ни копейки, – из гостиницы я захватил только удостоверение, деньги остались в карманах военной формы…
И тут судьба дарит мне еще одну, просто ослепительную, улыбку. В карманчике для часов (некоторые там носят сначала резиновые изделия, затем – валидол) я нахожу целых 50 рублей! Когда-то давно я сунул их туда и забыл об этом. По тем временам – это крупная сумма!
Направляюсь к такси. Таксист хмуро осматривает меня и решительно отрезает:
– Пьяных мы не возим!
– Я не пьяный! Я – больной, отравленный общепитом! А ехать мне надо на Сталинку, чтобы предупредить свою невесту, с которой мы вместе были в ресторане! (Прости, дорогая моя жена: я вернул тебе прежний статус невесты, чтобы не объяснять постороннему нашу тайну первой брачной ночи).
Водитель еще раз осматривает меня и распахивает дверь «Победы». Каждые полкилометра мы останавливаемся: меня выворачивает наизнанку, хотя никаких материалов для этого действа уже не осталось.
Прямо с тротуара стучу в окно квартиры тети Лизы. Оно распахивается и сама «тетя» выплескивает свои объемные прелести на подоконник.
– Как себя чувствует Эмма? Где она?
Открывается соседнее окно. Оттуда вопросительно смотрят на меня встревоженные глаза моей дорогой жены.
– Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо, а что случилось?
У меня отлегает от сердца: жена в порядке. Я отменяю назначенную на утро встречу на набережной Днепра и прошу Эмму утром приехать ко мне в гостиницу. Такси возвращает меня в гостиницу. Уже около трех часов ночи. Дежурная удивленно смотрит на меня, так быстро излечившегося… Я благодарю ее и прошу приготовить два стакана «двойного» чая, очень горячего. Во время чаепития начинаю понимать, чем я отравился. Только черная икра присутствовала в меню двух роковых вечеров, когда меня увозила скорая. У меня почему-то «прорезалась» индивидуальная непереносимость к этому, столь широко распространенному, продукту народного питания!
Засыпаю с чувством собственной глубокой ущербности. Забегая вперед, должен сказать, что этот тяжелый крест я гордо тащу всю оставшуюся жизнь. Красная лососевая икра и светлая, – всяких килек и селедок, производят на меня весьма благотворное действие. Приходится, избегая черного, налегать на все другие цвета рыбьих яиц, чтобы как-то смягчить свою неполноценность…
Утром мой Малыш отпаивает своего непутевого мужа кефиром, мы опять гуляем по Киеву. Решаем посетить Славку Яковлева, который вместе с женой Галей теперь живет посреди Днепра на Жуковом (?) острове. Я – старый Славкин друг, Эмма – родственница. О нашем тайном венчании мы им не говорим ни полслова, ведем себя – как хорошие знакомые и друзья. Проводим с ними вечер весело и празднично. Возвращаться в город уже поздно, и Галя, наверняка – по команде хитрого Славки, без всяких вопросов раскрывает нам одну постель. Возможно, это был тест, так сказать – проверка на «вшивость». Мы, не сговариваясь и ничего не объясняя, спокойно ложимся вместе, еле касаясь друг друга.
Не знаю, спал ли я в свою вторую брачную ночь. Но рядом со мной спокойно и доверчиво спала моя юная жена, мой ребенок, которого я не мог обидеть, о котором не мог теперь не заботиться…
Мне пора уезжать в Ленинград: служба. Расстаемся тяжело: впереди два года добровольно-принудительно принятой разлуки и неизвестности… Осень. Что-то будет с Родиной и с нами?
Войны, вычисления и развлечения
В действительности все не так, как на самом деле.
(Из прессы)Питер встречает холодным дождем: здесь уже поздняя осень. В мире пахнет порохом: наши танки жгут в Будапеште. Вспыхивает израильско-арабская краткосрочная война, которая может стать детонатором очередной мировой, только – уже на совсем ином уровне. Зря, что ли, мы так славно трудились на Новой Земле. Всех офицеров Вооруженных Сил СССР переводят на казарменное положение. Поскольку я и так живу в казарме – офицерском общежитии Балтийского флотского экипажа, то мое положение практически не меняется.
Сразу после приезда предъявляю Шапиро брачное свидетельство и пишу рапорт с просьбой о постановке моей семьи(!) в очередь на жилье. «Улита едет, когда-то – будет». Но: она же «едет», и когда-нибудь, черт возьми, все-таки должна приехать!
Иван Маклаков тоже после отпуска возвращается в Ленинград. Вскоре мы вдвоем снимаем у бабушки Марьи Александровны комнату у Нарвских ворот: из флотского общежития меня тоже «попросили». На крыше нашего дома установлено огромное светящееся табло, на котором написано, что по 3 % займу можно выиграть целых 100 тысяч рублей. Дом рядом с моей первой работой в Питере, и я хорошо знаком с этим жизнеутверждающим лозунгом. Иван, ознакомившись с ним в первый раз, хмуро замечает:
– А можно ведь и не выиграть, – он, наверное, имеет в виду наш «выигрыш» по этому займу в Чите, когда мы вместо ресторана оказались в комендатуре.
Настойчивая «долбежка» Иваном командования рапортами, наконец, возымела результат: он ожидает приказа об увольнении из армии – «дембеле». Теперь у него, к сожалению, добавляется еще один аргумент в пользу увольнения: отец в Москве неизлечимо болен раком.
Шапиро знакомит меня с планами относительно моего будущего. Наш московский главк, в лице полковника Васильева, настойчиво требует лично меня начальником монтажного участка на стройке стратегического топливного склада в Ульяновске. Везет мне: и у бородатого Васильева из главка я успел стать «любимчиком командира». Впрочем, мне все равно, куда ехать, – хоть к черту на кулички. Наступила какая-то непонятная «эпоха безвременья»: надо куда-то деть эти два года жизни. В Москве между главками Министерства обороны идет какая-то борьба по складу в Ульяновске. Мне пока велено находиться в горячем резерве, ожидая команды «фас».
Для двух ожидающих приказов офицеров находится неплохая работенка: составление калибровочных таблиц резервуаров. Объем топлива в резервуарах определяется по специальной стальной рулетке – мерной ленте с миллиметровыми делениями. Один конец ленты закреплен на поплавке, плавающем на поверхности горючего, деления ленты видны в окошке уровнемера. Наши таблицы должны с точностью до пятого знака ответить: сколько горючего находится в резервуаре, если лента показывает Х метров + У сантиметров + Z миллиметров, – через каждый миллиметр. Расчет ведется теоретически, считая, например, что резервуар является идеальным цилиндром. Обычно эти рутинные расчеты выполняют люди, знакомые просто с арифметикой в объеме неполной средней школы. В нашем случае задача неизмеримо усложняется. Мы должны составить калибровочные таблицы для конического шестигранного резервуара, запрятанного в скалу возле Балаклавы. У нас объем каждого миллиметра – величина переменная, зависящая от места этого замера. Приходится считать площадь и объем шестиугольника для каждого миллиметра высоты.
Сейчас персональный компьютер, на котором пишутся эти строки, выполнил бы такие расчеты, составил и даже отпечатал таблицы за считанные минуты. Но в те времена компьютеры назывались ЭВМ – электронно-вычислительными машинами и существовали только в двух ипостасях: в научной фантастике и реально – в виде огромных суперсекретных монстров на радиолампах. Для работы такой машины нужны были огромные помещения, целые электростанции и большой штат высокоумных программистов, снабжающих ЭВМ подробными командами на бумажных или магнитных лентах. Для составления командных лент, само собой, тоже требовались другие машины и еще одна куча очень умных людей…
У нас все было проще. Наша вычислительная машина – грохочущий арифмометр «Феликс», на котором число надо было набирать, передвигая в прорезях маленькие «пипочки», а рукоятку следовало крутить в обе стороны нужное число раз с душераздирающим хрюкающим звуком. Я мог бы быстро посчитать все на логарифмической линейке, но она давала только три знака, что не создавало иллюзии необыкновенной, – практически недостижимой и ненужной точности ужасающе хрюкающего «Феликса».
Целый рабочий день мы с Иваном добросовестно грохотали и хрюкали «Феликсом» по приведенным формулам и замерам. Концы наших пальцев онемели от бесконечных передвижений тугих «пипочек», в ушах стоял белый шум, в глазах – черный туман от чтения полустертых цифр возле прорезей. Итог работы – плачевный: мы обработали меньше сотни замеров из двух десятков тысяч. Нет, такой хоккей нам не нужен…
Решаю уравнение объема конического шестигранника в общем виде и вычисляю два простейших коэффициента. Теперь мы движемся вперед семимильными шагами и за полчаса выполняем работу всего прошлого дня. Такими темпами мы могли бы выполнить все задание за несколько дней. Однако, стахановский прорыв нам совершенно ни к чему: наша задача теперь убивать драгоценное свободное время. Осматриваемся и, разлагаясь морально, начинаем соображать в этом направлении.
За тонкой стенкой, проницаемой для всех звуков, находится плановый отдел. У них плохо работает телефон. Нам слышно, как надрывается начальник отдела, безуспешно вызывая бюро ремонта. Решаем помочь страдальцу. Говорим в телефон «далеким» голосом, чтобы нас не услышали сквозь стену:
– Говорят из бюро ремонта. У вас плохо работает телефон, потому что отсырела ваша пара…
Начальник хочет «показать свою образованность»:
– А почему соседние телефоны хорошо работают? Кабель-то один…
– Сырость заходит в кабель от телефона, – объясняет далекий специалист из бюро. – Вам надо подсушить телефон на электрической плитке…
Плитка стоит для «сугрева» ног под столом у Рэмиры Дубровиной – 30-летней амбициозной дамочки. Правда, «Революция и Электрификация МИРА» в быту откликается на сокращенное имя – «Мира». Мира – невысокая «брУнетка» с темным же пушком над верхней губой и острыми глазками. По ее рассказам, происходила она из старинного французско-еврейского рода Лурье, жила раньше в столице, и в Ленинграде оказалась из-за мужа – преподавателя ВИТКУ. Я привожу эти подробности, поскольку нам придется встречаться с этой дамой вплоть до 21 века, точнее – до 21 февраля 2005 года, когда я увольняюсь из разоренной и обанкроченной «десятки», которая уже несколько лет называется УНР. Днем раньше Мира праздновала там свое восьмидесятилетие, на которое я не пошел, хотя нас осталось в погибшей части только двое из далекого 1956 года… Однако, надо вернуться именно в этот год.
Теперь к ногам Миры, кроме плитки, помещается и телефон. Техническая грамотность доблестного начальника планового отдела – на высоте: телефон помещается не на плитку, а рядом с ней.
Захожу к главмеху Ивану Антоновичу, молодящемуся мужику, недалекому, но, по слухам, весьма женолюбивому:
– Как, у вас телефон еще на столе? Разве вы не знаете, что для усиления режима секретности теперь телефоны надо ставить под стол?
Иван Антонович недоверчиво расспрашивает, когда и кто отдал такой приказ. Я подробно знакомлю его со шпионскими методами подслушивания настольных телефонов, затем добавляю:
– Да вы зайдите в плановый к Наумкину, он уже все сделал, как надо…
Иван Антонович, полный сомнений, движется в плановый. Иван в это время «организует» туда звонок. Главмех воочию видит, как вскакивает Мира и ныряет под стол к телефону.
– Что, под столом секретности больше? – ошарашен главмех.
– А мы так просушиваем свою пару в кабеле, – объясняет ему Наумкин. Иван Антонович уходит совсем задумчивый: с кем же теперь надо бороться – со шпионами или сыростью?.
Приходит и наш черед удивляться: через день сушки под столом телефон в плановом начинает работать вполне удовлетворительно и торжественно возвращается на стол. Мы просто вынуждены получить хотя бы моральную сатисфакцию за наш ремонт. В 17:30 мы звоним туда и через носовой платок, сложенный вдвое, просим Дубровину быть на связи: будет соединение с Москвой. В 17:55 телефонный звонок совсем издалека, с паузами, передает Дубровиной, что линия повреждена и разговор переносится на 20 часов. В 18 часов, к удивлению уходящих домой служащих, Мира заявляет, что у нее много неотложной работы, и она еще поработает. Работала она до 9 часов вечера, надеюсь – весьма продуктивно: никто ведь не мешал…
Однажды на Невском издалека мы видим главмеха под ручку с дамой. Они зашли в кино. Поспорили с Иваном: со своей он женой или с чужой. На другой день от скуки решили проверить способом, который теперь называют «моментом истины». Маклаков, между делом, сообщает главному механику:
– Слушай, тезка, ты, кажется, здорово влип. Вчера за тобой жена кралась, следила, как ты с любовницей в кино ходил. А какая ярость была в ее глазах – словами не передать. Она тебе дома не устроила головомойку? Или ты дома не ночевал?
– Глупости какие! – сердится Иван Антонович. – Да я с женой и ходил в кино!
После его ухода я поздравляю Ивана с проигранным пари:
– Видишь: я тебе говорил, что он был с женой!
Уже через минуту я понимаю, что победа от меня ускользнула. В коридоре меня ожидает главмех, хватает за пуговицу и подвергает жестокому допросу:
– Ты вчера был с Маклаковым? Как она наблюдала? В чем была одета? Какого цвета? Что было надето на голове?
Я очень добросовестно и серьезно «вспоминаю» подробности вчерашней слежки. Следила женщина очень пристально, сама пряталась так, чтобы не попасть вам на глаза. Одета была – то ли в плащ, то ли – в пальто. Цвет – темно-синий, возможно – коричневый, бордовый или серый. На голову была надета то ли шляпа, то ли – платок.
Иван Антонович мысленно сравнивает известные ему приметы с моими. Все совпадает. Он уходит, страшно озабоченный. Я опять поздравляю Ивана, на этот раз – с выигрышем. Решаем добавить еще дровишек в наш костер. Инструктируем знакомую женщину из проектной группы, остроумную и веселую. Она приглушенно и скороговоркой, но очень «волнительно» сообщает главмеху по нашему телефону:
– Ой, Ваня, что вчера было, что было… Я не могу сейчас говорить, приходи пораньше – все расскажу, – и «любовница» кладет трубку. Часа за два до конца работы у главмеха появляется настоятельная необходимость поехать в Ленэнерго…
Революционное шоссе
В частях у нас некая рокировка. В/часть, в которой начиналась моя служба, уже расформирована. Все командование Строймонтажа-11 теперь начинает командовать «десяткой». В эту же часть переходят все офицеры из других частей СМ 11. Все старое командование этих частей уволено в запас или переведено в другие части. Я тогда этим не очень интересовался: для меня командиры остались прежние: Шапиро и Чернопятов, изменений практически никаких нет. Из моих отцов-командиров исключено только паразитное звено: «кипящий» майор Чайников, а также большой любитель чужих денег и обещатель арбузных командировок подполковник Афонин. Почему-то сожалений об этом нет.
Части «десятка» и «пятнашка» переезжают на новое место – шоссе Революции, дом 52. Это пятиэтажное здание с колоннами в стиле «сталинского ампира» одиноко стоит среди совхозных полей: в обед матросы ходят за морковкой, добавляя витамины к флотскому пайку. Вся территория до современного завода «Полюстрово» – огромная городская свалка. Сейчас на этом месте разбит парк. Но, наверное, «историческое прошлое» территории до сих пор снабжает «ценными природными минералами» знаменитую «Полюстровскую» из подземных скважин.
Теперь в двух частях все для жизни и работы сосредоточено в одном месте. В подвале размещены склады и котельная, на первом этаже – камбуз, столовая, санчасть; на втором – штабы; на третьем-четвертом этажах – матросские кубрики; на пятом – целая проектная группа.
Часть здания, перпендикулярная к основному корпусу, выделена под жилье. На двух или трех этажах есть отдельные квартиры, остальная часть каждого этажа представляет огромную коммунальную квартиру с общей кухней и 15-ти метровыми комнатами с обеих сторон коридора.
Шапиро (командир части) и Чернопятов (главный инженер) сидят в одной небольшой комнате в центре «штабного» коридора. Это им, да и нам тоже, кажется удобным. Получив общее задание от командира, офицер тут же получает подробности и уточнения от главного: он все слышал, и ему не надо повторяться, снова рассказывая о задачах.
А задач этих – невероятная уйма. Напряженные и срочные работы ведутся на огромных пространствах почти всего СССР, начиная от Дальнего Востока – до Албании на западе, от Новой Земли на севере – до Керчи на юге. Мы – Отдельный монтажно-сварочный отряд ВМФ. Наши задачи непрерывно усложняются и растут. Это значит, что так же должны расти офицеры и матросы. На плечи офицеров ложится огромная нагрузка: они не только должны вести монтаж сложных объектов, но и налаживать жизнь, быт и дисциплину своего войска, как правило, – в очень непростых условиях внешнего окружения.
Так же напряженно работают и центральные службы части. Инструменты, оснастку и оборудование для объектов надо где-то и кому-то комплектовать, проверять, налаживать, зачастую – изготовлять. Нужны также материалы, спецодежда и обмундирование и еще много чего. Все это добро рассылается нашим группам по всему Союзу.
Десятками килограммов в часть поступают все новые чертежи сложных объектов. В них надо разобраться, выдать для изготовления на заводах необходимые заказы и чертежи к ним, составить проекты организации и производства работ.
Очень большая проблема – техническая учеба и матросов и офицеров. К нам приходят ребята «от сохи», да и офицеры не блещут избыточными знаниями. ДН основывает большую техническую библиотеку: там есть подписки на многие технические журналы и ГОСТы. Все новые журналы он просматривает, на нужных статьях делает пометку: «Тов. имярек, прочитать, доложить свои соображения». Библиотекой заведует «целый» мичман: уж он не забудет «довести» материалы до исполнителя…
На шоссе Революции производственный и плановый отделы слиты в один отдел и размещаются теперь в одной большой комнате.
По новому штату я числюсь офицером производственного отдела, поэтому с Дубровиной мы оказываемся в одной комнате. Наши с Иваном телефонные шуточки, в конце концов, раскрылись. Тогда у Миры хватило ума, чтобы посмеяться над собой, но, очевидно, она хотела реванша, и теперь телефонные подначки перешли в очные. Рэмира подлавливала меня на каждом неправильном ударении. Я, например, до сих пор забываю, какое ударение правильное в словах «товарищеский», «кедровый» и других, – возможно, потому, что в детстве мой родной язык был украинский, а может, просто – по общей гуманитарной недоразвитости. Я отыгрался, по крайней мере, дважды. Когда общий разговор зашел о писателях, и Мира упоенно излагала партийную точку зрения, по стандарту «я не читал, но какая это гадость», я, не отрываясь от работы с чертежом, мимоходом спросил:
– Ты Абрау Дюрсо читала что-нибудь?
Мира тоже почти автоматически ответила:
– Да, конечно. Сейчас просто не помню, что именно.
Добродушный старый нормировщик Пассуманский, обычно мирно подремывающий над своими бумагами (мы шутили, что его надо лишить премии за игнорирование техники безопасности: он засыпал, держа в руке остроконечную ручку), начал заикаясь объяснять, что ему кажется, что Абрау-Дюрсо – марка вина, или что-то в этом роде. Смеялись все дружно.
(«Писателя» Абрау Дюрсо изобрел наш бухгалтер Кривко, когда во время длительной поездки в Читу его изводила занудными разговорами в купе высокообразованная дама. Я применил чужой розыгрыш, совсем не ожидая, что эффект будет точно такой же).
Вторая шутка была полностью придумана самой Мирой. Однажды она живописала посещенную накануне оперу «Пиковая дама» по теме: «Ах, голоса! Ах, Пушкин!». Я тоже очень люблю Пушкина за его прозрачную и бездонную глубину и оскорбился за него дешевыми «ахами» невежды.
– Мира, а ты помнишь какие нибудь стихи Пушкина из «Пиковой дамы?», – спросил я совершенно невинно.
– Очень много, массу, – ответила Мира.
– А можешь вспомнить что-нибудь? – не отставал я.
– Ну, например: «если б милые девОчки»…ну, в общем, – очень много, просто сейчас на память не приходит…
– Когда придет, – обязательно расскажи и запиши. А то всем остальным трудящимся «Пиковая дама» известна только в прозе.
Лицо «пушкиноведки» стало цвета державного флага, ей не хватило даже сил посмеяться над собой…
Все розыгрыши и подначки просто скрашивали нашу серо-производственную, довольно напряженную, жизнь, нисколько не ухудшая дружеских отношений. А вот когда спустя несколько лет я дал «отлуп» неким дамским притязаниям Миры, я обрел «заклятого друга». Ее «дружеские» происки были последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Я принял важное для своей судьбы решение, изменившее мою жизнь в 1982 году. Об этом – позже.
Квартирный вопрос портит, но не всех
Збудуй хату з лободи,
До чужоЇ – не веди!
(Народное)Неожиданно начальство проявляет, на мой взгляд, непомерную активность в решении жилищных проблем своего офицера – меня. Конечно, я – «любимчик командира», но не до такой же степени. Ну, не могу же я объяснить заботливому Дмитрию Николаевичу, что связан договором о двухлетних каникулах, точнее – отсрочке в семейной жизни. Что мне, собирающемуся на целый год в Ульяновск, срочное жилье не очень-то и нужно…
Первое жилье, которое радостно «выбивает» для меня Дмитрий Николаевич, – комната в сборно-щитовом доме в Песочной. Часть сама строит эти четырехквартирные домики с печным отоплением, чтобы хоть немного смягчить остроту жилищного кризиса. Собственно, это вовсе не какой-то внезапно возникший кризис: это постоянно действующий фактор нашей жизни. Все комнаты и квартиры строящихся деревянных лачуг уже давно расписаны-переписаны наперед. Дмитрию Николаевичу стоит огромного труда раздвинуть плотный строй жаждущих, чтобы вдвинуть туда своего любимчика. Я, пожалуй, могу писать это слово без всяких кавычек и даже гордиться этим: не каждый мог стать «любимчиком» у сурового и справедливого ДН…
От такого жилья мне пришлось отказаться сразу и бесповоротно. ДН глядел на меня с обидой и непониманием. Он сам начинал свою семейную жизнь со скитаний по разным баракам и считал, что это нормальная жизненная закалка для молодой семьи: только пройдя круги ада, начинаешь понимать, что есть рай. Да и круги эти, окрашенные молодостью, издали кажутся красивыми и счастливыми…
– Я не могу юную девочку, выросшую под крылом заботливых родителей, поселить одну в доме с печным отоплением. Ей ведь надо еще в институт ходить, а с Песочной – это не так просто. А кто будет дрова рубить-носить? Вы ведь знаете, где буду я сам, – оправдываю я свой категорический отказ Дмитрию Николаевичу. ДН задумывается, ему уже не кажется предложенный вариант моего семейного очага таким блестящим. Тем более, что будут ущемлены люди, уже имевшие надежды на эту комнату в трехкомнатной квартире… Скрепя сердце он принимает мой отказ, тем более, что я согласен ждать.
Я тоже успокаиваюсь: пронесло мимо чашу сию. Все не мило, все постыло. Быстрей бы в этот Ульяновск. Там опять начнется штурм, когда уже некогда будет что-то чувствовать и думать, а время летит семимильными шагами…
Начальство свое я недооценил: ДН и Шапиро меня явно, и притом – немедленно, хотят осчастливить. Не знаю, какие героические переговоры и уговоры им пришлось предпринять, но для меня выкраивают целую 15-метровую комнату в новом доме на шоссе Революции! Эту радостную весть мне объявляют Шапиро и Чернопятов вместе. По их лицам понятно, что они ожидают от меня, по крайней мере – радости. Не каждый из коренных ленинградцев мог бы похвалиться в 1956 году, что имеет на двоих целых 15 метров жилья в новом доме! А я ведь в Питере всего два года. На «гражданке» такого подарка я мог ждать десятилетиями, а то – и всю оставшуюся жизнь…
Вместо выражения радости, я тяжко задумываюсь, затем говорю отцам-командирам «нет». Этого они никак не ожидали: я просто оскорбил их, перечеркнул все усилия, плюнул в душу…
– Вы хорошо понимаете, от чего Вы сейчас отказались? – задает мне вопрос Шапиро после длительной паузы, в течение которой оба начальника рассматривали меня как привидение. – Какие отговорки Вы придумали на этот раз???
Не хочется бесконечно оправдываться, и я нагло перехожу в наступление:
– Эта комната ведь находится в общежитии из десятка комнат с одной кухней, – я знаю, о чем говорю. – Туда вы поселяете сверхсрочников. Я слишком хорошо знаю эту публику и их жен, чтобы поселять туда свою жену, совсем еще юную, не испорченную жизнью. Я же согласен ждать, может быть, появится лучший вариант…
В советские времена, когда мясо не покупали, а доставали, был популярен анекдот. Отец говорит дочери:
– Не знаю, доченька, что мне с тобой делать. Майору, будущему генералу, ты отказала. Кандидату наук, будущему академику, ты тоже отказала. Кто же тебе нужен???
– Я, папенька, за мясника хочу выйти замуж!
– Гм-м… за мясника, значит… Не такая уж ты у меня и красавица!
Я исполнил роль привередливой девицы, и мои отцы-командиры с негодованием и удивленно рассматривают меня.
– Но я ведь согласен ждать, – примирительно успокаиваю их опять.
– Хорошо, будете ждать, – угрожающе произносит Шапиро. Я понимаю, что ему хочется еще добавить: «но дождетесь не скоро!». – Готовьтесь к Ульяновску, – добавляет он.
– Есть готовиться! – пулей вылетаю я из командирской бани. Теперь обо мне как о кандидате на жилье, забудут надолго. Жизнь продолжается…
С головой погружаюсь в срочную работу с чертежами. Меня грызет большущий червь сомнения. Синицу, бывшую уже в руках, я легкомысленно отпустил. Даже не отпустил, а высокомерно и нагло отбросил, оскорбив начальников, с трудом отловивших для меня эту синицу. Когда-то еще будет журавль, и будет ли после этого деяния вообще?
Не журавль, а птица непонятных очертаний и названия, сваливается мне на голову уже через несколько дней. Меня вызывает Шапиро. Испытующе оглядев меня, он говорит:
– Предлагаю Вам третий вариант: комнату 22 метра в малонаселенной квартире. Но – временно, сроком только на три года, на время брони хозяина. Поедете сейчас со мной и посмотрите комнату. Ответ надо дать сегодня. Если и этот вариант не подойдет, то Вам, очевидно, придется ждать времени, когда освободится, причем – полностью освободится, Зимний дворец…
На единственной легковой машине части мы едем через весь город в Автово, к таким знакомым местам, где начиналась моя питерская жизнь. На застроенной только с одной стороны улице Якубениса (кто такой?) поднимаемся на пятый этаж «сталинского» дома. Впрочем, тогда Хрущев только собирался испоганить города «хрущобами» и все дома еще были просто нормальными; «сталинскими» их назовут позже, чтобы как-то отличить от бетонных шалашей.
Шапиро сам нажимает кнопку звонка. Из-за двери раздается женский голос:
– Шура, ты? Привез?
Шура (Александр Михайлович Шапиро, подполковник, мой командир) привез только меня. Неужели именно меня здесь ждали? Входим в квартиру. Начинаю соображать, что здесь проживает семья самого Шапиро: жена, сын, тесть и теща. Они занимают две комнаты, третья предлагается мне. Я захожу туда, и у меня прямо дух захватывает. Просторная комната совершенно пуста, и от этого кажется огромной. Высокий потолок, дубовый паркет, большое окно и стеклянная дверь на балкон. Окна выходят в открытый двор на южную сторону, вдали просматривается моя «колыбель» – общежитие в доме-квартале на проспекте Стачек 67…
Я с радостью соглашаюсь. Ухоженная и вальяжная Мария Яковлевна, жена Шапиро, настороженно рассматривает меня и недоверчиво спрашивает:
– Но Александр Михайлович предупредил вас, что это только на три года?
– Да, да, Мура, он все знает, – предвосхищает мой ответ Шапиро. – Значит, завтра Вы встретитесь с Туровым, хозяином этой комнаты, и оформите в МИСе договор. Вот вам телефон, договоритесь, где и когда встретитесь с ним. И не тяните кота за хвост: готовьтесь к отъезду в Ульяновск, а то Васильев, который вас очень любит, уже из штанов выпрыгивает…
На другой день в МИСе (Морской Инженерной Службе, которой принадлежит дом) мы встречаемся с Туровым, средних лет офицером с резкими чертами лица. Туров внимательно осматривает меня, задает вопросы: где учился, сколько служу. Кажется, результатами осмотра и опроса он доволен. Мы берем бланки договора аренды и начинаем оформлять договор.
Современному читателю надо пояснить ситуацию. Когда держава отправляла своего сына в длительную командировку – на Север, Дальний Восток, заграницу, – его жилплощадь «бронировалась», то есть сохранялась за ним, с одним условием: он должен был заключить договор с нуждающимся лицом о бесплатной сдаче бронированного жилья в аренду до своего возвращения. Шапиро добыл себе право представлять кандидатуры этих лиц: они ведь ставали его соседями по коммунальной квартире, то есть – одновременно проживающими на кухне, в ванной, туалете и коридоре. До меня Туров таким образом сдавал комнату М. А. Рыжову, гражданскому служащему нашей части. Сейчас Рыжов получил комнату этажом выше, и договор надо было заключать новый, чем мы и занялись.
– Где вы с женой сейчас живете? – между делом спрашивает меня Туров. Я объясняю ему, что моя жена сейчас учится в Киеве, а я сам – снимаю комнату у Нарвских ворот.
– А кто будет жить в моей комнате? – настораживается Туров.
– Как, кто? Я буду жить, пока жена не приедет.
Туров отодвигает от себя недописанные бумаги. Ему отчетливо видится то, о чем я могу только смутно догадываться:
– Нет, ребята, так дело не пойдет. Вы, монтажники, кинете свой чемодан, и уедете на годик. А у меня тем временем – комнату оттяпают. Вот мое твердое условие: или у тебя здесь будет жить постоянно жена, или мы никакого договора не заключаем!
Туров беспощадно вскрывает мой замысел: кинуть чемодан в пустую комнату и смотаться на годик-другой. Но умыкать чужую комнату я и в мыслях не имел. Туров мне объясняет, что я – пешка на этом поле брани за жилье, которое собираются у него отнять совершенно другие лица. Оказывается, существует закон, что если в забронированном жилье никто не проживает, а главный наниматель не появляется в нем более полугода, то ордер на такое жилье аннулируется и выдается новый, сами знаете – кому.
Я огорошен и расстроен. Что мне делать теперь? Опять отказаться от предложенного третьего варианта, на который я уже согласился? Да потом со мной никто даже разговаривать не станет о жилье! Уговаривать Турова бесполезно: он прекрасно понимает замысел Шапиро. Меня на годик-другой загоняют на дальнюю окраину Российской империи. Затем доказывают, что прописанный в комнате офицер не появляется в ней более года (или полугода), со всеми «законными» последствиями для него. Если даже «последствия» не состоятся, то семья Шапиро будет спокойно жить года два-три фактически в отдельной квартире. Позже мне станет известно, что именно Шапиро «устроил» соседу по коммуналке Турову длительную командировку на Дальний Восток, когда поцапались их жены. Именно Шапиро выбил для договорника-соседа Рыжова другую комнату, надеясь остаться в квартире одним хозяином. Приезд Турова спутал все карты. Вариант с моим «вселением» все возвращал на круги своя и позволял Шапиро выиграть время.
Я тяжко задумываюсь. У меня нет никакой возможности с достоинством и без потерь выйти из создавшегося тупика. А главное – у меня нет времени для этого: надо ехать в Ульяновск. Туров великодушно бросает мне спасательный круг:
– Я буду еще в Ленинграде недели две и могу в это время ждать. Если ты за это время привезешь жену, которая здесь будет жить постоянно, а не мотаться тоже по командировкам, – я подпишу с тобой договор.
На этом мы расстаемся. Как говорится, спасибо за доверие, но что я могу сделать? Если забирать Эмму в Ленинград сейчас, то придется объявляться ее родителям, что я частично, с благими намерениями, но все же – нарушил наш договор на речке. Если все оставить как есть, – значит потерять всякую надежду на какое-либо жилье на неопределенное время. Куда ни кинь – всюду клин. А времени на особые раздумья нет: надо мной висит Ульяновск и две недели туровского ультиматума.
После тягостных размышлений принимаю решение: воссоединяться с женой. Родители должны смириться. Да и шило нашей женитьбы когда-то должно вылезти из мешка. Потеряв же это жилье, мы можем потерять наше будущее.
Решение принято. Начинаю действовать. Время начинает уплотняться или, если угодно, – растягиваться, короче – оно стает очень ценным и насыщенным. Вечером пишу покаянное письмо родителям Эммы с извинениями, объяснением сложившейся ситуации и просьбой (несколько – запоздалой) о благословении нашей женитьбы и согласия на переезд Эммы в Ленинград. Письмо отвожу на Витебский вокзал и отдаю в почтовый вагон поезда Ленинград – Одесса. Дня через два моя бомба долетит до Брацлава…
Сообщаю Шапиро, что Туров согласен подписать договор только в случае приезда жены и ее постоянного проживания. Чтобы забрать жену из Киева, мне нужно время несколько дней. Шапиро не по нутру мои известия; причем неизвестно, какое больше. Он разражается гневными остротами, но скрепя сердце дает мне несколько дней на устройство дел, предупредив, что с женой я смогу провести в Ленинграде только один день перед отъездом в Ульяновск.
Муре все-таки придется получить соседку, Васильеву придется подождать меня в Ульяновске.
Дальше. Лечу в Лесотехническую академию: можно ли перевестись, чтобы не терять год? Да, если взять справки и выписки. Уже легче: я не превращаю молоденьких студенток в беспросветных домохозяек…
К вечеру я на Центральном переговорном пункте на Герцена, у арки Главного штаба. Вызваны ранее телеграммами для переговоров на 18 часов – Киев, Эмма; на 19 часов – Брацлав, Ружицкий; на 20 часов – опять Киев. Воссоединение семьи происходит не только на туго натянутых нервах, но и на телефонных проводах…
Разговор с женой: объясняю ситуацию с жильем – коротко, поэтому – непонятно и неубедительно. Да и вряд ли можно издалека, по телефону, понять весь этот запутанный клубок желаний, усеченных возможностями. Из всех разговоров Эмма понимает только, что ей надо сейчас уже переезжать насовсем в Ленинград. Конечно, это то ли просит, то ли требует законный муж. Муж-то муж, но не до такой же степени, чтобы давать такие команды, переворачивающие налаженную жизнь, да еще вопреки воле родителей!
Эмма твердо, хоть и смягчая слова, заявляет, что поехать без согласия родителей не может.
Конечно, все правильно: зачем обижать хороших родителей. Да и я сам еще слишком «новенький» глава семьи, чтобы давать жене команды на такие крутые виражи. Говорю Эмме, что ровно в 19 часов буду разговаривать с родителями, пусть она им позвонит минут через 15, чтобы узнать результаты наших переговоров, а будем опять разговаривать в 21 час.
С Брацлавом соединяют с опозданием минут на 20, стоящих мне очень дорого: могло получиться, что Эмма позвонит туда раньше меня. Беру трубку, успеваю произнести только:
– Здравствуйте, Федор Савельевич! – и на меня обрушивается гнев моего собеседника. В его плотную речь я могу вставлять только слова типа: «ну, послушайте», «но, Федор Савельевич», «да так сложилось». Дорогой мой тесть поливает меня в полный голос. Слова «обманщик», «вероломный», «нечестный», «непорядочный» – были самыми ласковыми. Совсем меня выбивает из колеи еще одна «внешняя» помеха. В переговорную кабину врывается некий дядечка и со словами:
– Брацлав! Ружицкий! Это же мой хороший друг! – рвет трубку из моих рук. Я зажимаю микрофон ладонью и ласково говорю дядечке:
– Иди отсюда к ….!!!».
Не помню точно, куда именно я послал друга ФС, но он мгновенно выполнил команду, восстановив статус-кво. (Потом он жаловался ФС: «Ну и зятек у тебя!». Я же через тестя передал ему извинения: «Жизнь такая!»).
Монолог тестя, длившийся около 15 минут, можно выразить такими словами: «Если я уже сделал такую подлость, то хотя бы дальше надо вести себя прилично, чтобы не было стыдно перед людьми родителям жены: приехать летом, когда Эмма окончит второй курс, сыграть свадьбу, как у людей, а затем уже забирать с собой молодую жену».
Увы, дорогой мой батя! Ничего из намеченных тобой мероприятий твой непутевый зять, одетый в черную шинель с погонами, выполнить не может. А следующей зимой, когда, возможно, ему дадут отпуск, уже некуда будет везти твою любимую дочку и мою любимую жену!
Разговор с Эммой в 21 час проходит еще тяжелее. Мой малыш плачет, говорит, что отец и мать категорически против ее отъезда, и она не может нарушить воли родителей. Всех можно понять, все – правы. А что еще можно сделать мне? Мои аргументы о жилье, договорах и других заморочках в глазах родителей жены не имеют никакого значения… Это мои личные заботы, которые, по их мнению, никак не касаются их дочери…
Выхода нет…
Эмма говорит, что родители должны приехать в Киев послезавтра, 19 ноября, институтский драмкружок ставит пьесу в районном Доме культуры, Эмма там играет главную роль, и родители обещали приехать на премьеру. Если я бы я тоже приехал, то смог бы попытаться договориться с ними сам… Я обещаю попробовать получить разрешение на поездку, если еще раз выдержат мой очередной «зигзаг» отцы-командиры…
Похищение Европы
«Она моя! – сказал он грозно, –
Оставь ее, она моя!
Отныне жить нельзя нам розно…
(М. Л.)Опять бросаюсь в ноги Шапиро: родители не отпускают жену, надо ехать в Киев. Шапиро – вне себя, но, понимая, что сказав «А», приходится говорить и «Б», только напоминает, что с женой в Питере я смогу пробыть только один день. Дмитрий Николаевич сочувственно слушает наш диалог и велит кадровику старшине Коле Семенскому, золотому человеку, выписать мне командировку в Киев так, чтобы можно было потом оплатить дорогу. Я только благодарно смотрю на ДН: после отпуска денег нет, приходится брать «под отчет».
Прошу другого старшину, моего бывшего матроса Колю Алименко, забросить в «мою» комнату в квартире Шапиро, что-нибудь «спальное», чтобы там можно было переночевать, когда привезу жену. Коля обещает, а раз обещал – сделает. (Оба Николая, оба мои приятели и отличные ребята, слишком рано ушли из жизни).
19 ноября я прямо из киевского аэропорта Жуляны несусь к «тете» Лизе, и звоню в знакомую дверь. Федор Савельевич и Мария Павловна сидят уже там, «тетя» гордо восседает рядом, молодая жена прячется в своем «жилом отсеке» с ситцевой занавеской. На мое «здравствуйте» теща кивает головой, а Федор Савельевич отвечает вопросом:
– Ну и как это все можно оценить, молодой человек?
Прохожу к Эмме, она испугана и еле отвечает на мой поцелуй: стесняется родителей. Выходим вместе в общую комнату и продолжаем дебаты. Я отвечаю на вопрос тестя:
– Федор Савельевич, Мария Павловна! Я и не думал вас обманывать: мы расписались только для того, чтобы я имел бумагу, которая позволяет стать на очередь на жилье…
– Что ты все про жилье, да про жилье! – перебивает меня ФС.
– А что я вам про любовь буду рассказывать? – завожусь я. – Это и так ясно, а жить-то где мы будем с женой?
– Так вот об этом и надо было думать, прежде чем жениться! А что теперь, понимаешь: надо срывать человека посреди учебного года! Какая такая срочная необходимость? Можно же потерпеть до лета или хотя бы до зимней сессии!
Я пытаюсь рассказать историю собственного «квартирного вопроса», но меня не слушают. Родители Эммы (теперь – и мои) совершенно не понимают, как непросто добывается жилье в таком городе, как Ленинград. Да еще человеку в погонах, и всего лишь с одним просветом и только с двумя ма-а-ленькими звездочками…
– Ну, все, хватит спорить. Никуда она не поедет, пока не окончит хотя бы семестр и сдаст сессию…
– Дорогие родители! Спасибо вам, что вырастили дочку. Но вечно она с вами жить не будет, а будет жить со мной: она моя законная жена. В нашей с ней семье сейчас такой момент, что ей надо быть в Ленинграде! Иначе нам негде будет жить! – я уже чеканю слова.
– А почему ты…Вы, – вступает Мария Павловна, – не можете решить свои проблемы, не ломая жизнь молодой девушке???
Начинаю все сначала. Дружеская родственная беседа в таком духе может продолжаться бесконечно, но пора двигаться в некий дворец, где Наше Яблоко Раздора будет играть спектакль. Эмма выделяет нам четыре билета, три – вместе, один – отдельно, для «тети» Лизы. «Тетя» во время наших переговоров, к ее счастью, – молча, демонстрировала свое крайнее возмущение моими выступлениями. Сейчас она решила взять реванш за свое молчание: «тетя» нахально усаживается рядом с родителями, оставляя для меня отдельное место вдали, хоть и в первых рядах. Как же, как же, – не для того я летел тыщи верст, чтобы такая малость меня остановила… Молча поднимаю какого-то студента, вручаю ему свой билет и усаживаюсь рядом с Федором Савельевичем. Прения продолжаются.
Занавес раздвигается, начинается спектакль, где моя жена, передовой агроном, а может быть инженер, громит бездельников и рутинеров, попутно влюбляя их в себя, такую передовую. Наши разговоры поневоле продолжаются шепотом, не теряя своей остроты, – не меньшей, чем придуманная в спектакле. Иногда мы забываем, что сидим в переполненном зале, и тогда на нас со всех сторон шикают недовольные любители театрального искусства.
После спектакля опять возвращаемся к близкому дому тети Лизы, продолжая все те же бесплодные разговоры. Федор Савельевич стал совсем нервный, отказался от ужина и решил уехать сразу в Брацлав. Со словами «Я уже все сказал: Эмма не поедет!» – он сел в трамвай и уехал на вокзал.
Нельзя, батя, так делать! Я сажусь в такси и на вокзале встречаю трамвай. Увидев меня, добрейший Федор Савельевич, наверное, хотел перекреститься. Позиции высоких (не)договаривающихся сторон ясны, как стеклышко. Говорить – уже не о чем, повторяться – незачем. Я молча сопровождаю тестя. В билетную кассу на ближайший поезд в сторону Одессы – Винницы огромная очередь. Мы стоим минут 10, затем очередь расходится: мест нет. Это неожиданный удар. Я иду в воинскую кассу, покупаю билет до Винницы (и этот пункт впечатал в мою командировку предусмотрительный Коля Семенский!) и молча отдаю его Федору Савельевичу. Он тронут, но вида не показывает. До отхода поезда еще есть время, и ФС устало кладет голову на сложенные на столе руки, надеясь, что я уйду. Когда он поднимает голову, то опять видит меня. Я сижу напротив. На его негодующий взгляд я отвечаю:
– Федор Савельевич! Я не могу, просто не имею права уехать без жены. И дело не только в том, что нам будет потом плохо. В этом случае я подведу многих людей. Эмма же не может уехать без вашего разрешения. Так что мне, связанной увозить ее?
– Иди, договаривайся с Марией Павловной, – устало говорит Федор Савельевич после некоторого раздумья.
Я срываюсь с места в карьер. Время не ждет. Через полчаса мы продолжаем заседание с Марией Павловной. Я честно говорю, что ФС предложил договориться с ней, но Эмме все равно надо ехать со мной. Мария Павловна переходит сразу к делу:
– Ну, как же вы, дети уедете без ничего? Мы же доченьке готовили всякое приданое, надо его забрать из Брацлава…
Господи, святой и великий! Неужели они согласны на отъезд Эммы в Ленинград? Но поездка в Брацлав – это еще одни сутки. Моим дорогим родителям и жене я ни полслова ведь не сказал, что на семейную жизнь в Ленинграде мне отпущены всего одни сутки, которые я сейчас должен израсходовать. Я с тоской гляжу на Эмму:
– Не можем обойтись без твоего приданого? Обязательно надо за ним ехать?
Эмма со слезами на глазах кивает: надо обязательно!
Все быстро начинает вертеться. Эмме помогаем составить план, что надо завтра сделать, какие справки получить, с какого учета сняться и откуда выписаться. Звоню Юре Яворскому, прошу добыть в Институте Электросварки информацию для меня и проводить нас на вокзале. Мы с Марией Павловной хватаем такси и летим на вокзал.
Нам везет. Мы сразу садимся на скорый поезд, в Виннице попадаем на последний автобус, и часа в три ночи мы уже в Брацлаве. Федор Савельевич спит в проходной комнате: он приехал на час раньше. Услышав шум, он просыпается и… опять видит меня! Я боялся, что он упадет, выругается (он никогда не употреблял «крепких» слов), сделает еще что-нибудь в этом роде. Но он меня удивил еще больше, когда спокойно сказал, увидев меня рядом с Марией Павловной:
– Ну, вот. А ты хотел без ничего уехать. Это же все вам с Эммочкой сразу понадобится…
Потом мы выясним, что эти добрые люди, мои новые родители, уже давно все поняли и смирились с отъездом дочери, но не знали, что оба пришли к такому решению, и просто боялись подвести друг друга.
Садимся перекусить, пропускаем по рюмочке. Сожалеем, что не было у нас свадьбы. Рассказываю о нашем жилье, о переводе Эммы в Лесотехническую академию, приглашаю в гости. Разговоры мирные, семейные. Батя берет власть в свои руки:
– Значит, сейчас погружаем все, и езжай: тебе надо торопиться!
Я очень тороплюсь, но надо бы и вздремнуть. Выясняем, что ФС думал, что он проспал не час, а всю ночь, и сейчас уже утро. Долго смеемся. Укладываемся спать.
Утром меня уже ожидает нагруженная машина. Я хватаюсь за голову: половину кузова грузовика загружена хорошо упакованными тюками и чемоданами. Родители уверяют, что все это нам понадобится. Богатое приданое у моей женушки, вот только как мы довезем все это добро в купейном вагоне, билет в который у меня уже лежит в кармане…
Вечером в Киеве нас сажают на поезд трое Юриев: Яворский, Вахнин и Скульский. Нашему веселью и радости нет границ: одновременно мы с близкими, настоящими друзьями, отмечаем нашу с Эммой свадьбу. При посадке в вагон проводница было запротестовала: такое количество вещей нельзя перевозить в купейном вагоне. Юра Яворский слегка обнимает молоденькую проводницу и говорит ей:
– А вы сделайте так, как сделал Тито при посещении мавзолея Ленина-Сталина.
– А как он сделал? – интересуется девушка.
– Вот так! – показывает Юра, закрывая половину лица ладонью, – со стороны Сталина.
Проводница смеется вместе с нами. Она немного завидует моей молодой красивой жене: вот военный моряк ее, счастливую, увозит к другим сказочным берегам…
В Ленинграде мы с таксистом сначала забрасываем чемоданы, затем я ввожу в наш дворец молодую жену. В углу огромной комнаты сиротливо стоит узенькая солдатская койка с ватным матрасом и черной ватной же подушкой. При виде этого сказочного раздолья у жены готовы были появиться слезы в красивых глазах. А я считаю – молодец Коля, что не привез две кровати: супруги спят вместе. А что кровать узкая, – так других у него не водится.
Мы стоим возле кучи чемоданов в пустой комнате, соображая с чего начинать нашу настоящую совместную жизнь. Меня гнетет еще мысль, что мне скоро придется объявить жене, что эта наша совместная жизнь будет продолжаться всего одни сутки, затем меня надолго позовет труба – в прямом и фигуральном смыслах…
Приходят знакомиться Шура и Мура, – теперь наши ближайшие соседи. Я представляю им жену. И тут она совершенно удивляет всех, может быть даже и себя: она делает гостям настоящий старорежимный книксен!!! Я открыл рот: о подобных телодвижениях я читал, кажется, в дамских романах Чарской. Соседи так были просто потрясены: такой вежливости они тоже никогда не видели. Знала бы моя юная жена, какую беду отвела она этим движением от нашей молодой семьи! Уже через несколько минут Шура отводит меня в сторону с повлажневшими глазами и говорит:
– Черт с вами! Даю вам еще двое суток на устройство!
Я с чувством благодарю его. Это был действительно очень дорогой подарок: целых двое суток семейной жизни. А к исходу третьего дня подарок оказался прямо таки царским: объект в Ульяновске передали другому главку МО. Еще неизвестно, что было бы, если бы я начал там уже работать. Я так никогда и не попал в Ульяновск, о чем совершенно не жалею. Тем более теперь, когда выяснилось, что Ульянов-Ленин – редиска.
Вот так 24 ноября 1956 года начали мы с боевой подругой совместное плавание. Правда, отсчет нашей жизни мы ведем с 6 сентября 1956 года, когда нам добрая тетя в киевском ЗАГСе выдала бумагу, что мы отныне – муж и жена. А эти события поздней осени 1956-го мы, двое стариков, вспоминали вместе сегодня, 13 марта 2005 года, спустя более 48 (!) лет. Ровно через месяц нашему сыну исполнится целых 44 года… А ведь было все совсем недавно, еще вчера!
Мы и руководящие соседи
Начальство всегда падает маслом вверх.
(АиФ)Мы начинаем потихоньку устраиваться. Это совсем новенькое и, оказывается, интересное занятие в нашей жизни. В первый же день в Гостином дворе мы покупаем добротные «гедеэровские» стулья. Они очень дорогие: по 10 рублей штука, но солидные и устойчивые, какой должна стать наша будущая жизнь. Вскоре появляется круглый раздвижной стол: не можем же мы жить без приемов. Особенно быстро мы приобретаем кровать: с панцирной сеткой и блестящими шишечками красоты неописуемой. Ничего мы тогда не понимали в кроватях, но наша первая «красота деревенская» вскоре, когда мы будем переходить в «средний класс» автовладельцев, нам очень поможет.
Приобретаем посуду: кастрюльки, тарелки и всякие сковородки. А вот ложки-вилки у нас почему-то были алюминиевые, как вспоминает Эмма. Я этого не помню, и сейчас соображаю: почему? Может быть, для экономии средств?
Вообще по вопросам всяких приобретений у нас часто возникают разногласия и споры. Я выступаю в роли жмота и скупердяя: во-первых, я должен думать о создании хоть маленького страхового фонда семьи на случай всяких ЧП; во-вторых, я вижу эфемерность нашего нынешнего жилищного состояния; в-третьих, – у меня твердолобый менталитет военного времени. Например: Эмме очень хочется иметь горку, где бы можно было красиво разместить все наши хрустали (особенно те, которые именно для этого будут позже приобретены). Я упираюсь всеми копытами: не нужна нам горка, а нужен еще один книжный шкаф. Кончается тем, что жена покупает все-таки горку, и, совместно с нанятым бомжом, втаскивает ее на пятый этаж.
Следующий букет наших разногласий возникает по поводу помощи родителей. Я – очень гордый. Я считаю, что мы – самостоятельная семья и должны рассчитывать только на собственные силы и возможности. Эмма же тащит у родителей все, что под руку попадет. Позже я сравню ее поездки к родителям с набегами хана Батыя, который оставлял после себя одну выжженную землю. Меня тоже можно простить: я никогда еще не был в роли родителя и не понимал, какое это нужное родителям счастье, – отдавать детям все, что у них есть.
Иногда наши разногласия стают очень острыми и доходят до временного отчуждения. Однако все скоро проходит: мы «притираемся», начинаем понимать друг друга. Любовь – само собой помогает навести мосты, но еще мы оба трудоголики, и каждый работает в полную силу. У нас никогда не бывает стычек по поводу, «кому сейчас очередь посуду мыть». А ведь многие семьи по этой причине распадаются…
По выходным (то есть – по воскресеньям) мы ходим обедать в столовую возле метро Автово, если не перекусываем в городе во время «культурного» мероприятия. Понемногу жена начинает готовить дома. Она этого никогда раньше не делала, но стремительно приобретает опыт и сноровку. Первый раз она жарила рыбное филе, не окунув его в муку или яички. Филе самостоятельно гомогенизировалось, превратившись в равномерную рыбную кашу. Постепенно все поднялось на очень высокий уровень, особенно при помощи рецептов, которые Мария Павловна часто присылает Эмме. Я вообще удивляюсь жене. Она, в общем, – избалованная в семье девочка, без устали наводит блеск и порядок в своем доме и семье. Мне самому, прежде чем что-нибудь сделать, надо подумать, собраться. Эмма это все делает мгновенно и непрерывно. А уж по количеству всякой стирки ей присваивается партийная кличка «енот-полоскун».
Когда я «нормально» иду на службу, утром мы вместе идем в метро Автово. На Владимирской садимся в трамвай. «Садимся» – это, конечно, преувеличение даже в те «просторные» времена. Дружественная толпа сжимает нас лицом к лицу на задней площадке. У Финляндского вокзала это счастливое состояние кончается: я выхожу и пересаживаюсь в автобус.
Вечером мы летим в наш дом: у нас много всяких разных дел. Мы затеяли ремонт «своего» жилища, ничего в этом не смысля. Наша комната очень светлая: с 11 часов до заката в ней гостит солнце. Поэтому обои мы выбираем потемнее. В рулоне нам очень понравились почти синие обои с крупными химерическими загогулинами. Оказалось, что крупный рисунок очень трудно стыковать по вертикали. У нас образуется масса «отходов», тем более что все провода освещения у нас проложены по стенам открыто на белых роликах. Мы преодолели все трудности, и оказались в раю – «синем-синем».
С руководящими соседями мы живем очень дружно. Мура вальяжно выдает Эмме всякие разные советы и заявляет:
– Вам очень повезло, что вы можете поучиться семейной жизни у нас.
– Да-да, Эммочка, – дополняет ее Шура, – смотрите, учитесь, чтобы точно знать, как не надо делать!
Мура когда-то давно окончила юридический вуз и уже лет десять «ищет» работу. Шура говорит, что ей нужна очень высокооплачиваемая работа, на которой можно ничего не делать и не ходить на работу, – ну, разве только за получкой. Распределение ролей в своей семье АМ представляет так:
– У нас все обязанности распределены очень четко. Я – работаю, приношу в семью деньги. Мина (теща, Мина Флориановна) – готовит пищу. Яков Моисеевич (тесть) – занимается детьми (сначала у них был один сын Вова, уже при нас родился Юра). А Мура у нас – устает. Адски устает: за всех!
Мура снисходительно смеется: она вторая жена у АМ, значительно моложе его, но обожает своего мужа.
У АМ – неистощимые энергия и юмор. Свой первый Новый год мы проводим вместе. Шура в ударе, и после вечера у нас просто болят скулы от смеха от его шуток и рассказов.
… И вот он спохватывается, что забыл поздравить своего начальника с днем рождения. Дает срочную телеграмму: «Поздравляю зпт десятый день пьем Ваше здоровье вск.». Ответ гласит: «Спасибо зпт пора бы остановиться тчк».
АМ почти теряет юмор только при сражениях с тещей в преферанс «на интерес» – на деньги. Тогда они оба стают очень похожи на кота Базилио и лису Алису, которые делят золотые, отнятые у Буратино…
Теща Шапиро Мина Флориановна – высокая и полная, с венцом седых кудрей на голове, обычно мурлычет романсы на кухне. Когда я выхожу туда в майке, она плотоядно оглядывает меня и заявляет:
– Не мужчина, а жидкий бред! Вы мне сегодня снились…
Шура по этому поводу говорит:
– Мина, ты бойся, чтобы Якову Мойсеевичу не начала сниться Эммочка!
В спальне Шапиро стоит редкий по тем временам телевизор «КВН-49» с заполненной водой стеклянной линзой перед экраном. Один-два раза в неделю телевизор оживает. АМ хлопает в ладоши, созывая:
– Дети, дети! Все сюда: будут мультики!
В понятие «дети» входят: Вовка, Мура, Мина и моя жена. Когда же идет какое-нибудь кино или важные последние известия, то спальня Шапиро превращается в кинозал: собирается со своими стульями вся квартира, иногда и соседи, свет выключается, все внимают экрану. Вообще – в те времена люди, обладающие телевизором, должны были смириться с тем, что их комната превращалась в общественный кинозал в дни передач телепрограмм. По этой причине мы долго не покупали телевизор: такой хоккей нам не нужен.
Из командировки в Ригу я привожу жене сувенир – маленький флакончик духов в пластмассовом цилиндрике, увенчанным белым слоником, символом мещанского благополучия. Изделие ширпотреба стоит всего 18 рублей, но на лучшее у меня не было ни денег, ни времени. Духи оказались на удивление приятными.
– Сколько они стоят? – ревниво спрашивает жена, тоже начавшая переживать за семейный бюджет.
– Да ерунда: 18 рублей, – отвечаю чистосердечно, как на духу.
– Нет, ты скажи, сколько – в самом деле? – не отстает жена.
– Ну – сто рублей, сто. Ничего не жалко ради любимой жены!
– Такие деньжищи, – радостно сокрушается жена, с удовольствием обоняя подарок. В мое отсутствие ее посещает Мура:
– Ну что вам Коля привез из Риги?
– Да он сумасшедший: купил такие дорогие духи!
Мура осматривает и обнюхивает мой скромный презент:
– Боже, какая прелесть! Какой дивный запах! Нет, не зря Ригу называют маленьким Парижем! А мой Шура подарил мне какую-то гадость на день рождения, – мне они, ну, совершенно не нравятся! – Мура приносит и показывает жене только недавно выпущенные духи «Каменный цветок» в оригинальном, очень красивом, флаконе, закрепленном в коробочке, раскрывающейся как цветок. Мура не знает, что такие духи действительно стоят сто рублей, а продавали их только делегатам высокой партийной конференции, где волей замполитов оказался Шапиро.
Вечером к нам приходит сам Шапиро.
– Что ты подрываешь мир в моей семье? – набрасывается он на меня. – Какую такую прелесть ты купил в Риге, что Мура мне жить не дает и все уши прожужжала?
Я смеюсь и рассказываю АМ все подробности ценообразования дешевой «прелести».
– Тс-с … Никому не говори больше, – неожиданно заблестели глаза у Шапиро. – Я скоро поеду в Ригу и куплю эту «прелесть» не только жене, но и теще!
Первый наш семейный выход в гости был к Васе Марусеневу, тоже тотальнику, но коренному питерскому жителю. Вася и его жена Зина принимают нас с Эммой в тесной полуподвальной коммуналке на Разъезжей рядом с Пятью Углами. Маленький отсек, где Марусеневы проживают с дочкой, только отдаленно напоминает комнату. От общей кухни с двумя газовыми плитами он отгорожен ситцевой ширмой. Для единственного невысокого окна комнаты в наружном асфальте выгорожена специальная яма в закоулке дома, и только в верхней трети окна иногда видны ноги прохожих. К сожалению, вечерних пешеходов как магнит притягивает закрытый уголок, где можно облегчиться в такую уютную ямку…
Значительную часть нашей встречи мы посвящаем разработке технических средств борьбы с «писальниками». Проще всего изолированный лист на дне ямы подключить к фазному напряжению сети. Но может статься, что после удара током некоторые прекратят писать уже окончательно и бесповоротно: порог смертельного напряжения индивидуален для каждого владельца мочеиспускающего аппарата. Из-за трудоемкости был также отвергнут проект предварительного замера электрических характеристик желающих облегчиться. Я обещал Васе разработать аппарат, который подавал бы на лист импульсы разряда строго дозированной энергии. На том расстались.
Моя малышка была потрясена условиями проживания обычной ленинградской семьи. Наша комната теперь воспринимается как дворец, а мои усилия по «квартирному вопросу» уже не кажутся напрасными.
Марусеневы посещают нас с ответным визитом. «Горячительного» у нас достаточно, разговор о командировках-ссылках офицеров – очень злободневный и горячий. Вася слегка перебрал, и вдруг полным голосом запел свою песню на популярный мотив:
Не все Шапиро подчиняются моря…
К сожалению, вещание на этом кончилось: мы все дружно буквально закрыли рот свободолюбивому барду Василь Васильичу. Не узнал продолжения песни и сам Шапиро, от которого нас отделяли две стеклянные двери и коридор.
Второй эпизод произошел позже, но расскажу о нем сейчас, чтобы закруглить тему. На офицерском строевом собрании Шапиро «дает разгон» всем офицерам по нарушениям режима секретности в их собственных семьях:
– Наши жены слишком много знают о нашей работе! Представляете: приходит ко мне жена майора Фоминича. Спрашивает: «А когда вы моего Витеньку отпустите в отпуск?». Я ей отвечаю: «Думаю, что через неделю он окончит все работы и приедет». А она мне отвечает: «А как же он может окончить работы, если Вы ему не выслали обратный клапан высокого давления, 10 задвижек Ду 150 и всю дыхательную арматуру? Он когда еще получит это все, только тогда ему на монтаж надо будет еще недели полторы!».
Шапиро приводит и другие примеры всезнания монтажных жен, истосковавшихся по своим мужьям, грозит наказаниями офицерам, нарушающим режим секретности. Фраза: «Наши жены слишком много знают!» становится крылатой и руководящей в среде офицеров, особенно в случаях, когда действительно есть что скрывать от жены…
Нас часто посещают Мещеряковы. Лева теперь служит в «десятке», и Шапиро – его командир тоже. Однажды пришедшего Леву Мина Флориановна удивленно встречает словами:
– Как, Лева, вы еще здесь?
Лева пошел весь красными пятнами:
– А где же я должен быть?
– Вы же должны были уехать в Стрый!
В Стрыю возле Львова мы вскоре начнем сооружать большой ракетный старт. Пока что этот факт известен только отдельным работникам генштаба, работающим под грифом «совершенно секретно, особой важности». Факт неизвестен даже «нашим женам». Конечно, тещи – особая статья: для них и генштаба сделано исключение…
Окончился 1956 год, в котором мне исполнилось 25 лет. Начинал этот год я штурмовыми работами в забайкальских сопках. Без конца – ездил, летал, плавал, даже – «долбился» во льдах. На остановках – чем только не занимался: поднимал трубы и дергал радиомачты, укрощал различных раздолбаев, крутил арифмометр и даже женился. И вот – Новый, 1957-й, встречаем вдвоем с любимой женой в Ленинграде, в приличном, хоть и не своем, жилье. Итоги, как говорят теперь, – неоднозначны.
Если сравнивать с «гражданской» размеренной работой на заводе, то моя «военная» работа – отнюдь не сахар, часто «не сахар» – круглосуточный. Зато – совсем не скучно.
Что касается материальной «сатисфакции», то она – «похорошела», хотя и «оставляет желать». Перелистывая старые письма, я с удивлением обнаруживаю, что заботы о деньгах для «прокормления» моей малышки меня достаточно занимают. Правда, больше с точки зрения их своевременного получения, чем полного «наличия отсутствия». Со слезами умиления вспоминаю свои 880 рублей в месяц и потрепанные рукава моего единственного костюма. Теперь родное государство меня лично завалило костюмами, шинелями, брюками. Конечно, они все только одного – черного цвета.
А чем плох черный цвет одежды? Особенно, если вспомнить о полностью черном сорок первом годе. Мы надели эту одежду, служим и трудимся для того, чтобы такой год для нашей Родины не повторился больше никогда…
17. Север, дубль второй
Труба опять зовет
Ой ты, гой еси…
Начиная с января 1957 года, командование поручает мне подготовку следующей экспедиции на Новую Землю. Если все получилось с первого захода практически без подготовки, то теперь должно получиться еще лучше, хотя объем планируемых работ увеличивается в несколько раз. В этом году моя группа будет собирать металлоконструкции не только БКУ (усовершенствованных бронеказематов), но и всяких других – по несколько сооружений: ОПР (оптический пункт регистрации), ОПК (оптический пункт контроля), ГПА (главный пункт автоматики), не считая всякой мелочевки. Кроме монтажа собственно конструкций, мы должны их насытить также всей электрической «требухой»: зарядо-разрядными щитами, мощной батареей авиационных аккумуляторов, проводкой, освещением и т. п., короче – полностью подготовить сложные объекты к работе в условиях нескольких, возможно – нескольких десятков, ядерных взрывов. Мы не можем выполнить электрический монтаж сразу в заводских условиях: сооружения состоят из нескольких секций. Максимальный вес секции всего 5–7 тонн, чтобы корабельные краны не надорвались. Зато можем надорваться мы, приступая к очень трудоемким электрическим работам только после сборки-сварки сооружения на месте: сроки готовности – прежние.
Кроме того, мы должны выполнить ряд работ на командном пункте полигона – «Высоте». Там, помимо больших работ в строящемся заглубленном командном пункте, надо установить также антенное поле на деревянных радиомачтах. В одной команде работают электрики, связисты, инженеры из проектной группы. Моего друга Леву Мещерякова переводят из «пятнашки» к нам. В нашу группу подключается также капитан Алексей Венкстерн. Леша – потомственный дворянин и военный из обрусевших шведов. Порода ясно читается на его по-девичьи красивом лице. Он – электрик «высокого полета», ему предстоит смонтировать КП полигона – «Высоту». В группу входят также майор Петров («Капитоныч») и капитан Лева Сорокин, знакомый по Улан-Уде.
В мою группу включены также несколько старшин и мичманов-сверхсрочников. Мичман Шабанин – материально ответственный. На нем висит сохранность и учет наших собственных грузов: материалов, инструментов и т. п. Знакомый мне по Чите мичман Воропаев – электрик. Есть даже строевой начальник – старшина Аверьянов. Его дело – подготовка к экспедиции отобранных матросов. Часть известных мне матросов я отбираю сам: Цопа, Кравцов и несколько других.
Теперь в южной части Новой Земли – южнее пролива Маточкин Шар, в губе Белушья (зона Б) растет целый город военных и ученых «атомной» науки, строится жилье, причалы, котельные, машинные парки, лаборатории и электростанции. Рядом с Белушкой (так обычно называют в быту зону Б) обустраивается аэродром Рогачево. Все туземцы – ненцы во главе с Тыко Вылкой – переселены в Архангельскую область. Наша часть в зоне Б организует постоянную группу, которая должна работать круглый год, даже во время полярной зимы. Начальник новой группы – майор Шапорин, деловой мужик весьма объемистых габаритов, уже «положил глаз» на меня…
Сейчас, во время подготовки, для нас наиглавнейшее дело – устранить проектные «ляпы» в чертежах. Тем более это нужно сделать, поскольку изготовление нескольких сооружений поручено нашему Заводу 122 на Магнитогорской улице. Много металлоконструкций, в том числе бронеказематы, изготовляет 55 Механический завод Минобороны, расположенный в с. Стрельне. Как-то автоматически по новоземельским заказам я стаю на заводе неким военпредом. Мне нравится этот компактный и неплохо оснащенный завод, в числе продукции которого даже есть краны. Мы сразу же находим общий язык с начальником (полковник Шапиро, однофамилец нашего командира), главным инженером и начальниками цехов. Очень хорошо, что у них возникает куча вопросов по создаваемым конструкциям, особенно по сварке и последующим деформациям. Это значит, что руководители и инженеры завода работают как инженеры, а не спускают все технические решения на усмотрения слесаря дяди Васи и электросварщика дяди Степы. Инженерам завода нравится, что желторотый лейтенант решает почти все вопросы быстро и без всяких запросов и согласований. Завод тоже без всяких согласований выполнил мою просьбу о контрольной сборке и подгонке стыков соседних секций после их изготовления, хотя такая операция не предусматривалась и не оплачивалась. Надо ли говорить, насколько эта операция упростила мне жизнь на монтаже в снегах Новой Земли?
С 55-м заводом мы сотрудничали потом много лет. Добрые отношения очень помогли нам, когда мы вместе ломали головы над совершенно неведомыми затворами, изготовление которых поручили заводу. Циклопические конструкции были снабженными непонятными гидравлическими и другими устройствами. Сверхвысокая секретность скрывала назначение и функции устройств, что не позволяло принимать какие-либо решения по конструкции: завод вынужден был строго придерживаться чертежей, которые, как всегда, изобиловали ошибками. Точно так же вынужден был действовать и я, принимавший готовые изделия для монтажа. Гораздо позже, при драматических обстоятельствах, о которых напишу, я узнал, что затворы мы делали для герметичного перекрытия въездов в сооружения, способных выдержать ядерный удар. А возможность нанести такой удар с нашей стороны пряталась именно в этих сооружениях…
Вставка из будущего, нужная для закрытия темы. Для ядерных испытаний в следующем, 1958 году, Военморпроект создал чертежи бронеказематов повышенной прочности, способных выдержать термоядерный взрыв. Не знаю почему, но изготовление их поручили Ростинскому судостроительному заводу, минуя наше Управление монтажных работ. Мы даже не получили заранее чертежей. В начале 1958 года с завода посыпались сигналы SOS: конструкции разрушались непосредственно в процессе их изготовления, не ожидая термоядерных нагрузок. Отцы-командиры (теперь к ним следовало причислить и командование УМР) послали на завод меня. Увиденная на заводе картина была не для слабонервных. Основу конструкции каждой секции составляло несколько прямоугольных рам из больших двутавров примерно – № 40, т. е. с высотой профиля 40 см. Близко расположенные рамы вваривались по всему периметру примыкания (чтобы покрепче было!) в коридор наружной обшивки из стальных листов толщиной около 16 мм. Близко расположенные сварные швы большого калибра создавали такие огромные внутренние напряжения, что балки и толстая обшивка разрушались, как стеклянные… Для меня картина была предельно ясна и понятна. Все неприятности происходили из-за самой распространенной ошибки людей, не понимающих природы сварки и считающих сварной шов некоей металлической разновидностью оконной замазки. В течение нескольких дней я сократил в чертежах бронеказематов более километра (!) сварных швов, изменил конструкцию стыков и некоторых деталей, остальной сварке указал строгую последовательность. Пробную секцию по такой технологии завод изготовил быстро. Она (секция) была прочной и без проблем. Завод вздохнул свободно. Военморпроект не глядя, телеграфно подтвердил все мои решения. Великая сила проекта: один дурак может нарисовать столько, что десять умников будут ложиться костьми, чтобы в итоге слепить очередную «козью морду», которая потом еще долго будет мучить уже другой народ своими уродствами. И еще – о проектировщиках и конструкторах: главные и умные очень часто сидят в разных кабинетах…
Однако надо возвратиться в 1957 год. Опять в чертежах уйма нелепостей и нестыковок. Приезжает из московского Военморпроекта главный инженер проекта (ГИП) Лексаков. Мы вываливаем ему десятки замечаний по проектам. Лексаков, гражданский инженер, весьма контактный и общительный человек, взмолился:
– Ну, ребята, вы же все знаете, как надо делать! Так смело всё и делайте, невзирая на чертежи! У меня нормальные инженеры – это всего несколько офицеров. Но им работать некогда: без конца всякие политзанятия, семинары, строевая подготовка, экскурсии по местам боевой славы… А за кульманами остаются и «рисуют» чертежи девочки и мальчики, окончившие техникумы и институты совсем недавно… Что с них можно взять? А я один разве могу уследить за всеми мелочами?
Забегая вперед, скажу, что одна такая мелочь в виде пропущенной запятой чуть не погубила у меня нескольких матросов. Дело было так. На «Высоте» мы должны были установить небольшой топливный склад для дизельной электростанции. Цистерну объемом 25 м3 полагалось испытать на плотность давлением воздуха 0,3 кг/см2. При копировании чертежей (тогда это делалось дедовским способом – рисованием тушью на полупрозрачной кальке, наложенной на чертеж) копировщица пропустила запятую, – пренебрегла таким «пустячком», или просто не заметила, повысив тем самым испытательное давление в 10 раз. Надо заметить, что все испытания труб и всяческих разных сосудов на прочность и плотность, как правило, проводятся гидравликой – водой. Если приходится испытывать давлением воздуха (нет воды, низкие температуры), то разрабатывается специальный Проект организации работ (ПОР), который должен уберечь людей при взрыве: сжатый газ накапливает энергию не хуже взрывчатки…
Наш прораб капитан Лева Сорокин заглянул в чертеж и, узрев надпись «испытать давлением воздуха 03 кг/см2», о запятой не подумал и дал команду: качать компрессором воздух в лежащую на земле «банку», размером с железнодорожную цистерну. Она, бедная, выдержала только половину «расчетного» давления, затем – взорвалась. Днище, весом несколько сот килограммов, «просвистело» совсем рядом с группой матросов. На пути «банки», улетевшей в другую сторону, людей, к счастью, тоже не было…
В феврале и марте 1957 года мы отгружаем все полуфабрикаты наших игрушек, а также свое оборудование и материалы, в Мурманск для погрузки на ледокол. Близкая и долгая разлука уже висит над моей молодой семьей из двух человек. И так уже очень долго, около четырех месяцев, длился этот подарок судьбы, когда мы были вместе, – мои командировки были не дольше недели…
Все отобранные для второй экспедиции матросы, старшины и некоторые офицеры уже в Североморске. Я «зачищаю» последние вопросы и тоже готовлюсь к отъезду.
Ожидаемый «зов трубы» прозвучал уж совсем не вовремя. Телеграмма от Френкеля предписывала мне прибыть в Мурманск 1 Мая. Празднование «Дня пролетарской солидарности» с далекого детства было для нас святым делом, но приказ воспоминаниями не перешибешь… Дарим себе с женой целые сутки совместной жизни: в Мурманск еду не на поезде, а на другой день улетаю самолетом. В Ленинграде с 1 мая все моряки надевают белые фуражки, в Североморске еще месяц будут ходить в черных.
Весь город широко празднует 1 Мая. Обходим с женой толпы демонстрантов и праздничные колонны, «просачиваемся» в Пулково с небольшим чемоданом и черной фуражкой в руках. Перед посадкой в самолет надеваю черную, а Эмме отдаю белую фуражку: не скоро она мне понадобится… Тяжело разгоняется и взлетает самолет. В иллюминатор я вижу такую одинокую и несчастную фигурку жены с белой фуражкой в руках…
Перед долгой разлукой
В гостинице «Арктика» нахожу Френкеля, докладываю о своем прибытии: «Товарищ полковник, лейтенант Мельниченко по Вашему приказанию прибыл».
– Что случилось, Давид Ионович? – это уже неофициальный вопрос.
– Садись, Коля, отдохни. Скучно тут мне одному!
– Совесть у Вас есть, Ваше Высокоблагородие, господин полковник??? Из-за скуки оторвать бедного лейтенанта от молодой жены, да еще в День Великого Пролетарского Праздника?
– Ну, не гони волну, бедный лейтенант, да еще и молодожен. Дел у нас с тобой – выше крыши. Твои коробочки не влезают все в ледокол. Надо быстренько прикинуть, что и куда грузить, что можно оставить для второй очереди. Через несколько дней надо выходить в море. Лед очень тяжелый, неизвестно, сколько придется долбиться. А сроки – сам знаешь…
Вскоре мы с Френкелем уже в порту. Наш ледокол уже практически загружен, но оставшиеся грузы не помещаются. Требуемое решение, что оставить «на потом», – для меня очевидно. Без колебаний оставляю всю начинку сооружений, все электрические щиты и всякие «прибамбасы» и гружу все железные коробки. Если мы не сварим и не установим коробки, то куда будем монтировать всю начинку? Френкель с этим сразу же соглашается. А моя просьба – грузить последними новенькие сварочные агрегаты, ему непонятна.
– Они – новые, им нужно двое суток на обкатку, – объясняю я Френкелю. Он сразу все понимает и распоряжается к горючему для тракторов на палубе добавить еще несколько бочек бензина для моих агрегатов. Хорошо работать с таким начальством, которое все понимает. На таком простом мероприятии потом я сэкономлю целую неделю…
Техническое отступление, не очень уместное, но просвещающее Когда вышли первые «Жигули», сделанные по итальянской технологии, я очень удивился, что на их карбюраторах не стоят ограничительные шайбы на период обкатки. Такие шайбы стояли на всех двигателях «Побед», «Волг» и «Москвичей». Шайба исполняла роль удавки, затянутой на шее бегуна, чтобы, он перемещался только ползком, пока не окрепнет. В инструкции же по «Жигулям» всего лишь приводилось пожелание (!) не превышать скорость 90 км/час (!!!) на первой тысяче (всего-то!) километров пробега. Оказывается, все дело в точности изготовления деталей двигателя. При низкой точности эти детали должны долго прирабатываться, притираться друг к другу, чтобы нормально работать дальше. Даже обычные рабочие обороты в период обкатки двигателя могут полностью «запороть» его. После «тихоходной» обкатки из двигателя, вместе со сменяемым маслом, выходит уйма металлических опилок, до того бывших «неточностями», разными заусенцами и повышенными допусками в размерах. Поэтому тщательная, а значит – длительная и спокойная, обкатка новых двигателей на сварочных агрегатах, была для нас условием их относительно надежной работы в будущем.
В гостиницу возвращаюсь поздно вечером, голодный как волк. В портовом Мурманске, где жизнь должна бить ключом круглосуточно, все уже заперто и закрыто, как в провинциальном и глубоко сухопутном Урюпинске. Единственный маяк освещает эту унылую картину: ресторан «Арктика», куда я и направляю свои стопы в военно-морских ботинках.
Здесь, за плотно зашторенными окнами, шумит и заправляется весь Интернационал. Просто поужинать, не заказав спиртного, – это плюнуть в нежную душу официанта. Заказываю прожиточный минимум, быстренько все загружаю вовнутрь, закуриваю и расслабляюсь. За соседним столиком звучит родная немецкая речь. Один из немцев хмуро оглядывает меня. Я, знакомый с «партиципами» и «кондиционалисами», а также со всеми сварочными терминами на немецком, бодро ввязываюсь в разговор. Выяснили: оба мы инженеры, оба не любим военную форму. На вопрос о том, где же мой немецкий друг был в 1941 – 45 годах, он быстренько ответил, что был очень болен все это время. Я не поверил, немец начал что-то объяснять со скоростью, значительно превышающей порог моего восприятия. После моих настойчивых «langsamer» (медленнее) и «deutlicher»(отчетливее) мы вернулись к исходным истинам и темпам. На той стадии разговора, когда мы заказали еще по сто грамм, чтобы выпить за взаимопонимание, мир и дружбу между народами, совершенно трезвый капитан из патруля объяснил мне, что для меня эта мирная конференция может закончиться на гауптвахте. Переговоры пришлось завершить без подписания итоговых документов…
Шторм на всю жизнь
На всю оставшуюся жизнь…
(Из кино)Вот трюмы загружены до уровня первого твиндека. Открытый проем носового трюма закрывается полом из досок, проем на верхней палубе тоже закрывается балками и брезентом. На этой крыше оборудуется наклонный входной трап, напоминающий снаружи большую собачью будку, обтянутую брезентом. Пространство между полом и крышей и будет временным кубриком для матросов и старшин. Никаких нар не предусматривается: путешествие не должно быть долгим, да и времени не хватает. Моя команда занимает угол трюма в носовой части. Есть много свободных толстых досок, и я принимаю решение сделать для своих ребят нары, чтобы они не валялись на сыром полу. На скорую руку сооружаем на стойках из тех же досок двухэтажный настил: на каждом «этаже» может разместиться человек 15–20. Для жесткости всего сооружения закрепляем гвоздями несколько раскосов. Мне хочется их поставить побольше, да еще и в другой плоскости, но они затрудняют «вход» на нижний этаж.
– Да куда эти нары денутся, товарищ лейтенант! – говорит мне молоденький сварщик матрос Юра Иванов. Нары выглядят вполне устойчивыми, и я, офицер в морской форме, но раньше видевший штормы (штормА!) только в кино, соглашаюсь с ним. Матросы распределяются по нарам, мичманы располагаются на полу вокруг своих пожитков. Всем выдан сухой паек на несколько дней. Главная забота мичманов, что этого пайка будет мало, если придется быть на ледоколе больше пяти дней…
«Пассажирского народу» на судне гораздо меньше, чем в прошлом году, и офицерам выделяются каюты в жилой части ледокола. Я поселяюсь в трехместной каюте на третьей палубе (а может быть – этаже) вместе с Капитонычем и Левой Сорокиным. В других каютах размещаются Шапорин и Леша Венкстерн. Лева Мещеряков должен прибыть позже: приказ о его переводе в нашу часть уже есть, но командир «пятнашки», некий кап-два Г. – выпендривается и не хочет его отпускать. Кроме того, в Ленинграде изготовлено еще не все электрооборудование для наших игрушек.
Вставка – чрезвычайно неуместная, но мне больше не захочется возвращаться к этому Г. В гарнизоне на шоссе Революции он назначается старшим строевым начальником «на рейде». Для этого солдафона с «золотыми», «истинно морскими», погонами не было большего удовольствия, чем гонять нас, молодых инженер-лейтенантов с белыми (техническими) погонами. Он мог остановить любого офицера и, поставив по стойке «смирно», сделать выговор, например, за недостаточный, по его мнению, блеск пуговиц или обуви. Однажды я дежурил по гарнизону. Появляется Г., и я отдаю форменный рапорт:
– Смирно! (По этой команде все находящиеся в вестибюле, даже дамы, – замирают). Товарищ капитан второго ранга! За время Вашего отсутствия в гарнизоне происшествий не произошло. Дежурный лейтенант Мельниченко.
Нормальные начальники после рапорта обычно говорят «Вольно!» выводя из ступора случайных зрителей, здороваются за руку с дежурным (или просто проходят дальше). Наш же флотоводец затягивает паузу, осматривает меня и, не найдя других поводов, громко брюзжит:
– Учитесь отдавать честь! Может быть – полковником станете! А то на всю жизнь сварщиком останетесь!
– А сварщик – не меньше полковника, товарищ капитан второго ранга! – неожиданно даже для себя выпаливаю я. Ударение на слове «второго» звучит как «капитан второго сорта». Г. окидывает меня ненавидящим взглядом и проходит, так и не дав команду «вольно»… Тогда мы думали, что этот истинный служака, «военная косточка», подтягивает к военному уровню нашу довольно разболтанную братию. Позже я понял, что это было проявление тщательно скрываемого комплекса неполноценности строевиков перед инженерами. Техника армии и флота ставала настолько сложной, что ею могли командовать только инженеры. Бывшая «черная кость» постепенно вытесняла «белую». Г. вскоре уволили: хорошего знания строевого устава было явно недостаточно, чтобы командовать технической частью. Последняя наша встреча заставила меня просто презирать его. На проводы в последний путь своего коллеги полковника Шапиро этот бывший «флотоводец», строевой командир, «военная косточка», явился небритым, в жеваном виниловом плаще с оторванным рукавом, напяленм на замызганную фуфайку, и в ботинках, не видевших сапожной щетки со дня своего рождения…
В ночь на 5 мая выходим в море. Проходим залив. Ветер крепчает, и наша махина прилично раскачивается. Больше суток идем до Гремихи. Там принимаем на борт человек 200 солдат – военных строителей. Позже, уже на Новой Земле, я познакомился и подружился с их командиром – Героем Советского Союза Константином Ивановым. Костя, несмотря на высокое звание, – весьма приличный человек, очень не дурак выпить. Может быть, поэтому он все еще ходит в старших лейтенантах…
Теперь мы меняем курс с восточного почти на 900 и следуем куда-то на север. Свирепый ледяной ветер свистит в снастях судна. Все возрастающие волны накатываются спереди и сбоку, тяжело бьют в левый борт, как игрушку раскачивая огромный ледокол. Высоченная гора темной воды с белыми гребнями пены вырастает с левой стороны ледокола и накрывает нас, кажется, полностью. Нам уже не всплыть. Однако нос корабля медленно выходит из глубины пенящейся воды, и мы оказываемся на гребне волны. Теперь перед судном – глубокое ущелье между двумя хребтами темной воды. Прежде чем упасть туда, корабль заваливается на правый борт. Корпус судна дрожит и вибрирует от напряжения и работы винта. При падении судно, прежде чем принять очередной удар водяной горы, успевает выровняться и завалиться на другой борт. Опять мы подныриваем под волну, которая накрывает палубу затем с шипением уходит за борта. Трактора и грузовики на верхней палубе вскоре покрываются толстым слоем льда и стают похожими на фантастические чудовища. Чудовища растут; я просто физически чувствую, как опасно они повышают центр тяжести корабля. Так недалеко и до «оверкиля», когда корабль не сможет выйти из очередного крена…
Моряки из команды электрохода говорят, что нас треплет шторм в 11 баллов. Жизнь на корабле существует только на ходовых постах – на мостике и у машин. Остальной народ, свободный от вахты, отлеживается, даже в столовую не ходит. О нас, пассажирах, и говорить не приходится. Мой Капитоныч лежит трупом на верхней койке. Жив ли? Когда я пытаюсь растолкать его, – только мычит. И то, слава Богу: жив! Лева Сорокин исчез вообще. Расспрашиваю ребят из команды: никто его не видел. Наконец, кто-то из камбузной команды говорит, что он, кажется, лежит возле двери холодильной камеры, расположенной глубоко в трюме. Пробираюсь туда. Действительно: Лева без признаков жизни лежит прямо на полу узкого коридора у дверей холодильной камеры. Расталкиваю его, зову в каюту. Лева з-заикаясь говорит, что здесь ему лучше. Действительно, здесь болтает меньше. Каждое живое существо на корабле описывает в пространстве некую замысловатую фигуру, похожую на спираль из восьмерок. Здесь в низкой точке средней части судна эта восьмерка имеет несколько меньшие размеры. Я оставляю Сорокина «наслаждаться» покоем. По лестницам и коридорам, где меня бросает от стенки до стенки, пробираюсь в свою каюту. Качка меня не берет: меня не выворачивает наружу, как от черной икры, я даже хожу в столовую, где сейчас могут глотать пищу всего несколько человек. Просто тяжелая голова.
Старый анекдот о морской болезни. Судно немилосердно раскачивает и треплет жестокий шторм. Пассажиры ведут себя по-разному. Поляк взывает к пану Езусу и деве Марии, еврей – к матери, немец – к Луизе, англичанин бреется, надевает фрак и открывает флягу с ромом, русский загибает трехэтажным. Украинец терпит молча, затем пробирается на мостик и говорит: «Пане капітане! Зупиніть, будьте ласкаві, Ваш параход, краще я пішки піду!»
В каюте стоит невыносимая жара: к паровому радиатору под иллюминатором не дотронуться: вентиль его «не держит». Чтобы не погибнуть от теплового удара в Арктике, хочется открыть прямоугольник иллюминатора, но сюда, до третьего этажа надстройки, доходят волны и захлестывают каюту. В перерывах между волнами вглядываюсь в закрытый входной трап трюма, где находятся мои матросы. Меня просто гложет тревога за моих ребят. Из трюма еще никто не показывался. Нос судна – самое «раскачиваемое» место: амплитуда «восьмерки» – десятки метров. Прикидываю дорогу к входному трапу: это метров двадцать палубы, заставленной обледенелой техникой, которую периодически накрывает волна. Нет, в трюм не пройти: ухватиться не за что, и меня просто смоет за борт…
Несколько часов я вглядываюсь в картину палубы, хорошо видимую с каюты в перерывах между волнами. Кратчайший путь недоступен, но окольный – возможен. Если добежать до трактора возле мачты, то там можно переждать одну волну, хотя и по колени в воде. Пока придет следующая волна, можно добежать до входа в трюм.
Помощи от своих офицеров мне ждать не приходится: все лежат живыми (пока) трупами. К командованию судна я тоже обратиться не могу: мне просто запретят выход на палубу…
Готовлюсь в одиночестве. На самые уши напяливаю фуражку, наглухо застегиваю спецпошив, надеваю кожаные перчатки. Приоткрываю дверь из надстройки на палубу и начинаю понимать, что без всякой волны меня может сдуть ветер, который я не учитывал из окна каюты…
Ну, будь что будет. Не утонет человек, которому суждено быть повешенному. Подкрепив себя такой «молитвой», сразу после волны выскакиваю на палубу и несусь к намеченной точке, где можно переждать. Волна накрывает палубу, но меня защищает тяжелый трактор. Стою по колени в ледяной каше, пережидаю. Входной трап с трюмом почти рядом. Раздвигаю брезент, открываю и закрываю за собой тяжелую дверь, спускаюсь по трапу в тускло освещенный трюм.
Невыносимый смрад просто забивает дыхание. Две сотни человек лежат на скользких от блевотины досках пола. Несколько ведер, предназначенных для сбора бывшей пищи, опрокинуты. Пол под ногами вздыбливается и летит вверх, прижимая к себе тяжелое тело. В верхней точке подъема пол накреняется все больше, и тела солдат вместе с ведрами скатываются к одному борту. Затем наступает невесомость падения, когда все внутренности поднимаются к горлу. Опять крен, перекатывание тел к другому борту и очередной взлет к невидимым небесам замкнутого пространства, наполненного полумертвыми людьми и невообразимым запахом. Именно запах пытается вытолкнуть из меня проглоченную накануне пищу…
Среди этого дурно пахнущего кладбища жив и бродит всего один человек – мой матрос Семен Цопа. Он брезгливо выбирает на полу относительно сухие места, куда можно поставить ногу. Голова Семена непокрыта: бескозырку унес ветер на палубе, где он недавно «отдыхал» от трюма. Пробираемся уже вместе к «монтажному» углу. Наши скороспелые нары сложились, как складывается пустой спичечный коробок. Матросы с верхнего яруса, в том числе – Юра Иванов, сползли на пол и валяются рядом. Десятка полтора матросов зажаты между верхним и нижним настилами. Выбраться самостоятельно они не могут, и только по слабым движениям конечностей можно понять, что они еще живы. Я обращаюсь к старшинам-мичманам, кричу им, что надо подниматься и спасать ребят. Мичманы лежат как трупы с зеленоватыми лицами возле своих нетронутых сухих пайков. Остатки ранее принятой пищи размазаны по полу вокруг. Пытаются подняться только Воропаев и Аверьянов, но трюм взлетает в поднебесье, и они беспомощно распластываются на полу. Пробую растолкать кого-либо из лежащих рядом матросов. Бесполезно. Нападаю на Иванова, хотя чувствую только свою вину:
– Видишь теперь «куда они деваются»? Поднимайся, помогай!
Иванов сначала только мотает головой, но потом вдруг срывается, делает несколько шагов к ведру. Его выворачивает, хотя уже нечем. Он падает прямо возле ведра…
Мы молча переглядываемся с Семеном. Из двухсот с лишним человек мы никого не можем позвать на помощь. Только мы вдвоем, лейтенант и матрос, можем спасти наших ребят. Семен находит где-то топор и пачку больших гвоздей, «сэкономленных» при постройке нар. Чтобы поднять верхний настил за выступающие края поперечных досок, надо наполовину согнуться. Первая попытка ничего не дает: настил слишком тяжел для двоих, ребра досок немилосердно вгрызаются в тело до кости. Стаем удобнее, напрягаемся. Настил немного приподнимается, но поднять мы его не в силах. Можно бы осмотреться, убрать доски, мешающие подъему, приспособить какой-нибудь рычаг… Но в наш угол еле доходит свет далекой тусклой лампочки, таких тонкостей – не различить. Кроме того, нас швыряет и прижимает «восьмерка»: при взлете настил стает намного тяжелее. Договариваемся с Семеном, что поднимать будем только при падении судна. Прилаживаемся. Вот взлетаем вверх, заваливаемся. «Давай!!!». От адского напряжения, кажется, вылезут глаза, но настил приподнимается на полметра. Зашевелились освободившиеся матросы.
– Лешенька, давай, помоги, – хриплю я Алексею Гуралю, добросовестнейшему и исполнительному старшине второй статьи родом из Западной Украины. Леша со стоном поднимается на четвереньки, принимая на себя часть груза. Кто-то из матросов находит силы последовать его примеру. Вот нос судна опять пошел вниз, я напрягаюсь изо всех сил и выдавливаю команду: «Взяли!».
Настил нехотя поднимается в «проектное» положение. Теперь удерживать его значительно легче, только давлением в сторону. Мы делаем это вдвоем с Гуралем, а Цопа вгоняет в ставшие на место раскосы новые гвозди, взамен вырванных. Уже вместе ставим дополнительные раскосы. Гвозди не экономим…
Все. Нары стоят. Мы переводим дух после тяжелой работы. Мы уже не чувствуем запаха, а гигантские качели судна кажутся нормальным способом существования.
Передохнув, проверяем всех находившихся между настилами. Все дышат, отзываются, повреждений нет. Огромный камень тихо скатывается с моей души. Еще поднимаем на верхний настил десяток матросов: кого – подсаживая, кого – просто забрасывая наверх.
Обратная дорога в надстройку – по проторенному пути. В каюте раздеваюсь, развешиваю одежду для сушки и обессиленный, но спокойный, ложусь спать.
Я еще не скоро узнаю, что этот подъем сложившихся нар в Баренцевом море наложит свою печать на всю мою оставшуюся жизнь.
Медицинское и философское отступление – взгляд из будущего. Месяца через полтора-два я в полном одиночестве шел по берегу бухты. Тропинка петляла среди невысоких скал, точнее – крупных камней на берегу. Стоял полный штиль и небывалая тишина. Светило яркое солнце. Голубая бухта сонно нежилась под его лучами, словно в каком нибудь курортном море. Только над южной частью моря темнела узкая полоска. Там была Большая Земля, на которую опустился теплый летний вечер. Люди гуляют, ходят в кино и на танцы, целуются… Где-то далеко, в том теплом и недоступном мире живет моя молодая жена…
Внезапно высоко над моей головой возник некий свистящий звук. Взгляд вверх заставил меня отскочить в сторону: на меня пикировал огромный альбатрос с двухметровым размахом крыльев и хищно вытянутым клювом. У самой земли птица взмыла вверх и начала заход на второе пике. Я мог обороняться только камнями, которые и начал швырять изо всех сил навстречу монстру, заходящему на новые атаки. Все происходило почти беззвучно и как-то нереально, – как во сне. Вдруг мое сердце пронзила острая боль, словно в груди находилась большая игла. Иррациональность происходящего наполнила меня просто суеверным страхом. Я отступал, «отстреливаясь» камнями. В конце концов, воздушный агрессор оставил меня в покое… Боль в груди не проходила, и я зашел к знакомому доктору. Он чего-то накапал и дал мне проглотить.
– Ну, помогает? – спросил он через минуту.
– Увы, дружище Эскулап, твои усилия и снадобья напрасны…
– Ну, и слава Богу, – отзывается доктор. – А то я подумал, что у тебя приступ стенокардии, грудной жабы. А если не она, то живи себе дальше. Все проходит, даже боль…
Боль действительно вскоре прошла. Она возобновлялась только, если я спал на спине или подтягивался на турнике. Эти «опции» я сразу исключил из своего «меню».. Лечилась острая боль тоже специфически: движением, зарядкой, работой, что мне вполне подходило…
После следующей «убойной» командировки 1958 года, меня положат в госпиталь, напишут мудреный диагноз «нейроциркуляторная дистония по вегетативному типу» и что-то там еще. Человеку, совсем недавно прыгавшему с парашютом, дадут ограниченную годность к военной службе. А сердце так закормят всякими каплями и таблетками, что оно начнет хлябать, как разорванный валенок. Нет, такой хоккей нам не нужен. Я забрасываю все лекарства подальше: болеть я не привык, значит – здоров.
Десять долгих лет я буду бороться с этими периодическими болями своими средствами: бегом, колкой дров и похожими развлечениями, например – вытаскиванием из кювета своего «Москвича». Когда совсем зажало, позвали профессора из платной Максимилиановской поликлиники. Он мрачно осмотрел снимки позвоночника, и сказал, что у меня очень серьезные дела, и надо лечиться всерьез. Его мрачные прогнозы я великолепно проигнорировал, и вскоре все прошло. Прошло, чтобы по философской спирали развития вернуться на более высоком уровне. Затем, после «миленькой» процедуры – «пневмомиелографии», поставят диагноз: сдавливание и выпячивание многих межпозвонковых дисков. Этот диагноз, как большая лампочка Ильича, высветит все прошлые диагнозы и первоначальную причину, которая ведет к шторму в Баренцевом море…
Оглядываясь назад, хочется пофилософствовать: можно ли было все предотвратить? Когда астролога Тамару Глобу, спросили: «Зачем Вы вышли замуж за астролога Глобу, хотя себе-то уж вы оба могли предсказать, что ваш брак будет недолгим и несчастливым?». Тамара ответила: «Такая у меня карма!». Наверное, моя карма мне тоже на роду была написана. В конце концов, люди получают еще более страшные травмы, просто отрабатывая какой-нибудь элемент на турнике или на прыжках с трамплина в борьбе за нелепые «голы, очки, секунды». А я все-таки людей спасал, своих ребят…
Морские кочки
Внезапный скрежет разбудил меня. Корабль дрожал мелкой дрожью, но уже не болтался в трех измерениях. Мы с хода влетели в неподвижное ледяное поле и прошли по нему около 200 метров. Последние метры ледокол налезал носом на лед, затем проломил его и стал горизонтально. Теперь махина ледокола, окруженная обломками голубого льда, неподвижно стояла посреди белой снежной равнины. С гребней застругов свирепый ветер срывал поземку.
Дальше началась, известная мне по прошлому году, долбежка во льду: судно пятится назад, разгоняется, вылезает на лед на треть корпуса, проваливается, опять отходит назад для разгона. Корпус ледокола дрожит и вибрирует, трещит взламываемый лед. По сравнению с прошлой болтанкой, это – детские шалости. Народ постепенно оживает, лицам возвращается естественная окраска. Мои ребята проветриваются на палубе, но ледяной ветер быстро загоняет их опять в относительно теплый смрад трюма. Только теперь доходит очередь до сухих пайков, выданных на дорогу.
Оживает и офицерская каюта. Сползает с верхней койки Капитоныч, из чрева корабля на нетвердых ногах появляется Лева Сорокин. На огонек появляются у нас Шапорин и Венкстерн. Самый разговорчивый у нас майор Иван Александрович Шапорин, – мужик килограммов на 120. Он старший по званию и по должности: командир недавно образованной новоземельской группы, которая будет базироваться в Белушке. Он строит планы будущих работ на всем архипелаге островов Новая Земля. С ужасом убеждаюсь, что в этих дальних планах я уже занял свое место. Даже не потребовалось «засыпать Шапиро телеграммами». Шапорин уверенно планирует мое будущее на год вперед, говорит, что терпеть не может гастролеров. С его колокольни – сверхнапряжение экспедиционного монтажа кажется ему гастрольной вылазкой из-за сравнительно небольшого времени. Конечно, больной зуб можно тянуть с перерывами на обед и даже на каникулы…
Я просто отмалчиваюсь на все заявления Шапорина. Раньше длительность командировок мне была «по барабану»: не все ли равно где работать, а на новом месте – даже интереснее. Теперь у меня есть могучая точка притяжения – любимая и беззащитная жена. Я стал люто ненавидеть командировки «на время»: задавайте мне работу, которую я должен сделать, а не время пребывания в точке «Х». А уже мое дело, как сделать работу побыстрее. Как правило, для этого надо работать головой «до того», а также «во время того». Да и вообще – работать: дорогу осилит идущий.
Шапорин увлеченно планирует мои будущие работы в своей группе после окончания экспедиции. Я отмалчиваюсь. Постепенно он приходит к мысли, что мне в августе-сентябре надо сходить в отпуск, чтобы надежно засесть на всю полярную ночь на Новой Земле. Это уже лучше. Еще неизвестно, что будет после отпуска, – военная жизнь переменчива. Кроме того, – мне еще никто не говорил о переводе в новоземельскую группу, а по штату я числюсь старшим офицером производственного отдела.
Как показал последующий опыт, офицеры новоземельской группы за долгую полярную ночь просто спивались, работая один-два дня в неделю и проводя все остальное время за преферансом. За окнами в это время свирепствовала пурга, когда и нос высунуть нельзя…
Эмма заботливо сохранила все мои письма той поры. Начав писать о тех временах, я очень обрадовался старым письмам: память иногда подводит. Причем, моя память подводит не в смысле запоминания разных событий, а в их последовательности, так сказать, – в привязке ко времени. Начав читать свои письма, я испытал разочарование: в них почти не было ничего, кроме тоски вынужденной разлуки и разных заботливых вопросов о жизни Эммы. Мы тогда были настолько засекречены, что и в письмах абсолютно ничего нельзя было писать о делах. Вот письмо, которое я начал писать еще в Мурманске, затем несколько продолжений в море. Хорошо, что стоят даты, и замечания типа: «не знаю, когда смогу отправить тебе это письмо, возможно – дней через 10». С удивлением обнаружил в этом письме также некие сведения о женах своих коллег, почерпнутых неизвестно откуда. Я пишу Эмме, что жизнерадостный и многодетный Лева Сорокин охотно уехал надолго, чтобы не видеть, как его Роза пристает ко всем мужикам. Что безответный и покорный судьбе, сильно выпивающий Капитоныч стал таким, когда, приехав домой, застал там другого мужика, заявившего свои права на родную жену Капитоныча. Что Шапорин, наоборот, – гордится своей крепкой семьей и верной женой.
Просто не понимаю, откуда я мог почерпнуть тогда эти пассажи. Дело в том, что я вообще не люблю разбирать чьи-то семейные отношения. Кроме того, на любые разговоры о женщинах, тем более – о женах, в нашем обществе было наложено полное и безоговорочное табу: слишком болезненной была эта тема для всех. Однажды, справляя нужду в наружных, насквозь продуваемых пургой «удобствах», мой сверхсрочник вдруг доверительно возопил, явно рассчитывая на мое сочувствие:
– Эх, как мы тут мучаемся! А наши жены там, в тепле, без мужей, небось, гуляют, как хотят!
– Тихон, ты первый раз на Новой Земле? – хмуро спрашиваю я.
– Да, а что? – встревожился Тихон.
– Прибить могут здесь за такие разговоры. Насмерть прибить.
Тихон внял моему намеку: неприятно ведь, когда тебя прибивают насмерть.
Уже несколько суток наш ледокол долбит лед, который стает все толще. После очередного выползания на лед, ледокол застревает окончательно: бешено работающий винт не в силах сдвинуть его назад. На лед спускаются подрывники, но и серия взрывов ничего не дает. Мы неподвижно замираем в объятиях ледового поля. Ветер заносит снегом наш след с обломками льдин, а мороз соединяет их снова в монолит.
На судне кончается вода, хотя она заполняет половину сферы, в которой мы существуем. Вводятся жесткие ограничения: никаких душей и бань, пресная вода подается только по утрам в каюты и на камбуз. Сухие пайки у обитателей трюма все-таки кончаются, и на верхней палубе готовится местечко для полевой кухни. Офицеров это не касается: мы питаемся в кают-компании ледокола, хотя это и влетает нам в копеечку…
Из всех бед меня больше всего достает потеря времени: я просто чувствую, как бесполезно и безвозвратно утекает сквозь пальцы эта драгоценная субстанция. Наконец из мостика приходит ободряющее известие: к нам на помощь идет легендарный отечественный ледокол «Ермак». Его хоть и англичане построили в 1899 году, но по замыслам и под руководством нашего адмирала С. О. Макарова. Макаров придал корпусу ледокола ниже ватерлинии очертания яйца, чтобы корпус выталкивался наверх, а не разрушался при сжатии льдов. Вообще, это очень продуктивное сочетание: наша голова и их руки, технологии и добросовестность. Задуман был «Ермак» для крушения впервые в мире тяжелых арктических льдов, что и проделал на нем Макаров самолично в том же 1899 году. Тогда «Ермак» забрался на север почти до широты 810. Мы же находимся сейчас как будто южнее, хотя по толщине льда и бесконечной пурге кажется, что мы приближаемся уже к Северному полюсу.
А, кстати, где мы находимся? Для нас – это большой секрет. Мало ли, что враги ежедневно или ежечасно передвигают на карте флажок, обозначающий наше судно. Проявивший любознательность наш человек сильно рискует. Соответствующие инстанции тщательно проверят: с каких это харчей человеком вдруг овладело желание узнать, где он находится?
Гораздо позже, в середине 90-х годов, я нашел подробные карты Новой Земли, всех полигонов и перечень произведенных ядерных испытаний. Спустя 40 лет многое, что происходило тогда, стало понятным.
Ну, сначала о нашей точке пребывания. Мы были на «глубоком Юге»: всего лишь чуть севернее 70-й широты. А вот полигон Д, на котором я «отдыхал» в прошлом году, действительно находится гораздо севернее. Вообще-то для наших смертоносных развлечений начальство облюбовали все-таки южную, самую насыщенную жизнью часть Новой Земли, оставив нетронутыми ледяные скалы северной части. Гомо сапиенсу, разрушающему свою планету, нужны хотя бы минимальные удобства для производства этого разрушения… Конечно, я как бы (очень модные сейчас словечки!) пытаюсь шутить. Я понимаю, с какими непреодолимыми трудностями мы бы встретились при устройстве полигона в северной скалистой и неприступной части Новой Земли, если у нас и здесь, «на Юге», этих трудностей было выше крыши!
На горизонте появилось нечто; из него идет дым. Проходит десяток часов, и уже виден «Ермак», долбящий лед по нашему следу. Высоченные две трубы и мачта на приземистом (приводистом?) «утюге» вызывают настоящую радость у наших людей: к нам идет помощь!
Проходит еще несколько часов сближения, остаются несколько сотен метров. И тут «Ермак» перестает двигаться. Его зажали льды, как и нас. На мостиках принимают решение: ожидать прилива, когда объятия льдов слегка ослабевают. Несколько офицеров, в том числе я, спускаются на лед, и идут в гости на «Ермак». Встречают нас радушно; зная о наших трудностях с водой, предлагают баньку. Предложение с благодарностью принимается: собственно, ради баньки мы и затеяли этот визит. После баньки – небольшое чаепитие. Очень жаль, что нельзя было фотографировать что-либо. В памяти сохранились ухоженность и высокая чистота на «Ермаке». Верхняя палуба, покрытая деревянным настилом из твердого (тикового?) дерева, была отскоблена до сияющей желтизны.
Начинается почти незаметный по внешним признакам прилив. Первой освобождается наша «Индигирка». (Вчера, 26.04.2005 г., получил письмо от Саши Кравцова. Он почти твердо помнит, что в 1957 году нас доставляла «Индигирка». Впрочем, он не исключает, что это был «Енисей»). Идем на помощь «Ермаку» и освобождаем его. Дальше начинается дружная работа двух ледоколов, прокладывающих в ледяном поле широкий канал, в котором цельный лед заменен отдельными льдинами разной величины. Затем эти отдельные льдины упорно пытаются опять соединиться друг с другом…
Земля уже иногда видна, она совсем близко, но почти непрерывная пурга завешивает все сплошной белой мутью. До места высадки еще несколько километров, но лед очень крепкий, оба ледокола изнемогают, ресурсы топлива и воды иссякают. Генерал Е. Н. Барковский, который сейчас командует нашей экспедицией, принимает решение о начале выгрузки. (Д. И. Френкеля с нами нет: он теперь командует строителями всей Новой Земли со штабом в Белушке). До берега остается километров пять, которые пришлось бы долбить суток по двое на каждый километр. Самое время – остановить пароход и двинуться пешком…
Каникулы кончились. Работать!
Пурга метет непрерывно, очень нам мешает. Начинается неделя-другая круглосуточной разгрузки ледокола. Наша задача: в огромном потоке грузов отловить все свои, доставить их на берег целыми, сосредоточить в нужном месте, чтобы тут же начинать монтажные работы.
Сначала очищается верхняя палуба, затем вскрываются трюмы. Для моих старшин и матросов это равноценно снятию с дома крыши и потолка во время зимней пурги. Палатки строители обещают построить только через двое суток: палаткам нужны гнезда-полы и якоря.
Сварочные агрегаты снимаем первыми. На берегу утаптываем в снегу пространство для них, заправляем, заводим, и ставим на двухсуточную обкатку. На этих работах у меня «стоит» очень грамотный техник – старшина второй статьи Беляков.
Секции бронеказематов и сооружений разбрасываем на просторной снежной равнине недалеко от берега. Все остальное имущество подтягиваем к строящимся палаткам. Матросы и старшины работают официально по 12 часов, но отдыхать – негде, и на часы никто не поглядывает, хотя многие валятся с ног от усталости. Офицеры – вообще вне времени: выгрузи ледокол – и отдыхай, выполни монтаж – и отдыхай… Правда, еще есть дежурство по ледяной пятикилометровой дороге. Дорогу надо своевременно расчищать или перемещать, если на ней появляются опасные промоины, вытаскивать застрявших, короче: обеспечивать четкое функционирование дороги.
Вот здесь я и выдернул из-под гусениц трактора генерала Барковского, о чем упоминал раньше. Наш генерал в пургу щеголял в «красивой фуражке», поэтому глаза и уши у него были залеплены снегом, и он не слышал надвигающихся сзади гусениц трактора. В таком же состоянии был и тракторист, который работал со снятой для безопасности кабиной и не видел ничего дальше своего носа…
У меня первый «бунт на корабле». Мичман Шабанин, материально ответственный, рослый здоровый мужик, одетый в длинную жесткую шубу, стоит с журналом и карандашом возле горы наших ящиков с имуществом. Два матроса, выбиваясь из сил, забирают ящик из одной кучи, подносят его к мичману, чтобы тот отметил номер ящика в своем журнале. Номер можно записать прямо у кучи, зачем перемещать весьма тяжелый ящик? Но Шабанин стоит совершенно неподвижно. И даже требует поворачивать ящик так, чтобы номер на нем читать было удобнее.
Делаю мичману резкое замечание: надо двигаться самому, чтобы прочитать номер ящика с другой стороны, а не насиловать матросов. Шабанин, не шелохнувшись и даже не повернув голову в мою сторону, отвечает:
– Ничего с ними не будет: молодые!
Вспоминаю эпопею с наказанием матроса Степива, беру себя в руки, и популярно объясняю мичману, что ресурс матросских сил нам нужен для выполнения основной задачи, а не для создания удобств господину мичману … Шабанин обливает меня презрительной улыбкой, оставаясь все в той же незыблемой стойке. Очень не уважают эти служивые сверхсрочники своих зеленых и неопытных командиров с белыми погонами… Кровь, а может быть – моча, ударяет мне в голову, легко сдирая тонкий налет цивилизации. Я приближаю свои глаза к лицу Шабанина и раздельно и четко объясняю ему, что если он так будет реагировать на мои команды, то я, лейтенант и командир группы, обломаю ему, мичману, все рога, а также обрежу хвост, а возможно – еще кое-что. Это понятно?
– Так точно, товарищ лейтенант! – вытягивается старый служака и тут же начинает изображать бурную деятельность.
Я был не прав, если не стратегически, то, по крайней мере, – тактически. Я подавил оппозицию грубо и в зародыше. Как показала дальнейшая жизнь, – загнал ее, оппозицию, вовнутрь. Сейчас, в 2005 году, все газеты и телеканализации во все голоса трубят, как это плохо – не иметь собственной оппозиции. Самые светлые головы дошли до того, что эту самую оппозицию рекомендуют заботливо выращивать и подкармливать, чтобы она с тобой бодалась: это, дескать, нужно для устранения очень опасного застоя в движении…
Ничего этого я тогда не знал, хотя боролся даже с намеками на замедление, не говоря уже о застое. Действовал грубо и примитивно, как участники некоей спортивной игры, с мудреным названием кёрлинг. В этой игре тяжелая блямба (наша работа) с трудом ползет по льду к заданной цели. Чтобы облегчить ей движение, игроки тщательно соскребают все неровности (оппозицию) на трудном пути блямбы. Если взглянуть на мою работу с высоты птичьего полета, то снятие или подавление этих неровностей, тормозящих дело, и было моей основной работой. А вот «подавленный» мичман еще аукнется на моем жизненном пути…
Шли третьи сутки разгрузки нашего ледокола. Работы еще на неделю, но наши грузы и конструкции все уже на берегу. «Ермак» успел убежать обратно по ледяным кочкам. Пурга понемногу теряет силу. Одна смена матросов поспала часов шесть в новой палатке, и выспавшуюся половину группы уже можно смело бросать в бой. Двигатели наших сварочных агрегатов мурлычут уже двое суток. Сменить масло, подсоединить провода, – и можно «запрягать».
Мы начинаем монтаж. Сборку сооружений из двух секций начинаю вести сам. Мой подручный – старшина второй статьи Алексей Гураль, через несколько часов сможет это делать самостоятельно. Учится он стремительно, все видит чуть наперед, своими матросами руководит немногословно и эффективно.
На большом снежном поле, на первый взгляд – хаотично, разбросаны наши пятитонные коробочки. Оказывается, что они стоят по парам, а разброс нужен для работы трактора. Трактором с тросом такая пара сближается и стыкуется на прихватках. Затем на верх сооружения забираются два-три сварщика и быстро заваривают удобную четверть стыка. Теперь сооружение кантуется на 1800, опять заваривается четверть стыка в удобном нижнем положении. Идея проста как репа: кантовка занимает десятки секунд, на удобном положении сварки мы экономим целые часы и улучшаем качество. В принципе, это тоже время, которое не придется тратить на исправление дефектов после испытаний…
Спустя несколько смен (точнее – полусуток) полтора десятка собранных сооружений стоят в ряд возле палаточного городка. Каждое сооружение имеет собственные салазки и в максимальной готовности будет доставлено на место – за 30–50 км от центра. Теперь электрикам открывается широкий фронт работ. А все металлисты начинают посекционную сборку бронеказематов, которые значительно крупнее прошлогодних. Тяжелым дверям уже есть место для открывания, а над конструкцией стыков секций я поработал сам. Безобразия с полной обваркой всего набора больше не будет. Кроме того, на заводе была проведена контрольная сборка и подгонка стыков всего сооружения. Хватит изобретать экзотические четырехтракторные краны, надо работать нормально! Удивительно, насколько быстрее может работать человек, ранее набивший шишек и имеющий опыт укрощения московского Военморпроекта.
Время «сгущается». Официальный рабочий день матросов – 12 часов. Работа на большинстве объектов ведется в две смены – круглосуточно. Рабочий день офицеров никто не считает: просто должны эффективно работать две смены. Мой личный рабочий день длится более 20 часов. Казалось бы, что остающиеся 4 часа суток будешь спать «без задних ног». Это совсем не так. Время отдыха чаще всего используется для продумывания дальнейших шагов и работ. Особой усталости, тем более – сонливости, – нет: сама работа поддерживает такой ритм. И, конечно, благословенное лето Арктики, когда солнце светит почти круглосуточно. Даже когда метет пурга, темноты нет. Чувствуешь, как сокращается ежедневно и ежечасно огромный объем работ, который надо выполнить. Воистину: «дорога к ней идет через войну»…
Мои «подданные» разбросаны по отдельным участкам. Леша Венкстерн и Лева Сорокин «сидят» на Высоте. Там огромный объем работ сосредоточен в одном месте, и они его раскручивают без моей непосредственной помощи. Я только подниму на Высоте мачты антенного поля. Наконец приезжает Лева Мещеряков, и вместе с Капитонычем плотно «садятся» на электрооборудование всех сооружений: надо их довести до максимальной готовности, прежде чем доставить и установить на заданной точке огромного полигона с радиусом около 40 километров. На мне, кроме всех общих вопросов работы группы, «висят» также все металлоконструкции – монтаж, оснастка и т. п.
Совершенно неожиданно начинается явное торможение наших работ со стороны генподрядчика – нашего строительного начальства. Главные «тормозители» – начальник строительства полковник Мальченко и его главный инженер подполковник Полунин. Я даже не помню имен этих малоприятных людей с кругозором и замашками жэковских техников-смотрителей. Главные тормозные рычаги – транспорт и последовательность работ.
Наши объекты «размазаны» по огромной, трудно проходимой территории. Чтобы работа шла успешно, мне в течение суток надо посетить много объектов. Надо непрерывно маневрировать людьми, оборудованием, материалами, что невозможно без транспорта, который, увы, находился в полном распоряжении строительного начальства. Кроме того, мне очень важно досрочно получить строительную готовность объектов, на которых очень большой объем последующих монтажных работ. Избалованный в первой экспедиции Д. И. Френкелем, я привык решать такие вопросы мимоходом. И строители, и монтажники на полигоне делали общее дело, причем неизвестно, чья доля работ была весомее в конечном продукте – сооружении, готовому к проведению испытаний.
С транспортом строительные «фюреры» 1957 года устроили мне форменную блокаду. Я должен был подавать письменную заявку за несколько дней, в которой следовало точно указать маршруты и цели поездки. Причем, заявка могла быть не принята с объяснением типа: «Это вам не нужно», или: «У нас туда пойдет транспорт через три дня. Завезете тогда все необходимое». О каком-либо изменении графика строительных работ для ускорения монтажа строительное начальство и слушать не хотело.
Вот один из примеров. Мы устанавливали в разных местах полигона два пункта оптического наблюдения с фоторегистратором ФР-10. Этот прибор – «лупа времени» – делал 10 миллионов (!!!) снимков в секунду, что позволяло рассмотреть все подробности начала атомного взрыва. Телескоп прибора находился в шестиметровой трубе, пронизывающей защитную обваловку всего сооружения с прибором. Понятно, что ось трубы должна быть строго ориентирована на ПУИ – Пункт Установки Изделия, который, кстати, находился рядом с нашим домиком. Крепления трубы должны выстоять и при атомном взрыве, и при устройстве обваловки сооружения обычным бульдозером. Требующийся металл я успел завести на точки раньше, но теперь на одной точке был только бензорез, на другой – только сварочный агрегат. Объединить это оборудование и окончить работу на двух объектах из-за Мальченко я смог бы только через неделю, – после предоставления «планового» транспорта. Это для меня нестерпимо, и работы были выполнены всего за 5 часов. Пришлось только «изобрести» разные конструкции крепления: на первом их сделали одним бензорезом, на другом – только сваркой…
Много было трений с «руководящими ребятами» по разным другим, совершенно пустяковым поводам: обеспечению палаток топливом, помывке людей в бане не одновременно, а по сменам и т. д. Постоянное ущемление монтажников даже в мелочах не могло не вызвать у нас ответной ярости. Однажды мы с Левой что-то просили у главного инженера подполковника Полунина. Как обычно – получили «полный отлуп». Вслед уходящему Полунину Лева в сердцах бросил:
– Ну и вались ты к такой-то матери!
– Что, что вы сказали? – развернулся Полунин.
– Да это я не вам, – опомнился Лева.
– Ну, то-то же, – величественно удалился подполковник от двух озверевших лейтенантов.
Я еще не знал, что на следующий год встречусь с еще более беспардонным полковником Циглером, и разногласия 1957 года станут казаться легкой разминкой…
Совершенно другие, вполне человеческие и деловые отношения сложились у нас со строительными офицерами – прорабами и начальниками участков, – старшими лейтенантами и капитанами. При первой встрече эти ребята, соседи по «балкАм» – деревянным передвижным домикам, – вызывали легкое недоумение. Все они разговаривали и шутили неким специфическим набором фраз голосами артистов Крючкова и Мордвинова:
– Ха! Этому молодому человеку просто надоело долго жить! (Перед этими словами воздух со свистом положено было дважды втянуть через боковую щель между зубами).
– Я очень дико извиняюсь! (Извинение обязательно сопровождается низким подобострастным поклоном).
– Ноги на стол!!! – команда подавалась громким голосом по разным поводам, например вместо призыва «Внимание!». От стола эти ребята могли отходить мультипликационными рывками, причем – «задним ходом»…
А на лугу в траве некошеной
Она лежала как живая,
В цветном платке на шею брошенном, —
Красивая и молодая…
– эта трагическая декламация с надлежащими завываниями исполнялась над не вовремя уснувшим товарищем.
Постепенно все разъяснилось. Эти офицеры-строители провели вместе в замкнутом пространстве долгую полярную ночь. Радио в тех местах практически не работает. Доблестные замполиты на все это время почти полного бездействия снабдили их только двумя кинофильмами: «Котовский» и «Лурджа Магданы». Все словесные штампы были от выученного наизусть «Котовского». Второй фильм повествовал, как грузинские дети вырастили ослика, которого у них потом отобрали. Речи ослика были не всегда выразительными, поэтому кино просто крутили «задом наперед» и радовались, как дети.
Как дети они обрадовались и нам, с которыми можно было постепенно забыть кошмарное искривление психики от двух фильмов, изучаемых в течение нескольких месяцев. Задумчивый философ Илья, выпускник Дальневосточного политехнического института, мечтающий о выходе на гражданку. Романтичный Юра Шелонин, деловой и симпатичный Андрей Коцеруба. Мы подружились с этими ребятами и без лишних слов по-настоящему помогали друг другу – «огнем и колесами», где только могли. Я мгновенно ремонтировал ломающуюся строительную технику, изготовлял требующиеся приспособления, например – опалубку для бетонирования. В наше братство органично вошел и Костя Иванов, Герой Советского Союза. Минуя длинные разговоры с Мальченко и Полуниным, я быстро обо всем договаривался с ребятами: это надо сделать сначала, а с тем можно повременить. Тут надо сделать промежуточную обваловку, чтобы можно было положить под углом 450 собранный бронеказемат, весящий свыше 100 тонн.
Последнее надо пояснить. От установки бронеказематов в выдолбленных котлованах, к счастью, отказались: слишком сложной и ненадежной была гидроизоляция сооружения. Теперь махина БКУ собиралась на поверхности, затем вокруг нее (махины) воздвигался целый холм. Сваренную галерею секций БКУ я счел необходимым наклонять на 45 градусов поочередно в разные стороны, чтобы обеспечить надежную сварку нижней части стыков секций. Если бы я положил собранное сооружение просто набок, то поднять его потом было бы очень сложно: полдесятка тракторов пришлось бы использовать только в качестве якорей.
Несколько слов о значении местоимения (?) «Я». Меня сначала коробило «яканье» военных: «я вошел», «я атаковал», «я выполнил работы» и т. д. Мне казалось, что надо говорить «МЫ», поскольку эти действия выполняло все подразделение. Постепенно я тоже начал «якать», – сначала для краткости, затем – осознав истину, что в боевых и сложных условиях войско, как хорошо управляемая машина, должно выполнять только волю командира, что дает ему право отождествлять себя с подчиненными. Водитель не говорит ведь «мы с машиной привезли груз», а «я привез».
Эти записки пишутся долго и трудно, поэтому могут быть весьма разностильными. Сейчас я поймал себя на том, что я пишу «Я» в значении «МЫ». Конечно, меня осудят за зазнайство даже близкие люди (если они когда-нибудь заглянут в эти записки). Пусть это отступление послужит аналогом фигового листа, закрывающего моё неприлично выпирающее зазнайство…
Кстати, о хорошо управляемом войске. Иногда оно (войско) делает совершенно дикие заносы на ровной и сухой дороге. Я уже воспел в этой главе целый гимн хорошо обкатанному двигателю, добросовестно конвертирующем впоследствии свои лошадиные силы в бесперебойную работу и высококачественную сварку. Десяток моих сварочных агрегатов были отлично обкатаны и надежно «молотили» на монтажных площадках – сварки было очень много, именно сварка определяла длительность монтажа многих объектов, особенно бронеказематов.
Однажды, подъезжая к третьему БКУ, я не услышал привычного рева мотора. Зайдя за сооружение, я увидел жуткую картину: двигатель САКа был разобран до мельчайших деталей, которые были аккуратно разложены на брезенте. Над ними склонился начальник моих мотористов старшина второй статьи техник Беляков.
– Юра, что случилось???
– Ничего, – спокойно отвечает Беляков.
– Как это – ничего? Почему же двигатель разобран?
– А я хочу посмотреть, отчего он так хорошо работает!
У меня даже «в зобу дыхание сперло». Я смог только глупо переспросить:
– Ты разобрал исправный двигатель, чтобы посмотреть, отчего он хорошо работает???
– Ну, да, – так же спокойно ответил Беляков.
Я не мог опомниться. В трудное время, когда дорога каждая минута, человек разбирает наш основной, напряженно работающий механизм, чтобы удовлетворить собственную любознательность. Хотелось немедленно кого-нибудь убить, или хотя бы покалечить. Взгляд на отрешенное лицо старшины заставил меня молча сосчитать до десяти.
– Юра, ты все рассмотрел в этом двигателе? Другие можно не разбирать? Даю тебе целых три часа. К их исходу САК должен работать так же хорошо, как до разборки. Только после этого можешь идти на камбуз и отдыхать. Все понятно?
– Так точно, товарищ лейтенант, – ответил старшина и спокойно принялся за сборку двигателя. Странного старшину спустя несколько месяцев уже Шапорин комиссует из своей группы по психическому заболеванию с мудреным названием. А руки у парня были золотые, и технику он понимал и знал отлично…
Следующих два, уже «электрических», ЧП, чреватых тяжелыми последствиями, мне удалось предотвратить чисто случайно, – просто повезло вовремя оказаться в нужном месте. В бронеказематах должны разместиться основные приборы для регистрации параметров ядерного взрыва. Для их подключения и настройки мы устанавливаем системы жизнеобеспечения: энергоснабжение, освещение, отопление и вентиляцию, – почти как на подводной лодке. Все эти системы на полную силу работают только при наладке, используя электроэнергию наружного дизель-генератора. Тогда же дозаряжается мощная батарея аккумуляторов, которая будет питать приборы и поддерживать нужные условия в отсеках в автономном режиме – во время испытаний.
Мы предварительно – для себя – испытывали систему отопления БК, которую смонтировал Капитоныч со своими матросами. Все работало, нагретый теплоноситель (антифриз) насосом прогонялся по трубкам через радиаторы во всех отсеках. Я уже хотел прекращать испытания, когда в одном полутемном отсеке почувствовал запах нагретой изоляции, а щекой – высокую температуру. Начали разбираться: раскалился небольшой электродвигатель циркуляционного насоса. Обследование выявило сильный нагрев еще двух двигателей. Где-то была допущена системная ошибка. Докопались: применены новые однофазные электронасосы, предназначенные для дачников. Ему нужен специальный ручной пускатель, отключающий после пуска одну обмотку электродвигателя. Чертеж об этом – ни гу-гу, и Капитоныч подключил его как обычный трехфазный двигатель. Если бы мы своевременно не устранили этот «суффикс», все циркуляционные насосы через короткое время просто бы сгорели, возможно, – вызвав пожар в сооружении. По измененной схеме насосы запускались только вручную, о чем я немедленно известил ребят из «науки» – офицеров полигона.
Кстати, с ними у нас было очень тесное взаимодействие и дружба. Я всегда помнил наказ Д. Н. Чернопятова: «Просьбы и заботы эксплуатации всегда надо уважать и выполнять: мы, монтажники, работаем для них, а не для формы 2» (платежного документа о выполненных работах). Например, с капитаном Беляковым мы разработали и изготовили на месте целую систему поочередного отключения темных светофильтров. Теперь авиационный фотоаппарат АФА и скоростная кинокамера СКС могли во всей красе снимать остывающий гриб, яркость которого падала со временем, а светофильтры, не учитывающие этого, оставались слишком темными.
Второй наш ляп мог иметь еще более печальные последствия. В каждом сооружении мы должны установить батарею высокоэффективных авиационных аккумуляторов. Поставлялись они в сухозаряженном виде. Наша задача: залить аккумуляторы электролитом, провести КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Высокие параметры аккумуляторов требовали очень точного соблюдения режимов. Всего требовалось несколько сотен аккумуляторов. Их подготовка – большая работа, на которую был выделен «целый» мичман Воропаев с несколькими матросами. Аккумуляторы заряжались группами от генератора. Что-то заставило меня заглянуть на участок Воропаева. Зарядный ток на амперметре был совсем маленький, хотя двигатель генератора ревел в полный голос. Заглянув в банки аккумуляторов, я увидел кипящий электролит, чего не должно быть ни при каких режимах. Сам Воропаев встревоженно суетился, понимая, что происходит что-то не так. Я немедленно остановил зарядку и начал разбираться. Причина нашлась быстро: клеммы амперметра были закорочены толстой медной проволокой!
– Эт-та что за прелести? – спрашиваю Воропаева.
– А без этого он зашкаливает сразу же, – оправдывается мичман.
– А где шунт?
– ???
Выясняется, что доблестный мичман-электрик понятия не имеет о шунтах для некоторых амперметров постоянного тока. Находим упакованный шунт (калиброванный резистор) к данному прибору, подключаем, запускаем зарядный генератор на старом режиме. Оказывается, зарядный ток превышал требуемый в несколько раз. Полчаса такого «заряда», и драгоценные аккумуляторы пришлось бы выбросить. Без них не может работать ни одно сооружение полигона, что, конечно, повлекло бы много вопросов местных Штирлицев и соответствующие выводы. Рисую эту картинку Воропаеву. Остатки волос на его лысине стают дыбом…
С аккумуляторами «до того» была еще одна значительная передряга. Из «Советского Союза», как называли мы всё находящееся вне острова, сообщили, что тонна требующейся нам дистиллированной воды где-то затерялась и не может быть поставлена в срок. Командование решило организовать производство дистиллята своими силами. Со всей Новой Земли были собраны маленькие медицинские дистилляторы: их набралось около 20 штук. Сосчитали, что при круглосуточной работе в течение месяца можно обеспечить в срок потребность полигона. Мгновенно выделили палатку возле озера с пресной водой, установили дизель-генератор, организовали круглосуточную вахту матросов. Производство драгоценного дистиллята пошло медленно, но неуклонно. На четвертые сутки дежурный матрос сладко уснул. Дистилляторы выработали запас воды, затем все до единого сгорели… Виновного матроса отправили, конечно, на губу на полную катушку, но воды от этого не прибавилось. На большом кворуме, задумчиво чесавшем коллективную репу, я предложил добывать воду из чистых слоев глубокого старого снега. Поскольку других идей не было, ухватились за эту. Костя Иванов выделил полевую кухню, котел которой вылизали до нездорового блеска. Солдаты в глубокой расщелине отрыли слой чистейшего зернистого снега. Процесс пошел «семымыллионнымы шагамы», как говаривал наш доблестный замполит полковник Пилюта. Через несколько дней «вопрос был закрыт».
Удостоверение об этой «рационализации» у меня хранится в почетной папке: за вынужденную серенькую идею я получил денег больше, чем за все, вместе взятые, хитроумные изобретения с мировой новизной, подтвержденной выданными авторскими свидетельствами…
Пещеры Али-Бабы
Ба, ба, ба, – сказали мы с Петром Ивановичем…
(Н. Г.)Как ни тщательно мы готовились к работам, предусмотреть и захватить с собой все нужные мелочи – невозможно. Что-то ломается и требует ремонта. Что-то приходится изменять, переконструировать. Для всех таких дел нужны гаечки, шайбочки, болтики или другая дребедень, которой полно в «технических архивах» у каждого уважающего себя человека техники. Для него эти ящики с техническим барахлом представляют такую же ценность, как записные книжки для Ильфа-Петрова. Кроме того, что оттуда всегда можно извлечь нечто совершенно необходимое именно сейчас, сам процесс «перелистывания» старых запасов может пробуждать воспоминания и доставлять эстетическое наслаждение…
Увы, мы, «упавшие с ледокола», почти не имеем такого технического архива, потребность в котором начинает ощущаться с первых дней. Нам очень не хватает, например, мелкого крепежа: этих самых гаечек-винтиков. Обращаем свои взоры на окрестности и видим, что поживиться есть где. На берегу бухты стоит целый парк невиданных ранее машин – амфибий. Это большая прямоугольная плоскодонка с заостренными носом и кормой. Автомобильные колеса внизу под днищем кажутся маленькими и лишними, зато винт на корме внушает уважение. Возникает даже проект: из нескольких амфибий собрать одну, чтобы не зависеть от щедрот Мальченко и Полунина. Более внимательное изучение объектов заставляет отказаться от независимости: со всех двигателей сняты самые важные детали. Кладбище ранее плавающих и ездящих монстров используется для добычи крупного крепежа, тросов, крюков. Иногда бензорезом мы вырезали и нужные для дела куски металла из корпуса.
Гораздо больший интерес с эстетической точки зрения представлял собой гидросамолет «Каталина» (?), находящийся на берегу метров за 100 от родной стихии. Я люблю самолеты – «в любом виде».
– Гиви, ты любишь апельсины?
– Кушать – люблю, а так – нэт.
В отличие от прагматичного Гиви, мне нравятся самолеты в любом виде: в движении, особенно при взлете, а также как произведения искусства с великолепными рационально-скупыми формами. Но настоящий «кайф» я получаю при близком знакомстве с внутренностями самолета. В каждой детали я вижу великий труд и озарения конструкторов. Чистота и точность изготовления каждой детали особенно гармонируют с четкой мыслью конструкторов. В любой мелочи все продумано, надежно, красиво и почти невесомо. Вот на флоте, военную форму которого я ношу, меня поражают совсем обратные свойства деталей: сверхнадежность и увесистость, граничащая с расточительностью. Какой-нибудь выключатель или регулятор громкости радио заключен в массивный литой корпус из бронзы, с сальниками в приливах для пропуска кабелей, – фактически тоненьких проводков в могучей изоляции. Когда мы говорили, что консервная банка сделана в морском исполнении, это значило, что она уцелеет, если даже весь корабль разлетится вдребезги. Бесспорно, такая тяжеловесность вызвана особыми морскими условиями, особой соленой сыростью, но и инерция мышления, несомненно, имеет место быть.
Существует такой анекдот, возможно, – быль. Форд дал задание трем группам конструкторов: разработать автомобиль с заданными характеристиками, в том числе – массой, – около тонны. В параметры по массе уложились только конструкторы, которые и раньше проектировали автомобили. У бывших судостроителей автомобиль получился весом в 2 тонны, у авиаконструкторов – только 0.5 тонны, несмотря на все старания подойти поближе к заданным пределам.
Так вот, раздираемая нами «Каталина» удовлетворяла сразу несколько потребностей, – как в крепеже, так и в любопытстве к передовой технике. Несколько раз я делал попутные крюки, чтобы полюбоваться обнажающимися конструкциями. Подозреваю, что и матросы, добывающие крепеж, занимались тем же…
Мы не особенно ломали голову, каким образом гидросамолет оказался на суше так далеко от берега. С амфибиями – все было ясно: у них были колеса, а в прошлом – и работающие двигатели. Для нас главным было то, что эти сокровища – бесхозные и, кроме нас, никому больше не нужны.
Гораздо позже, только в середине 90-х годов, я прочитал о первом подводном взрыве ядерного устройства в бухте Черной в 1955 году. Корабли, амфибии и гидросамолеты были заякорены на различных расстояниях от эпицентра. Большинство техники затонуло, часть была выброшена на берег, – как будто специально для организации наших «пещер Али-Бабы»… Дело даже не в том, что мы не догадывались о радиоактивном заражении своих «пещер». Просто, опасность эту на длительный период никто не представлял, а кто знал – не говорил. Когда вокруг все тихо и спокойно, светит солнце, над птичьим базаром летают стаи птиц, – невозможно поверить, что невидимые и неслышные лучи пронизывают тебя, а каждая ничтожная пылинка, вошедшая внутрь с воздухом или другим путем, является источником непрерывного излучения изнутри на многие годы и даже десятилетия…
Слава Богу, что мы не могли добраться до техники, покоящейся вокруг центра взрыва (все СМИ пишут «эпицентр», совершенно не понимая, что это такое) на дне бухты. По разговорам, туда сползались морские звезды и крабы. Там они бурно и асимметрично росли, а их панцири собирали из окружающей среды все радионуклиды, ставая мощными источниками излучения. Впрочем, это могут быть только разговоры: нигде в открытой литературе об этом я не читал.
А вот сколько, каких и в каких своих органах накопил радионуклидов я лично – известно, и где-то даже записано. Уже в 90-х годах нас, участников испытаний ядерного оружия – выживших офицеров и матросов подразделений особого риска, загружали в некий ковчег и медленно, в течение нескольких минут, вдвигали внутрь гигантского счетчика Гейгера. Умная машина вычисляла по энергии и интенсивности излучения, что именно и в каких количествах мы украли на полигоне, где это добро спрятали, и рисовала обличительную диаграмму. Ее нам показывали издали и прятали для секретных отчетов об отдаленных последствиях ядерных испытаний. Но даже умная машина не смогла бы выделить из общей кучи долю «пещер Али Бабы»…
День рождения на Высоте и другие развлечения
Кто ходит в гости по утрам
– тот поступает мудро…
Никаких выходных у нас, конечно, не было. Был даже такой анекдотический случай. На Высоту, командный пункт полигона, по просьбе Алексея Венкстерна, прислали нашего офицера для испытаний и наладки вентиляции в сооружениях. Измученный круглосуточным бдением, Алексей встретил его как отца родного: неработающая вентиляция задерживала другой монтаж. Однако действия странноватого Клещева повергли Лешу буквально в ступор. В таком состоянии его и застал Френкель, прилетевший на вертолете, чтобы посмотреть, как идут дела на полигоне.
– Что случилось, Алексей Сергеевич? – заботливо обратился к нему Френкель. Вам прислали офицера для наладки вентиляции?
– Да вот он, глухарь, сидит с удочками на озере. Я ему выделил людей в помощь, оторвал от работы. А он заявил, что сегодня – суббота, и вот – ловит рыбку, – интеллигентный Алексей еле сдерживался от возмущения. Сам он не только забыл про выходные, но даже про такие понятия, как день-ночь. Давид Ионыч тоже возмутился и самолично направился к озеру. Глуховатый Клещев не реагировал на шаги подходящего начальника, пока тот не тронул его за плечо.
– Товарищ Глухарь, – официально обратился к нему Френкель. Вам надо немедленно приступить к работе: вентиляция задерживает сейчас все работы на КП.
– Сегодня выходной, и я только начал рыбалку… – с присущей ему идиотской улыбкой начал Клещев.
– Мне кажется, Шапиро сможет Вам предоставить оч-чень много выходных, если я потребую Вашей немедленной замены, – перебивает его Френкель. – У нас выходные отменены, рабочий день – 12 часов. Пусть Шапиро пришлет человека, который не так сильно уважает выходные и рыбную ловлю… – Френкель говорил почти весело, но даже туповатый Клещев смог оценить грозные последствия своей рыбалки. Он быстренько смотал удочки и начал влезать в проблемы вентиляции в отсеках командного пункта. Тут уже Леша Венкстерн нащупал его слабину и в интересах дела очень эффективно ею злоупотреблял. Когда обессилевший Клещев намеревался отдохнуть, Леша бесцеремонно возвращал его на тропу героического труда простыми словами: «Сейчас свяжусь с Френкелем!».
Подошло время подъема антенных мачт на высоте. После прошлогодних подвигов на Д-8, этот «десерт» вне всяких сомнений был лично мой. Я даже не пытался как-либо отвертеться от высокой чести. Начинаю искать относительно свободное окно в своих графиках. Возможное окно – с нуля часов 22 июля. В этот день мне исполнится уже целых 26 лет. Конечно, это мой день рождения, но, почему бы его не встретить «на должной высоте»? Тем более что это будет еще очень раннее утро…
Собираемся ехать на Высоту примерно в 23 часа: около часа занимает дорога. Мои матросы, как и я, уже отработали свои «законные» 12 часов, следующая подряд смена обещает быть короткой и проходит под лозунгом «помощь друзьям».
Беру с собой 5 матросов-монтажников вместе с бригадиром – рослым, но худощавым Иваном Шостаком с горячими цыганскими глазами. (Не помню почему, но Цопы, моего старого соратника по подъему мачт, не было). Фактический бригадир – я сам. В монтажной бригаде, кстати, бригадир работает наравне со всеми, а командные функции, если в них возникает необходимость, выполняет «между прочим», «в перерывах». На тех работах, которые бригаде уже известны, все просто делают свое дело. Со стороны не всегда понятно, кто является бригадиром. Из моих ребят никто раньше не поднимал мачты, и первых два подъема мне приходилось «бригадирствовать» на полную катушку.
Первую мачту с подходами-отходами, инструктажем и учебой поднимали около часа. Леша Венкстерн зачарованно смотрит, как взметнулась к небесам длиннющая и гибкая мачта, обвешанная ярусами оттяжек, изоляторов, всяких тросиков и блоков. Наскоро, без точной регулировки, закрепляем на якорях оттяжки и принимаемся за следующую мачту. На нее уходит времени в два раза меньше.
На третьей мачте, однако, экономии времени не получается: народ уже выдохся. Кроме того, из низких туч начал поливать с ветром мелкий холодный дождик. Одежда сразу стала тяжелой, инструмент и земля, по которой передвигаемся, – скользкими. С третьей мачтой провозились опять почти целый час. Мы – мокрые и измученные. Матросов в столовой ждет то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак. В деревянном балкЕ – передвижном домике – Леша тоже накрыл «завтрако-ужин» и ждет конца операции. Заветная бутылка, неведомо как доставленная на нашу Землю, украшает собой стол. Впрочем, для любой выставленной бутылки удивление вызывает не способ доставки: их достаточно много, сколько героизм и необычайная стойкость личностей, сохранивших ее до какого-нибудь срока. Свирепые островитяне органически не могут откладывать употребление «на потом»: это две вещи «несовместные». Особенно, когда откладывать на потом надо чужое спиртное… Леша не догадывается, что у меня день рождения. Просто, он хочет высказать таким образом мне «спасибо» за эффективную помощь.
А с помощью у нас форменный затор. Для подъема мачты мы собираем на ней тяжелую падающую стрелу (еще ту стрелу, с площадки Д-8!), заводим на мачту трос крепления с вершины падающей стрелы. На этой же вершине крепится трос, идущий к крюку гусеничного трактора. Трактор начинает тянуть трос, когда падающая стрела находится почти в мертвой точке. Она должна взмыть вверх, но может свернуть вправо или влево, не поднимаясь. Чтобы этого не произошло, мы выставляем трактор очень точно по оси мачты и веревками, силой четырех человек – по два с каждой стороны, пытаемся удержать стрелу от дурацкого поворота. На предыдущих трех мачтах падающая стрела послушно взмывала вверх и принимала на себя груз поднимаемой мачты. На четвертом подъеме стрела взбесилась и не хотела идти вверх, заваливаясь то вправо, то влево. После каждого завала, мы сдавали трактор назад, освобождали все троса, разбирали стрелу на две части: только так ее можно было поднять и переставить, чтобы по-новому опять собрать на мачте…
Раза четыре проклятая падающая стрела заваливалась в сторону, упорно не желая подниматься вверх. Мы промокли до последней нитки, вымазались в глине по самые уши. Ожидающие нас харчи, так требующиеся для восстановления уходящих сил, уже давно остыли. Леша, не дождавшись моего прихода, слегка приложился к бутылке и сейчас передвигался, как лунатик…
На этот раз стрелу долго и особо точно настраивали, трактор передвигали по миллиметру. Боковые веревки удерживали по три человека с каждой стороны: на помощь пришли дежурные и проснувшиеся офицеры. Даю трактору команду на небольшое перемещение, чтобы выбрать слабину троса. Стрела сжата и подрагивает, боковые оттяжки удерживают ее от неверных телодвижений. Командую трактору малый ход. Стрела стремительно сваливается вправо и шлепается в грязь. Удерживавшие веревку справа еле успели отскочить, часть «левых» повергнуты в грязь веревкой, которую они опоздали выпустить…
Матросы взвыли. Шостак громко загибает трехэтажным, не обращая внимания на присутствующих офицеров. Леша Венкстерн прямо физически мучается. Все смотрят на меня.
– Ну, все ребята, – говорю я. Последовавшую паузу большинство поняли, что работу мы бросаем. Но я продолжил:
– Делаем еще одну попытку подъема. Ну, уж если опять ничего не получится… (Народ замер, ожидая спасительного окончания) – то будем… опять пробовать.
Неизвестно почему матросы и Шостак начинают ржать в полный голос. Сил будто прибавилось: стрелу быстро разбирают-собирают. Трактор выставляем без особой тщательности. Стрела радостно взлетает в серое небо и начинает плавно поднимать мачту…
Через 15 минут последняя мачта была закреплена и ее вершина спряталась в низких облаках. А еще говорят, что техника не имеет души!
Все свободные от работы товарищи политработники и всевозможные Штирлицы ходят на рыбалку, охоту, сбор гагачьего пуха и кайриных яиц. У нас, монтажников, работы идут хорошо, и мы решаем несколько часов использовать для передышки, посвятив их охоте. Занимаю у Кости Иванова до боли знакомую боевую винтовку Мосина образца 1891/30 года (в 1930 году на прицельную планку навели некий лоск, потеряв при этом точность пальбы). Я знаю, что перед использованием оружие надо пристрелять, но не делаю этого по причинам: а) некогда; б) негде; в) нечем – патронов всего-то штук пять. На двух гусеничных тракторах веселая компашка – человек шесть – отправляется вглубь острова, подальше от берега. Берегись все живое! По крайней мере, – мой Мосин способен завалить даже мамонта: мощный патрон и тяжелая пуля 7,62 мм сохраняют убойную силу на 2 километра!
Что-то я не могу припомнить в своей жизни рыбалки или охоты, когда бы мне повезло. Наш трактор переходит вброд небольшой ручей: в ложбинке поверх снега протекает небольшой ручеек. Внезапно посредине ручейка трактор проваливается одной гусеницей вниз. Кабина по диагонали оказывается в снежно-водяной каше, Двигатель глохнет. Все обитатели трактора мгновенно оказались на крыше кабины и на сухой гусенице. Снежная каша начала угрожающе закручиваться вокруг поверженного трактора. К счастью, второй трактор еще на ходу. Он подает крюк, наш водитель, почти погрузившись в воду, зацепляет крюк. После цирковых усилий наш трактор оказывается на берегу, но, увы, – лишенный хода. Трактор на буксире отправляется назад, а мы идем вверх по коварному ручейку. Вскоре он как-то рассасывается, и мы бредем по кочкам почти очистившейся от снега болотистой тундры. Рыбаки сворачивают к озеру, а я движусь к гряде холмов, окружающих наше плато. Бреду довольно долго. Вдруг замираю: слышен гогот гусей. Оглядываюсь: метрах в 50-ти между кочками вертикально торчат две гусиные шеи и, разговаривая на своем языке, бдительно вращают клювами на 360 градусов. Я просто падаю на оттаявшие лужицы и прячусь за ближайшую кочку покрупнее, удивляясь, как это гуси подпустили меня так близко.
Века цивилизации и землепашества многих поколений предков слетают с меня как докучливая шелуха. Я – первобытный охотник. Моей добычи в далекой пещере ожидает голодная подруга с выводком пищащих малышей. Последнее время мне не везло: мелкая добыча ускользала, а от раненного мамонта я сам еле унес ноги и долго залечивал свои раны. Если я и на этот раз не добуду пищу, – мой выводок погибнет от голода, а жену заберет в свой гарем свирепый вождь соседнего племени, который уже давно положил на нее глаз…
Все-таки расстояние слишком велико для непристрелянного, только что изготовленного лука, да и в стрелах, возможно, отсырел капсюль. Надо бить наверняка. Метров через 10, по пути стрелы к вожделенным гусям, высится кочка большего размера. Надо добраться туда. Передвигаюсь по-пластунски, замирая во время гусиного осмотра окрестностей. Холодная водичка проникает сквозь шерсть к голодному брюху, но это только закаляет терпение и обостряет внимание…
Вот достигнута намеченный рубеж (большая кочка). Туго натянутый лук осторожно снимается с предохранителя: не дайте Боги Охоты, чтобы звякнула стрела или еще какой-нибудь затвор. Прицеливание ведется по всем канонам грядущего через многие тысячелетия ХХ века. После прицеливания надо закрыть глаза, сделать вдох-выдох и опять посмотреть в прицел. Если он уходит в сторону, то посадка (лежанка?) лучника неправильна, и ее надо изменить так, чтобы все было тип-топ.
Все проделывается наилучшим образом по теории и памятным заклинаниям Институтского Стрелкового Бога. Точка прицеливания – по корпусу левого гуся, чуть ниже ствола шеи. Девиз некоторых чистоплюев «Бей в глаз, не порть шкуру» для меня сейчас неприемлем: надо действовать наверняка…
Гром крупнокалиберного лука образца 1891/30 года раскалывает тундру на ряд мелких осколков, оставляя неповрежденной только цель. Гуси удивленно переглянулись, перекинулись парой словечек на своем диалекте, осмотрели окрестности и вновь занялись своим трудоемким и долгим делом высиживания собственноручно изготовленных яиц.
Неудача оглушает охотника больше, чем выстрел, и какое-то время он приходит в себя. Однако задача добычи не решена, цель осталась на месте. Значит надо действовать дальшеи еще более наверняка, если это возможно… Намечается кочка, совсем близкая к лежбищу (сидищу? седалищу? сиденью?) гусей. Начинается переползание к кочке, еще более медленное и осторожное: гуси-то были совсем близко. Опять прицеливание, еще более тщательное. Два огромных серых гуся – совсем близко: промахнуться просто невозможно, тем более стрелку, владеющего рекордом института: 49 очков из 50 при стрельбе с колена. Для стрельбы лежа – это просто обычный результат…
Гремит выстрел. Неповрежденные гуси говорят: «Га – га – га» и остаются на своем боевом посту!. Гремит еще один выстрел. Одному из гусей надоедают слишком назойливые и громкие звуки, он разбегается в мою (!) сторону и тяжело взлетает. Наверное, это был морально неустойчивый папаша: более ответственная мамаша продолжила процесс согревания будущего собственным телом. Кровожадный же охотник просто озверел и готовился сделать еще один выстрел. Однако поиски стрел-патронов в карманах, набитых всякой дребеденью, показали полное отсутствие таковых…
В исступлении охотник поднялся из-за укрытия и пошел на гуся с винтовкой наперевес, совершенно забыв, что на ней нет штыка. За метр от ствола гусь (точнее – гусыня) поднимается, тяжело разбегается и взлетает, матеря на своем родном языке некоторых назойливых стрелков. Два больших яйца, затейливо разрисованных разноцветными точками, лежат в сухом теплом гнезде прямо на земле. Гнездо окаймлено бахромой легчайшего гагачьего пуха, который ценится на вес золота. На память я беру с собой щепотку пуха и быстро ухожу, чтобы яйца не успели остыть. Меня обуревают «смешанные» чувства, как человека, у которого собственный автомобиль с нелюбимой тещей падает в пропасть… С одной стороны: потерпели фиаско все мои охотничьи старания! С другой стороны – осталась жить и выращивать деток великолепная пара красивых птиц, которые ничего мне не были должны…
Возвращаюсь к озеру, где рыбачат остальные участники нашей вылазки. Бог охоты совсем уже насмехается надо мной: в кармане обнаруживается еще один патрон!
Пристрелка последним патроном по поверхности озера показывает, что все мои пули летели, слава Богу, высоко над головами так коварно обстрелянных мной гусей…
В следующей охотничьей эпопее я уже выступал в качестве зрителя, смирившись со своей судьбой неудачника. Мы поехали на ГТС-ке на птичий базар за яйцами. Отягощенные добычей, мы уже возвращались, когда на небольшом озере Лева заметил стаю уток и пальнул в нее из обоих стволов. Утки взлетели, но в центре озера остался на воде подранок – красивый селезень. Лева уже давно мечтал сделать чучело утки, а при виде ослепительного красавца-селезня у него просто потекли слюнки. Он взмолился. Я сидел за рычагами гусеничного вездехода и не смог ему отказать в такой малости. ГТС-ка въехала в озеро и вскоре поплыла, молотя гусеницами по воде. Наша машина, в принципе, в воде должна двигаться при помощи гребного винта, но почему-то он был снят или отключен. Выгребание гусеницами по воде дает очень медленное движение, но до селезня было всего-то метров 20, взлететь он не мог, и его поимка представлялась простым делом…
С грохотом и лязгом наш ковчег приближался к беззащитной птице. Лева перешел на нос амфибии, чтобы схватить селезня, который медленно отступал от грохочущего чудовища к близкому берегу. Лева уже протянул руку, чтобы схватить красавчика, как вдруг он исчез. Не уплыл, не взлетел, а просто исчез. Мы остолбенели озадаченные: что бы это могло значить? Долго мы вертели головами, пока обнаружили селезня, плавающего в исходной точке позади нашей самодвижущейся посудины. Он просто нырнул под ГТСку и вынырнул далеко сзади. Долго разворачиваюсь и начинаю опять «грохотать» к шутнику. Вот-вот Лева, стоящий на носу, схватит селезня… Он уходит от нас так же элегантно: под водой, всплывая далеко сзади. Мы озверели, я опять начал разворачивать грохочущее плавсредство…
Обезьяна и капитан попадают на необитаемый островок с единственной кокосовой пальмой. В ее плодах, расположенных очень высоко, есть жизненно необходимые влага и пища для потерпевших крушение. Капитан трясет пальму, но она даже не шелохнется.
– Ну, подожди, давай подумаем, что можно сделать, – предлагает обезьяна.
– Нечего думать! Трясти надо! – возражает капитан, принимаясь за старое…
Мы тоже «трясем», не думая: лязгаем неповоротливой ревущей посудиной за быстрой уткой. На ГТС стоит мощный двигатель от роскошного автомобиля ЗИМ. Двигатель прожорливый сам по себе. Особенно хорошо он кушает бензин на высоких оборотах, которые требуются при азартной ловле в озере водоплавающих птиц. Взгляд на указатель топлива меня отрезвляет: нам может не хватить бензина, чтобы вернуться на базу. Я сбрасываю газ, посудина замирает посреди озера. И тут, оглушенный наступившей тишиной, селезень делает стратегическую ошибку: он выходит на берег. Нам туда надо тоже. Машиной отсекаю ему путь к воде, а Лева с десантом быстро ловит водоплавающего подранка на суше…
Скорбный путь селезня к высокому статусу чучела был такой же драматический. Несмотря на поврежденное крыло, птица была жива. Лева долго совещается с доктором, затем применяют какой-то «гуманный» способ умерщвления. Дальнейшие операции по удалению внутренностей, набивке, бинтованию и сушке селезня надолго наполняют наш балок несказанными ароматами… Их можно вынести только в качестве расплаты за загубленную жизнь.
Наконец наступает долгожданный день «Ч»: с птицы снимаются бинты, перья укладываются и причесываются. Чучело теперь почти похоже на селезня. Вот только подводит посадка головы на шее: она свойственна скорее согбенному инвалиду, чем гордому красавцу – селезню, покорителю и любимцу уток. Лева начинает изгибать проволоку, вставленную в шею селезня. Осанка головы меняется, но теперь она уже напоминает горестный вопросительный знак, тоже далекий от искомого идеала…
При очередном приближении к этому идеалу раздается слабый треск. Теперь вместо горделивой шеи голова соединяется с туловищем только тонкой проволокой. Лева ошалело разглядывает плоды своих долгих усилий, затем выходит из домика. Взяв бывшего селезня за голову, раскручивает его и швыряет в ближайшую кучу мусора.
Нет повести печальнее на свете…
Горячка заключительная
Есть моменты в жизни артиста, когда он устремляется как стрела, пущенная из лука…
(Шмага)Рядом с нашим офицерским домиком (балком) строители воздвигают нечто несуразное под названием ПУИ – Пункт Установки Изделия. Это узкая деревянная башня высотой с трехэтажный дом. Грани сооружения состоят из толстенных бревен. Почему такая ответственная башня не выполнена из металла, – я не знаю. Возможно, на этот раз именно металл требовалось исключить из ближайшего окружения Ее Величества Бомбы. Именно сюда направлены все глаза, уши и чувствительные датчики приборов по всему полигону. Я подробно рассказываю об этом сооружении, потому что через несколько месяцев я увижу его в «разобранном» виде – после проведения ядерных испытаний…
Работы не стает меньше, но она меняет свой профиль. Все сооружения собраны, сварены, испытаны, установлены на нужных точках огромного полигона, насыщены аккумуляторами и оборудованием. Теперь нам нужно подключить большое количество внутренних и наружных кабелей, после чего все разрозненные сооружения и приборы начнут работать как единая управляемая система. Самая медленная и противная работа – распайка контрольных многожильных кабелей в круглых разъемах РШ. Руки-ноги хочется оторвать человеку, сконструировавшему эти неудобные и трудоемкие изделия. Контакты в разъеме («папе» и «маме») размещены так плотно и неудобно, что плохо пропаянный контакт или замыкание в центре плотного пучка проводов обнаруживается часто только после нескольких «шевелений» готового разъема. Такой дефект требует полной переделки всей выполненной работы, – иначе к дефектному месту просто не подобраться. У распайщиков, которым все говорят только одно слово: «Быстрее!», должны быть, кроме золотых рук, стальные нервы и ангельский характер…
Самая простая, хотя и тоже трудоемкая, работа – установка СД – самописцев давления. Самописец с аккумулятором размещался в большом стальном цилиндре (горшке), утыканном отверстиями. А уж сам горшок намертво крепится к большому двутавру, целых 2 метра которого забиваются в скалу или плотную вечную мерзлоту. Сотни СД установлены по всему полигону по радиальным направлениям от центра
Все готовые сооружения сдаем прямо «науке» – ребятам из «науки», с которыми у нас полный контакт и взаимопонимание.
Матросы и старшины, несмотря на изменение профиля работ, все же освобождаются. Теперь мне не надо их везти в Ленинград: теперь это люди Шапорина, за некоторыми исключениями. Первыми оказиями отправляю всех освобождающихся к Шапорину в зону Б. Шапорин считает, что я тоже «его» человек и буду работать там же. Но меня надо сначала отправить в отпуск. Чем раньше я уйду в отпуск, тем быстрее вернусь: на этом этапе у нас трогательное единодушие.
В бешеном темпе заканчиваем все работы, сдаем все объекты. Отправляю все оборудование, инструменты и материалы в Белушку. С последними матросами на торпедном катере убываю туда сам. Вместе со мной уходит также Леша Венкстерн, которого с непривычки напряженная работа на Высоте довела до сердечной боли. Шапорин дает мне благословение на отпуск. Леша Венкстерн – вообще не принадлежит ему, поэтому его возвращение в Ленинград не вызывает у Шапорина никаких вопросов…
Прощаюсь с Френкелем более чем тепло. Забот у него сейчас – немерено, но он находит время для краткого общения и даже подтрунивания надо мной, вспоминая нашу встречу в «Арктике» 1-го Мая. Давид Ионыч сожалеет, что у него не все офицеры – молодожены: тогда его жизнь бы очень облегчилась…
В Рогачеве, аэродроме рядом с Белушьей, садимся на грузовой самолет, который летит прямо в Пушкин – практически – к крыльцу дома. Промежуточная посадка – в Ягодном. Это аэропорт Архангельска. Сам Архангельск удается рассмотреть только с высоты. Увы, это совсем мало для знакомства с городом, а в Архангельске мне не пришлось больше бывать. Позже я много раз с воздуха пытался узнать до боли знакомые пригороды южной части Ленинграда. С высоты они выглядят совсем неузнаваемо, и, только найдя какой-нибудь очень уж заметный ориентир, начинаешь слегка понимать картинку внизу…
Мура и Шура слегка удивлены моим появлением, которое они считают чрезвычайно ранним. Как быстро пролетает у них хорошее время, когда соседи отсутствуют! А для меня эти действительно короткие три с половиной месяца вместили, кажется, несколько лет…
Пару доверху наполненных дней в части занимают всякие оформления и отчеты, получение имущества, денег и проездных документов. Наконец, желанный отпускной билет у меня в кармане. Туда добавлены дополнительно 10 суток отпуска «за особый режим работы»: бумагу на это мне не забыл выдать при прощании в Белушке сам Френкель. Вопросы отцам-командирам о своей будущей судьбе после возвращения из отпуска я не хочу задавать принципиально. Позже Михаил Жванецкий блестяще обозначит такую тактику: «Будем переживать неприятности по мере их поступления».
В отпуск!!! К ней! Боже, как давно я не видел свою молодую жену, как утомился в такой долгой и тяжелой разлуке! Конечно, маму и Тамилу – тоже хочется увидеть, но все мысли молодого безумца заполнены только женой! Еще только первая половина августа. Эмма на каникулах в Брацлаве. Это еще лето, Украина, теплая и прозрачная вода Буга, яркое солнце, когда можно раздеться, обнажить свое бледное тело и загорать! И питаться не консервами и сушеной картошкой! Хрустеть сочными яблоками и другими грушами-сливами, – сколько хочешь! Туда, на Малую Родину! Вот куда теперь я и «стремляюсь» на вполне законных основаниях: «ответственное правительственное задание» я выполнил полностью и в заданное время…
18. Изгнание из шалаша
А которые тут временные? Слазь!
У тещи на блинах
І ласощі все тільки їли:
Сластьони, коржики, стовпці,
Вареники пшеничні білі,
Пухкі з кавяром буханці,
І дуже вкусную яєшню,
Якусь німецьку – не тутешню…
(Котляревский, Энеида)В отпуск, к ней!!! Немыслимо медленно движется поезд. Можно бы лететь самолетом, но билет дают только до Киева, а на самолет до Винницы билет не бронируется…
Наконец я в Брацлаве, к которому так долго стремился. Начинаю понимать, как хорошо живется сыру, который катается в масле. О встрече с женой после долгой разлуки – я не говорю: это надо понимать. Блины у тещи – тоже событие, стоящее поэмы. Мария Павловна готовит удивительно вкусных цыплят, распластанных и зажаренных в омлете (кажется, их незаслуженно обзывают «цыплятами в табаке»). Специально для меня и при моем физическом участии готовится еще одно блюдо несказанной вкусноты – коржи с маком. Мак растирается с сахаром в макитре до состояния молока (процесс достаточно трудоемкий даже для мужиков). В мак добавляются куски коржа – белого, с корочками, только что испеченного. О разнообразных варениках и говорить не приходится: они есть почти всегда… Из свежезарезанного кабана сказочно хороши все производные, особенно – «сальцисоны», домашняя колбаса и т. д. и т. п. Федор Савельевич привозит от знакомого директора совхоза несколько ящиков яблок сорта пепинка – необычайно сочных и «многосъедобных». Ящиками же появляются черехи – крупные ягоды гибрида вишни и черешни. Все эти прелести я поглощаю пудами, тоннами; их живительная сила потихоньку наполняет мой не столько отощавший, сколько измученный организм.
Мама была уже у моих новых родителей. Они, конечно, посидели: это была как бы некая свадьба, хотя и опять ущербная: теперь в бегах был жених… О полномасштабной показушной свадьбе с «музыками», со всякими прибамбасами и многодневной пьянкой необузданных гостей теперь речи уже нет: все знают, что у Ружицких зять из дальних военных морей, где это все то ли уже было раньше, то ли не принято по соображениям секретности. Мои новые родители принимают меня сразу как родного, о наших прежних размолвках при «похищении из сераля» их дочери и намеков никаких нет. Все просто и естественно: мы одна семья. Общение со всем детдомом, Эммиными знакомыми и всем Брацлавом, – у меня происходит без малейших проблем. Меня признает за своего даже свирепый пес Пират. (Ночная сторожиха любовно обращается к нему, скармливая запасенные котлеты: «Кератічок, дурненький, їж, бо це ж каклєтка…»).
Через несколько дней везу молодую жену в Деребчин. Надо же показаться маме в качестве солидного женатого мужика, да и молодую жену «повращать» в деребчинском бомонде. Для Яковлевых и Стрелецких она – хорошо знакомая родственница, маме – известная дорогая невестка, остальным мы издали «делаем ручкой». Все равно невозможно избежать встреч, расспросов и, главное, – застолий. Моя жена – на высоте. Ослепительно красива, умна, быстра. Как тогда говорили: «кругом – шешнадцать». Именно такая жена должна быть у меня, не последнего парня в славном Деребчине…
Светское вращение нас чрезвычайно утомляет уже на второй день, и мы отбываем в Винницу, где среди большой усадьбы на окраине города живут две бабули. Одна – бабушка Юзя, наш добрый ангел, которая выдала Эмме столь ценные советы по замужеству. Бабушка Юзя – высокая, с вьющимися седыми прядями и следами красоты на лице. Много лет бабушка Юзя ухаживала за парализованной сверхдальней родственницей настолько добросовестно, что даже медики удивлялись отсутствию пролежней и ухоженному виду старой женщины, прикованной к постели.
Эммина бабушка – добрая, рассудительная, всем все прощающая. Ни о ком она не скажет плохого слова, при спорах соседи безоговорочно принимают ее мудрые вердикты в качестве приговоров третейского судьи. Она часто шьет на старинном «Зингере» с ножным приводом или читает молитвенник. Читать, кстати, она научилась самостоятельно…
Ее старшая сестра Анеля – колоритнейшая бабуля. Анеля – ниже и плотнее младшей сестры, верховенству которой она безоговорочно подчиняется. Толстый платок, повязанный поверх седых косичек на манер комсомольской косынки, но с некоторым перекосом, придавал ей вполне пиратский вид. Бабуля прекрасно все слышит и видит, но по обстоятельствам может запросто изобразить глухонемую. Особенно ей удавалась роль темной и косноязычной старушенции. Хитро прищурив глаз, она могла с самым невинным видом спросить:
– Емцю, ти в тому городі Винограді в якому простітуті вчишся?
Эмма слегка вздрагивает:
– Тетя Анеля, скільки я Вам буду казати: не в «Винограді», а в Ленінграді, і не в «простітуті», а в інституті.
– Так, так, доню: ти мені казала… Бачиш, яка я дурна стала: все забуваю, – в хитрющих глазах бабы Анели играют настоящие чертики: память у нее – дай бог каждому. По колыханию довольно объемного живота все понимают, что она смеется…
Впрочем, игра словами – ее хобби. Обсуждается вопрос, чем крыть сарай. Одно – слишком дорого, другого – не достать. Тетя Анеля вносит свое предложение:
– Може покриємо блядкою?
Участники совещания балдеют от такой заманчивой возможности. Восторг остывает, когда выясняется, что тетя Анеля имела в виду дранку.
Бабушка Анеля имеет четкие эстетические пристрастия. Увидев наш Москвич 401 (это будет позже), скопированный с немецкого Опель-кадета, она заявила:
– В тебе, Коля, дуже гарна машина! А то тут Їван приїхав на поганій дуже машині: в неї була морда спереді і морда ззаді, — именно так бабушка Анеля оценила Москвич 407 с «трехобъемным» кузовом. Похожие капоты двигателя и багажника бабушка очень метко обозначила «мордами». С ее легкой руки обозначение кузова автомашин «морда спереди – морда сзади» стало фирменным в нашей семье.
А еще бабушка Анеля любила песни, точнее – одну песню. Иногда, когда мы развлекались подобием пения, она просила:
– Заспівайте тої жалісної «Катюги»!
«Жалостной Катюгой» бабушка (мы к ней обращались «тетя») Анеля считала почему-то «Катюшу».
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой…
Лицо тети Анели начинало морщиться от сдерживаемых рыданий…
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой…
Теперь тетя Анеля начинает всхлипывать со звуками начинающего «схватывать» двигателя, а из ее глаз градом катятся слезы…
К портрету тети Анели надо еще добавить, что все свои восемь десятков лет от всех болезней она лечилась только одним лекарством: пила керосин, правда, – сравнительно небольшими дозами… И еще: борщи, которые она варила, были просто волшебно вкусны. Нигде больше мне не приходилось есть такие борщи…
Нам хорошо на Старом городе в Виннице. Живем в новом, не вполне достроенном, доме. Через полкилометра лесной тропинки можно выйти на берег чистого и тихого Южного Буга, чуть выше по течению от знаменитого камня Коцюбинского. Новый кинотеатр и магазины находятся тоже недалеко. Что еще надо для полного счастья? Оказывается, мы с женой неизлечимые трудоголики, и для окончательного счастья нам необходима покраска крыши над новым домом.
Крыша эта, увы, не была идеальной. Она была сделана из старой жести, уже поработавшей крышей над другим домом. Поэтому новая-старая крыша нуждалась в нашей заботе, на чем мы и зациклились. Федор Савельевич отговаривал нас от затеи не слишком упорно и вскоре обеспечил краской, кистями, щетками и лестницами. После чего, на удивление всем соседям, трудолюбивые «діти» вознеслись и начали скрести и красить. Маленькие дырочки в жести мы залепляли тканью, смоченной в краске…
Все кончается, даже отпуск. Приближалось 1-е сентября – начало занятий у моей студенточки. Наверное, и у меня нашлись бы дела в Ленинграде. Решаем лететь самолетом через Киев: билетов на проходящие через Винницу поезда перед сентябрем не добыть.
Неожиданно мы осознаем, что попали в ловушку. Пошли дожди, и около километра грунтовой дороги от нашего дома до кольца автобуса и начала асфальта становятся непроходимыми. Конечно, в принципе по ним люди проходят: либо босиком, либо в резиновых сапогах, либо на тракторе. Сапог и трактора у нас нет, ходить же босиком не позволяет не столько высокий социальный статус, сколько неудобства при последующем полете в две столицы – Украины и бывшей Российской империи. Пытливая и изобретательная семейная мысль останавливается на применении галош. Одна пара комплектуется из запасов старья, вторую покупаем новенькую в магазине.
Мы понимаем, что плохо подогнанные галоши могут быть оставлены в липкой глине дороги и основательно укрепляем их веревками, что, несомненно, дополнительно украшает наш и без того живописный вид…
Под изумленными взглядами туземцев с чемоданами добираемся до асфальта, с облегчением разматываем веревки и снимаем галоши. Все это добро стыдливо задвигаем в дырку в заборе, радостно садимся в автобус.
В Винницком аэропорту мы горестно сожалеем о содеянном: стоящий под парами самолет от здания аэропорта отделяет огромная лужа, обойти которую невозможно… Добрый дядечка пожалел нас: сажает Эмму на велосипед и «докатывает» ее до самолета. Я же отважно вхожу в лужу; все дальнейшее путешествие проходит с подмоченной обувью (не репутацией!)…
Воздушная дорога до Киева состоит из воздушных же ям различной глубины, в которые нечаянно проваливается, а затем деловито выбирается наша «Аннушка». Эмма тяжело переносит воздушную болтанку. Я же прилип к окну и рассматриваю Родину с небольшой высоты. Ровно 16 лет назад несмышленым пацаном я пешком прошел по этой земле, подгоняемый огненным валом войны…
Четкие разноцветные прямоугольники полей, возделанных до последнего сантиметра, села, утопающие в садах. Возле белых хат тоже прямоугольнички огородов, только очень маленькие, с немыслимо узкими межами… Земля. Сколько крови пролито за нее, каким количеством пота удобрили ее многие поколения предков. Тесно, очень тесно. Вспоминаю огромные пустые пространства Севера, Забайкалья, Сибири, Казахстана… Это тоже моя Родина.
А вот глаза выхватывают внизу правильную прямоугольную сетку из широких зеленых линий. Неужели? Приглядываюсь внимательнее. Так и есть: это лесозащитные полосы, – наяву, а не в кино или на картинке! Еще в школе меня поразил своей красотой и величием план покрытия степных частей СССР лесозащитными полосами. План тогда называли «сталинским», как и все планы, касающиеся всей страны. На мой непросвещенный взгляд это был действительно великий план, выполнение которого сулило огромные улучшения жизни всей страны, что я даже отразил в восторженном школьном сочинении на свободную тему. Геростратовская деятельность человека успела уничтожить благодатные леса на огромных территориях; это вызвало эрозию почв, обмеление рек, изменение климата. Планируемое создание гигантской сетки лесных полос призвано было остановить сползание в пропасть. Лесные полосы, высаженные и выращенные с умом, перекрыли бы дорогу губительным ветрам, уносящим плодородный слой почвы. Зимой лесные полосы запасали бы влагу в виде снега для ближних, иссушаемых летним зноем полей. Постепенно и плавно в лучшую сторону менялся бы даже климат засушливых степных районов, резко повысились бы урожаи зерновых и других культурных растений. Стоит ли говорить, какая бурная жизнь бы появилась и расцвела в лесных системах, возникших в степи: ценные растения, птицы, звери, ягоды, грибы. Потихоньку начали бы окупаться все затраты…
А затраты требовались огромные. Надо было разработать рабочие проекты, привязанные к конкретным местам, учитывающие сотни местных факторов, например: розу ветров, наличие воды и глубины ее горизонтов, состояние грунтов и т. п. и т. д. Выяснить, какие породы деревьев могут выжить в данной местности, организовать добычу их семян и выращивание саженцев, хотя бы 2–3 летних. Затем надо было расчистить территорию для посадки лесных полос – юридически и технически: кого-то урезать, кого-то передвинуть или даже задвинуть, разрезать чьи-то поля и дороги. Лесные полосы были относительно небольшой ширины, кажется, в пределах 50 – 100 метров. Но в целом площади получались огромные, их надо было вспахать, посадить слабенькие саженцы и заботливо выхаживать и беречь их в течение 5-10 лет. Кроме огромных материальных ресурсов, требовалась огромная политическая воля, рассчитанная не на разовое применение, а на постоянные усилия в течение ряда лет…
Унылая вставка из будущего. По мере углубления моих знаний о роде человеческом, я все больше начинал понимать, что создание по степям всей страны защитных лесополос – такая же неосуществимая идея, как построение и функционирование Городов Солнца великих мечтателей – социалистов-утопистов. Если бы даже жестокая воля богоподобного фараона или ЦК – МГБ сумела бы преодолеть все преграды в течение нескольких лет, то порочные наклонности жадных и глупых йеху все равно в конце концов взяли бы верх и разрушили бы уже сделанное… Неуклонно вырубаются леса вокруг растущих городов. Горы мусора вырастают на месте бывших лесов. Дикий капитализм застраивает особняками с шестиметровыми заборами берега рек и водохранилищ. Теперь никакой политической воли не хватит, чтобы провести по частным владениям зеленую полоску леса, – спасительницу будущих поколений.
А еще надо сделать усугубляющую поправку на отечественный менталитет, о котором даже не хочется вспоминать… Нет такого уголка природы, который не смог бы эффективно загадить соотечественник. Власть же имущие развешивают огромные табло: «Выгрузка мусора вдоль дорог категорически запрещена!». Для этой самой выгрузки надо углубляться в лес? И там уже можно распоясаться с боем стеклотары? А слабо повесить объявление написанное так же крупно: «Площадки сбора мусора находятся в пунктах…». Столько лет боремся за чистоту, и никак не научимся подметать.
Как сон вспоминаются зеленые линии лесозащитных полос, проплывшие давным-давно под крылом самолета… Что-то с ними произошло теперь? Очень нужные туалеты на лесном пляже Буга в Виннице существовали от постройки до демонтажа и хищения не более двух суток…
Выкуривание
А которые тут временные???
Месяц в Ленинграде мы работаем в «штатном режиме». Эмма ходит в свою лесную академию, упорно учится. Я даже помогаю ей выполнять кое-какие курсовые проекты. Каждый день мы из Автова на метро доезжаем до Владимирской площади, где впихиваемся в трамвай «девятку». В тесном единении доезжаем до площади Ленина, где и расстаемся с великим сожалением. Эмма продолжает трамвайный тур дальше, а я пересаживаюсь на автобус № 37, следующий до Охты.
На службе я готовлю материалы к большой технической конференции. Об отбытии в группу Шапорина отцы-командиры ничего не говорят, а я – так даже заикнуться боюсь на эту тему: зачем будить спящую собаку? Впрочем, мы с женой понимаем, что наше счастье не может длиться сколько-нибудь долго: «интересы защиты Родины… и т. д. – требуют». Требуют они почему-то каждый раз опять нашей разлуки… Ну, что же: мы морально готовы. Остались два года учебы, затем мы не будем расставаться, – так говорит Эмма.
Пока есть возможность, мы прихорашиваем свое гнездышко: на эти два года мы имеем отличную крышу над головой. Обзаводимся даже кое-какой мебелью: у нас теперь есть кровать с блестящими шишечками и раздвижной стол. Эмма мечтает о серванте и посуде. Споры наши, довольно горячие, касаются родительской помощи. Я считаю, что мы – самостоятельная семья, и во всем должны опираться на собственные силы и возможности. Эмма же без всякого стеснения отнимает все у родителей. Я был молод, и не знал, какая радость для родителей отдавать все детям, поэтому яростно протестую… Мой личный менталитет не позволяет мне хоть на секунду почувствовать себя и свою семью иждивенцами, даже у родителей. По рассказам мамы, самыми первыми и самыми употребительными моими словами были «Коля – сам!». Такие изъяны моего характера иногда осложняют нашу жизнь, но мы быстро миримся: скоро разлука…
Судьба наносит нам оглушительную оплеуху с совершенно неожиданной стороны. Однажды вечером у нас в комнате появляется рослая полноватая женщина с ярко накрашенными губами. Она себя объявляет Розой Туровой, владелицей нашего гнездышка. Она требует от нас освободить занимаемое помещение!
Эмма «выпадает в осадок». После продолжительного ступора я начинаю что-то лепетать о договоре со сроком три года. К этим возражениям Розочка была готова: она достает свой экземпляр договора, где ярко выделен пункт, что наниматель (я) должен освободить жилплощадь по первому требованию арендодателя (Турова, женой которого и есть возникшая в натуре Розочка), если у него изменились обстоятельства. У самого Турова обстоятельства почти не изменились: он продолжает службу на Дальнем Востоке, но его Розочка чрезвычайно устала от дальневосточной жизни и желает вкусить ленинградского комфорта и уюта в отремонтированной нами комнате… Роза дает нам три дня на освобождение комнаты, сама удивляясь своей щедрости… Я только могу сказать Туровой, что за такое короткое время мы не сможем найти другое жилье и освободить требуемое.
После ухода Туровой мы некоторое время пребываем с отвисшими челюстями, затем выходим к нашим соседям Шапиро, которые увидев свою дорогую соседку, сначала попрятались, а теперь жадно ожидают от нас известий. После получения таковых у Шуры и Муры тоже отвисают челюсти: бывшую соседку они слишком хорошо знают не понаслышке. Обратное вселение Туровой для них страшнее атомной войны. Шапиро лихорадочно перебирает варианты способов «недопущения». Это способы и нашего избавления от грозящей опасности.
Через три дня вечером Розочка заявляется к нам с раскладушкой. Заходит в квартиру она совершенно свободно: у нее есть свой комплект входных ключей, нашу же комнату на замки мы не запираем. Она собирается с нами жить совместно, пока мы не покинем вверенную жилплощадь.
У Туровой в Ленинграде живут родители, у них есть отдельная квартира, так что совместное проживание предпринимается только для демонстрации и устрашения. Роза закрывает форточку в окне: ей мешает сквозняк. Поскольку торшера у нас еще нет, то бедной Розочке для чтения детективов на раскладушке приходится зажигать нашу студенческую «люстру»: мощная лампа над конусом из чертежной бумаги в самом центре комнаты. Такое освещение годится даже для выполнения мелких чертежных работ, поэтому кровать с шишечками, где мы возлежим с молодой женой, оказывается освещенной более чем достаточно. Чтобы до конца использовать комфорт городской жизни, Розочка с видимым наслаждением затягивается «Беломорканалом». Открытая пачка показывает, как именно собирается коротать бессонную ночь владелица нашей жилплощади…
Эмму колотит дрожь. Я тихо успокаиваю ее: надо спать, завтра – на работу… Неизвестно, спали мы или нет, но поднимаемся прокопченными незабвенным «Белым Мором»…
В течение недели Роза выкуривает нас с перерывами: на своей боевой вахте она иногда не появляется. Возможно, ей тоже требуется отдых, но мы, в ожидании ее прихода, почему-то уже не можем отдыхать совсем.
Моей жилищной проблемой занимается высокое начальство – сам Сергей Емельянович Сурмач. Конечно, после трех успешных объектов я стал довольно известным лейтенантом, достойным внимания самого начальника УМР. Я думаю, что для нас с женой быстренько нашли бы какую-нибудь комнатенку, для «временно-пожизненного проживания», но такой вариант совершенно не устраивал Шапиро: им пришлось бы вновь вернуться к «совместному плаванию» с Туровыми. Сурмач предлагает Туровой вместо ее комнаты – отдельную однокомнатную квартиру в строящемся доме. Дом строится, сдать его предполагают через год. Чтобы не было обмана, Сурмач обещает выдать Турову официальное гарантийное письмо по этой квартире.
Вариант со «светлым будущим в отдельной квартире» Турова отвергает сразу и безоговорочно: видно такая альтернатива прорабатывалась Туровыми дома, и они подозревают, что их «кинут» и на этот раз. Были у Сурмача еще какие-то хитрые варианты для Шапиро – с обменами и без. По одному из вариантов Шапиро и мы вместе получали бы трехкомнатную квартиру где-то в Московском районе, затем нам давали другое жилье, чтобы Шапиро жили в отдельной квартире. Не устроило в этом варианте что-то Шуру или Муру: то ли малые метры, то ли жизнь опять с соседями, хотя и не такими красивыми, как Роза.
Свет для нас сходился клином (по другому варианту: жизнь шла по конусу). Надо было искать какой-то выход самому. Иду по старым адресам. Первый визит – на Нарвский проспект, к Марии Александровне. Здесь год назад мы проживали вместе с Иваном Маклаковым, и, очевидно, оставили о себе добрую память. Мария Александровна сразу соглашается взять нас с Эммой. Только вот у нее кто-то живет, и надо ждать две недели, пока комната освободится. Я соглашаюсь: делать нечего…
Тем временем Роза совершенно наглеет: к тому времени, когда мы возвращаемся с работы, она успевает выкурить пачку «Беломора». В комнате принципиально никто не убирает: по состоянию пола она становится похожей на конюшню, по запахам – на свинарник.
Однажды Роза заявляется в компании неизвестных капитана и женщины очень поздно, когда мы уже легли спать. Как водится, все закуривают, затем на стол выставляют бутылки, и начинают разговоры о нас, как будто мы уже умерли:
– А кто это лежит с ним?
– Роза, эти захватили твою комнату и не хотят уходить?
– А что, если у них нет совести, то никакой управы на них не найти?
– Они что, спелись с теми соседями?
– Вот такую благодарность получаешь от людей, которым помогаешь в трудную для них минуту!!
Эмму мелко колотит. Я не выдерживаю, вылезаю из-под одеяла в одних трусиках, беру стул и подсаживаюсь к столу с бутылками. Капитан слегка тушуется: он думал, что я послабее. Сдерживаясь из последних сил, я начинаю вежливый разговор только с Розой, полностью игнорируя «компашку».
– Вы все время нарушаете наши договоренности, Роза Михайловна.
Роза вскидывается:
– Как это?
– После Вашего первого посещения мы договорились, что для подыскания другого жилья мне надо не меньше двух недель. Вы начали нас выкуривать уже через два дня. Так?
Капитан вопросительно смотрит на Розу. Ей не хватает наглости отрицать нашу договоренность, и она опускает глаза.
– Вы обещали Сурмачу еще неделю для подбора вариантов? Это было всего четыре дня назад, а вы уже успели нас дважды подкурить. Я, конечно, человек курящий… А зачем Вы травите мою жену, совсем еще дитя?
Краем глаза замечаю, что капитан и даже его подруга осуждающе смотрят на Розу: рассыпается образ чудовищ – нас, который она им нарисовала.
– Так вот, мы уедем из вашей комнаты даже раньше, чем обещали: через пять дней, в субботу!
Роза радостно расцветает:
– Дайте мне расписку, что Вы уедете через пять дней, и я Вам дам расписку, что не буду Вас выкуривать!
Капитан пододвигает ко мне стакан и бутылку, жестом предлагая наполнить стакан по своему разумению. Но я, идиот, сверх серьезен: отодвигаю бутылку и заявляю нечто высокопарное относительно прочности слов и обещаний, высказываемых мной…
Ночные гости дорогие быстро сворачиваются и уходят. Мы с женой еще полночи «перевариваем» ситуацию…
Чуть позже я начинаю понимать, что потерю расписки о «невыкуривании» из жилья можно сравнить только с потерей фотопленки во время прыжков с парашютом. Это тяжкие потери ничем не заменимых бесценных документов, как нашей конкретной жизни, так и нашей, как теперь говорят, – неоднозначной эпохи. Для этой же книги фото такой расписки стало бы подлинным украшением…
Мы переходим в разряд «не имеющих жилья». Таких у нас в части половина офицеров и прапорщиков. Вторая половина – те, кто «нуждается в улучшении» жилищных условий, которые в коммунальных комнатушках по 8 – 15 квадратных метров живут двумя, а то и тремя семьями…
Но у нас с женой теперь положение еще хуже, чем у них. Прав ли был я, когда соглашался на временное жилье, из которого нас теперь так бодренько выкинули? Или надо было ждать еще два года в надежде, что с неба упадет прекрасное жилье, Эмма окончит институт, отгуляем свадьбу и уже тогда начнем райскую жизнь с самого начала?
Конечно, история не имеет сослагательного наклонения (кажется, так грамотные дяди обозначают невозможность реально проиграть другой вариант событий). Или как поется в одной душевной (любимое словечко нашего сына) песне: «Жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна…»
Несмотря на понесенное поражение, кое-что у нас осталось и в активе. Любимая поговорка моего жизнелюбивого тестя: «Все, что ни делается, – делается к лучшему». Что же «лучшего»?
Прекрасный теоретический вариант жизни по многим причинам вряд ли бы осуществился, во всяком случае – в полном объеме. В реальном варианте – мы воссоединились вопреки всем помехам. Мы прожили вместе целый год в приличных условиях. Мы выдержали первую разлуку, осознали, как она тяжела. Мои новые родители, да, пожалуй, и сама жена, почувствовали всю тяжесть моей борьбы за квадратные метры и место под солнцем. Теперь эта борьба стала нашим общим делом. Ну, и немаловажно, что некая теоретическая «удаленная» жена офицера, нуждающегося из-за нее в жилплощади, приобрела для отцов-командиров видимость симпатичной Кузи, умеющей к тому же делать книксены…
Мы надеялись, что наш «квартирный вопрос» должен решиться. Надежда слегка подкреплялась тем, что я немного уже «пользовался авторитетом у командования», как пишется в разных характеристиках. В жизни этот штамп означал, что такому человеку можно дать трудное дело, и он не сбежит, не запьет горькую, не разложит подчиненных, а будет всеми силами пытаться выполнить порученное дело. Увы, это обстоятельство отнюдь не было решающим при решении жилищных вопросов: начальство, а главное – вездесущий партийно-политический аппарат, в первую очередь учитывали много других показателей: партийность и лояльность, стаж, количество детей, даже «размер горлА» и решимость на всякие демонстрации супруги кандидата. Поэтому путь к решению нашего «квартирного вопроса» мог быть очень долгим…
Проблема жилья теперь стала нашей общей и очень острой. Это значит, что она могла и укрепить и взорвать семью, что происходило со многими в таких передрягах. Слава Богу, испытание квартирным вопросом мы выдержали в то время…
Ретроспективная вставка из будущего. Проблема жилья сопровождала нас очень долго. Нам пришлось решать ее для того, чтобы можно было забрать к себе наших стареньких и больных мам. Затем женился Сережа, в его семье появилась Катя…
В какой-то момент все решилось: все члены семьи жили в приличных, по нашим советским меркам, условиях. Сейчас мы живем еще более просторно. Для Сережи и его семьи – это хорошо и справедливо: он построил дом. Для нас с Эммой, двух согбенных стариков, это явилось печальным следствием ухода обеих наших мам…
19. Новая Земля, дубль третий
А что третья война
Лишь моя вина.
А моя вина –
Она всем видна.
(Б. Окуджава)Канареечка жалобно поет
Мы с Эммой переезжаем на Нарвский проспект к Марии Александровне. Маленькая комнатка позволяет взять нам только самое необходимое. Часть нашего имущества берут на сохранение соседи, часть мы раздариваем. Мы опять нищие и свободные (от имущества).
Утром мы разбегаемся, как обычно. Встречаемся поздно вечером. Готовить пищу негде, некому, некогда. Благо, совсем рядом фабрика-кухня, которая и была задумана для раскрепощения (открепощения от бытовых пут?) пролетарской трудящейся женщины…
По выходным очень хочется спать, но старый знакомый кенарь подхватывает еле слышную в репродукторе мелодию и разливается в ритме музыки трелями немыслимой для маленькой комнаты громкости. Выключить музыкального трудягу можно только одним способом: устроить ему «темную». Нет, нет, – мы не избиваем звонкоголосую птичку. Просто на ее клетку надо набросить непрозрачное покрывало. Птичке кажется, что наступила ночь и пора заткнуться и спать. Если покрывало снять, птичка удивляется внезапному рассвету не дольше секунды, сразу же прочищает горло и начинает вокализы. Лично мне беззаботные трели не мешают ни спать, ни работать, и темная ей устраивается только по настоянию Эммы.
В длинные командировки на «арбузные места» меня не отправляют. Через некоторое время выясняется, почему не отправляют. На судоремонтном заводе в Росте я курирую заказ полигона: это супербронеказематы, способные выдержать термоядерный удар. Я уже писал раньше, что мощные конструкции раскалывались и трещали, как хрустальные, без всяких нагрузок прямо в процессе изготовления на заводе. Решение этой задачки – совершенно простое для человека, понимающего суть происходящего. Вот только таких понимающих не было среди тех, кто рисовал и делал конструкцию. Кстати, экономия на сокращении объемов сварки была такая, что на эти средства можно было бы подготовить нескольких толковых инженеров-сварщиков…
Вставка из технического будущего. Через несколько лет мне придется столкнуться с еще большим непониманием сути явлений при сварке сооружений, имеющих вообще исключительное значение для обороны страны. Трещала и пропускала воду стальная гидроизоляция глубоких шахт межконтинентальных баллистических ракет, – основного оружия ядерного сдерживания (возмездия? нападения?) СССР. Трещины в металлической гидроизоляции пропускали подземные воды, которые могли затопить 50-метровую шахту и вывести из строя могучую сложнейшую ракету более эффективно, чем ответный термоядерный удар… И это была не единичная ошибка какого-нибудь уникального проекта. Строительство порочной серии циклопических сооружений по всему Союзу зашло так далеко, что уже ничего нельзя было изменить в принципе. Я надеюсь еще рассказать об этом колоссальнейшем техническом недомыслии, выросшем на оптимизме невежества, хоть – и технического.
Всю зиму мы непрерывно готовимся к очередной экспедиции и решаем кучу проблем. На полигоне намечается огромный объем работ, примерно в два раза превышающий объемы прошлого года. Офицеров, старшин и матросов теперь раза в полтора больше. Формально начальником нашего монтажного войска назначается инженер-капитан Сергей Семенович Демченко – пожилой, по нашим меркам, тотальник. Сергей Семенович – классический одессит. Под седыми волосами на красноватом лице слезятся небольшие голубые глаза. Их владелец всегда готов отморозить, отколоть, сбацать что-нибудь необычное, часто – музыкальное. На ледоколе Демченко встретился еще с одним одесситом, строительным майором. Их разговоры – это сказка.
– Ты знаешь Ньому, который лабал на Дерибасовской?
– Он меня спрашивает! Я не знаю Ньому! А Изю-саксофона ты помнишь? – два одессита предаются воспоминаниям с такой яростью, что посторонним кажется, что вскоре эти дебаты перерастут в элементарную драку. Однако, обнаружив, что оценки несусветных глупостей Изи-саксофона у спорщиков совпадают, они опять переходят к мирной ностальгии.
На ледоколе радио исполняет миленькую песенку с журчащей мелодией «Джонни» на английском языке. Немедленно два одессита, не изменяя мелодии, слегка приближают ее текст к нашим реалиям:
Розпрягайте, хлопцi, коней,
Та й лягайте спочивать.
А я пiду в сад зелений,
В сад криниченьку копать,
(украинский текст произносится в нос, с совершенно «лондонским» акцентом)
Джоннi iзибуль формiе…
(это, кажется, уже по-итальянски)
Па-а-а, —
(последний звук очень похоже изображает тотальный удар медными тарелками и большим барабаном).
Сергей Семенович не особенно вникает в технические дела, но замыкает на себя все связи со строителями и портом, что здорово облегчает мне жизнь, хотя бы из-за экономии времени. Работать стает легче: я занимаюсь только будущими проблемами монтажа. Однако Шапиро меня сразу возвращает на землю, предупреждая, что Демченко является только номинальным начальником экспедиции – «для политеса» и для связи с высшим командованием,– очевидно, из-за наличия седины и более высокого звания, а вся ответственность за дела экспедиции по-прежнему лежит на мне. Даже, несмотря на вопиющий дефицит звезд на моих погонах.
Вставка на тему «Звание – сила». С моим воинским званием дело обстояло кисло. Если всем офицерам, окончившим училища, очередное звание присваивается через два года (конечно, – если занимаемая должность «соответствует» запросам жаждущего более высокого звания), то нам, тотальникам, – только через три. Для должности старшего офицера отдела, на которой я числюсь, предусмотрено воинское звание «инженер-капитан», но я не могу получить даже звание старшего лейтенанта, пока не «выбегаю» три года. Даже если соискатель звания будет командовать полком или целой армией. Чернопятов уже с отвращением смотрит на мои погоны с маленькими двумя звездочками. Их сиротство несколько скрашивают скрещенные молоток и ключ, которые положены только инженерам.
По команде Чернопятова отдел кадров заранее готовит все бумаги на присвоение мне высокого звания «старший лейтенант». 30 декабря 1957года истекает трехгодичный срок моего лейтенантства, и все бумаги на присвоение звания чуть ли не нарочным отправляются в Москву. Обычно такие мизерные звания младшим офицерам присваивались замами министра элементарно, и на все процедуры уходило около недели.
Проходит неделя-другая, затем – месяц, затем – второй и даже третий нетерпеливого ожидания. Наконец в секретную часть (все дела по кадрам идут под грифом «секретно») приходит бумага с простеньким вопросом: на каких таких основаниях инженер-лейтенанту Мельниченко Н. Т. командование части хочет досрочно присвоить воинское звание «старший инженер-лейтенант»?.
Все стают на уши: о чем разговор, если человек влачил свое высокое звание «лейтенант» целых три года??? Вскоре шарада решается: трехлетний срок истек 30 декабря в 24–00, следовательно, представление, подписанное тем же 30 декабря, т. е. до 24–00 является представлением о «досрочном» присвоении…
Вотэто «dura lex, sed dura»! А «дуры» и «дурики» из отдела кадров, как профессионалы, должны были это знать?! Все документы с чертыханием перепечатываются (о, грохочущие Ундервуды, где надо из-за одной маленькой ошибки все надо перепечатывать!) с датой 31 декабря и отправляются «в обратный зад»… Звание старлея (и соответствующую денежную прибавку) я получаю месяца на четыре позже других…
Проблема командования людьми старше по званию, по возрасту или по обоим признакам, конечно, существует. Особых комплексов с этим у меня не было, и, если занимаешься с нормальными людьми просто делом, то и проблем «кто есть ху» обычно не возникает. Как правило, это понимали и старшие по званию. Например, две экспедиции моим очень лояльным подчиненным был майор Петров, «Капитоныч». Кстати, в экспедицию 1958 года мне для оформления нарядов и разных бумаг был назначен мой непосредственный начальник майор Никита Павлович Байдаков – мужик достаточно вздорный и «тягучий», если можно так выразиться. Байдаков числился зам. начальника производственно-технического отдела, в котором я был всего лишь старшим офицером. И вот на время экспедиции я оказался его начальником. Но даже с таким человеком мне не пришлось «меряться погонами», а просто обуздывать его гнусный характер, о чем расскажу дальше. В начале нашей офицерской службы старше нас по возрасту были почти все сверхсрочники. И тут выяснения отношений были только в отдельных случаях, например, – у людей типа чрезвычайно беспомощного Севастьянова. У меня такой случай был только один, в прошлом году, – с мичманом Шабаниным. А когда сверхсрочниками ставали матросы, выращенные нами «от сохи» до классных специалистов, тут уже никаких вопросов по отношениям не возникало вообще…
Люди, которые свое суждение о порядке и взаимоотношениях в армии составляют после просмотра довоенных фильмов, жестоко ошибаются. Там все показано так, как должно быть по строевому уставу. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?»; «Разрешите идти?»; «Так точно!»; «Никак нет!». После каждого, строго уставного предложения, руки военных автоматически дергаются «под козырек». Однако неправы будут и те, кто представляет армейскую жизнь по современным чернушным фильмам, показывающим беспредел. К сожалению, нельзя сказать, что истина лежит посредине: эта «правда», возможно, будет правдой только в статистическом смысле. Да и то с поправкой на «переживаемый момент». В действительности – все «имеет место быть», и все зависит от командиров – как официальных, так и неформальных…
Работа над будущими ошибками
– Зачем тебе галоши, малыш? Грязи ведь нет!
– Я найду, мама!
Для экспедиции на полигон Новой Земли готовятся конструкции, люди, материалы, инструменты, оснастка. Все недостаточно продуманное, плохо подготовленное придется решать на месте большой кровью. Основное составляющее этой «крови» – драгоценное время. Меня особенно заботит монтаж двух объектов. Один из них – стальная тридцатиметровая вышка с лифтом – новый ПУИ. Конечно, никаких кранов такой высоты у нас нет, значит надо поднимать уже готовую вышку. Два трактора вполне справятся с таким подъемом десятитонной «дурынды» (это – «по-монтажному»). Трудность заключается в том, что вышка после подъема должна быть приподнята, чтобы отверстиями своих четырех опор «сесть» на анкерные болты большого диаметра, торчащие из железобетонных фундаментов. Кроме того, в начале подъема возникают большие боковые усилия, которые надо нейтрализовать. Пришлось изобрести и сделать на заводе хитрые съемные шарниры, которые решают все нестыковки.
Но это не задачи, а задачки, по сравнению с постройкой второго ПУИ. Это уже целый цех. Его несущие конструкции – шесть П-образных рам из шести– и десятиметровых сварных балок, раскрепленных связями из тяжелых уголков. «Пятки» рам привариваются к закладным частям бетонных анкеров. В принципе – ничего необычного. Просто несколько тяжеловесный каркас заурядного сооружения – примитивного параллелепипеда высотой – 6, шириной – 10 и длиной около 30 метров. Выставляй и раскрепляй одну раму, затем автокраном начинай последовательно наращивать остальные рамы и связи между ними. Думаю, за неделю-другую монтаж таким способом можно было бы выполнить.
Мешало одно, всего лишь одно обстоятельство: сооружение строилось прямо на краю воронки от предыдущего взрыва. Взрыва не простого, а ядерного, когда даже обычная земля ставала источником мощного радиоактивного излучения. Правда, чтобы ослабить излучение, вся площадка строительства нового ПУИ должна быть засыпана слоем песка 0,6 метра. Считалось, что это мероприятие ослабит радиацию участка до некоего расчетного уровня, который позволял бы людям находиться и работать в зоне. Наверно, – время работы было ограниченным, но достаточно большим. Где-нибудь за семью печатями секретных отделов хранились расчеты нашего облучения и допустимого времени пребывания в зоне. Из этой гипотетически умной и гуманной бумаги к нам, исполнителям, донеслись только две команды: «надо» и «давай».
За истекшие годы моя наивная вера в расчетную справедливость миропорядка изрядно потрепалась. Но тем ярче воссияла бессмертная истина: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Пока готовились к третьей экспедиции, пришло понимание, что самая наша болезненная точка – это монтаж основного ПУИ на воронке. Эту работу надо выполнить не просто быстро, а очень быстро, если уж ее приходится делать в таком веселеньком месте. Цель проектировщиков и испытателей была простой как репа: собрать ПУИ как можно ближе к прежнему центру, чтобы не надо было переориентировать все сооружения полигона. Это была бы колоссальная работа, которая по длительности не уложилась бы в арктическое лето. Значит – ПУИ надо сажать на прежнее место. Помеха этой идее – высокий уровень радиоактивности. Решение: засыпать песком. «Расчетная толщина слоя песка для ослабления излучения в «n» раз – 60 см (0,6 м). Расчеты доз получаемых личным составом при 8-ми часовом рабочем дне в течение «к» дней, требующихся для строительства – прилагаются. Они не превышают допустимых доз, согласно Приказу МО № 00… от … года».
Решение – есть. Реальность его выполнения с точки зрения безопасности людей уже никого не интересует. Не важны жизнь и здоровье отдельного человека. Надо. Давай.
Атомное отступление. Примерно такой бумагой могла быть решена необходимость и возможность нашей работы на атомной воронке. С 1986 года жизнь преподнесла нам пример гораздо более яркий. В апокалипсическое атомное пекло Чернобыля посылались руководством и шли добровольно люди на безусловно смертельный риск. С одной очень существенной разницей: в Чернобыле надо было тушить мировой, невиданный раньше, пожар, угрожающий всему живому на земле. А тогда, в 1958 году, мы просто готовили очередной физический эксперимент с оружием, один из сотен других. Здоровье и жизнь людей, делающих это, можно было бы поберечь элементарно просто, несколько увеличив материальные затраты. Эти мысли приходят только сейчас, после того как умерло большинство моих матросов и старшин, которые были моложе меня. Какими-то судьбами я жив до сих пор, хотя получал всяких вредностей даже тогда больше, чем они, плюс дополнительных четверть века профессиональной работы с радиоактивными излучениями…
Еще раз повторюсь: эти мысли приходят сейчас. Тогда почти ничего на эту тему мы не думали. Недавно прошла большая война, когда по приказу Родины за ее свободу миллионы людей бросались на огонь пулеметов и разрывы снарядов, где и находили свою смерть. А наш национальный герой, прославленный маршал, так размахался, что уже в мирное время, во время учений, бросил войска в «учебную» атаку прямо на атомный гриб…
Мои ребята и я – люди военные, подневольные, – не воевали, а просто строили в несколько необычных условиях. Пули же направленных на нас пулеметов были не видны и не слышны, а смерть – отсроченной и не очевидной. Сколько моих ребят уже ушло, сраженные этими невидимыми пулеметами из иного, параллельного мира…
Современная вставка во вставку – о чернобыльских последствиях. Недавно, в августе 2005 года, в газете «СПб ведомости» я прочел перепечатку отчета английской комиссии от лица ООН о последствиях чернобыльской катастрофы спустя 19 лет. Вся статья, очень охотно перепечатанная многими российскими (и другими?) газетами, дышит ласковой укоризной: все хорошо, зачем было так волноваться? Ну, умерли после Чернобыля около сотни человек, получивших огромные дозы. Ну, заболели раком и поумирали те, кто пил молочко от коровок, которые паслись на очень уж радиоактивной травке. Зачем же они пили это молоко? Массовой лейкемии ведь не было?! Да и раком болели почти не намного чаще обычного. Ну, там еще заболевания щитовидной железы. Так надо же было сразу принимать йод, олухи нерасторопные.… Ну, а всякие другие болезни – и так бы были. И живут спокойно люди, не пожелавшие уйти с зараженной территории, которая сейчас не так уж и заражена в сравнении с обычными городами. А вот подлинная проблема после Чернобыля – паразитическое существование отселенных из зоны людей, которые привыкли «халявно» жить на государственные пособия…
Точно так же в стремлении «на халяву» «урвать для себя льготы» обвинил нас, испытателей ядерного оружия, так называемых «ветеранов подразделений особого риска», некий гнусный и малообразованный депутат, которому мне пришлось давать отповедь. Ни одна газета не сочла возможным опубликовать этот ответ! Только один человек подал в суд на депутата и использовал мой труд!
Не будем негодовать по поводу сволочизма йеху, вооруженных авторучками: они выполняют заказ хозяев жизни. Постараемся извлечь зерна истины из кучи дерьма. Первое: массовой и немедленной гибели людей, подвергшихся радиоактивному облучению и заражению, – не было. Им не пришлось испаряться десятками тысяч, как жителям Хиросимы. Сотни погибших – не в счет для любителей глобальных катастроф. Это, дескать, проблемы семей и родственников погибших, а не мирового общества. Отдаленные последствия, всякие «обычные» болезни, тем более начинавшиеся «до того» – тоже не в счет. Ну, например, болезни «опорно-двигательного аппарата», которые торжественным голосом Левитана по сто раз на день обещает вылечить очень дорогим «исцелином» некий высокооплачиваемый рупор аптечного лобби. «Деньги давай!» – слышится главная мысль в обещаниях сытого и вальяжного баритона… Разве может бедная бабуля подвергать дорогостоящему лечению целый «опорно-двигательный аппарат»? Ей бы хоть немного унять невыносимую боль в ногах и спине!
Очень хочется выдернуть у владельца вальяжной глотки нижние детали «опорно-двигательного аппарата» (ноги) и врезать ими чуть повыше – по наглой высокооплачиваемой морде (морде лица). Или пожелать самим производителям «Исцелина» и их рупорам почувствовать нужду в исцелении опорно-двигательных аппаратов…
Мне кажется, что можно сделать и второй вывод: об удивительной приспособляемости человеческого организма к неблагоприятным условиям, в том числе – к высокому уровню радиации.
Например, древние люди вымерли бы в копоти и смоге современных городов. А мы – живем и даже наслаждаемся. Можно написать (если еще не написаны) и диссертации о пользе грязного воздуха и всяких излучений для развития человечества: ускоряются полезные мутации. И, вообще, быть о трех головах, – это так удобно и престижно. Да и ядерная война не так уж и страшна. Если, конечно, не пить легкомысленно молоко «после того». Или использовать только коров, которые самостоятельно будут различать уровни радиации и жевать травку, имеющую радиоактивность не более Х бэр/час…
Аффтары, выпейте йаду, разбейте себя апстену, саббаки!
Всеми силами шевелю серое вещество и его извилины: пытаюсь придумать, как можно ускорить монтаж цеха ПУИ. Перебираю десятки технологий монтажа. Везде требуется работа автокрана, еще лучше – двух. Можно из балок собрать раму, затем поднять ее одну трактором. Потом эту раму надо точно выставлять, раскреплять, начинать монтаж связей (всяких укосин и распорок) другим краном…
Чтобы избежать длительных раскреплений и выверки, надо бы поднимать все рамы каркаса одновременно. Известен так называемый «подъем гармошкой». Начинаю считать. Начальное усилие подъема моих конструкций – 80 тонн. Это тяговое усилие 10 тракторов С-80, работающих идеально синхронно, т. е. 11–12 реальных тракторов. Плюс минимум один трактор с обратной стороны для удержания поднятых рам в мертвой точке. А трос для 80-ти тонн потребуется толще моей руки. Соединить армаду из 13 тракторов тоже будет непросто и потребует уйму времени. Очень тяжело обеспечить ее синхронную работу. Да и где мне взять 12 тракторов? Автокран тебе дали? Вот и работай.
Начинаю просчитывать по времени десятки вариантов монтажа. Каждый последующий вариант позволяет ускорить работу, но все по крохам. Очень уж много времени надо для промежуточных выверки и раскрепления рам. Снова и снова возвращаюсь к схеме одновременного подъема и снова убеждаюсь в ее неосуществимости по практическим соображениям: слишком большие начальные усилия…
В отличие от людей гениальных и талантливых, которые мгновенно находят решения сложных и больших задач, я свои маленькие задачи могу решать только после относительно длительных размышлений, когда начинаю понимать истинную сущность проблемы. Моя проблема заключалась в словах «начальные усилия». Именно начальные усилия были слишком большими, что не позволяло выполнить одновременный подъем всего каркаса.
Решение проблемы пришло ночью, во время очередной долбежки льда ледоколом, как будто откуда-то извне. Как ясно из предисловия к этому опусу, – это мои слабые мозги в это время прикоснулись к тонкому миру, где все задачки уже решены давным-давно.
Зачем поднимать все рамы сразу? Чтобы не заниматься промежуточным выравниванием и раскреплением. В процессе подъема огромное тяговое усилие уменьшается до нуля по мере приближения рамы к вертикальному положению. А что, если поднимать только одну, первую, раму? Когда она займет почти вертикальное положение, натягиваются заранее запасованные стропы точной длины и рама становится падающей стрелой для подъема второй рамы. Вторую можно использовать для подъема третьей, и так до последней рамы… Все рамы в конце подъема должны одновременно занять вертикальное положение!
Я чувствовал, что набрел на решение: надо поднимать рамы последовательно, «каскадом». Опасность крылась в том, что усилие подъема, очень небольшое сначала, должно возрастать к концу подъема. До каких значений? Может быть, понадобится опять полтора десятка тракторов? Надо было считать!
При ближайшем рассмотрении этот расчет оказался таким же трудным, как и подъем. Все рамы во время «каскадного» подъема непрерывно меняли углы, следовательно, – менялись и усилия. Чтобы посчитать точно, нужны были таблицы тригонометрических функций, логарифмов и т. п., и т. д. Или – современный простой инженерный калькулятор, о котором тогда даже фантасты не мечтали…
Хорошо нас учили в КПИ! Я вспомнил диаграмму Максвелла – Кремоны, которая графически решала эту задачку. Как известно из моих приключений при сдаче экзаменов за друзей, сила есть вектор, а ее направление – направление троса. Замыкая многоугольник сил (в статике их сумма всегда равна нулю), получаем в масштабе все величины, обходя при этом «бочком» измерения углов и расчетов синусов-тангенсов…
Все получалось. Всю махину можно было поднять двумя тракторами, причем, – в конце подъема один трактор можно переставить с другой стороны для страховки от «перебора». Первую ночь на ледоколе я спал с удовольствием.
Путешествие в начало координат
Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою
(Библия, Бытие, гл. 1)Прекратился лязг гусениц нашего вездехода: мы приехали прямо к деревянным гнездам бывшего палаточного городка. Четверо вылезли из железно-брезентового нутра ГТС-ки и осмотрелись. Четверо – это Демченко, Байдаков, Лева Мещеряков и я. Перед нами были холмы, спускающиеся к белой равнине. Белая равнина – это синее море, еще скованное льдами. Холмы берега покрыты тонким слоем снега с большими проталинами, обнажающими серую землю. Серый тихий день, солнце где-то за тучами. Хорошо уже то, что светило работает на нас круглосуточно, это вдохновляет.
Палаточный городок, где в прошлом году жили наши матросы и строители, находился метрах в трехстах выше по берегу от нашего командирского балкА – домика на санях с печкой между двумя жилыми отсеками-купе. А вот непосредственно возле домика была Главная Нулевая Точка – начало координат. Здесь, на башне из толстых бревен, которая называлась ПУИ – Пункт Установки Изделия, и располагалось Его Величество Изделие.
Сейчас знакомый пейзаж в направлении замерзшей бухты совершенно преобразился и стал неузнаваемым. Мы находимся метрах в трехстах от центра взрыва (все грамотные умники применяют красивое слово «эпицентр», которое можно было бы применять, если бы взрыв был подземный или воздушный). Но высоту около 4-х метров, на которой находилось еще спящее Изделие, вполне можно считать поверхностью земли, конечно, – чтобы не терзать высоконаучную приставку «эпи».
Внимательно осматриваем остатки палаточного городка. Что же с ним произошло после времени «Ч»? А ничего особенного не произошло. Деревянные гнезда (фактически – настилы для пола палаток) – как стояли, так и стоят, точнее – лежат. Неподвижен также большой настил для посадки вертолетов. Ага, вот разрушения: кирпичный дымоход палатки-кухни аккуратно разрезан пополам, и верхняя половина стоит вертикально рядом с нижней.
Мы удивлены и даже разочарованы такой слабостью Изделия, которому отдали так много сил в прошлом году. Обращаю внимание, что обнаженная земля густо посыпана деревянными палочками, похожими на закругленные обломки карандашей или деревянные малюсенькие сосиски, которые долго обкатывались в каком-то барабане. Понимаю, что эти «карандаши» образовались из массивных деревянных стоек ПУИ, и поражаюсь, что на них нет и следа какого либо нагрева… Как можно было «холодным способом» так разделать бревно?
Начинаем перемещаться к центру, то бишь, – к месту, где стоял наш с Левой домик в прошлом году. Внимательно осматриваем землю. Демченко поворачивается к замешкавшемуся Байдакову:
– Никита! Ты что разгуливаешь как фраер? Разве не видишь, как тебе рентгены яйца отжигают? Мы-то уже застрахованы.
Никита белеет от страха. Он уже наглядно видит коварные рентгены, которые «отжигают» столь нужные органы. Ничего такого не было в уютной комнате ПТО, где он последние два года работал, сидя за удобным столом.
– А что мне делать?
– Ходи только по снегу: он задерживает радиацию!
Байдаков принимает все за чистую монету (возможно, в целом она и была самой чистой в этой грязной зоне). Никита Павлович начинает петлять по снегу как заяц, обходя проталины. Мы потешаемся от души и гордо движемся по прямой к атомной воронке. Мы – застрахованные: «что нам пули, если нас снаряды не берут» (в подлинной непечатной поговорке рифма лучше).
Мы стоим на краю воронки. Это правильный опрокинутый конус. Его скругленная вершина находится на глубине метров 15-ти; почти правильная окружность вверху имеет диаметр около ста метров. Ничего особенного, так сказать – циклопического: просто – круглая впадина довольно правильной формы. Необычное видится только хорошо знавшим, что в этом месте был твердый бугор с выступающими на поверхность скалами.
Вокруг стоит мертвая тишина. Ничего живого нет вокруг, хотя кажется, что какое-то напряжение разлито в неподвижном окружающем воздухе.
Очень хочется попробовать твердость слегка заснеженных откосов воронки, но даже неунывающий Демченко спохватывается:
– Пошли отсюда, мужики!
Мы уходим от воронки другой дорогой – ложбинкой вдоль берега. Здесь стояла цепь датчиков давления с самописцами. Дырчастые цилиндры («горшки») с приборами мы крепили к большим двутаврам, на глубину два метра заделанным в скальный грунт. Горшков нет и в помине, а вот двутавровая балка – вся снаружи. Она свернута в невообразимый узел, как будто твердая сталь стала мягким тестом в руках шаловливого великана. Я никак не могу представить себе воздух, который способен так исковеркать стальной двутавр…
Уже через неделю-другую вокруг нашего центра координат безвестные строители выроют ямки, воткнут туда столбы, натянут на них колючую проволоку, а мы установим и подключим светильники по всему периметру. Я долго не мог понять: для чего нужно столь трудозатратное сооружение на сверхзасекреченном островном полигоне? Затем меня осенило: ограду потребовали местные Штирлицы, чтобы создать непреодолимое препятствие для шпионов.
И станет этот район называться «зона». И каждому входящему или въезжающему туда «сталкеру» будет положен «слепой» дозиметр. На выходе из зоны такой дозиметр прикладывается к измерительному прибору. Его показания тщательно закрываются от владельца дозиметра и записываются в некий секретный гроссбух.
Вставка из будущего. Когда нам надо было подтвердить, что мы были ТАМ (как будто мало было приказов по частям и различных допусков, которые, по идее, должны храниться много лет), я вспомнил о журналах регистрации доз облучения. Это же первичные документы, из которых мы заодно бы узнали, сколько этих самых рентген мы тогда получили. Поисками занялись друзья и просто заинтересованные офицеры из Шестого управления ВМФ, которое ведало всеми испытаниями. Они перерыли все в своем хозяйстве. Журналы блистательно отсутствовали – везде. А ведь по данным этих журналов некоторых матросов и офицеров отстраняли (!) от работы в зоне, когда они набирал выше порога, известного только кой-кому…
Работали в зоне все в своей одежде, которая очень хорошо пропитывалась «окружающей средой», да и всеми остальными днями недели – тоже. Чтобы не разносить секретную субстанцию и «заразу» одновременно по всей территории, почему-то особое внимание было обращено только на чистоту обуви. Ее положено было дезактивировать в «обрезе» – 200-литровой бочке с вырезанной крышкой, полностью врытой в землю и заполненной водой.
Теперь, с высоты прожитых с радиоактивными веществами лет, я понял, что если бы некие диверсанты задумали распределить радиоактивный концентрат по всей территории полигона, то они не смогли бы изобрести более эффективный и простой способ. Вода в этом обрезе не могла меняться физически, поэтому концентрация радиоактивных веществ в ней непрерывно повышалась. Если туда сунули сапоги, которые еще недобрали субстанции в зоне, то бочка щедро компенсировала это упущение. И тогда шагающие сапоги высевали свой заряд везде, где ступала нога этого человека. А ступала она везде и помногу раз…
Забавно-трагический случай с этой бочкой произошел у Шапиро. Выходя из зоны, он тоже решил ополоснуть выданные резиновые сапоги, но, как нормальный человек, подумал, что там поставлено мелкое корытце, и решил стать на его дно. Немедленно он опрокинулся в бочку, не найдя опоры. Я успел удержать его, но одна брючина стала мокрой, а в сапог налилось воды. Я всплеснул руками:
– Ну, все, Александр Михайлович! Теперь вас Мария Яковлевна выставит из дома точно!
Шапиро недовольно уставился на меня. Весь огромный юмор с него слетал мгновенно, когда речь шла о нем лично:
– Чего болтаешь?
– Да не болтаю я, товарищ командир! В этой бочке уже полбомбы растворено, так что кое-что из вашего имущества может сразу же отвалиться…
Это была моя маленькая месть за необузданные высказывания тов. командира, о которых расскажу дальше. Шапиро немедленно потерял остатки хорошего настроения и начал очередной разнос наших порядков. Увы, во многом он был прав.
Вставка из прошлого – о будущем. Вот что написал об атомной бомбе глава Объединенного совета начальников штабов, военный советник двух президентов США, адмирал флота Уильям Леги (Leahy W. D.) после того, как американцы испытали две атомные бомбы на японских городах – Хиросиме и Нагасаки.
«Я понял, что моя первоначальная ошибка в недооценке эффективности атомной бомбы была предопределена длительным опытом работы с взрывчатыми веществами в военно-морском флоте. Я был артиллеристом по специальности и одно время возглавлял Отдел вооружений в военно-морском министерстве. «Бомба» – неправильное слово применительно к этому новому оружию. Это не бомба. Это не взрывчатка. Это ядовитая вещь, которая убивает людей смертоносным радиоактивным излучением больше, чем генерируемой ею взрывной волной.
Смертоносные возможности атомной войны в будущем ужасны. Я лично чувствовал, что, применяя это оружие первыми, мы заимствовали нравы, типичные для варваров эпохи мрачного средневековья. Меня не учили воевать подобным образом, и войну нельзя выиграть убийством женщин и детей. Мы первыми стали обладателями этого оружия и первыми использовали его. Можно не сомневаться, что потенциальные противники будут иметь его в будущем и что атомные бомбы когда-нибудь будут использованы против нас.
Вот почему как профессиональный военный, более пятидесяти лет находившийся на службе у своего правительства, я, заканчивая свой рассказ о войне, с опасением всматриваюсь в будущее.
Эти новые концепции «тотальной войны» по своей сути отвратительны для солдат и моряков моего поколения. Применение атомной бомбы в войне отбросит нас в смысле жестокости по отношению к гражданскому населению назад ко временам Чингисхана».
(Вторая мировая война в воспоминаниях, М., ИПЛ, 1990, с.435)
Через несколько дней мне пришлось побывать на другой стороне воронки, – там, где были расположены основные сооружения с оборудованием, смонтированные нами в прошлом году. Мы уже знали, что «гриб» после испытаний вытянулся вверх наклонно (вверху был сильный ветер), и обильно «высеялся» на землю именно в этом направлении. О цифрах и уровнях – речи нет, и не может быть в принципе. Это глубоко секретные сведения, и нам, непосредственным «потребителям» радиации, нельзя даже интересоваться ее значениями. Конечно, меньше знаешь – лучше спишь. Особенно, если и просыпаться уже не надо…
Снега на ровных местах осталось мало: он будет сохраняться все короткое лето только в глубоких долинах. Мы открываем бронедвери сооружений, тронутые налетом ржавчины и крепко прилипшие к резиновым уплотнениям. Внутри – беспорядок, свидетельства бешеного темпа работ. Офицеры «науки» посещали эти сооружения сразу после времени «Ч», чтобы снять показания приборов или даже забрать сами приборы, которые могли погибнуть при зимовке. Воздух, который пахнул на нас из сооружений, имеет непередаваемый запах, который не могу забыть спустя десятилетия. Так, именно так, пахнут атомы.
Разворачивайся в марше!
В третий раз работать гораздо проще: все известно наперед. Если что-то еще не готово к монтажу, я немедленно переключаю ребят на другую работу, которую можно делать уже сейчас. Новый ПУИ – 25-метровую вышку с лифтом, поднимаем так себе, между прочим. Автокраном вышку собрали и выверили внизу, пока строители сооружали еще фундаменты. Затем без проблем дернули двумя тракторами и раскрепили. Конечно, прекрасно сработали специальные съемные шарниры, которые я сделал еще в Ленинграде.
Неприятности начались на ровном месте: один механизм лифта, сделанный точно по чертежам, не хотел работать вообще. Дело в том, что лифт с ручной лебедкой, должен был поднимать на высоту 25 метров Ее Величество Изделие. Предусмотрена была такая опасность: тяговый трос обрывается, но лифт остается почти неподвижным, – срабатывают аварийные ловители. Этот нехитрый механизм мы видели, но испытать не могли, пока башня находилась в лежачем виде. Нужна была гравитация не вообще, а направленная вниз по оси. Таковая появилась только после подъема вышки в вертикальное положение. Сделали «модель ситуации»: лифт с грузом около 0,5 тонны поднимаем на метр, привязываем веревкой, которую обрезаем после освобождения троса. Лифт пролетает один метр и со страшной силой разносит подушку из досок. Хорошо, однако, что лифт поднимали не очень высоко и загружали не само Изделие…
Механизм оказался неработоспособным. Надо было докладывать генералу Барковскому. Он бы вызвал конструкторов, получил бы от них решения, которое затем надо было бы выдать в виде чертежей, а затем заказать и сделать на заводе. Работы на месяц-два при самых бешеных темпах. «Такой хоккей нам не нужен».
Начинаю вникать. Выясняю, что недостаточен вес противовесов, которые сжимают захваты на направляющих после обрыва лифта. Матросы ищут и находят подходящие болванки на свалке, привариваем их для утяжеления противовесов. Теперь захваты зажимают слишком хорошо: даже не дают поднимать лифт. После второго «обрезания» лифт начинает функционировать как надо. Вместо мероприятий и ожиданий на два месяца – часа три работы. Ребята мои вертелись, как черти: под их руками оживал монстр…
Примечание на тему: «Не дай, Бог!». Мне часто приходилось принимать такие вынужденные решения на грани или даже далеко за гранью фола, всегда – при недостатке времени и требующихся ресурсов. К счастью, все они оканчивались для меня более-менее благополучно, во всяком случае – без уголовных оргвыводов. Правда, всегда находились умники, которые считали, что надо было сделать лучше и не так. И они, конечно, правы, но правы вообще, а не в тех условиях, месте и времени. Но вот представим, что Изделие действительно бы оборвалось, а мои скороспелые ловители бы не сработали… Или рухнул бы с человеческими жертвами пятитонный кран, которым мне пришлось однажды поднимать целых 12 тонн? Спасибо тебе, Господи, что ты пронес чашу сию мимо уст моих!
Завершение монтажа ПУИ и его сдача заказчику меня здорово развеселили. Работающий лифт надо было сдавать флотскому Гортехнадзору. Приехал капитан второго ранга, который нас начал дотошно допрашивать – как и что. Он был с нами очень суров. Я, как мог, отвечал на все его вопросы, но он оставался недоверчивым и подозрительным. Я простодушно предложил:
– Так пойдем и посмотрим натуру.
Начальство я пропустил вперед. Всего-то надо было подняться на 25 метров по стальной вертикальной лестнице, огражденной для безопасности решеткой из гнутой арматуры. Наше сооружение снизу смотрелось очень простым и невысоким: 25 метров – это высота 10-этажного дома. Наверно, по обычной лестнице в доме, даже без лифта, восхождение происходит несколько комфортнее. Нашу же вышку и лестницу в ней пронизывал со свистом ветер, держаться надо было всеми четырьмя конечностями. Суровый контролер поднимался все медленнее. На промежуточной площадке высотой всего 15 метров он остановился и с ужасом увидел себя так высоко, что ветер проносил клочья тумана внизу, а все сооружение гудело на ветру и дрожало. С тоской он взглянул вверх и неожиданно заявил:
– Ну, я вижу(?), что у вас все правильно сделано, и дальше нет смысла(!) проверять!
На том и порешили. Прощались – «душевно», как любит обозначать «теплые ситуации» мой сын.
Конечно, эта работа была всего лишь небольшой прелюдией к основной – монтажу главного Центра на воронке. Кстати, мне с самого начала было непонятно, зачем было ставить еще одно ПУИ на башне? По-видимому, позже спохватились, что такую высокую башню просто снесет во время испытаний на большом ПУИ: расстояние было всего километра три. Возможно также, что изменились планы испытаний. Поэтому, как мне позже рассказали матросы из шапоринской группы, вышку потом они аккуратненько «срубили» под корешок, – демонтировали без повреждений, применив все те же съемные шарниры.
А на основной площадке события разворачивались драматически. Подозреваю, что те проектировщики, которые рассчитывали засыпать большую рабочую площадку слоем песка толщиной 0,6 метра, были идеалистами, – такими же, как те, которые дали команду заготовить березовые метлы на месте – на Новой Земле. Впрочем, наиболее вероятна другая ситуация: кто будет нарываться и обращать внимание на будущие трудности, если высокое начальство уже успело сказать еще более высокому: «Так точно! Будет сделано!». Песок на Новой Земле стоил столько же, сколько сахарный песок. Но дело было даже не в цене: нельзя было просто пойти в магазин (склад, карьер) и купить требующийся продукт. Песка требовалось столько, что понадобился бы караван судов, барж, вагонов, причалов для сыпучих грузов и т. д. А на все это надо было еще за год-два получить фонды и лимиты на уровне Госплана!
В ситуации с поставкой песка на Новую Землю я не могу безоговорочно обвинять проектировщиков, снабженцев или командование. Изначальную Цифру – уровень радиации – можно было узнать только зимой – весной. Все расчеты и заявки, базирующиеся на этой Цифре, уже безнадежно опаздывали к уходящему Плановому Поезду Заказа. Если учесть, что сами Работы уже были в других Высоких Планах, то происшедшее ставало неизбежным – неотвратимым: уже было поздно предпринимать что-либо нормальное, потому что на кону стояло слишком много.
Итак: песка не было, радиация – была. Принимается решение: действовать своими, т. е. – строительными силами. Песка на Земле – нет, но на берегу кое-где есть галька среди «скал тех каменных» и «серых утесов».
Вся немногочисленная техника, которая была у строителей, не была рассчитана на массовую добычу и перевозку гальки из моря. Техника эта в условиях полного бездорожья, да еще ведомая неопытными мальчишками, быстро выходит из строя.
Итог, как в армянском анекдоте: «Правда ли, что академик Бабаян в лотерее выиграл сто тысяч?» Ответ: «Правда. Только не академик, а – сапожник; не Бабаян, а Аганян; не в лотерее, а в очко; не выиграл, а проиграл». Правда, все засыпано, только вместо 0,6 метра – 0,1 м (10 см), не всю площадь, а только дороги, не песком, а морской галькой.
Лето 1958 года выдалось на редкость жарким. Даже за Полярным кругом температура поднималась до + 30 градусов. На Новой Земле (а мы были на ее южной части) снег сохранялся только в глубоких расщелинах. Грязь дорог, размолоченная гусеницами и колесами, высохла и превратилась в пыль, тучей поднимающуюся за проезжающим транспортом. Очень интересно повела себя морская галька, которой были засыпаны дороги: она под колесами расходилась как вода под форштевнем катера.
Вскоре засыпанные дороги зоны напоминали пыльные желоба с хиленькими бордюрчиками из скользкой гальки. Ветер, гусеницы и колеса поднимали эту пыль, по крайней мере, – до уровня наших дыхательных отверстий. Всем работающим в зоне стали выдавать белые «намордники» – заряженные статическим электричеством респираторы «Лепесток». Вот только надевать на «морду лица» это чудо техники никто не торопился: во-первых – жарко, во-вторых – зачем? Человек с респиратором смотрелся как белая, притом – чрезвычайно пугливая – ворона на фоне бесстрашных суперменов… Ибо, как говаривал бессмертный Козьма Прутков: «Без надобности носимый набрюшник – вреден».
Наша группа уже работала в зоне: электрики со старшиной Щербаком Александром Сергеевичем монтировали наружное освещение по «колючему» периметру. Щербак – пожилой, грамотный, интеллигентный и надежный. О таком старшине может мечтать любой, заботящийся о своих людях, офицер. Эти старшины знают себе цену, полны достоинства. За справедливость и вполне отеческую заботу их обожают матросы. Конечно, они подчинятся командам любого вышестоящего командира: этому их научила жизнь. Но для командира, который их понимает и доверяет, не «дергает» по мелочам бестолковыми командами, а просто помогает, они стают неоценимыми и мудрыми помощниками.
Лева Мещеряков с головой влезает в электрические схемы сооружений, работавших на прошедших испытаниях. Я уже говорил, что весь «гриб» пролился «спорами» в направлении на высоту – КП, обильно полив (посыпав?) многие сооружения, на которых сейчас надо менять половину кабелей, щитов, аккумуляторов. Работа мелкая и «подлая», особенно распайка круглых разъемов – «фишек». Жесткие и толстые жилы экранированных кабелей (обычно их бывает 19–25 штук) с трудом вписываются в тесно расположенные гнезда для пайки. Работа требует мастерства, точности и терпения. Часто с трудом распаянный разъем приходится разбирать «до нуля»: в пайке, расположенной в центре фишки, нет контакта, или есть контакт, где он не должен быть. Иногда эти типовые электрические дефекты появляются на уже давно выполненных и испытанных схемах после двух-трех соединений разъема…
Лева практически круглосуточно не вылезает из этих сооружений. Сколько там рентген вошло в него и его матросов – никто не знает… Тем более, что «главные» в нашей жизни не внешние рентгены, а проглоченные радионуклиды, которые переживают приютившего их человека: только спустя долгие годы их активность уменьшается наполовину. Проходит еще такое же время – «период полураспада», – активность оставшихся уменьшится еще в два раза. Человек уже давно умер, а «полураспады» в его останках продолжают свою жизнь, как «невыключаемые вечные часы».
Письма
Письма пишут разные:
Слезные, болезные,
Иногда – прекрасные,
Чаще – бесполезные.
(К. Симонов)Симонов, конечно, понимал толк в письмах. Его «Открытое письмо. Женщине из г. Вичуга» по силе воздействия сейчас можно сравнить с ракетой, у которой миллионы разделяющихся боеголовок индивидуального наведения. Я уже не говорю о Библии Военных Разлук, его стихотворении «Жди меня», которое во время войны все жены повторяли как молитву…
Теперь – о наших письмах нашего времени. Хорошо мне было в 1956 году: я объявил, что с нами связи быть не может по определению, сам никому не писал, ни от кого писем не ожидал. Снисходительно смотрел на муки ожидавших, но не получивших писем. Мне было хорошо. Я проникся правотой афоризма, принадлежавшего, кажется, Ибсену: «Найсильніший той, що найбільш самітний». Именно так мне запомнился афоризм, внесенный в скрижали моей записной книжки еще в школе; не рискую сейчас делать перевод с перевода.
За самоуверенность и следование сомнительным афоризмам я сурово наказан. Уже второй год я с тоской ожидаю весточек от любимой. Вообще-то, при разлуке мы договорились поддерживать телепатическую связь. Каждый день, ровно в 22 часа (часы должны быть очень точными), я поворачиваю свой лик к темнеющей на юге полоске над морем. Там, в непомерной дали, теплый южный вечер. Там – Она. Я очень надеюсь, что она тоже смотрит на секундную стрелку часов. Ровно в 22 часа я посылаю импульс: притормаживаю сердце, затем с силой запускаю его опять.
Жена сберегла все мои письма, и … выбросила свои. Я с надеждой схватил рассортированные по годам пачки своих писем: многое забылось, а пишу ведь «мемуар». Увы, с прискорбием убеждаюсь, что мои письма точно попадают в четвертую строчку симоновской классификации. На нескольких страницах, плотно заполненных мелким убористым почерком, нет почти ничего. Только огромная тоска, мука долгой разлуки, мечты о встрече. Каждое письмо писалось урывками, обычно – после 22–23 часов в течение нескольких дней. Погоды нет, вертолета нет, письмо не уходит, почему не дописать? Удивительно только одно: откуда брались силы, чтобы писать одно и то же, выкраивая для этого минуты из более чем плотного графика жизни?
В общем, конечно, письма – очень-очень бесполезные… Что полезного для себя может почерпнуть юная жена из такой белиберды…
Эмма, к сожалению, выбросила свои письма ко мне, считая их пустыми. Как нужны были они там! Как ожидались! Вот прилетает вертолет или корабль с почтой. Счастливцы уходят с несколькими письмами: они будут перечитывать их помногу раз, вникать в каждое словечко, в каждый оборот, угадывать интонацию и настроение, с которыми писались эти строки. Не получившие ничего, натянуто улыбаются, иногда – шутят. Только знающий понимает, как им тяжело, какие черные думы начинают роиться в беспокойных извилинах…
А вот слова из нашей переписки о борьбе за комнату требует пояснений. Некоторые жены, измучившись без жилья, брали подмышку деток и с боем оккупировали высокие кабинеты. Так поступила Зина Марусенева, жена моего друга Васи. Она сама участник войны, у них было двое детей. Я уже писал: они ютились в отсеке жуткого полуподвала на Разъезжей у Пяти углов. Их единственное окно, наполовину углубленное в асфальт двора, располагалось к тому же в «уютном» закоулке, который как магнитом притягивал желающих облегчиться. Зина атаковала кабинет начальника УМР, понимая, что у Шапиро возможности меньше. Они с Васей тогда получили квартиру на Алтайской, в Московском районе. Конечно, – не сразу, не с первой попытки. В принципе, – «пробивная» жена могла добыть жилье быстрее, чем муж, хоть и «заслужОнный», но отягощенный погонами, присягой и обязательством «стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы». Жены ведь такой подписки не дают.
Уезжал я на Землю в третий раз из «канареечной» комнаты приютившей нас Марии Александровны. Теперь-то уже мне обязательно должны были что-нибудь дать: я был точно женат, и моя юная жена сделала старорежимный книксен самому Шапиро. Еще, наверно, я был «на хорошем счету». Неизвестно, правда, кто этот «счет» ведет, но каждая организация стремится как-то привязать к себе людей нормально работающих, в том числе – жильем. Конечно, с погонами никуда не денешься и без жилья: на «гражданку» или в другое ведомство не перейдешь. Но все-таки, все-таки…
Пока я воевал, жене предложили (чуть не написал: «квартиру»), конечно – комнату. Если бы эту комнату нам предложили тогда, когда нас «выкурила» Роза Турова, – мы бы туда пошли, пополнив собой ряды старых питерцев: большинство из них проживали именно в таких хоромах. Так вот, – без меня Эмме предложили комнату нашего офицера капитана Машанова с большой семьей, получившего, наконец, комнату большего размера. В доме на Фонтанке, в коммунальной квартире освободилась комната около 10 м2. Эта комната раньше была коридором с шириной чуть больше метра, так что установка даже односпальной кровати перекрывала движение по апартаментам. И моя подруга приняла героическое решение: она отказалась от этой комнаты!
Я не шучу: это было действительно героическое решение, причем, – самостоятельное. Со мной ведь быстрой связи не было, а решение надо было принимать сразу, немедленно. Конечно, оказывалось психологическое давление: «А что же вам надо? А не слишком ли многого хочете?». Шапиро пугал ее тем, что я буду очень недоволен, когда узнаю, что она отказалась от жилплощади в центре Ленинграда, о которой многие могут только мечтать!
Молодец, выстояла, и ее «наглость» вскоре была вознаграждена: нам предложили одну из бывших комнат Шапиро, в «нашей», хорошо известной квартире! Шапиро получил отдельную квартиру неподалеку на улице Строителей. Вторую шапировскую комнату получил офицер из «пятнашки». Третью, самую лучшую комнату, из которой нас недавно выкуривали, Туровы вскоре поменяли, и туда въехала молодая женщина с ребенком.
Так что возвращаться с Новой Земли у меня уже было куда. Это была уже только наша комната в приличной квартире «сталинского дома», в которой мы могли «жить и размножаться». Только теперь мы стали по-настоящему жителями Ленинграда. Была середина 1958 года. Наш сын, тем более его дети – уже коренные ленинградцы (санктъ-петербуржцы).
Вставка, наполненная досужими размышлениями. Я далек от мысли, что проживание в крупных городах Москве и СПб дает счастья больше, чем в поселке или райцентре. И все-таки, именно это проживание позволяет выполнить главное: дать своим детям настоящее образование и, следовательно, – будущее. Из-за войны я не мог получить образование помимо сельских школ. Особенно это относилось к языкам, о чем я уже писал. (Конечно, если бы я был Далем, то ничто бы меня не остановило). Тем не менее, – настоящей базы не было. Считаю своей заслугой, что смог все-таки поступить в настоящий вуз. Если бы я не смог учиться в Киеве и не был бы направлен в Ленинград, то мой сын, не получив настоящего образования, остался бы тоже в Деребчине и был бы колхозным или заводским бригадиром. Именно так сложилась судьба моих деребчинских ровесников и друзей: Вити Бондарчука, Миши Беспятко, Вити Вусинского и многих других. Недалеко могут продвинуться также их дети и внуки, даже будучи семи пядей во лбу. Все дело в том, что в мое время, чтобы «выбиться» в люди, достаточно было иметь голову и трудиться, не покладая рук. И парень из глухой глубинки без всякой поддержки мог учиться и жить на стипендию в столице. Сейчас этого мало: нужна мощная финансовая подпитка… Хочется думать, что я вывел свой маленький род из одного сына на более высокую орбиту. А он это делает для своих детей…
Начальство, друзья и канистра
Не всякий генерал от природы полный.
(К.П., № 24)Я еще ничего не писал о строительном начальстве, от которого мы, монтажники, весьма и весьма зависим на этом странном острове Новая Земля. В 1956 году я был разбалован заботой и вниманием гигантов – Френкелем и Барковским. Отцом родным для моей группы был также главмех строителей подполковник Гайченко Н. Е.
Но через год, в 1957-м, мы намаялись здесь же, на полигоне А со строительными «фюрерами» – Мальченко и Полуниным, которые держали монтажников в «черном теле» по неведомым причинам. Возможно, их в детстве обидел какой-нибудь монтажник, или любимая теща у них из монтажников… И только теплая взаимная любовь со строительными офицерами-прорабами позволила нам выстоять, чтобы все же выполнить свой долг перед Родиной.
Сейчас строителями командовал полковник Циглер (тогда я даже знал его имя-отчество). Это был невысокий, довольно упитанный человек лет 45. Узко посаженные сверлящие глаза на холеных щеках дополняли черные усики а ля Адольф Гитлер. На первых порах, когда все внешние связи замыкал на себя Демченко, непосредственно с Циглером я общался мало. Правда, памятуя прошлогодний опыт, предусмотрительно добился специально выделенного транспорта. Сначала у нас была своя монтажная ГТС – гэтээска, такая же, как та, на которой мы с Левой охотились на селезня в прошлом году, затем – золотая машина ГАЗ–63, которая меня чуть не убила.
При ГТС-ке был свой водитель, которого звали Вася. Водил он свое грохочущее чудо довольно осторожно, но, несмотря на это, мы почему-то часто застревали в самых неожиданных местах, где, казалось бы, и автомашине негде застрять. Мой Вася был элементарным деревенским неумехой, но очень искренним и чрезвычайно работящим. Я смотрел на него как в зеркало: совсем недавно я был таким же… И меня учили хорошие люди…
У Васи была еще одна особенность: он панически боялся радиации. Когда я давал ему маршрут «в зону», мой Вася сначала потел, затем – бледнел и начинал мелко дрожать. Я делал вид, что ничего не замечаю. Еще задолго до периметра ограждения машина начинала еле ползти, затем и вовсе останавливалась… На Васе лица не было, он понимал, что так делать нельзя, но ничего не мог с собой поделать:
– Товарищ старший лейтенант…
Я вопросительно смотрел на него.
– Я еще не женатый… товарищ старший лейтенант… вы же знаете…
Я со вздохом садился за рычаги вездехода, и назначал Васе место и время нашей встречи для дальнейших передвижений уже в «чистом» пространстве. Сам– то я уже был женат. И даже получал письма от своей ненаглядной…
Я раньше писал, что у меня не было никаких проблем с Байдаковым: обычно моя память плохо сохраняет все плохое. Однако, просматривая старые письма, я нашел в них намеки, что не все было так безоблачно. Никита Павлович, оказывается, занимался интригами: напевал Демченко, что я очень переживаю, что не являюсь с его приходом полновластным начальником, как это было в 1957 году. Воистину: вшивый думает только о бане! Это сам Никита переживал, что его обидели должностью, подчинив двум младшим офицерам: он ведь был целым майором, а даже Демченко – только капитаном, не говоря уже о невзрачности моих звездочек.
Зато запомнились баталии Байдакова и Циглера по бумажно-финансовым вопросам. Циглер чрезвычайно не любил разъездов по участкам полигона. Байдаков в этом вопросе был с ним полностью солидарен. Обычно оба голубчика сидели в штабной палатке (все наши палатки были большими, рассчитанными на 40 человек) и слегка переругивались от безделья: бумаг было не так много. Никита составлял форму 2, или «закрывал» наряды матросам, по которым им платили копейки «прогрессивки». Наряды были нашим сугубо внутренним делом, надо было просто «выйти» на приличную цифру со ссылкой на параграф подходящей официальной «бумаги». В перечне работ других нормировщиков можно было найти «Перетаскивание пьяного начальника – 5 шт на расст. 100 м»; «Покрытие Венеры Милосской – 1 шт, 3 раза» и другие жемчужины планово-учетного юмора. Байдаков, конечно, с таким серьезным делом шутить не мог. Когда он приставал ко мне: «Какие работы писать в наряды?» и я ему перечислял на бегу нечто подобное, он чрезвычайно возмущался…
В то же время бумаги по форме 2 на оплату выполненных работ требовали уже подписи генподрядчика – то есть вышепоименованного Циглера. И вот здесь начинался цирк. По поводу какого-нибудь ничтожного коэффициента или строчки формы 2, стоимостью меньше скорлупы от разбитого яйца, начиналась дискуссия на несколько часов. Консенсус не приходил никогда, а время приближалось к обеду. Тогда Циглер с дьявольской улыбочкой говорил «моему» майору:
– И что это я переливаю с тобой из пустого в порожнее? Есть же, в конце концов, у тебя начальник, который может тебе приказать! Дневальный! – обращался он к солдату. – Позови сюда старшего лейтенанта Мельниченко!»
Иногда дневальный находил меня, и я приходил в штаб.
– Ну, что у вас? – хмуро обращался я к враждующим майору и полковнику, чувствуя как утекает мое драгоценное время на их пустые разборки.
Они забывались и начинали сбивчиво излагать старшему лейтенанту свои точки зрения на несчастный коэффициент. Я внимательно слушал и принимал решение. Забавно, что это решение ставало истиной в последней инстанции и примиряло враждующие стороны…
В разгар работ к нам прилетел Шапиро. Прилетел он, конечно, только до Белушьей, а к нам – «приплыл». Где-то в Нарьян-Маре ему пришлось провести несколько часов, и там стояла жара(!!!) около 30 градусов. У нас тоже стояла теплынь, – не дай Бог. Бедный Александр Михайлович совсем разволновался: за что же нам платят двойной оклад, если у нас так же тепло, как в Сочах? После происшествия с «дезактивационной» бочкой пыл Шапиро поубавился: не всегда тепло есть благо. В зону он больше не ходил, но испытал еще один стресс, впервые поднявшись на вертолете. Он с интересом рассматривал с высоты наши пейзажи, пока я не сказал безразличным, чисто информационным, тоном:
– Генералам запрещено летать вертолетами…
– Почему? – живо поинтересовался Шапиро.
– Да разбиваются часто они, вертолеты… А генералов – мало…
– Вот, черт, успокоил! – взвился АМ, тем самым назначая успокоение начальства моей главной задачей…
Из-за приезда Шапиро я чуть не разругался с ближайшим другом Левой. Когда приехал Шапиро, было около 24 часов, мы с Левой уже отдыхали, и принимал Шапиро один Демченко. С устатку АМ захотел выпить, но Демченко только развел руками: «нэма!».
– Как!!! – вскричал АМ. – Вы взяли из части 20 литров спирта, и уже «нэма»???
– А что нам 20 литров? – со смехом оправдывается Демченко. – Я, аппетиту для, перед обедом пропускаю по полстаканА, Мельниченко хватит сначала полстакана корвалола, затем – стакан спиртяги, да Мещеряков пару стаканов запросто осилит…
Шапиро возмущается озвученной картиной морального разложения руководства монтажной группы. Но выпить с устатку действительно надо. Я поднимаюсь, распаковываю посылку от жены, привезенную АМ. Там – бутылка коньяка. Понимает дорогая, что надо заполярным ковбоям: мы с восторгом осушаем бутылку, что несколько смягчает горечь утраты целой канистры…
Утром я начинаю понимать, что близкий друг без отвращения смотреть на меня не может. «Ну, бывает: мало ли что приснится. Пройдет!» – решаю я игнорировать непонятное. Однако, «непонятное» продолжается и на второй день. Я не выдерживаю, и зажимаю Левку в угол:
– Достопочтенный сэр! Любить себя я не требую, сэр. Но Ваше высокомерное мордоотвращение, сэр, мешает плодотворному монтажированию, сэр. Так в чем дело, сэр???
Левка мотает головой, как партизан в гестапо, но от меня так не отделаться. В конце концов, он открывает причину внезапного отвращения ко мне, после чего я с трудом остаюсь на своих двоих:
– Почему ты промолчал, когда Демченко сказал Шапиро, что ты обычно выпиваешь стакан спирта, а я – два? Мы ведь всегда пили одинаково!
Техническое пояснение о превратной судьбе канистры. Когда у тебя в руках канистра спирта, то количество близких друзей, желающих с тобой пообщаться и от всей души помочь тебе в решении возникающих проблем, превышает все разумные пределы. «Роскошь человеческого общения», как, бывало, говаривал Сент Экзюпери, начиналась обычно уже прямо в процессе Первоначального Заполнения Канистры. «Роскошь» эта слегка смягчала тяжелый Период Ожидания Начала. Затем бурно расцветала во время неурядиц Пути Следования. Последние силы Канистра отдала для Согревания во время Счастливого Прибытия.
Вот и все, что было, ты как хочешь это назови… А что некоторые типы пили сначала корвалол, а затем спирт, так это оттого, что корвалол сам по себе не действовал…
Основная работа
Чем скорее проедешь, тем скорее приедешь
(К. П. № 79)Чем бы ни занималась монтажная группа, мои мысли занимала основная работа: монтаж цеха – ПУИ на воронке. То, что засыпать площадку песком не получилось, еще больше обострило проблему: надо было работать не просто быстро, а очень быстро.
Иду на некоторые избыточные затраты труда, которые должны окупиться сокращением времени работы Там. Вблизи Зоны нахожу удобную площадку, и начинаем предварительный монтаж и тренировку. Поверяем все связи между рамами каркаса: по длине, по болтовым отверстиям. На заводе контрольная сборка не проводилась: просто не было места для такой махины. Наша работа отнюдь не напрасна: неувязок и нестыковок очень много, и мы устраняем их в относительно благоприятной обстановке.
Предмет особой заботы – шарниры для связи каркаса с фундаментом при подъеме. Фундамент – гладкая стальная поверхность бетонного анкера. К ней после подъема надо приварить башмак каркаса, тоже гладкий. После подъема! А как его связать во время подъема? Там возникают приличные боковые усилия… И тут меня осеняет: надо сделать одноразовые шарниры! Согнутые под углом стальные полосы надо приварить к башмакам и их фундаментам так, чтобы они, разогнувшись только один раз при подъеме, точно посадили все шесть рам на фундаменты (на схеме упрощенно показаны только пять рам, и то в боковой проекции). Эта простенькая идея сберегла нам пару суток плотной работы на 12-ти фундаментах…
Наконец, почти все готово. Залитые строителями в опалубку фундаменты уже затвердели. Мои ребята уже прошли тренировку при подгонке связей. Каждая железяка, огромная и помельче, – промаркирована и подогнана. Каждый матрос знает не только свой маневр, но и понимает общую схему монтажа. Это очень важно для скоростного монтажа.
За часа четыре перевозим все конструкции на самый край воронки, сразу собираем рамы в лежащем виде, но на месте. Привариваем шарниры. Окончательно закрепляем мерные тросы, связывающие рамы. Будущие связи лежат сбоку на нужных местах. Мои ребята работают быстро и уверенно, мне приходится подавать только короткие команды для переходов. Все уходим на ужин. Объявляем всем, что подъем начнем завтра утром.
После ужина, когда в зоне народа уже нет, продолжаем работу. Два трактора с лучшими трактористами уже работали с нами на подъеме вышки, и все понимают по движению пальцев и рук, – слов не слышно за ревом моторов.
Каскадный подъем
Тяговые троса набиты, матросы на местах. Опрашиваю взглядом матросов, стоящих на ключевых точках. Докладывают: все в порядке, свернув кольцом большой и указательный пальцы. Даю команду тракторам на передвижение на полметра. Первая рама приподнимается. Шарниры держат, все в норме. Начинает подъем вторая рама, затем – следующая. Усилия на трактор возрастают, но до предела еще далеко. Останавливаю все, осматриваемся. На третьей раме натянут только один из двух тросов: один чуть длиннее. Но приварные шарниры держат отлично, и рама поднимается без перекосов. Продолжаем подъем. Вот приподнимается последняя, шестая рама. Нагрузка на тракторы уменьшается. Все это уже просчитано. Сейчас самое время отцепить один трактор и перегнать его для удерживания поднятых рам с противоположной стороны, чтобы не перемахнуть через вертикаль в другую сторону.
Теперь обоим тракторам задаю на пальцах расстояние перемещения по 10–15 сантиметров. Меньше, еще меньше. Только один трактор… Троса повисают: усилий почти нет…
Наконец все – ВСЕ!!! – рамы одновременно занимают вертикальное положение! Даже участники подъема не верят глазам своим, что все это косое-кривое движение огромных рам могло привести к такой концовке. Удивлен этим фактом даже автор подъема, хотя по расчетам именно так и должно было произойти…
Перекуров – нет. Первую раму: выверить вертикаль и приварить к фундаменту. Выставить связи со второй. Выверить, приварить. Нам незачем жесткие связи из стальных уголков и косынок собирать на болтах. Раз рамы стоят идеально, то связи мы можем приваривать: это намного быстрее. Выставление рам – тяговыми тросами, иногда достаточно усилий одной руки, чтобы отклонить раму весом несколько тонн на пару сантиметров.
Ревут сварочные агрегаты, полыхает несколько сварок, матросы носятся как черти. Они гордятся своей работой, они настоящие монтажники…
Часам к четырем утра все кончено. Оказывается, что ярко светит солнце. Возникшую из ничего махину уже не сдвинет никакой ураган. Кроме того, который создан человеком и разнесет ее изнутри на атомы и молекулы…
Проснувшиеся утром не поверили глазам своим и долго их протирали. Пейзаж стал совсем другим. На меня посыпались обвинения, что я скрыл от широких слоев военной общественности зрелище. Я отшучивался, что не мог допустить, чтобы трудящиеся провели бессонную ночь накануне дня собственных подвигов…
В воздвигнутом так бодро каркасе (увы: описанное действо сооружало только некий «скелет» сооружения) нам предстояло еще очень много работ. Строители должны навесить на каркас стены, устроить полы. Мы после этого монтируем всю электрику, небольшую котельную и контур отопления к ней. Это будет очень скоро, но все равно – потом. И внутри цеха – ПУИ образуется почти чистая зона: полы будут забетонированы. И если устроить еще одну «дезактивирующую бочку» для защиты от окружающей среды, то будет полная ламбада…
Послесловие. Для технической конференции мичман Ваня Рехин, мой друг, изготовил действующий макет подъема. Лебедку игрушечного трактора крутили многие, удивляясь «косому» подъему, названному «каскадным». На макете – все как было, только в масштабе. Правда, трактор стоял неподвижно, а нить троса натягивалась маленькой лебедочкой на тракторе.
Бунт на пароме
Вытапливай воск, но сохраняй мед.
(Почти по К. П.)Вообще-то, я знаю, что надо писать «бунт на корабле». Но, к моменту возникновения бунта, наш корабль больше походил даже не на паром, а на Ноев ковчег.
Несмотря на непрерывный, можно сказать, – героический труд по 16–20 часов в сутки, мы элементарно зашивались. «Зашивание» было не простое, а электрическое, и очень глубокое. И если для монтажа металлоконструкций можно было придумать «прорывную» технологию, то для прокладки и подключения кабелей, распайки разъемов, проверки и очистки бесчисленных контактов в щитах нужны были не столько мозги, сколько рабочие руки. И время. Драгоценное время.
Все электрики уже работали по 16–18 часов. Людей, без которых можно было обойтись на монтаже металлоконструкций, я немедленно передавал Леве. Сам Лева и его мичманы почти не спали. Но всего этого было мало. Мы горели синим пламенем, зашивались в саван, загибались в доску и гибли одновременно. Если разделить объемы требуемых работ на нашу суточную производительность, то время, требуемое для выполнения всех работ, приближалось к полугоду, то есть подготовить полигон к испытаниям мы могли только к весне следующего года. Вместо середины августа этого, 1958 года.
Еще до того, когда эта ситуация стала очевидной, Демченко для решения вопросов по снабжению отбыл в Белушью, а затем – «в СССР», то есть – на Большую Землю. А именно теперь нам понадобилась бы его пробивная помощь. Пришлось нам с Левой обращаться за помощью к ребятам из науки, они уже нетерпеливо «били копытом, чтобы заняться подготовкой и наладкой сооружений. Те довели наши просьбы до высокого командования.
Реакция была быстрой и исчерпывающей: со всех кораблей полигона и основной базы были сняты и направлены к нам почти сотня матросов. Конечно, не все они были электриками и связистами, но все знали в лицо отвертку и пассатижи, а главное, – все были золотыми ребятами, безотказными и исполнительными.
Мы «перестроили ряды». Размещены были все матросы, и наши и корабельные, в палатках второго городка, расположенного километрах в 10 от основного, – поближе к месту работы. Половина новичков была распределена по бригадам. У нас теперь возник большой дефицит инструментов, поэтому из остальных была организована ночная смена.
Темп работ резко ускорился. Если все пойдет так и дальше, то мы уложимся в нужные сроки. Первая, основная смена начинала работу сразу после раннего завтрака. С небольшими перерывами на обед и ужин работали до 22 часов. Вторая, ночная смена выходила вместе с первой после ужина, на ходу получая задание и инструменты. Возвращалась ночная смена в городок только к завтраку.
Я знал по себе, как тяжела для молодых ребят длинная ночная смена без питания. Кроме того, они элементарно голодали еще по одной причине: не у всех хватает сил прервать сон и сходить на обед. У моих же матросов был очень приличный дополнительный паек, такой, что некоторые даже камбуз посещали «через раз». Поэтому я приказал мичману Шабанину, старшине второго городка, половину всего доппайка отдать ночной смене и организовать ночью горячее чаепитие прямо на объекте.
К вечеру второго дня Шабанин прибыл с докладом, что наши и «чужие» матросы стоят друг против друга стенкой, и после ужина никто не идет на работу.
Шабанин сидит со мной рядом в кабине «моего» ГАЗ-63. За четверть часа дороги он успевает рассказать мне, что с нападками на чужих матросов выступил наш матрос Холодов.
– Чё, приехали объедать нас? В гробу я видел вашу помощь! – выступил Холодов.
К Холодову я присматриваюсь уже давно. Он питерский, «приблатненный». Смазливая мордочка, «ботает по фене», презрительно и высокомерно покрикивает на нормальных матросов. Под уголовника скорее всего «косит»: наши Штирлицы не пропустили бы на секретный полигон бывшего зека. Как он попал в группу – неизвестно; через мой фильтр он не проходил.
Заходим в палатку, дневальный докладывает по форме: «… происшествий не произошло». Конечно, не произошло. Сейчас начнут происходить. Даже воздух в палатке напряжен. Все матросы ожидают моих первых слов. Они всё знают: в группе – ЧП, старшина поехал за командиром. Вот он приехал. Что будет говорить и делать?
Я уже не зеленый новичок. Надо сбить напряжение. Объявляю производственное собрание, прошу всех садиться. Делаю короткий доклад о наших задачах и успехах. Краем глаза замечаю, что Холодов напряжен и обескуражен: я должен был наброситься на него, а не делать доклад о производственных успехах. Особо среди успехов отмечаю ускорение работ у электриков, отмечаю большую помощь матросов, снятых с кораблей, благодарю их от имени командования. Наконец, обращаюсь прямо к ним по вопросу, висящему в воздухе:
– Ребята, от имени всех матросов и старшин нашей группы и от себя лично приношу вам всем глубокие извинения за подлые слова, произнесенные в ваш адрес. В семье – не без урода, простите нас. Все назначенное для ночной смены питание – остается по-прежнему.
Закрываю собрание, отвечаю на несколько вопросов: по инструментам, по бане и планам. Собираюсь уходить вместе с ночной сменой. Холодов в недоумении: с ним никаких разговоров. Наконец уже на выходе обращаюсь непосредственно к нему:
– Собирай все вещи: поедешь со мной. Пять минут на сборы.
– Да никуда я не поеду! – чуть ли не истерикой взвивается Холодов. Я только посмотрел на него и вышел. Не должен я дважды повторять понятные приказания.
– Да ты что?! Очумел?? – слышу, как приводят в чувство Холодова свои матросы. Через несколько минут в кузов моего «газона» загружается Холодов с чемоданом и двумя «сидорами». Я сажусь за руль, рядом садится Шабанин. Мы едем к сооружениям, где начинает работать ночная смена. Ревет небольшая электростанция: внутри сооружений нужен свет и энергия для паяльников. Дел, разговоров и вопросов там набирается на целый час. В кузове без движения – холодно. Мы посещаем еще два участка работ, в основной городок приезжаем около четырех утра. Останавливаюсь возле нашей 40-местной палатки. Сейчас в ней никого нет: все живут поближе к объектам. Задубевшему в кузове Холодову указываю на палатку:
– Здесь будешь жить. Уголь – вот, камбуз – там. Работать не будешь. Отдыхай. Доппаек тебе не нужен.
Шабанин смотрит на меня с недоумением: как это? При нашем дефиците рабочих рук??? Холодов сползает с кузова, снимает свой багаж. Усики его иронично-презрительно подрагивают. Он мысленно говорит мне:
– Что, слабовата гайка, лейтенант? Очень ты меня сильно наказал! Не губа, а курорт: ешь и спи, сколько влезет!
А я ему тоже мысленно отвечаю:
– А мне некуда тебя сажать, жлоба со смазливой, но все равно – деревянной мордой. Да и некогда заниматься тобой. Для меня важнее, чтобы паршивая овца стадо не портила, чем ее наказание.
Через несколько минут из трубы палаточной печки идет дым: мой курортник отогревается. Конечно, на Новой Земле стоит (иногда) небывалая жара, но не такая, чтобы не задубеть в пустой палатке. А когда в палатке находится всего один человек, то очень скоро он начинает понимать, что тепло в палатке и сон – две вещи «несовместные». Только или – или. Или топишь, тогда – тепло, но спать нельзя, или ложишься спать, но не можешь, потому что сразу одолевает колотун.
Режим курорта Холодов выдерживает почти двое суток, затем перехватывает меня:
– Товарищ старший лейтенант! Ребята же работают, я тоже хочу! Может быть…
– Отдыхай, отдыхай! – бросаю ему на ходу.
На следующий вечер он меня ожидает возле палатки:
– Товарищ старший лейтенант! Отправьте меня куда-нибудь! Пацаны вкалывают, а я тут как последняя падла загораю! Не могу я! – Холодов почти в истерике, на глазах слезы. Он говорит, и говорит, клянется, что ему этот доппаек вообще не нужен, что он заботился о ребятах. И опять о том, что надо помочь пацанам, которые из последних сил… И т д., и т. п.
Я долго и молча разглядываю Холодова.
– Хорошо. Пойдешь в бригаду к Заике. Но если я что-нибудь плохое услышу о тебе, – будешь отдыхать до конца экспедиции.
Старшина первой статьи Евгений Максимович Заика – яростный бригадир, железный и деятельный человек, один из тех людей, на которых всегда можно опереться. Он сам и все его матросы ходят только бегом. О Холодове я его уже предупредил. Женя поморщился: работы много, а тут еще с приблатненными бездельниками возиться…
– Женя, если не ты, то кто? – задаю ему философский вопрос, и Женя безропотно принимает на натруженные плечи и этот груз… Через несколько дней интересуюсь, как Холодов? Женя расплывается в улыбке и показывает большой палец:
– Страшное дело, Николай ТроХимович! Он теперь даже меня подгоняет, лезет в любую дырку поперед батька!
Я благодарно даю подзатыльника своей опоре и любимчику Жене Заике. Великий человек был Антон Семенович Макаренко…
Вставка – эпилог. Женя Заика после службы стал прорабом и начальником участка в одной из наших частей. После развала Союза, кажется, уехал на Украину. Холодов всплыл в 1991 году, когда мы собирали всех новоземельцев. Это был больной человек, инвалид. Я не счел возможным назвать его фамилию в сборнике воспоминаний «Частицы отданной жизни». Сейчас он, как и многие другие мои ребята, ушел в иной мир. Перед лицом этого мира не считаю возможным лукавить и что-либо умалчивать…
Именины
В день именин, а может быть – рожденья
Был заяц приглашен к ежу на угощенье.
(Автор сего шедевра написал также два гимна СССР и один (пока) России)Приближалось роковое число 22 июля. Прошлый раз день своего рождения я провел на работе, а ночью поднимал радиомачты на Высоте. Примерно такой же график намечался и на этот раз. Возмутился Лева:
– Сколько можно? Ты уже женатый, старик, тебе исполняется целых 27 лет, а ведешь себя, как выпускник детсадика. Будем гулять! Если что-нибудь найдем, – то и пить будем! – чтобы не быть голословным, он показывает чудом сохраненную бутылку. Мне ничего не остается, как предъявить еще одну бутылку, припрятанную давно в предвидении грядущих эксцессов…
Быстренько составляем сценарий разгула. На ужин в 20 часов не идем, но забираем оттуда «благА» сухим пайком. Лева угрожает добавить к добытому пару банок консервов, от веса которых стол будет ломиться, но не очень сильно. Я в это время должен смотаться на дальнюю точку и привезти Капитоныча, иначе ему не добраться вовремя. Затем – черные (мы) начинают и выигрывают…
Все идет по плану. К 20 часам с трудом отрываюсь от всяких неотложных дел и решений и на своей верховой «лошадке» ГАЗ-63 отправляюсь за майором Петровым, нашим Капитонычем. Демченко где-то в СССР, Байдакова сплавили в Белушку, нас только трое.
На первый, да, собственно, – и на второй взгляд ГАЗ–63 кажется весьма несуразной машиной. Ее ближайший родственник – широко известный ГАЗ–51, – нормальная машина, с динамичной кабиной, приземистым широким кузовом и спаренными колесами на заднем мосту. На ГАЗ–63 стоит ведущий передний мост и четыре одинаковых больших колеса с грубым, почти тракторным, протектором. Из-за редуктора на переднем мосту кабина и кузов задраны высоко вверх, а колеса внизу кажутся наспех приставленными от другой машины и слабо связанными с кабиной и кузовом.
Это чудо техники я получил взамен чрезмерно грохочущей ГТС-ки, и разъезжал на нем самолично: людей было и так мало. Механик строителей мне только заправлял машину, изредка что-то смазывал. Машина имела один крупный недостаток, о котором я был предупрежден: у нее не было тормозов. Вообще-то они были как таковые, но слегка пробуждались от спячки только после десятка энергичных качков. Тем не менее – машину эту я потихоньку полюбил. Во-первых, – она была настоящим вездеходом. Если включить передний мост и демультипликатор (дополнительный редуктор), то не было таких ям, из которых она не смогла бы выбраться. Во-вторых, – она была очень терпеливой и спокойно ожидала меня любое время и в любое время.
К участку, где работал Капитоныч, было километров 7–8. Мне предстояло проехать через неглубокую протоку, отделяющую лагуну от моря, и взобраться метров на 200 на гребень узкого плато, разделяющего залив и море. Со стороны лагуны на плато был просто очень крутой спуск, со стороны моря – скалистый обрыв с птичьими базарами. Неизвестно почему, но на километровом участке каменистого в целом плоскогорья была непроходимая глинистая грязь. Когда земля там оттаяла, то на участок Капитоныча можно было пробраться только на гусеничном тракторе, каждый раз пробивая новую колею. Сейчас «природа» подсохла. Посредине плато грейдер выровнял глинистую дорогу, которую уже колесные машины укатали до гладкого «асфальтового» состояния. Только глубокие шрамы от гусениц С-80 с обеих сторон дороги напоминали о прошлых мучениях.
Дорога знакомая, и я рассчитывал возвратиться минут через 30–40. Немного задержал Капитоныч. Он потребовал у меня 10 минут на переодевание, заявив, что не может праздновать в рабочем день рождения друзей. Кроме того, он послал на объект матроса за мегомметром, который нужен был Леве. Наконец все было готово, и Капитоныч довольно небрежно забросил на полкабины тяжеленный мегер на 2,5 киловольта.
– Взял бы ты его лучше на колени, – посоветовал я. – А то он у Левки перестанет фурыкать.
– Заставим фурыкать как надо, куда он денется, – оптимистично отвечает мне парадный и надушенный Капитоныч. С этими словами трогаемся. Я сразу набираю скорость: Лева заждался.
Выезжаем на гладкую прямую грейдерного участка. Здесь скорость можно еще прибавить. Внезапно замечаю, что глинистый асфальт стал глянцевым: это проскочившая тучка пролилась снегом и дождем. Почему произошли дальнейшие события, – я не совсем хорошо понимаю и сейчас. Я не тормозил: уже привык, что тормозов у меня нет. Наверное – я слишком резко сбросил газ. Машину завертело, она вылетела с полотна дороги и начала прыгать на засохших тракторных колеях. Нас с Капитонычем беспощадно колотило в кабине от потолка до сидений. Руль и рукоятка передач у меня вырвались из рук. Хуже всего было то, что газ почему-то заклинило, и он не убавлялся, ноги потеряли педали, и машина прыжками упрямо продвигалась к близкому обрыву. Каким-то чудом мне удалось ухватить руль и отвернуть машину от обрыва. Мы пересекли еще раз уже пройденные канавы, затем – дорогу, и по канавам другой стороны начали пробираться к противоположному обрыву. Какой-то орган управления мне все же удалось задействовать, потому что машина заглохла и остановилась.
Несколько минут мы с Капитонычем просто сидели, ничего не говоря и не двигаясь. Первые незабываемые слова с укоризной произнес Капитоныч:
– А ты хотел, чтобы я эту заразу взял на колени, – и пнул ногой мегер.
…После принятия третьей, начали разбор полетов.
– Вот вытащили бы ваши молодые красивые трупы, – говорит Лева, – и все сразу бы стало понятно: день рождения, нарезались, катались с ветерком, водитель не справился с управлением в свой день рождения…
Именинник же высказал робкую надежду:
– Может быть, нас бы разрезали… И увидели бы, что мы были не пьяными, а голодными…
Доставленный мегер у Левы работал безукоризненно.
Вскоре и Капитоныч нас покидает, переходит в постоянную группу к Шапорину. Капитонычу, майору Петрову, все равно где быть: жена от него ушла. Увы, он все чаще прикладывается к бутылке. Мне жаль хорошего человека, но что я могу для него сделать?
Хватит отдыхать!
Очень быстро!
Быстро, как только можно!!
Еще быстрее!!!
(Указания)Уже почти три месяца мы штурмуем свои работы на полигоне в две смены по 16–20 часов. И хотя народ уже устал до предела, начинает вырисовываться некий проблеск в конце туннеля – невыполненных работ остается все меньше. Мы уже вернули на корабли почти всех матросов, оставив только нескольких человек. Я даже планирую объявить всеобщий выходной после еженедельной бани: ребята должны хотя бы один раз отоспаться за эти три месяца. Если будем работать прежними темпами, то в начале августа мы должны все кончить и убраться из полигона. Надежды прибавляют сил.
Меня вызывает Циглер. Он не любит вылезать из штабной палатки, источник разногласий Байдаков – отсутствует, все вопросы я решаю со строительными офицерами, так что видимся мы с Циглером теперь редко.
Прихожу в штабную палатку, здороваюсь «по-граждански»: не люблю я этого Циглера за его мелочную вздорность. Месть Циглера следует немедленно и превосходит все мыслимые пределы: с дьявольской улыбочкой он выдает мне радиограмму, где нашей группе предписывается выполнить монтаж еще одного большого бронеказемата. Металлоконструкции из Мурманска разгружены в Белушьей. На днях баржой они будут доставлены к нам в зону А.
С горечью я выдаю нечто многоэтажное, вчитываясь в радиограмму. Циглер безумно рад, потирает холеные руки. Сообщает мне, что строители все работы оканчивают и уходят: через две недели за ними придет корабль. А мне работ еще на целый месяц. Я должен заранее позаботиться о своем камбузе и продуктах для остающейся группы: он, Циглер, не может оставлять здесь свою службу материально-технического обеспечения. И машину ГАЗ–63 надо сдать. Придется мне также остаться без связи, потому что радиостанцию он, Циглер, также забирает с собой…
С трудом перевариваю поток плохих известий, пытаюсь ухватиться за соломинку:
– А если я смонтирую БКУ, то кто будет выполнять земляные работы, делать отмостку?
Циглер явно готов к этому вопросу: он извлекает еще одно распоряжение: монтаж металлоконструкций нового БКУ выполнить без обваловки и без внутреннего монтажа. В сооружении сохранить все оставшиеся после монтажа кабели.
Обращаю внимание на дату: она полумесячной давности. Возмущаюсь: почему я ничего не знал об этой бумаге?
– Она же не тебе написана, а мне! – выпендривается Циглер.
– Так, может быть, – вы и выполните ее вместо меня?
– А вот здесь, – Циглер указывает на радиограмму, – написано, чтобы ты делал!
Спорить с Циглером, что решетом воду носить. Конечно, все придется делать мне.
Убитый свалившимися известиями, – ухожу. Прощай, мечта о скором отъезде, о долгожданной встрече с любимой женой. Хорошо хоть то, что не надо делать внутренний монтаж: именно он пожирает время. А собственно, какая разница? Вот мы все выполним. Кто будет торопиться с нашей эвакуацией? Мы можем сидеть здесь до самых испытаний: разве «науке» не пригодятся умелые технические ребята? А перебросить людей из одной фирмы в другую – для больших начальников – пара пустяков… А еще есть опасность застрять у Шапорина…
Надо прорываться. Если бы мне дали металлоконструкции сейчас, я мог бы успеть, работая по 25 часов в сутки. Но ребята устали за три месяца бесконечного штурма. Без выходных, без отдыха. Конечно, можно приказать… А сколько же можно приказывать?
Сейчас все сроки упираются в транспорт из Белушьей. Можно начать что-то делать только после прибытия этих железяк. Уже сейчас можно было бы освободить часть людей и начинать работать!
Через сутки у нашего небольшого пирса швартуется баржа с нашим железом, пробуждая все надежды!
Тяжелые коробки предстоит установить всего километра за два от пирса. Я набрасываюсь на знакомые пятитонные кубики на ржавой барже, как на желанное лакомство. Через сутки работы они все уже на месте. Мало того: они стоят в нужном порядке вокруг будущего сооружения.
Баржу из Белушьей притащил гидрографический кораблик ВМФ. Его командир, молодой капитан-лейтенант, с интересом наблюдает за нашей работой. Приглашает нас с Левой к себе на чашку чая. Жалуется, что перестал работать локатор, надеясь, что уж монтажники-то с ним запросто разберутся. Мы с уважением осматриваем первый раз в жизни неведомую технику… Бывают же в жизни чудеса: кто-то из нас замечает плохой контакт провода питания. Припаиваем его, и локатор начинает работать, как новенький! После этого о чае и речи не может быть: капитан-лейтенант добывает нечто покрепче. Знакомимся: он Филиппов Сергей, из семьи знаменитых днепропетровских металлургов. Я вспоминаю имя-отчество одного металлурга Филиппова и его работы по дамасской стали, известные мне из курса металловедения в КПИ. Сергей просто потрясен: это его родной дядя! На краю земли встретить человека, знающего по имени-отчеству и работам твоего близкого родственника!
Расстаемся мы лучшими друзьями. Сергей говорит, что его корабль теперь для нас – как дом родной…
На строевом собрании личного состава группы «подбиваю итоги», благодарю особо отличившихся, подчеркивая, что в группе все поголовно являются отличниками. Затем, без всяких недомолвок, обрисовываю наше положение в связи с новыми задачами. На суд «матросской общественности» выносится решение извечного вопроса: «быть или не быть?». Нормально работать в течение месяца после ухода строителей или выложиться так, чтобы за остающиеся 10 дней выполнить месячную работу.
Группа однозначно, единодушно и с энтузиазмом, голосует за десятидневный штурм. Я получаю карт-бланш. Предупреждаю всех, что мы можем выполнить свои решения, если время будем считать не часами, а минутами: тогда его будет в 60 раз больше.
Распределяю людей по-новому. Надо так рассчитать нагрузку, чтобы все работы окончить одновременно. Если для сдачи объекта остается работ на 5 дней, безжалостно снимаю оттуда часть людей, чтобы они уложились только в 10 дней. Всех освобождающихся – на монтаж БКУ, там работы столько, что всем найдется дело. Продолжительность рабочего дня больше не регламентируется двенадцатью часами: все работают, сколько могут, пока не свалятся.
Мы чуть не «спотыкаемся» на главном объекте, из-за которого и начался этот спурт в конце забега.
Новый бронеказемат собирается по-новому: мои предложения ВМП 407 наконец воплотил в чертежи. При стыковке секций сварные швы снизу не нужны. Эти швы стали тяжелым испытанием для моей группы в 1956 году, когда, чтобы прекратить поступление воды в заглубленный БК, нам пришлось в тесных задымленных казематах проваривать все швы изнутри. Памятуя об этом, в следующем году я уже наклонял все сооружение, приподнимая для сварки поочередно одну и другую сторону. Операция эта тоже непростая и опасная: сварщикам приходилось работать под нависшей многотонной громадой, удерживаемой тросами, прикрепленными к тракторам с работающими двигателями. Сейчас все эти цирковые фокусы стали не нужны.
На забетонированной площадке строители укладывают сплошной настил из деревянных брусьев. На настиле мы свариваем из стальных листов толщиной 10 мм полотнище размером примерно 4 на 30 метров. Это полотнище массой около 10 тонн и есть днище БКУ: мы собираем на нем все секции БКУ, затем просто привариваем их к полотнищу наружным сплошным швом.
Казалось бы, что все очень просто и хорошо. Оказалось, что дьявол тоже не дремал…
Полотнище собрано, прихвачено где надо; частично уже заварено. Работы остается двум сварщикам часа на три. В 6:30 утра к пирсу на уходящий катер будет проезжать офицер Технадзора заказчика. Он должен принять днище (это так называемые скрытые работы, по которым составляется специальный акт) и дать «добро» на монтаж всего сооружения. Если мы не успеем к 6 часам, то у нас выпадают целых 3 дня, пока этот «надзор» не возвратится.
Убедившись, что остающиеся два сварщика сделают к сроку все как надо, я забираю остальных ребят и уезжаю в базовый городок. Время – около часа ночи. Надо немного отдохнуть, потому что ровно в 7 мы начнем монтаж БКУ, после чего об отдыхе надо будет забыть надолго…
Машину ставлю прямо возле двери, захожу в наш балОк. Лева спит. Снимаю куртку, сапоги. Ложусь. Уснуть не могу: мысленно «проигрываю» утренний монтаж. Все должно получиться. Тракторист – конечно, не Зырянов, но неплохой. Мои ребята, да и я сам – уже опытные монтажники. Все предусмотрено, все есть… Я потихоньку уже начал погружаться в дремоту, когда сильный стук в дверь срывает меня с ложа. Возле двери еле переводят дух оба моих матроса, с которыми мы недавно расстались.
– Пожар! – выдыхают одновременно. Горят брусья под настилом! Ничего не можем сделать!
– Снимайте огнетушители со всех палаток! – отдаю я команду, одновременно одеваясь. Машина заводится сразу, последние красные цилиндры огнетушителей ребята забрасывают в кузов уже на ходу. Пять километров, которые пробежали мои ребята в тяжелых сварочных робах и обуви, мы пронеслись за считанные минуты.
Картина открылась не столько страшная, сколько непонятная: что же с ней делать? На уже сваренном стальном полотнище посредине краснело довольно обширное пятно. Дым валил по периметру настила. Разряжать огнетушители на центр пожара – глубоко бесполезно: стальное полотнище надежно перекрывало доступ спасительной пене, оно само от огнетушителей только немного и ненадолго охладится. Поливать по периметру – вообще бессмысленно. Снятые с кузова несколько огнетушителей – бесполезны. Думать надо быстро.
– Заводи САК!
Пока ребята выполняют команду, перегоняю ГАЗ-63 в подходящий коридор между секциями БКУ, строем окружившими настил. Кусок арматурины сгибается пополам и приваривается на край настила, туда заводится конец троса с лебедки, закрепленной на носу моего авто. Лебедка не работает, вся надежда на колеса. Включаю передний мост и демультипликатор. Машинка! Ты меня недавно не захотела совсем убить, не подведи и теперь!
Пячусь задним ходом, очень плавно, чтобы не оборвать трос или петлю. Трос натягивается. Огромное и тяжелое полотнище трогается с места и соскальзывает с горящего пятна. Освобожденное пламя взвивается вверх, но ребята уже без всяких команд разряжают туда по очереди все огнетушители.
Основной очаг уже потушен, но сбоку начинают разгораться маленькие очажки, хиревшие раньше из-за недостатка воздуха. Тушить у нас больше нечем: мы израсходовали весь противопожарный запас палаточного городка. Метров через сто каменной «терки» есть маленькое озеро, но чем оттуда доставить воду?
А вот же наша тара! Один огнетушитель не сработал, и пришлось с него свинчивать крышку, чтобы добыть содержимое. Быстро свинчиваем крышки с остальных и бросаем их в кузов.
Путь к озеру и обратно выглядит как скачки по камешкам. Добытой водой тушим пожар окончательно и бесповоротно. Привариваем петлю с другой стороны настила. Верной «машинкой» я восстанавливаю прежнее положение настила. Остатками воды смываем пену с металла: теперь только Шерлок Холмс сможет обнаружить следы пожара.
До проезда нашего контролера еще остается минут 30. Приседаем, закуриваем.
– А почему вы бежали вдвоем? – спрашиваю ребят.
– Мы боялись, что один кто-то не сможет добежать. Тогда добежал бы второй!
С тех пор прошло почти полвека, и память не сохранила фамилии этих ребят. Но на их месте мог быть любой из той группы…
Дальше все идет по плану. В 6:30 технадзор принимает площадку и дает добро на продолжение работы. Ровно в 7 часов приезжает на тракторе свежая группа, и я начинаю с ней монтаж. Установка, подгонка, выверка, прихватка секции. На секцию набрасываются сварщики со всех возможных сторон. Следующая: установка, подгонка…
Освобождаются на других объектах сварочные агрегаты и люди – все сюда: сварки у нас сотни метров, все швы – крупнокалиберные и водонепроницаемые. Рев сварочных агрегатов и трактора перекрывают голоса, но они и не особенно нужны: каждый знает свой маневр. Смешиваются дни и ночи, хотя поздно ночью солнце уже скрывается за горизонтом. Погода, к счастью, благоприятствует. Сварщиков на отдых просто выгоняю: им достается больше всех. Стоять или лежать часами в неудобном положении, совершая точные движения электродом, чтобы шов оставался плотным, – очень тяжелое дело.
На мою верховую машину садится кто-то из матросов, и она мечется по объектам. Сюда свозим все неустановленные кабели, в мотках и тяжелых барабанах, которые мы закатываем в готовые отсеки бронеказемата.
Дня за 3–4 до назначенного дня «Ч» становится понятным, что мы укладываемся в сроки. Я передаю окончание монтажа БКУ бригадирам и начинаю заниматься подготовкой к отбытию группы: готовить документацию, сворачивать свое хозяйство, разбросанное по огромному пространству полигона…
Уходим, уходим…
Die erste Kolonne marschiert nach rechts,
die zweite Kolonne marschiert nach links…
(Так это происходит у них)Основные массы строителей уже покинули полигон. Остались всего несколько человек, штаб с Циглером и моя группа, доделывающая последние работы.
Поручаю Шабанину заранее выписать продовольственный аттестат на всю группу, чтобы освободить время для сборов. Шабанин возвращается не солоно хлебавши. Оказывается, что после нашего ухода в зоне остается отделение КЭЧ заказчика – отделение матросов во главе с мичманом. Так вот мичман заупрямился: аттестат выпишу только после разборки, упаковки и сдачи на склад нашей палатки. Конечно, 40-местная утепленная палатка – серьезное сооружение, и мичмана, не привыкшего особенно работать, где-то можно понять. Я же не могу демонтировать палатку до последнего часа: народу где-то надо отдыхать и просто «пребывать»!
Нельзя также заранее подписать у того же Циглера форму 2 – финансовый документ о выполненных работах: они ведь еще не совсем окончены… Нельзя свернуть и подготовить к отправке сварочные агрегаты, кабели, инструмент, – пока продолжаются работы. Те же проблемы со спецодеждой, расчетами офицеров за питание и т. д., и т. п. Это значит, что мне надо знать точное время отправления группы хотя бы за сутки.
Оканчиваем все работы по БКУ. Все кабели затащены внутрь, бронедвери, для защиты от некоторых разновидностей белых медведей, намертво заварены; наружные сварные швы, чтобы не ржавели, – покрыты битумной мастикой. Быстро начинаем убирать все большое хозяйство.
Меня вызывают в радиорубку. На проводе развеселый Сергей Семенович Демченко, общаемся с ним по радиотелефону. Шипенье и помехи – отменные. Орем так, что можно слышать в СССР без телефона.
– Кто на проводе? Коля, привет! Как дела? Скоро к вам приеду!
– Здравствуйте, Сергей Семенович! Дела идут! Дела идут, говорю! Приезжайте! Только мы уже можем уехать!
– Как это, как это??? Почему уедете??? Не понял, не понял, повтори!
– Все сделали, Сергей Семенович, все выполнили! Сворачиваю группу, убываем!
Трубка озадаченно шипит без слов. Я даже не узнал, откуда звонил Демченко…
Как будто что-то плавающее уже подошло к пирсу. Туда не сбегаешь: около семи километров, а машину я уже сдал. А связь вся только у Циглера. Иду к нему с одним вопросом:
– Когда? Когда точно?
– И что ты мечешься? Ты видишь, что я еще в теплых штанах? – действительно, полковник красуется в тяжелых штанах с искусственным мехом, знакомым нам только по 1956 году.
Больше от Циглера ничего не добиться. Я приставляю к нему своего «шпиона» и продолжаю заниматься подготовкой группы. Прибегает шпион с потрясающим известием:
– Циглер уехал!!!
Заглядываю в штабную палатку – никого! Разбросанные обрывки бумаг и канцелярского мусора указывают на торопливость отбытия. Выскакиваю как ошпаренный. Осматриваю другие палатки и окрестности.
Циглер уехал на пирс, забрав весь последний транспорт!!! Мы можем остаться здесь, несмотря на все усилия!!!
– Рубить палатку! – это команда Щербаку.
– За аттестатом! – это Шабанину.
На разборку палатки наваливаются все матросы. Через 10 минут все разобрано, упаковано и перетащено на склад КЭЧ. Матросы и мичмана выстраиваются, обвешанные чемоданами и сидорами… У нас с Левой в руках тоже по два чемодана: были не на пикнике, и не в Африке! Мои приказы сразу для всего строя:
– Всем двигаться к пирсу как можно быстрее! Любой транспорт захватывать силой и разворачивать туда. На пирсе корабль удерживать любыми средствами, пока не сядет последний человек из нашей группы. Все понятно? Вперед!
До пирса – около семи километров. Это для нагруженных матросов – больше часа движения. Надежда – на самых быстрых и на чудо.
Через полкилометра пути группа расслаивается: вперед вырывается около 20 человек, основная масса движется на расстоянии метров 50 за ними. Замыкает шествие человек 6, среди которых пожилой старшина Щербак и мы с Левой. С горушки наблюдаем картину, вселяющую надежду: навстречу, со стороны пирса движется неведомо откуда взявшийся самосвал. Матросы берутся за руки и перекрывают дорогу самосвалу. Он останавливается. Вот водителя силой вытаскивают из кабины, кто-то из матросов садится за руль. Самосвал разворачивается в обратную сторону. Кузов заполняют чемоданы и вещмешки, самосвал как рой пчел облепляют люди в черных шинелях, – все поместиться не могут, забрасывают в кузов вещи и продолжают двигаться дальше уже налегке. Самосвал уносится к пирсу: теперь нашему пароходу не дадут отбыть без нас!
Раз начавшись, чудеса уже не могут остановиться: сзади слышатся звуки еще одного автомобиля. Это большая рыжая водовозка, на нашем жаргоне – «канистра». «Канистра» передвигается какими-то непонятными рывками, но все же догоняет нас. Оказывается, что это мичман КЭЧ на досуге выехал, чтобы поучиться водить машину. Уговариваю его учиться в нужном нам направлении. Мы с Левой садимся на цистерну верхом, держа в каждой руке по чемодану, Щербака размещаем в кабине. Подбираем еще не поместившихся в первый самосвал матросов.
Вскоре наш самоходный ковчег спускается к кораблям в бухте. К пирсу пришвартована баржа, за ней гидрографическое суденышко нашего друга Сережи Филиппова, и только за ним стоит предмет наших вожделений – «большой охотник», на котором мы должны уйти.
Отдаю свои чемоданы, чтобы пропустить всех ребят и подняться на палубу последним. Однако на пирс спускается хорошо знакомый новый «Штирлиц» – дружественный монтажникам и лично мне, – капитан второго ранга Александр Котляр.
– Коля, вот тебе письмо от Шапорина. По распоряжению вашего командира части, ты должен людей по этому списку передать Шапорину в Башмачную. Туда сейчас идет капитан-лейтенант Филиппов, он их и заберет!
Я в изнеможении подпираю холодный борт баржи. Надо отдать ребят, которые проводили со мной последний штурм и надеялись на скорое избавление. С другой стороны – они назначены в шапоринскую группу и для них служба не кончается. Могу только написать рапорт Шапиро, чтобы им дали поощрительный отпуск. И все же, и все же. Хватаюсь за соломинку:
– Саша, я не могу этого сделать: полчаса назад я выписал продаттестат один на всю группу!
Котляр слегка ошарашен:
– Как, разве тебе Циглер не сказал о Башмачной? Он же об этом знал! Что же теперь делать?
– Вот давай и спросим у этого Циглера: должен он хоть за что-нибудь отвечать?!
Вступаем на палубу «охотника» отдаем честь флагу. На палубе стоит Циглер, заложив руку за борт куртки, как, бывало, делал Наполеон. Брюки на нем уже нормальные, но куртку спецпошива с полковничьими погонами сменить он не торопился
– Монтажники, как всегда, опаздывают, – кривит он свои усики Чарли Чаплина. Мне в голову ударяет с полной силой не только моча, но и все остальное.
– А вы уже успели спасти свои яйца от перегрева в теплых штанах? О людях вы уже забыли? Вы, Циглер, не командир, и не офицер, вы – мудак соленый, **** моржовый! Таких, как вы, в восемнадцатом году я десятками ставил к стенке и из рогатки убивал! Спасаете свою шкуру и свои удобства? На людей вы болт кладете? Вот я сейчас отправлю матросов в Башмачную, и пусть они кормятся там за ваш счет, чтобы некоторые жлобы с деревянной мордой могли понять, что значит забота о людях! – я причащаю Циглера в полный голос и по полной программе, не скатываясь, впрочем, до панибратства и обращаясь только на «вы». Циглер остается стоять с открытым ртом и выпученными глазами, только лицо меняет цвета с красного на еще более красный.
Котляр оттягивает меня назад:
– Коля, успокойся, уймись, – решим мы этот вопрос!
На всю эту сцену с круглыми глазами смотрят матросы и офицеры БО, а также Сережа Филиппов: он никогда в жизни не видел такого общения старшего лейтенанта с полковником.
Лева с Котляром все-таки оттаскивают меня от Циглера. Мы быстро решаем вопрос с аттестатами: не уехавший еще мичман КЭУ переписывает аттестат на двух бланках. Капитан-лейтенант Филиппов дает мне торжественное обещание, что мои ребята на его корабле будут кататься как сыр в масле. Я виновато прощаюсь с остающимися на гидрографе матросами. Остальные тоже уходят недалеко: всего лишь в Белушью. Но там хоть нормальная жизнь, а не монтажная палатка… Умом мои дорогие ребята все понимают. И все же, и все же…
Через полчаса выходим в море. Моих оставшихся матросов размещают в кубриках, мы с Левой сидим в кают-компании. Хочется осмотреть нашу Землю с моря, но большой охотник развивает такую скорость, что на палубе стает холодно…
Циглер придумал месть. Вдвоем со своим штабным писарем распаковали пишущую машинку и издали приказ, где всем, кроме меня, объявлена его, Циглера, благодарность. Заботливо распечатанные для каждого копии приказа были почти торжественно вручены всем – всем, кроме меня. Как-нибудь переживу. В гробу я видел такие благодарности, от таких тупорылых фюреров… Он еще надеется меня ущучить, когда я приду в Белушьей подписывать командировку и форму 2. На мои опасения Котляр говорит:
– Нужно тебе это г…о? Пойдешь к Букину, он сейчас в сидит в Белушьей, и все сделает.
Капитан 2 ранга Михаил Михайлович Букин, не только «наука», но «ио» начштаба полигона. Он нас всех знает как облупленных и с удовольствием ставит свою большую печать на наши командировки, по которым мы здесь же получаем «вторые» деньги. На форму 2 печать ставят также в штабе строителей. При упоминании фамилии Циглера – морщатся. Видно, этой птице цену знают везде.
Полет вдоль и поперек ворот
Вред или польза действия обусловливаются совокупностью обстоятельств.
(К. П. № 2)В Белушьей все происходит на удивление быстро. Все, кто ставит печати, выдает деньги и дает разрешение на вылет, – сидят на месте и выполняют наши просьбы без промедления. Все, кто может поставить палку в колесницу нашего движения – блистательно отсутствуют. Нет Френкеля, Шапорина, Демченко. Да мы и не ищем встреч с ними на свою голову: всегда у них найдется кое-что для нашей перезагрузки. Нейтрализован теплолюбивый Циглер.
И вот все бумаги получены, все печати на них крепко стоят на нужных местах. Мы свободны как мухи! Немедленно устремляемся в Главные Воздушные Ворота Новой Земли – Рогачево, расположенное в десятке километров от Белушьей.
Здесь нас ожидает полный отлуп. В диспетчерской сообщают, что уже давно «нет погоды», что в Амдерме сидят и не могут прилететь сюда целых восемнадцать бортов. Это у них такое слово «борт». Они так уменьшительно называют не обломок самолета, а целый самолет. Наверное, – чтобы не говорить «самолетик».
Но все равно: ни бортов, ни самолетов, ни самолетиков – нет. А вот погода, на наш взгляд, – есть, хотя и не очень хорошая. Слава Богу, есть еще и офицерская гостиница, где нас принимают. Находим там еще одного страдальца из нашего УМР – Короткова. Слава здесь успешно загорает и безуспешно пытается улететь уже больше недели. Кутим простыми чаями: больше здесь ничего нет. На Земле действует жесткий сухой закон, который довольно успешно смягчается обильными антиобледенительными мероприятиями авиации и тщательным промыванием оптики в науке и на флоте. Но мы – отрезанные (или – оторванные) ломти (или – локти), и пробавляемся только чайком. Самое непривычное занятие для нас – убивать время. Убивать то драгоценное время, которого нам еще несколько дней назад так не хватало.
Спим часов до пяти утра. Больше не можем. Завтракать еще рано, все закрыто. Все нормальные – спят. В том числе – Слава Коротков. Решаем с Левой идти на озеро. Выходим. Туман. Конечно, лететь невозможно в этой белой мути. Надо для очистки совести все же зайти в диспетчерскую. На наш молчаливый вопрос дежурный капитан так же молча разводит руками. Мы понуро возобновляем движение к озеру.
Внезапно некое дребезжание воздуха заставляет меня остановиться. Пока препираемся с Левой, чтобы это могло быть, уже явственно различаем звук самолета. Бросаемся в гостиницу, хватаем чемоданы и еще не совсем проснувшегося Короткова и несемся к ВПП. Именно взлетно-посадочная полоса и составляла тогда аэропорт. Из тумана, ведомый неизвестно какими приборами, выныривает Ил 14. Самолет не глушит двигатели, к нему подъезжает машина, что-то сгружает. Мы по полю, с чемоданами, несемся к самолету.
– Ребята!!! В СССР??? Возьмете???
Один из летчиков машет рукой к еще открытой двери самолета:
– Давай быстрей! Взлетаем!
Самолет немного покатался по полосе, развернулся, взревели моторы, короткий пробег «по кочкам». Мы в воздухе и куда-то даже летим. Сидим на откидных алюминиевых стульчаках, расположенных вдоль бортов. Выходит один из летчиков, спрашивает как на такси: куда нам надо?
– Да куда угодно, – вопит Слава Коротков. – Лишь бы в СССР!
– Летим в Пушкин. Это под Ленинградом, – докладывает нам летчик. Тут уже радостно кричим все трое и пожимаем летчику обе руки. Мы питерские, нам туда и надо!!!
Летчик сообщает, что будет посадка с дозаправкой в Архангельске. Ребята, да как вам будет удобно, лишь бы лететь! Летчик смеется и подвигает к нам брезентовые «одеяла», называемые чехлами:
– Это будете накрываться: холодно!
Какой там холод! Нам еще жарко от недавних пробежек и нежданно привалившего счастья! Летим! Через короткое время начинаем понимать, что дрожит не только фюзеляж самолета, но и мы сами. Это военный грузовой самолет, нас окружает со всех сторон голый металл. Внедряемся в спасительный брезент: до Архангельска еще лететь и лететь. Самолет слегка болтает по вертикали: вверх – вниз. Летим, кстати, почти в сплошной облачности. При редких окошках в облаках внизу можно увидеть темно-синее море и ярко-белые льдины. Это пролив Карские ворота. А может быть, пролив Югорский шар. А может быть, и просто море: и корабли и самолеты здесь плавают и летают по неведомым маршрутам, обходя прямоугольники запретных зон.
Внезапно к привычному реву наших двигателей примешивается другой, непонятный, звук. Очередная воздушная яма продолжается что-то слишком долго. Мы падаем? Садимся? Почему? До Архангельска еще пилить и пилить.
Самолет вываливается из туч. Совсем близко земля. К счастью, это бетонная ВПП, а не море или скалисто-болотистое бездорожье. Плюхаемся на спасительную полосу. На соседнюю полосу с ревом садится реактивный МИГ с закругленным носом.
Летчики через наш «салон» по лестнице покидают самолет. За ними и мы выползаем на свет божий из своих брезентовых коконов. Где мы? Оказывается, мы сели в Амдерме, где «загорают» остальные самолеты, не сумевшие прорваться в Рогачево. У нас отказал СРО – самолетный радиоопознаватель. На запрос наземного радара этот прибор должен выдать секретный импульс «свой», дескать, я. А наш – молчал, как партизан на допросе. Виновата была такая же круглая фишка разъема питания, как те, которые и нам отравляли жизнь. Летчики шевелят, постукивают проклятый разъем: все начинает работать. Самолет взлетает без нас, но с нашими чемоданами. Все в порядке, все работает. Узнав, что наш самолет летит в Ленинград, летчик МИГа сажает к нам свою жену, которой туда очень надо. Однако взлететь мы не можем: теперь разрешение надо получать через Москву, что занимает около пяти часов. За это время скучающий летчик МИГа нам все подробно рассказал. После чего мы задрожали, к счастью, – задним числом: мы должны были в это время уже кормить рыб в проливе Карские ворота. Воистину: не утонет тот, кому суждено окончить дни на виселице!
Однако, пролетели…
Наша посадка имела, оказывается, большую предысторию. За неделю до этого дня по всем Северам, над всеми нашими секретными объектами и полигонами, над всеми запрещенными на картах квадратами, – пролетел американский самолет-разведчик. Его, конечно надо было сбить или посадить. Но взять на себя ответственность кто-то не смог, кто-то побоялся. Пока шли запросы и доклады, дошедшие до самых верхов, пока прогревали двигатели истребители, – американец ушел, успев все сфотографировать и обнажить заодно импотенцию нашей ПВО. Скандал был огромный, с неприятными оргвыводами для многих начальников.
Известно, как у нас возрастают противопожарные мероприятия после большого пожара. Так вот эти мероприятия из Архангельска проводил сам начальник ПВО СССР (официально его называют не так). Требование вырисовалось для всей ПВО предельно простое: в небе надо сбивать все не наше – в любое время, на любой высоте.
Летчики нашего Ила везли в Белушью очень важный груз, чуть ли не половинку Главного Изделия. Отсидка в Амдерме срывала очень многое, и командиру нашего Ила, опытному летчику, одному разрешили этот рейс в Рогачево.
Поэтому, когда одинокий самолет в тучах, так гостеприимно принявший нас в свое чрево, не смог откликнуться на запрос радара ПВО, участь самолета и наша была решена почти автоматически: нарушителя сбить. Для этого в воздух был поднят перехватчик. В сплошной облачности наземные радары подвели его к нашему самолету, он захватил нас в бортовой радар и готов был влепить в нарушителя очередь из главной пушки. Бог есть: в это время в сплошных облаках случился разрыв, летчик истребителя увидел Ил со звездами, и, вопреки заданию, самостоятельно принял решение посадить нас в Амдерме.
Надо ли говорить, как тепло мы благодарили своего спасителя, как бережно и предупредительно доставили его половину в Пушкин, а затем в Ленинград…
Когда Шапиро меня увидел в части, его едва не хватила кондрашка:
– Как ты здесь оказался? Что случилось? Почему ты не на объекте? – он буквально задыхался от возмущения.
– Окончил работы, товарищ командир, и прибыл для дальнейшего прохождения службы!
– Как это ты окончил? А дополнительные БКУ???
– И их установил, товарищ командир.
– А форма два где?
– Да вот она, Александр Михайлович! – я открываю чемоданчик и достаю оттуда пачку листов, густо усеянную печатями. Шапиро смотрит на итоговую сумму, и его глаза стают круглыми: моя группа за это время выполнила работ почти столько же, сколько вся часть…
Глаза Шапиро возвращаются к нормальным очертаниям и даже слегка умасливаются:
– Ну, ты даешь! Заходи, доложишь подробно, чтобы Дмитрий Николаевич слышал!
Ловлю момент и жалобно намекаю:
– В отпуск хочется, Александр Михайлович!
– Небось, думаешь, что Эммочка ждет не дождется? Там у нее, кажется, кто-то получше появился… – Шапиро спотыкается, наткнувшись на мой взгляд. – Ладно, давай отчитывайся и уматывай! Ну, как – жильем теперь доволен? Теперь – все, наконец, в порядке?
Я искренне благодарю Шапиро. Действительно, основной вопрос нашей жизни решен: отличная 17-метровая комната в сталинской трехкомнатной квартире – наша. Мечтают о таких хоромах в Питере – больше половины жителей…
Уже на другой день самолетом с пересадкой в Киеве я вылетаю в Винницу…
…Там, где летали самолеты,
Ходить не смели поезда, – напишу эти слова позже.
20. Путешествия по арбузным местам
Охота к перемене мест –
Весьма мучительное свойство,
Немногих – добровольный крест…
Шалаш – теперь наш
Слегка пошатываясь после преодоления всех преград, наконец добираюсь к любимой жене в Брацлав, Там – лепота. Светит солнышко. Вода на реке – еще теплая. Тесть и теща – люди общительные и заботливые. В шесть рук начинают меня откармливать и ставить на ноги.
Эмма в Брацлаве на практике в лесничестве. Чтобы ее проконтролировать, приезжает некий ученый муж, которого родители Эммы тоже катают как сыр в масле. Только я ему порчу жизнь: беспощадно разрушаю его мифы о «планомерной маршировке колонн». Он считает, что у нас расход (вырубка) лесов строго соответствует их приросту, – так и надо по его науке. На живописных примерах я показываю ему, как далеки от жизни эти теоретические построения. Он сначала яростно возражает, потом – задумывается. А после «совместного распития» стает на мои позиции, и мы вместе оплакиваем несовершенство жизни…
Посещаем Деребчин – маму, Винницу, бабушек, дядю Антона, друзей, знакомых; затем отдыхаем от визитов… Все в этой жизни кончается, а особенно быстро – отпуска.
Возвращаемся домой, в Ленинград. Теперь – это действительно наш дом. С восторгом начинаем благоустраивать наше законное жилище. Этаж пятый, лифт пока не работает. Мы теперь живем в одной из шапировских комнат, где мы раньше смотрели телевизор и где обычно возлежала Мура. Комната 17 квадратных метров, с балконом. Окно в двери на балкон является также нашим единственным окном. Дверь в соседнюю комнату наглухо заделана-заклеена: там чужая земля. Наш балкон с тяжелыми бетонными балясинами выходит на восток, где находится улица имени неизвестного никому Якубениса. Впрочем, она вскоре меняет фамилию на «Краснопутиловскую» – совсем рядом Кировский, бывший Путиловский завод. Окрашивание Путилова в красный цвет как-то сближает эпохи и сохраняет преемственность…
Потолки у нас – более трех метров. В старых домах они обычно больше 4-х метров, поэтому наши 3,2 метра кажутся просто нормальными. Мы еще не знаем, что скоро Никита начнет сближать потолки с полом, и наше жилье станет казаться очень высоким и просторным. Еще у нас дубовый паркет в комнате и линолеум в общих местах. Эти места – коридор, кухню, «удобства» и ванную – мы теперь делим с двумя соседями: курящей Розочкой (!!!) и семьей офицера из «пятнашки».
Кочегарка размещается в нашем доме, и, кроме отопления, один раз в неделю она подает нам горячую воду для стирки и отмывания собственных телес.
Начинаем устраиваться капитально и надолго. «Уходя от нас», товарищ Шапиро отрезал и унес все необходимые электрические прибамбасы: розетки, патроны и выключатели. Он к ним привык, и с ними ему было жаль расставаться… Такая же участь могла постигнуть и вентили-краники, но, к сожалению, за ними была вода под давлением, что чревато… Зато теперь я ставлю все эти штучки такие, которые нравятся мне.
Наша мебель находится этажом выше, и мы с восторгом спускаем ее вниз. Главное там – кровать с блестящими шишечками, немецкие стулья и тумбочка. Теперь у нас есть и свой телевизор: его огромный корпус с небольшим окошком экрана еле влезает на тумбочку. По этому случаю «для просмотра» у нас иногда собирается общество из соседей с шестого этажа: Рыжовы и Мосягины. Я долго не хотел покупать телевизор именно из-за этого превращения жилья в красный уголок, избу-читальню. Отговаривался, что жена у меня еще ничего, и с ней не стыдно и в кино сходить. Конечно, какие могут быть телевизоры в чужом жилье? Теперь – другое дело.
Случайно, даже без записи и недорого, Эмма в мебельном магазине на Стачек добывает большой трехстворчатый шкаф с зеркалом. Сначала зеркало нас смущало: зеркальные шкафы тогда были немодными (а сейчас?), потом привыкли и полюбили его за емкость и это самое зеркало: тогда из него на нас глядели еще довольно сносные физиономии. Шлифованная и окрашенная полупрозрачным лаком фанера очень прилично смотрелась издали (если не приглядываться) под красное дерево. (Шкаф работает у нас до сих пор в качестве разных полок).
Осматривая содеянное, чувствуем, что чего-то не хватает. Вычисляем: это часы. Большие, солидные, семейные часы, которые могли бы тикать нескольким последующим поколениям нашего рода. После работы заезжаю в Пассаж, покупаю таковые и с благоговением доставляю их в Жилище. Неприятности начинаются сразу. Широкое основание часов не помещается на телевизор: оно съезжает на стороны из закругленного верха корпуса. Пришлось подкладывать книги и фанеру, что как-то принижало статус прибора вечного времени. Но главную подлость семейные часы приберегли на утро. Выполняя утреннюю зарядку, я поразился, что радио почему-то поменяло программу. Приглядевшись поближе к «золотым» стрелкам и таким же римским цифрам на желтом же фоне, я осознал, что: а) поднялся на целый час раньше; б) для установки часов нужна очень широкая отдельная тумба; в) точное время на наших семейных часах придется определять наощупь. Чудо-хронометр мне согласились поменять на простую тарелку со стрелками, которая молотит до сих пор, правда на даче и слегка модернизированная подсветкой циферблата.
Комната зловредной Розочки, бывшая – наша, закрыта на ключ. В соседнюю, шапировскую, – поселяются Уткины. Он – дубоватый капитан, окончивший ВИТУ и туда же вскоре перешедший из монтажных частей. Она, Муся, – женщина, тяжелые детство и юность которой прошли в многокомнатной коммуналке на Лиговке, ярко выраженная представительница городской черни – темная, вздорная и завистливая. Она сразу же атаковала Эмму: как это нам на двоих дали комнату больше и с балконом, чем им на троих? Эмма, не закаленная коммунальными схватками, тихо переживала, оправдываясь, что комнаты – одинаковые, а различия в площади – только по ордеру. Тогда Уткина схватила метр и померила: комнаты действительно были одинаковы. Предметом зависти оставался (пока) только балкон. Немного успокоило «Мусену» только сообщение, что мы уже жили в этой квартире.
График и качество уборки общей площади я выдерживаю железно. Для натирки полов покупаем полотер, которым я орудую от души. Ванну, ухоженную, в смысле – «ухайдоканную» Шапирами, оттираю до неописуемой белизны, безмолвно приглашая: делай как я. Конечно, уборку Уткины делали не так тщательно, но не делать ее вообще они уже не могли.
В углу кухни примостился люк действующего мусоропровода, который периодически страдал запором от негабаритной пищи. Рядом стояла огневая печка, которую использовали как кухонный столик: дом уже был газифицирован. Стоял всхлипывающий газовый счетчик, который вскоре выбросили: плата за газ взималась подушно. А вот электрический счетчик накручивал показания на всю квартиру. Я сразу отказался ставить второй счетчик, вспоминая мещеряковскую квартиру на Моховой. Там в туалете и на кухне висело по 14 лампочек и столько же разношерстных выключателей и пар проводов, расползающихся к своим счетчикам в каждой комнате, из-за чего длиннющий коридор, забитый рухлядью, закопченная кухня и ободранный туалет выглядели вполне сюрреалистично. Я согласился на любой принцип распределения бремени электричества, какой предложат соседи. Мусена быстренько начала считать наши избыточные мощности, которых не было у нее. Например:
– У вас швейная машинка!
– Но я на ней не шью… – робко подает голос Эмма.
– Это не имеет значения! – жестко обрезает Мусена.
Вычисляется некая разница, на которую мы должны платить больше. Только остальную плату соседи милостиво согласны разделить пополам. Я покорно соглашаюсь быть ограбленным. В первый же месяц наша разница превышает общий счет. Я спрашиваю Уткину, следует ли нам доплачивать ей? Все настолько очевидно, что она сама «пересматривает» тарифы.
Розочка Турова, наша «выкуривательница», несколько раз посещает нас. Теперь мы с ней «по корешам», чуть ли не друзья, раз нет ее злейших врагов – Шапиров (или – Шапир?) Роза рассказывает нам, что они меняют свою комнату и съезжаются с родителями. В бывшую «нашу» комнату поселяется молодая женщина с пятилетним сыном. Она, кажется, генеральская дочка, которая разругалась с родителями и разошлась с мужем. Днем ее нет, малыш где-то в садике. Вечером к ней на ночевку обычно приходит молодой мужик. Через неделю-другую он исчезает, и появляется другой. Дольше всех задерживается невысокий брюнет с усиками и пробором. Именно такой был изображен на вывеске «Голярня» в Деребчине, поэтому этот «товарищ» получает у нас партийную кличку «парикмахер».
Наша 17-метровая комната на двоих в малонаселенной квартире в доме послевоенной постройки (позже их назовут «сталинскими» – в отличие от «хрущоб») является пределом мечтаний для многих трудящихся. Кстати, граждане, которые не были трудящимися в те далекие времена, в городе жить вообще не могли: они получали высокий статус «тунеядца» и «привлекались», либо – высылались на 101 километр, а некоторые – на Соловки. Почему-то бытовало, как видно теперь, – глубоко ошибочное мнение, что все трудоспособные должны работать, а не воровать… Так вот, наше существование в хорошей новой комнате, несколько портили воспоминания о проживании в старой и не нашей комнате, которая находилась напротив.
Мы с тоской вспоминали о двух окнах (одно было в двери на балкон). Окнах, в которых солнце появлялось в 11 часов и пребывало до заката. Окнах, перед которыми был простор огромного двора, и только вдали виднелись дома на проспекте Стачек. И еще – о слышимости. Если в нашей новой комнате от Уткиных нас отделяла перегородка, совершенно прозрачная для звуков, то в старой нас окружало глухое соседство кухни, ванной и капитальной стенки… Даже разместить свою скудную мебель мы затруднялись в нашей новой вытянутой комнате со звучащей стеной. А ведь к нам еще и гости, и родные будут приезжать.
Новой соседке в нашей старой комнате эти все блага кажутся несущественными. Она сразу соглашается поменяться с нами, конечно – с доплатой. Я начинаю вентилировать вопрос обмена и упираюсь «рогом» в глухую стенку. Если бы эти комнаты были в разных квартирах, – пожалуйста, процедура обмена известная и рутинная. А обмен в одной квартире оказался невозможен по формальным соображениям, которые у нас всегда выше здравого смысла. С горькими сожалениями мы затаились, «легли на дно». Пройдет пару лет, пока мы не сообразим, что можно поступить по известному студенческому анекдоту:
– По моему предмету Вы не имеете элементарных понятий. Двойка!
– А что, тройку – нельзя?
– Нет, нельзя!
– Троечку? Никак-никак нельзя???
– Никак-никак нельзя!!!
– А четверку???
В нашем случае можно было бы говорить даже о пятерке, но об этом – позже. Жизнь продолжается: Эмма учится, я служу. По утрам уезжаем вместе в метро. На Владимирской площади пересаживаемся в трамвай № 9. Расстаемся на площадке трамвая возле Финляндского вокзала. Встречаемся вечером, ужинаем в столовой возле метро Автово. В те времена вполне нормально можно было питаться в обычных столовых. Не так часто, но у меня бывают выходные. Тогда мы посещаем Шапиро, они живут недалеко, на улице Строителей. Иногда мы приезжаем к Мещеряковым на Моховую. Там наш единственный на две семьи ребенок – Саня. Он не любит разговаривать и радуется нашему прибытию специфически. Он молча вытаскивает все свои богатства: игрушки, детали магнитофона, из которых папа надеялся еще собрать нечто. Когда мы собирались уходить, Саня в двери воздвигал баррикаду из чемоданчиков и очень переживал, когда его баррикады все же преодолевались…
Иногда мы повышали культурный уровень и ходили в кино – и даже в Эрмитаж. Один раз в культпоходе с Марусеневыми мы элементарно влипли: случайно попали на низкопробный цыганский ансамбль в ДК МВД. Пришлось нам с Васей комментировать цыганские номера, отчего наши жены пришли в буйное веселье. Не выгнали нас только потому, что сидели мы в ложе. Подруги потом сказали, что давно уже так культурно и весело не развлекались…
Будни. Первая ласточка
Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.
(К. П. № 92)Старшему лейтенанту после четырех лет службы – служить еще как медному котелку. Можно, конечно, писать рапорты об увольнении, прорываться на гражданку, как это сделал Иван Маклаков. Но куда? На 880 рублей? Тем более теперь, когда я несу ответственность за свою лучшую половину. Тем более теперь, когда горячо любимое начальство уважило и дало весьма приличное жилье. Теперь, когда, как пишут в характеристиках, «пользуется авторитетом у командования, товарищей и подчиненных»? Работа у меня была адова, опять же – очень тяжела разлука с любимой. Но: а) работать надо везде, а здесь хоть доходы больше; б) именно такая работа – по мне; в) разлука преодолима: дорогая моя жена в своих интервью благоверному (мне) неоднократно заявляет, что стоит ей кончить академию, и мы будем совместно порхать и «монтажировать» на необъятных просторах Родины. А Родина – она большая, кроме арктических сов. секретных островов, на ней есть уйма других дыр с меньшей секретностью. Там живут и женщины, и даже дети. И, если у нас уже есть база, а мой тыл крепок и готов следовать туда за мной, – то полный вперед!
Короче, после обсуждения своего будущего, мы принимаем совместное решение: не трепыхаться, лечь на дно и одновременно – плыть по течению, хотя такого не бывает. Конечно, принятые нами решения очень напоминали решения отважного попугая, воскликнувшего: «Ехать, – так ехать!», когда кошка тащила его за хвост из клетки…
Здоровые люди обычно к своим болячкам относятся как к досадной помехе: авось проморгается. Так же относился и я к возникшим у меня больше года назад болям. Острая боль возникала, часто во сне, где-то там, где у многих людей находится сердце. И врачи, и Эмма мне сразу давали сердечные лекарства. А что еще давать человеку, у которого болит сердце? Но эти капли и таблетки на меня почти не действовали и не вынимали острый нож (или отвертку), которые, казалось мне, были воткнуты прямо в грудь. Кардиограмма показывала некое ухудшение электрических свойств (блокаду) каких-то непонятных деталей. Короче, ничего серьезного. Мало-помалу я нашел свой способ борьбы с этой болью: надо было меньше спать, шевелиться, делать зарядку, копать огород, бегать на лыжах или без таковых. Такой способ лечения был мне весьма любезен…
После общения с Циглером у меня также слегка изменился характер: я стал заводиться с четверти оборота. Первым это заметил Шапиро. На каком-то совещании я так яростно стал возражать оппоненту, что Шапиро с удивлением спросил:
– Ты что на людей бросаешься?
Не знаю, что он говорил нашей медицине (у нас была целая медсанчасть), но в декабре 1958 года меня отправляют в 1 ВМГ (1-й Военно-морской госпиталь). Из этого учреждения я вырывался с боями – в отпуск к невесте – летом 1956 года после закусывания черной икрой. Теперь госпиталь находится через дорогу возле Калинкина моста. Впрочем, госпиталь настолько обширен, специально и капитально построен еще во времена Петра 1, что, наверное, там он и был, а меня терзали в отдельных «холерных» бараках, расположенных тогда по другую сторону проспекта Газа. Здесь – стены метровой толщины окружают огромные палаты, широкие каменные лестницы со ступенями, истертыми поколениями моряков до благородной кривизны.
Когда попадаешь в это богоугодное заведение, то чувствуешь только одно: после суеты оформления и переодевания, – время остановилось. Тебе показывают койку в палате (одну из 20 – 30-ти) и место с номером диеты в столовой. Вот проходит день, другой, иногда – третий. Я за такое время воздвигал целый ПУИ… Затем появляется лечащий врач, и начинается написание бесконечных бумаг. Назначаются анализы всякие, на которые уходит еще больше недели. Я беснуюсь, лезу на стенку:
– Ребята, что вы с такими темпами будете делать, когда начнется атомная бойня, когда пациентов будет больше на несколько порядков?
Мне популярно объясняют, что их будет не так уж много, поскольку изменяется сам медицинский подход. В прежних войнах из поля боя в первую очередь выносили «тяжелых». В условиях атомной войны их трогать вообще не будут: в любом случае они обречены. «Не тратьте, куме, сили: спускайтеся на дно!» – одним словом. Спасать будут только практически здоровых: этих еще можно спасти, если они сами добегут куда надо. Картина вдохновляет: ты пока еще находишься среди спасаемых, если приютили и дают таблетки!
Кстати, дают не только таблетки (Зх3 штуки в день), но и микстуру в мензурках, тоже три раза в день. Остальное время – болтаюсь по госпиталю: все анализы сданы и проанализированы, в смысле – записаны в многочисленные бумаги. Таблетки и микстуру я мог бы принимать и дома, не отходя от кассы. А не болтаться бесцельно, как дикая тигра в зоопарке. И так с женой виделся совсем немного. А ведь скоро, очень скоро, опять пошлют на очередное арбузное место. Там ослабла оборона страны, и надо ее укрепить. Если не ты, то кто? Давай-давай!!!
Эмму сюда не пускают, даже в выходные дни. То ли карантин, то ли высокая секретность. В конце концов, в заглушенных стальных воротах, выходящих на проспект Газа, мы находим дырку (по научному – отверстие) диаметром всего 15 мм. Даже Дубровский с Машей общался (по школьному сочинению – «сношался») через дупло большего размера. Мы видим только один глаз друг у друга вблизи. Чтобы увидеть физиономию целиком, надо отойти, но тогда ничего не слышно. Тем не менее – мы вместе. Великодушно сдаем в аренду наш канал общения еще одной паре несчастных коллег…
На третий вечер наш кайф грубо прерывают. Дежурный по госпиталю, целый старший лейтенант, сморчок с узкими погонами административной службы (и такие были), в пошитой по спецзаказу морской фуражке с огромными полями, подбегает к нам и верещит, как недорезанный. Эмма в испуге отскакивает от коммуникативного отверстия и от страха уже не может приблизиться. Человеческие слова, миролюбивые увещевания на старлея не действуют: он продолжает верещать, весь в административном раже калифа на час. Тогда я подхожу к нему и шепотом, на ушко, использую всю первобытную мощь великого народного русского языка для характеристики его, старшего лейтенанта, личности. Старлей мгновенно затыкается и убегает, придерживая рукой прыгающую на заднице кобуру…
Через полчаса меня разыскивает посыльный матрос и сообщает, что мне надо явиться к заместителю начальника госпиталя по политчасти. Являюсь в роскошный кабинет, где возле сидящего капитана первого ранга уже стоит мой подшефный с торжествующим видом. Меня, человека в больничном халате, не приглашают даже сесть. Зато надменный замполит немедленно, нисколько не теряя времени, приступает к разносу и нотациям. Как это можно так грубо оскорблять офицера, который … Да как вы можете командовать своими подчиненными, если…, когда… Да вы знаете… и т. д. и т. п.
Нашли юного пионера для перевоспитания. Они хочут проявить свою руководящую заботу о моем «облико морале». Спокойно выслушиваю первые рулады, а затем «на голубом глазу» и чрезвычайно вежливо заявляю, что товарища старшего лейтенанта я вижу первый раз в жизни, но буду счастлив с ним познакомиться в будущем. Очередная рулада застревает в горле у замполита, и они ошарашенно переглядываются со старлеем. Пауза затягивается. Я обращаюсь к замполиту, как старшему по званию:
– Товарищ капитан первого ранга, разрешите выйти?
Замполит машинально кивает, и я удаляюсь. Вскоре встречаемся со старлеем опять. Я безразлично говорю в пространство: «Придется врезать». Он вздрагивает: понимает кому, за что и по какому месту я собираюсь врезать. Но жаловаться бесполезно: я разговаривал не с ним…
От обилия микстур сердце у меня перестает болеть и просто хлябает, как разношенный валенок. Спустя две недели меня выписывают из госпиталя с диагнозом: «нейроциркуляторная дистония» с ограничением годности к военной службе. Никто этой болезни не знает. Наши медики говорят, что в госпитале ее «назначают» всем непонятным больным, которым не могут поставить нормальный точный диагноз.
Это ограничение военной годности ничего не меняет в моей жизни: все так же я служу, то есть работаю, дежурю по графику, езжу в командировки – пока короткие – в Североморск и Прибалтику. Впрочем, наверное, все-таки что-то меняется: вопрос о моем переводе на Новую Землю для постоянной службы больше не возникает. Конечно, – ничего нельзя утверждать достоверно. И ничего нет постоянного в нашей военной судьбе.
Умная вставка из будущего. Лет через тридцать после описываемых событий я наткнулся на ученую статью о последствиях облучения «источниками ионизирующих излучений – ИИИ». Именно так грамотно следует называть землю, грунт, вокруг ПУИ и ОПР, даже бочку для мытья обуви, даже воздух, осадивший в легких и костях эти самые, но уже «постоянно действующие» ИИИ. Совершенно непонятно, удивительно, но, по вызываемым недугам от действия ИИИ, на первом месте стоит не лейкемия, не онкология, а именно загадочная нейроциркуляторная дистония. Упрощая мудреные латинские термины, можно сказать, что эта дистония нарушает работу всех суставов и суставчиков, всех нервов и «нервочков», а также частично разжижает мозги, то бишь, – влияет на психику. Но с мозгами – сугубо индивидуально: у некоторых они уже находятся в жидком состоянии, а некоторым просто нечего разжижать, – хоть застрелись. Таким товарищам – хорошо и спокойно.
Основная причина сердечных болей обнаружилась еще раньше, дистония только добавила, так сказать – усугУбила. Но об этом – после.
Если бы я знал эти важные сведения «до того», что-нибудь бы изменилось? Кажется, я уже разбирал эту ситуацию, так что повторюсь: не изменилось бы ровным счетом ничего. Наша судьба где-то уже записана. Нам только кажется, что мы можем изменять эти программы… Кто знает, каким карандашом и на чем там пишут наше будущее?
Арбузное место (рай) № 1
И упала стрела Ивана-царевича в болото…
(Не только в сказке)В конце 1958 года в части по настоянию Д. Н. Чернопятова возобновляется настоящая техническая и всякая другая учеба офицеров. Объявляется съезд всех офицеров части, – конференция, продолжительностью на целую неделю. На заседаниях делаются всевозможные доклады, – с обобщением опыта, обзорные – по новинкам, учебные, «разбор полетов» в разных аспектах и т. д. У меня, например, доклад: «Опыт экспедиционного монтажа». По некоторым разделам, особенно по действующим уставам, надо сдать зачеты. Мы – молодая, растущая часть. Наши инженеры – офицеры действительно растут очень быстро, приучаются решать все более сложные вопросы. Конференция для всех – очень нужная и серьезная учеба. Кроме того, люди, которые по несколько месяцев не вылезают из своих Тьмутараканей, могут теперь решить личные вопросы. Встретиться с женой и детьми. Прильнуть к культурным центрам – от забегаловок до Эрмитажа. Только здесь мы можем встретиться и поговорить с друзьями, разбросанными военно-монтажной судьбой по всему СССР. Короче: конференции – это не только работа, но и праздник. К ним тщательно готовимся, они проводились в части много лет.
Темная вставка из светлого будущего. До тех пор, пока отцами-командирами не стали современные менеджеры – личности, которым обычная нормальная работа, не ведущая немедленно к личному обогащению, – глубоко противна…
В конце года в часть поступает огромное количество чертежей, в основном – секретных. Работаем над проектом «Надя» по отдельным фрагментам, не представляя себе, что это за зверь в целом, и для чего могут пригодиться некоторые его параметры. Например: в некоем помещении есть система отопления, в которой предусмотрена точность поддержания заданной температуры почти ± 0,10 °C. Более понятны сверхпрочные затворы – ворота с механизмами: наружные – бетонные, и внутренние – стальные с гидравлическим уплотнением. Эти «форточки» весом десятки тонн должны выдержать удар современных «хлопушек». Ну и еще куча всяких непонятных прибамбасов. Наша задача: из общих чертежей стадии КМ (конструкции металлические) разработать чертежи в стадии КМД (КМ, детали). Эти детали надо заказать, изготовить на заводах, принять их и затем смонтировать (установить, связать, подключить, задействовать) в заданных местах СССР.
Над проектами работает отдельная группа, занимающая целый пятый этаж в нашем «крейсере» на шоссе Революции. Я работаю в ПТО – производственно-техническом отделе. Моя задача – связь с заводами, выполняющими наши заказы по «Наде». Для них я – главный заказчик, ОТК и приемщик в одном флаконе. Два моих основных завода – 55-й в Стрельне и наш 122-й на Магнитогорской (рядом с магазином «Спорттовары», сейчас там бывший завод им. Лепсе).
У заводов всегда возникает куча вопросов к конструкторам и заказчику: можно ли это заменить тем, можно ли это сделать по-другому? Я пытаюсь решать эти вопросы, исходя из технического смысла и скудных сведений из общих чертежей. Надо бы мне знать точно, что и к чему, тогда решать задачки можно более обоснованно и смело. Увы, это невозможно…
Весной Шапиро таинственно сообщает мне, что я поеду вести монтажные работы в земной рай, туда, где вечнозеленые чинары, чебуреки, черкешенки, черешни, чурки и что-то еще на «ч» – очень хорошее, которое я запамятовал. В этом земном раю у меня будет возможность отогреться от новоземельских холодов, вкусить на полное горло южных фруктов, вин, чебуреков и остальных «ч». Летом, когда нет занятий в ЛТА, я смогу забрать под сень благословенных чинар и свою жену.
Порадовался за себя: как я вырос! В начале лейтенантской карьеры командир Афонин, в качестве награды, только обещал меня отправить на «арбузное место». И вот: прошло всего четыре года, и меня уже отправляют прямым ходом непосредственно в рай!!! Арбузов там навалом, – само собой.
Я никогда не бывал в раю, тем более – на курортах. А если при этом еще и будут платить зарплату, то перспектива, конечно, вдохновляющая. Особенно после атомного полигона в Арктике. В мою группу входят пока три десятка матросов, мичман Шабанин (не знаю – почему; вряд ли он сам напросился) и молодой лейтенант Гена Корзюков, окончивший недавно училище им. Дзержинского. И даже молодая симпатичная девушка Татьяна (?) Стрельченко, вокруг которой вечно роились все молодые офицеры со 2-й (проектной) группы. В общем, – компашка теплая. Место – тоже. Это станция Вазиани, в 40 километрах южнее Тбилиси. Именно там находятся заросли чинар и эпицентр рая. Здесь приставка «эпи», о которой я уже писал, вполне уместна: истинный рай находится все-таки на небесах, а на земле только его проекция. Но после Новой Земли для меня очень хороша даже проекция рая!
В конце мая я вылетаю в Тбилиси. Моя задача – взаимодействовать с грузинскими военными строителями (СУ ЗакВО) и подготовить с ними объект к монтажу, а также обеспечить условия для приезда и размещения моей группы. В кармане у меня лежит отпускной билет в Винницу с открытой датой: я должен на месте определить время своего отпуска, чтобы не гонять зря в Ленинград.
Поселяюсь в окружной военной гостинице в комнате, где живут еще десяток офицеров разных званий и родов войск. Нахожу Строительное управление Закавказского военного округа (конечно, все это в/ч – войсковые части). Я в морской форме с белыми погонами, которая трудящимся грузинам не совсем понятна. Среди офицеров СУ – один майор с фамилией Лежава. У меня в институте был тренер по самбо, тоже наш студент, мастер спорта, с такой же фамилией. Нет, не родственник. Но мостик дружбы и взаимопонимания уже установлен, и очень помогает мне в общении и работе.
Вместе с Лежавой выезжаем непосредственно в рай. Это около сорока километров на юг по Кахетинскому шоссе. Дорожка эта узенькая, всего по одной полосе в каждом направлении. Проходит шоссе по глинистой равнине, без всяких признаков не только тенистых чинар, но и вообще какой-либо растительности. Нет, какой-то выжженный бурьян, кажется, растет в пыли. Многочисленный транспорт невозмутимо ползет по шоссе с истинно восточным спокойствием. Никто никого не обгоняет: делать это глубоко бессмысленно. Обочин, по которым можно проехать хотя бы справа, почти нет. Но, если даже обгонишь, то вскоре придется вписываться в этот же сплошной поток.
Сворачиваем на петляющий проселок. Желоб дороги заполнен пылью из красноватой глины, сбоку нарезаны глубокие колеи колесами тяжелых машин. Спрашиваю майора:
– А как тут ездят машины после дождика?
Майор только горестно вздыхает и показывает рукой на колеи возле дороги.
Вот на равнине возникает некое возвышение. Внизу уступа из-под камня бьет родничок, образуя небольшую лужицу чистой воды. Хотелось бы попить, но солдат-водитель не одобряет попытку. Выясняется, что эта лужица является единственным местом купания (!) и стирки для целого полка танкистов и батальона строителей, расположенных недалеко.
Вскоре на совершенно лысой горушке, прожаренной палящим солнцем, показываются несколько 40-местных палаток, огороженных колючей проволокой. Это живут строители, здесь же будут жить мои матросы. В палатке находится и штаб строительства. Танкисты живут дальше точно в таких же палатках. Правда, у них еще есть ангары: танки в палатки не помещаются.
Да, с чинарами – не густо. Из всех остальных восхитительных «ч» остается только одно слово: «чрезвычайно». Чрезвычайно, чертовски, чудовищно скверно. С этих райских мест кажутся «ничего себе» даже новоземельские бухты, море, птичьи базары и круглосуточный день…
Понимаю, что влип я в мираж с чинарами капитально. Точнее – меня «влипли», может быть и не сознательно. На глобусе-то чинары почти не видны… Вздыхаю и начинаю работать. Знакомлюсь со строителями: начальником участка и прорабом. Молодые ребята, тотальники с гражданки, оба – русские. Идем на объект. Там только начинают разметку, затем будут делать подготовку, укладку арматурных каркасов и опалубки, частичное бетонирование основания. Только тогда я смогу ставить и выверять закладные детали и тяжелые затворы. Правда, парочку закладных мне надо поставить раньше. Надо их найти где-то на складах СУ в Тбилиси…
Объект покидаем на строительном автобусе примерно в 18 часов. В гостиницу я попадаю около 8 вечера. Буфет здесь уже закрыт. Туземцы и не подозревают, какой я голодный… Привожу себя в порядок после дневного пребывания в пыльном раю. Через полчаса выхожу красивый и голодный на большую дорогу… Мне в гостинице соседи объяснили, куда надо ехать. Сажусь на трамвай. Кондуктор – русская женщина, на нормальном русском языке объясняет мне, на какой остановке надо выйти. Вдруг она вскидывается и громко обращается к едущим аборигенам:
– Пачэму нэ бралы билэтыки???
Как же бедные туземцы будут изучать великий и могучий? Может быть, их кавказский акцент возникает от общения с русскими кондукторами трамваев?
У двери ресторана стоят холеные юноши с «дэвушками». Они с недоумением разглядывают мою невиданную здесь форму. Они бы могли зачислить меня в железнодорожники или даже в моряки, но карты путает значок с парашютом на моей широкой груди. Пользуясь замешательством, раздвигаю их строй серебряным погоном и попадаю в предбанник, затем меня подсаживают к двум военным.
Не заказать хотя бы грамм 100 – это плюнуть в нежную душу официанта. Я же не такой бесчувственный разбойник. А голодному после принятия капель для аппетита – даже приличный шницель кажется детской забавой и требует дополнений и поправок…
Когда дело доходит до расплаты, я начинаю понимать, что моих средств, рассчитанных на месяц жизни, хватит только еще на два легких ужина. Конечно, восточный джигит, плохо владеющий арифметикой, завысил расценки раза в полтора-два, но гусары не станут позориться требованием пересчета…
Тем не менее – выводы надо делать. В дальнейшем я заранее покупаю нечто съедобное и неспособное испортиться в тумбочке гостиницы (холодильника нет). Попробовал было грузинский кефир, но он оказался промежуточной формой между уксусом и уксусной эссенцией. Да и с мытьем и сдачей бутылок возиться не с руки гусару. Еще пару раз мне пришлось от безысходности поужинать в ресторане. В целях самосохранения придумал такой ход конем: пользуясь непонятным видом своей формы с белыми погонами, я стал «косить» под иностранца. Восточный парень просто балдел, когда я делал заказ на смеси русского и немецкого. Немцы ничего не пьют – это нормально. А уж обсчитывать иностранцев – вообще нельзя. Мои затраты резко уменьшились.
Знакомлюсь с городом Тбилиси. Он не похож ни на один из городов, которые мне приходилось видеть. Главная улица (проспект?) Руставели, – широкая, зеленая. Многие здания украшены орнаментами, арками, балконами и всяким разным восточным великолепием. Все другие улицы в центре старого города поражают нагромождением непонятных форм домов, дворов и двориков, особенно на крутых спусках к Куре. Она, Кура, в городе действительно «мутная такая», как заметил еще Петр Лещенко. Обилие выпусков канализации в реку вряд ли способствует кристальной чистоте ее вод…
Изображения Сталина везде: на домах, на ветровых стеклах автомобилей и трамваев, на множестве значков и сувениров. Исправно действует музей Сталина в Гори. Грузия не приемлет критики и развенчивания своего самого выдающегося сына…
Туземцы поражают сочетанием дружелюбия и восточной загадочности. Вот два случая из моей жизни после второго посещения Тбилиси (о причинах – позже).
Еду я на трамвае, ищу жилище Корзюкова по адресу. Обращаюсь к мужчине средних лет: где мне надо выйти, чтобы попасть на такую-то улицу. Он сбивчиво объясняет, сожалея, что не может меня довести туда лично, поскольку торопится в баню и выйдет раньше. Внезапно его взгляд стает жестким, он кого-то ударяет за моей спиной и начинает что-то возмущенно говорить по-грузински. Затем спохватывается и переходит на русский:
– Ты што дэлаешь? – обращается он к кому-то за моей спиной. – Он жэ наш гость, гость нашэго города!
Оказывается, пока мы разговаривали, стоящий сзади туземец запустил руку в мой карман. Стоящие вокруг пассажиры начинают громко и возмущенно говорить все вместе сразу на двух языках. Мой обидчик выскакивает из трамвая, не ожидая остановки. Кстати, обозначения остановок чисто условные, и трамвай может остановиться в любом месте, чтобы высадить пассажира по его просьбе или подобрать жаждущего ехать.
Мой доброжелатель пренебрегает своей баней. На нужной остановке он выходит вместе со мной и доводит меня до искомой улицы, несмотря на мои благодарные протесты.
– Вах, как много стало у нас не харошы человэк!
Мы прощаемся как близкие друзья перед разлукой. Я желаю моему другу легкого пару.
– Дай Бог и тебэ здоровья! – отвечает друг, прежде чем лечь на обратный курс.
Встречаюсь с четой Корзюковых. Люся в восторге от тбилисского рынка: все очень дешево. Если же она начинает торговаться, то восточные джентльмены запросто снижают для блондинки расценки еще вдвое. А могут и вообще загрузить бесплатно. Гена на торговую добычу смотрит неодобрительно:
– Смотри, Люся, ты дококетничаешься! Знаешь, где бесплатный сыр бывает!
Пожалуй, самое яркое впечатление от грузинского гостеприимства у меня появилось перед самым отъездом. Из объекта надо было возвратиться в Тбилиси, оформить документы и уехать в аэропорт. Мы с Шабаниным задержались на объекте, и время уже ощутимо поджимало. Мы стояли на Кахетинском шоссе и безуспешно голосовали потоку транспорта. Почему-то двух военных никто не хотел или не мог взять с собой, возможно, – чтобы не выпадать из потока машин. Наконец возле нас остановился огромный военный грузовик; одно время таких монстров выпускали в Ярославле. Мы мигом влетели в высокую кабину и начали осматриваться. За рулем сидел пожилой грузин в гражданской одежде. Я поблагодарил его, сказал, что торопимся в город. Шофер сказал, что вообще-то он едет не в город: он должен встретить на дороге большой трейлер и возвратиться с ним обратно.
– Ну, проедем с вами, сколько получится, – сказал я. – Там пересядем еще на что-нибудь.
Едем. Ведем «шоферской» разговор о машинах, о недостатках и преимуществах дизельных двигателей. Водитель делает ручкой встречной машине с трейлером. Но наш мастодонт уверенно продолжает путь.
– Это был случайно не ваш трейлер? – спрашиваю я. Водитель утвердительно кивает.
– Так вам надо возвращаться? – беспокоюсь я.
– Канэчно нада, – спокойно отвечает он, не сбавляя обороты двигателя.
– Так вы остановитесь, мы выйдем, а вы возвращайтесь!
– Я жэ нэ могу тэбя бросить! – водитель объясняет мне как маленькому такие очевидные ему самому истины. Я не сдаюсь:
– У вас будут из-за нас неприятности. Да вы не волнуйтесь: сзади идет автобус, и мы пересядем туда…
Водитель колеблется: видно у него действительно будут неприятности.
– Нэ откроет двэр… – задумчиво говорит он. Мы продолжаем движение.
Через некоторое время водитель принимает какое-то решение и говорит уверенно:
– Откроет!
Он разворачивает свою огромную машину и ставит ее поперек Кахетинского шоссе. Движение в обе стороны полностью прекращается. Часть машин начинает дудеть, поднимается немыслимый шум. Мы выскакиваем из кабины, от неожиданности не успев даже сказать «спасибо», и несемся к автобусу, стоящему позади через несколько машин. Стучим в дверь, – бесполезно. Водитель, молодой грузин, и не думает ее открывать. На стук в окно и мои жесты «открой дверь» реагирует гордым поворотом головы в противоположную сторону. Это видит водитель «нашей» машины. Он невозмутимо достает и закуривает сигарету; его махина продолжает стоять поперек шоссе. Вместе с ним стоит все движение между столицей Грузии и Кахетией. Наконец до водителя автобуса доходит взаимосвязь происходящих событий, и он открывает дверь автобуса. Мы влетаем в пыльное нутро автобуса, только на треть заполненное несколькими женщинами и клетками с курами. Убедившись, что его ведомые пристроены, «наш» разворачивает своего монстра в обратную сторону, приветливо машет нам рукой. Движение на шоссе благополучно возобновляется. До Тбилиси мы доезжаем зайцами: никто нас даже не хочет «обилечивать».
Любопытную офицерскую историю я услышал в своей гостинице. В нашей комнате проживал симпатичный, но слегка «пожилой» старший лейтенант. Он приехал из дальнего гарнизона на прием к командующему округом с заявлением, чтобы его перестали считать отличником боевой и политической подготовки. Все соседи-офицеры «стали на уши», услышав о цели его приезда, но, познакомившись с причиной, – призадумались. Старший лейтенант был командиром учебного взвода. Он был отличным офицером, спортсменом, человеком, любящим людей и свое дело. Учебный взвод, полученный сразу после окончания училища, он довел до высокой кондиции, проводя в казармах все 24 часа. Его взвод в целом и отдельные воспитанники заняли все первые места на различных учениях, смотрах и соревнованиях. Предметы состязаний – боевая и политическая подготовка (БПП), строевая, стрельбы, спортивные соревнования и т. д., – включая строевые песнопения в соревнованиях учебных взводов. Молодой лейтенант был отмечен командованием: ему досрочно присвоили звание старшего лейтенанта. Свой следующий взвод он постарался выучить еще лучше, чтобы «оправдать доверие командования». Хороший учебный взвод – лицо части. Командование постоянно хотело обладать очень хорошим лицом. Чтобы не рисковать – неизменно, в течение почти десяти лет, поручала макияж этого лица проверенным кадрам – нашему старлею. Поскольку для комвзвода самое высокое звание – старший лейтенант, то он и оставался все эти годы в этом высоком звании. Все его ровесники, не отличники, а обычные офицеры, уже ходили в званиях капитанов, майоров и даже подполковников. Из отличника он постепенно превратился в неудачника в глазах товарищей, а главное – своих детей и жены, которая начала грозить разводом, если он не двинется по служебной лестнице, причем, – уже все равно в какую сторону…
Вскоре я уехал и не узнал, чем окончился визит старшего лейтенанта к командующему. В любом случае, радикальные улучшения вряд ли последуют. Командующий – не всевышний, и если уже потеряно десять лет, то, что он может сделать? Можно старшему лейтенанту, конечно, себя успокоить: я хорошо делаю свое дело, и звание здесь ни при чем. Но за эту хорошо сделанную работу почему-то платят заведомо меньше. И любой еще может спросить: «Если ты такой умный, то почему ты бедный?». Во всяком случае: «отлично» – не всегда хорошо. Забавно, что через несколько лет я сам столкнусь с почти такой же ситуацией…
На объекте дела потихоньку набирают темп. Я начинаю понимать, что если я немедленно не уйду в отпуск, то такая возможность может представиться не ранее, чем через год. Удерживают меня две несчастные закладные детали, которые нужно будет поставить недели через две. А после этого, еще через пару недель, начнется настоящая работа. Приедут мои ребята, и будет не до отпуска.
Принимаю решение – уходить в отпуск сейчас, в конце июня. Эмма уже в Брацлаве, так что наши отпуска совпадут. Иначе – что это за отпуск? Об установке двух закладных договариваюсь со строительными лейтенантами. Дело в целом не такое уж хитрое. Просто требуется точность несколько большая, чем при строительных работах. Оставляю ребятам написанную инструкцию с эскизами. Все понято, все будет сделано. Отправляю в часть телеграмму, в которой сообщаю о состоянии дел на объекте, паузе в наших работах и своем отбытии в отпуск. Группу матросов с Корзюковым и Шабаниным прошу выслать через месяц.
Удивительно, но из Тбилиси есть прямой рейс в Винницу. В ожидании самолета я еще посещаю даже кино. Смотрю американскую картину «Война и мир». Наверное, это не совсем Толстой: например, – Пьера Безухова играет красавЕц Грегори Пек, большинство личностей великого романа показаны только в кратких эпизодах: что можно показать в полуторачасовом фильме? Зато есть стремительность действия и событий, потрясающие батальные сцены. Все это не имело бы особой цены, если бы не Наташа Ростова – Одри Хепбёрн. Тогда она не была еще знаменита, во всяком случае, – в СССР. Я же ее вообще увидел впервые, и она меня покорила сразу и навсегда. Возможно в кинофильме Бондарчука Наташа – Савельева ближе к задуманному Толстым образу, но для меня Наташа Ростова навсегда осталась в облике великолепной Одри Хепбёрн – бесконечно чуткой, нежной и открытой…
Самолет делает промежуточную посадку в Сухуми. Там для подарка жене я покупаю ветку цветущей магнолии. Через несколько часов мы встречаемся в Виннице. Утром наши головы слегка потрескивают: источающая дурманящий запах магнолия всю ночь оставалась в комнате…
Наш счастливый отпуск продолжается не более трех дней. Из Ленинграда приходит грозная телеграмма. Там написано, что я самовольно покинул поле битвы. Немедленно, за свой счет, мне следует отбыть в обратный зад, встретить группу, организовать ее работу, после чего и убывать в отпуск, вычтя из него дни, затраченные мной на самовольный выезд. Телеграмму подписал Крутских, шебутной подполковник, зам командира по МТО. Очевидно, что и Шапиро, и Чернопятов были в отъезде или в отпуске, и Иван Алексеевич остался у штурвала.
Обширной телеграммой докладываю в часть: сейчас на объекте ни мне, ни группе – делать нечего. Если вернусь, то в сроки отпуска не уложусь. Прошу, дескать, отменить ваше бредовое послание. Крутских, подполковник из военных авиатехников, в общем, – нормальный мужик, и мог бы понять все написанное. Тем более что я прежде не давал поводов считать меня разгильдяем. Однако, ответ еще грознее и категоричнее: выехать!
Дражайший Иван Алексеевич после извинялся передо мной за это телеграфное хамство. Я думаю, что тогда его просто зомбировали мои тайные недоброжелатели. Таковые – всегда есть у людей успешных и нормально работающих. При дурацкой и язвительной прямоте моего языка их количество резко возрастает. Правда, эти же качества этого же языка заставляют их уходить в подполье и действовать исподтишка…
Загибая и поминая руководство в несколько этажей, опять сажусь в аэроплан и возвращаюсь в Тифлис. Там нахожу Корзюковых. Практически они находятся в отпуске, получая командировочные: живут в столичном городе, делать нечего, вдвоем, лето, фрукты, юг.
Встречаем Шабанина с матросами, которые тоже будут целый месяц загорать и томиться от безделья. Во время встречи происходит разговор, ради которого стоило вернуться в Тбилиси. Шабанин с круглыми глазами рассказывает:
– В Тбилиси мы с матросами пересели на электричку. Я подхожу к проводнику и прошу предупредить меня заранее перед станцией Вазиани. А проводник говорит:
– Зачем тебе эта Вазиани? Тебе эта Вазиани – не нада. Ты ведь едешь строить склад атомных бомб. Мы будем ставать там, где делают бетон для стройки. Тебе очень хорошо будет выйти туда. Там самосвалы возят бетон прямо на стройку и тебя с матросами отвезут. А палатки, в которых будете жить, там стоят недалеко от стройки!
Если бы не было грузинских проводников на пригородных электричках, то откуда сверхсекретный офицер смог бы узнать: чем это он так упорно занимался целый год? Нет, в самом деле: откуда? Если даже сов. секретные чертежи содержат только разрозненные фрагменты?
Пару дней кручусь в Тбилиси, занимаясь еще раз уже решенными вопросами. Затем опять улетаю в Винницу. Отпуск, хотя и взбаламученный дурацким возвращением в Тифлис, проходит хорошо. К концу отпуска получаю телеграмму из части, на которую даже не знаю, как реагировать. Мне предписывается после отпуска прибыть в Ленинград.
Обсуждаем с Эммой перспективы. Что имеют в виду отцы-командиры? Хорошо уже то, что домой вернемся вместе. Очевидно, прежде чем я вернусь в Тбилиси, меня должны чем-то догрузить. А может быть, отправить в очередное арбузное место? Приходим к выводу, что очень трудно будет отцам-командирам отыскать местечко хуже рая под чинарами. Возможно, будет командировка на Новую Землю, но зачем туда ехать на ночь (шестимесячную) глядя? Собственно, наши размышления никак не влияют на нашу судьбу. Мы убываем домой и одновременно – навстречу неизвестности.
Рай № 2
…и будет тебе счастье…
(Гадалка сказала после золочения ручки)В Ленинград мы вернулись в конце августа 1959 года. Выясняется, что в Тбилиси мне возвращаться не надо. Где-то наверху провернулась шестеренка в командной машине, и объект передали другой фирме, которая находится поближе. Который уже раз проворот невидимых вышестоящих шестеренок внезапно меняет назначенную мне траекторию движения: вместо Кривого Рога – Киев; вместо Киева – Горький; вместо Горького – Ленинград; вместо завода – армия; вместо отпуска – экспедиция на Новую Землю; вместо Ульяновска – несколько месяцев в Ленинграде. Теперь вот – вместо Тбилиси… А куда же теперь воткнется моя траектория? После близкого знакомства с раем под чинарами почему-то хочется в менее райские места.
Неясной у Эммы остается также ситуация с защитой дипломного проекта, то есть – окончания Лесотехнической академии. Больше месяца зимой она провела в различных клиниках (я не хочу писать об этих тяжелых наших днях), поэтому отстала от своих сокурсников, которые уже защитили дипломные проекты и уехали по назначениям. У Эммы к весне 1959 года все экзамены были сданы. Осталось написать и защитить дипломный проект, чтобы получить заветные «корочки» и академический «поплавок». Принудительное распределение в тайгу на лесозаготовки Эмме не грозило: все-таки она является лучшей половиной Офицера Флота Ее Величества… Короче: не надо ей без меня ездить никуда! Хватит с лихвой на нашу семью одних моих поездок…
В судьбе Эммы принимают живое участие хорошие люди из кафедры лесоустройства Академии: лаборантка Ольга Соломоновна и доцент Айзек Абрамович. Они поддерживают ее, помогают всякими способами, настаивая на защите дипломного проекта. Я хочу специально подчеркнуть, что все это делается из чисто человеческих побуждений, без всяких подношений и откатов, что теперь кажется просто невозможным.
Для меня вскоре появляется работа по специальности: надо сваривать где-то арматуру контактной сваркой. Для этой цели на заводе «Электрик» я получаю подвесные контактные клещи МТПГ-75. Цифра 75 обозначает их мощность в ква (киловольт-амперах) – такую мощность потребляет весь наш «крейсер» на шоссе Революции. Машинка весит около 300 кг. Сваривает она мощным импульсом пересечения арматурных стержней. Трансформатор с прибамбасами подвешивается к потолку. Вниз к гидравлическим клещам спускается пучок жестких кабелей, трубок, трубочек и проводов. Чтобы шевелить вручную это чудо техники, надо есть много каши, причем, – обильно политой маслом.
Вставка – чисто техническая. В кино о достижениях техники любят показывать сварку кузовов легковых автомашин. Как бешеные в трех измерениях там вертятся многочисленные роботы-сварщики. Их руки-клещи мгновенно находят нужную точку сварки, в течение долей секунды выполняют работу, легко перемещаются к следующей позиции. Если действия таких роботов сравнить с прыжками воробьев-синичек, то работу моей «машинки» можно представить поступью слоновьей «ножки». Причем, передвигать эту ножку надо вручную. Несмотря на то, что для функционирования моей машинки нужны: а) мощная электрическая сеть; б) компрессор; в) водопровод; г) подвижная и надежная точка, к которой можно подвесить над своей головой 300 кг; д) кабели, трубки и трубочки от пунктов а, б, и в к сварочной машине; е) помещение со входами-выходами для продукции, или хотя бы навес, чтобы защитить все предыдущие пункты от дождя. Нет, влияние дождя надо устранить обязательно, потому что будет еще куча требований по технике безопасности (простой и электрической), противопожарным мероприятиям, охране труда и т. п.
Меня, инженера-механика-сварщика, довольно часто упрекали в нежелании делать то, чему меня учили: механизировать (автоматизировать) сварку на объектах. На взгляд дилетантов – стоит включить автомат, и сварка пойдет как по маслу, быстро и с высоким качеством. Им неведомо, что любой высокопроизводительный автомат на производстве – это даже меньше, чем вершина айсберга. Невидимыми для зрителей остаются десятикратные трудозатраты на различную оснастку и подготовку. Естественно, эти затраты труда, материалов и времени оправдываются только при огромном объеме работ. Короче: нет особого резона тащить пушку и снаряды, чтобы выстрелить по комару. А если еще стоит задача выбить ему только правый глаз, чтобы не испортить шкуру, то даже просто доставка пушки стает нерентабельной…
Испытать такую машину в работе – негде, поэтому я буду ее подключать, налаживать и испытывать уже где-то на объекте в Новгородской области. Само собой – при помощи этой машинки буду вести монтаж некоего объекта. Уже по собственным соображениям добавляю еще одну машину контактной сварки – стыковую на 25 ква с простым ручным приводом. Остальные механизмы для работы с арматурными стержнями – уже на объекте: к арматурным работам готовились сами строители.
Шапиро «гонит волну»: где-то наверху требуют темпов… Загружаю большой грузовик своими игрушками и с главным старшиной Вайтекунасом утром в субботу (!) выезжаем в неизвестное Котово. Ионас Ионо Вайтекунас – Ваня, – мой матрос еще со времен Читы. Он стал сверхсрочником и мастером на все руки – мотористом, шофером, затем сварщиком. Ну и, конечно, – воинским начальником.
Мы с Ваней должны доставить ценное сварочное оборудование и подготовить место и условия для большой группы матросов, которая комплектуется в части. Работы в Котово нам передали внезапно – из-за обилия сложной сварки от них «отвертелись» строители. Группу мне комплектуют по принципу «с бору по сосенке»: на командиров объектов накладывают «налог» по 2–3 человека. Подозреваю, что самых лучших никто не отдаст. Я бы сделал так же…
Целый день едем по Валдаю. Осень еще не начала золотить березы. Перед глазами раскрываются милые сердцу картины: рощи, озера, реки, перелески, поля. Особенно милыми они кажутся после рая под чинарами…
Приезжаем в Котово в субботу же вечером с желанием немедленно начать работу, штурм. Возле переезда через железную дорогу упираемся в КПП. Сержант докладывает о нашем прибытии дежурному офицеру, и нас пропускают в закрытый военный городок. Теплый субботний вечер, народ на танцах и прогулках. На нас смотрят, как на марсиан, свалившихся неизвестно откуда и, главное, – неизвестно зачем.
Представляюсь начальнику гарнизона полковнику Баранову – невысокому, слегка полноватому, с открытым русским лицом. Полковник очень удивляется времени нашего появления, затем отдает дежурному немногословные распоряжения: машину без разгрузки поставить у поста, всех – накормить в столовой для личного состава и поселить в гостинице. Все остальное – послезавтра, в понедельник. Отдыхайте, ребята, осваивайтесь.
Ночуем, осваиваемся. Все сведения, которые приведу дальше, получены понемногу, из разных источников. Привожу их вместе – просто для удобства.
Котово – еще довоенный арсенал оружия и боеприпасов. Расположен он километрах в двадцати от райцентра и станции Окуловка Октябрьской железной дороги Москва – Ленинград. Арсенал отлично был известен немецкой разведке, и военный городок со складами боеприпасов вражеская авиация бомбила еще в самом начале войны. О периоде оккупации мне ничего не известно. Тогда, в 1959 году, это был закрытый военный городок среди лесов Новгородской области. Сюда подходит грузовая ж. д. ветка и шоссейная дорога через Боровичи. Жилой городок огорожен высоким забором, на его территории стоит десятка четыре различных зданий, в том числе – каменных. Техническая зона и небольшой гражданский поселок расположен рядом в лесу по другую сторону железной дороги.
Стараниями отцов-командиров военный городок благоустроен и поддерживается в чистоте и порядке. Городок, окруженный сосновыми лесами, и сам зеленый, просторный; улицы и дороги асфальтированы, все устроено для нормальной жизни. Например, в городке в те годы существовал водопровод. Стальные трубы – дефицитный и строго фондируемый материал. В Котово водопровод сварен из корпусов реактивных снарядов «Катюши», выслуживших свои сроки хранения или снятых с вооружения. В городке очень приличные клуб, гостиница, магазин, столовая для личного состава, дома для офицерских семей. Везде электричество, электростанция – собственная, работающая от мощных дизелей.
В понедельник начинаю знакомство с командованием базы и строителями. После Баранова знакомлюсь с замом по МТО подполковником Андрющенко, замполитом полковником Пржеборо. (Конечно, надо бы написать: представляюсь такому-то высокому начальству. Но я действительно только знакомлюсь: они для меня начальство косвенное, и сильно прогибаться – вредно. Как показало дальнейшее развитие событий, я поступил мудро).
Моим матросам выделяется отдельный домик. В его недрах можно свободно разместить полсотни матросов, организовать там еще класс для занятий и всякие каптерки, сушилки для рабочей одежды и обуви, короче – устроиться удобно и по правилам. Отдельный домик, хотя и требует отвлечения людей для вахты, зато исключает всякие недоразумения с соседними частями: это я уже знаю по читинскому опыту.
И совсем уже полная ламбада! Я лично получаю в пользование отдельную квартиру с телефоном (правда – без выхода на Нью-Йорк)! Такого великолепия я даже во сне не мог себе представить! Наш сборный щитовой дом с центральным отоплением разделен на четыре равных части, каждая – с отдельным входом. Получилось четыре квартиры. Входная дверь открывала обширную застекленную веранду. Уже с нее можно было попасть на кухню, с кухни в большую проходную комнату, а уже оттуда – в спальню. В доме были еще три точно такие же квартиры в зеркальном отражении. В этих квартирах жили с семьями мои генподрядчики – офицеры-строители: дотошный Валентин Лопаткин, длинный Володя Николаев и красавЕц Алеша Попов, все с женами, а Лопаткин и Николаев – с детьми. Все офицеры были моими ровесниками или ненамного старше, все принадлежали к Новгородскому строительному УНРу.
Десятком таких домов застроена большая улица, граничащая с лесом. Там живут офицеры, сверхсрочники и рабочие арсенала. Благословенная планировка квартиры со сплошной «проходимостью» комнат не позволяет устраивать коммуналки. Правда, одна особенность домиков рождает забавные коллизии: четыре спальни со звучащими перегородками находятся в тесном соседстве в центре домика…
Мой объект находится на расстоянии полукилометра в лесу за суровым КПП. Там уже сделан навес для сборки арматурных каркасов, подведена электроэнергия, строители забетонировали основание. Работать можно и нужно. Провожу совещание с Лопаткиным (он – начальник участка) и Николаевым (прораб) по увязке ближайших работ. Обнаруживаю страшную вещь: я первый раз в жизни вижу и совершенно не понимаю строительных чертежей с арматурой для железобетона. Я не могу признаться в этом новым знакомым и руководителям объекта от генподрядчика. Они могут раззвонить: вот каких специалистов нам присылают! Это все равно, что дирижер признался бы, что он не знает нот…
Говорю какие-то общие слова и глубокомысленно пялюсь на чертеж. Среди нагромождений таинственных и бессмысленных линий отчетливо вижу одну только фигу.
– Я думаю, что нам понадобится сначала вот эти закладные, – говорит Володя Николаев. Сначала он находит цифру среди сплетения линий. Оказывается, это не просто некая цифирь, а номер детали-заготовки! Теперь Володя начинает смотреть в совершенно другое место чертежа, – спецификацию. А там, под эти же номером, небрежно нарисован некий крючок, дальше в графах – цифры, которые и являются основными размерами – диаметром и длиной. А других размеров и не надо, потому что они уже занесены в общую нормаль, которую надо знать и соблюдать. Уяснив эти истины, задаю вопросы более осмысленные. Из ответов узнаю еще массу полезных вещей об арматурных чертежах и обозначениях на них. Еще два часа самостоятельной работы над незнакомыми ребусами, и я уже почти понимаю, что там нарисовано…
Шабанин для работ привозит человек тридцать матросов. Знакомлюсь внимательно с каждым. Большинство ребят дослуживают последние месяцы. Они уже прошли Крым, Рим и медные трубы. Несколько человек мне не внушают доверия просто по первому взгляду. Но – внешность обманчива. Надо бы мне знать все об их прошлых заслугах, но до такого высшего пилотажа наши замполиты и кадровики еще не дошли. Ладно, будем работать, посмотрим. Работа – вот главный «проявитель сущности» человека. Мы, марксисты и математики, знаем: связь работы и человека – диалектическая (математики говорят – описывается дифференциальными уравнениями). Короче: не только человек делает работу, но и работа делает человека…
Эти высокомудрые мысли могут быть четко сформулированы, пожалуй, только на досуге, причем – достаточно длительном. В повседневной жизни они разбиты на тысячу разных дел, вопросов, забот, требующих немедленных ответов и решений. Надо крутиться.
Мне еще предстоит научиться тысяче вещей, которые знает любой строительный пэтэушник: как зацепить, размотать и выпрямить бухту арматуры, как можно и нужно загнуть ее конец и т. п. и т. д. Правда, меня хорошо учили, и кое-что я умею, чего не умеют даже строительные инженеры. А главная их ахиллесова пятка – электричество, без которого сейчас жить вообще нельзя… Под навесом вскоре начинают работать десятки электродвигателей с реверсом и без: ножницы, гибочные станки, лебедки и т. п., – не считая сварки – ручной и контактной. Бодро «крутятся» три десятка матросов: у каждого есть дело. Мы делаем арматурные каркасы на простом, но эффективном конвейере… Забудь дедукцию, давай продукцию, – как говаривал Райкин.
Работа идет все лучше и лучше. Всю арматуру, которую мы должны уложить в бетонное тело сооружения, мы подготавливаем заранее в виде сварных пространственных каркасов весом от одной до 3 тонн. Мне удается организовать вполне заводской поток. Пространственный шаблон (кондуктор) установлен на рельсовой тележке. Он перемещается под навесом. К нему подают и приваривают детали, изготавливаемые рядом на станках. Сварочные клещи сиротливо подвешены в стороне: работать ими на каркасах невозможно. Разве можно одновременно и точно перемещать двух слонов? Зато прекрасно работает стыковая машина: прежде «неликвидные» обрезки стержней, угрожающе заполонявшие рабочие места, теперь стыкуются за считанные секунды и опять идут в дело. Все подъемы и перемещения тяжелых каркасов выполняют две электрические лебедки, «одолженные» мной из комплекта внешних ворот будущего сооружения. Они работают по схеме 4-тракторного монтажа БК в 1956 году. Тонкую арматуру из бухт разматываем трактором. В конце размотки свободный конец закрепляется. Трактор делает рывок, после чего полсотни метров покореженной стали мгновенно выпрямляются и стают похожими на натянутую струну…
К сожалению, с войском дела идут не так гладко. В группе количество разгильдяев явно превышает критическую массу, и они стают неформальными лидерами. Вот матрос Вьюк, старослужащий. Это – крупный специалист по увиливанию от любых работ: у него всегда есть масса причин, из-за которых он ее не может сделать. Моторист Ауль – эстонец, с лицом покрытым нарывами от длительной работы с этилированным бензином – большой любитель спиртного, друг Вьюка. Вот Костя Кулиев, восточный волоокий юноша. Способен спать в любом месте и в любом положении. Оживает только к вечеру и прихорашивается для похода к девочкам. Горлопан и пьяница – Жорик Рожков… К сожалению, именно они задают тон в группе после работы.
Длительность рабочего дня – 8 часов по профсоюзным законам. Сверхсрочников у меня двое – Шабанин и Вайтекунас. Они работают, как и все, поэтому вечером я не могу каждый день их «запрягать» еще на один рабочий день. Власть в кубрике захватывает некая сплоченная группа. Нет, о так называемой дедовщине в те времена еще не знали. Просто, в кубрике создается атмосфера вседозволенности. Даже у дисциплинированных матросов начинают «шататься нравственные стропила» – даже у такого исполнительного трудяги, который был у меня на Новой Земле, старшины 2-й статьи Саши Жука. Он человек мягкий, и командует вне строя не он, а Вьюк или Ауль. Соблазнов вокруг – полно. Проникнуть через дырки в заборе, минуя КПП – запросто. Водка – свободно. Девочек, готовых участвовать во всяких мероприятиях – тоже хватает…
Я уже не новичок на стадионе: ситуацию ярко освещает читинский опыт «старой десятки», когда примерно такой же по численности коллектив чуть не довел до расформирования всю часть. Повысил мое военное образование также старшина Письменный на Ростинской гауптвахте… Навожу здесь порядок всеми силами. Одного за другим сажаю на губу трех пьяниц и четырех ночных самовольщиков, много времени провожу по вечерам в кубрике: занятия, беседы, учеба. Особое внимание «сачкам» на работе. Даже микроскопические успехи надо замечать и отмечать: это верный путь превращения разгильдяя в труженика.
Однако – первое крупное ЧП мне устраивает подполковник Андрющенко. Дело было так. Матросы служат на один год дольше солдат – «за компот», как они говорят. Матросский паек чуть больше солдатского на этот самый компот, белый хлеб, кусочек масла и еще маленькие грамульки мяса, свежих овощей и, кажется, чая и лаврового листа. Если отцы-командиры, ведающие питанием своих ребят, заботятся о них, то эта разница вообще незаметна. Тов. Андрющенко не относился к таким людям и кормил «вверенный контингент» в основном «шрапнелью» (перловкой) и «сечкой» (пшеничной крупой). Матросы первыми почувствовали это. Я обратился к Баранову, попросил кормить их согласно морскому аттестату. Баранов взвился:
– Я что для твоих буду отдельный камбуз содержать?
Однако я был тверд, рассказал ему, что эта ситуация всегда возникает, но решается во всех сухопутных гарнизонах, где мы работаем. А дополнительные продукты надо заказывать и получать на довольствующей базе. Баранов вызвал Андрющенко. Тот тоже стал на дыбы: с чего это ему взваливать на себя дополнительные хлопоты? Я спокойно повторил все доводы. Баранов скрепя сердце согласился с ними и поручил Андрющенко «провентилировать вопрос». Этот способ ухода от суровой действительности я изучил давно и продолжаю «возникать» с вопросом:
– А когда кончится «вентиляция» и начнется выдача?
Андрющенко опять лезет в бутылку: у него нет людей, чтобы заниматься развешиванием наших пайков. Я говорю, что буду ежедневно на два часа выделять матроса для этой процедуры. После всех дебатов договариваемся, что с понедельника матросам будет выдаваться сливочное масло, запасы которого есть, а вместо сечки для моих будут варить макароны, которых тоже полно. Все остальные добавки – через два дня, после получения продуктов с базы.
Я сообщаю матросам о принятых решениях, не сомневаясь, что они будут выполнены, велю Шабанину составить график дежурств по камбузу и договориться о времени дежурства.
Утром в понедельник ко мне прибегает Вайтекунас с известием: все матросы отказались от завтрака. Я уже собрался на объект, поэтому сразу иду в столовую. Мои голубчики сидят за столами, перед каждым стоит тарелка сечки без тени масла. Смотрю на Шабанина:
– Дежурного выделил?
– Так точно, – докладывает Шабанин. – Сказали, что для нас ничего нет отдельного. Обращаюсь к матросам:
– Ребята, что-то не состыковалось сегодня, разберусь. Прошу – завтракайте пока тем, что есть: время не ждет.
Матросы игнорируют мои пламенные призывы. Нет даже легких движений к ложкам. Головы в основном опущены. Я внимательно оглядываю ближайших.
– У меня от этой сечки уже живот болит! – подает голос Ауль, остальные поддерживают, вразнобой выражая отвращение к данному блюдУ. И я их вполне понимаю.
– Ну, дайте мне тарелку этого харча, попробую.
Вайтекунас пододвигает мне свою, тоже нетронутую, тарелку.
– Не шашлык, конечно, но есть можно, – изрекаю после первых с трудом проглоченных ложек. Матросы с интересом наблюдают за выражением моего лица. Никто и не думает следовать моему увлекательному примеру. Молча, под пристальными взглядами «доёдываю» изысканный харч и со вздохом говорю:
– Ну, не хотите – как хотите. Пойдем работать.
Отказ от пищи – воинское преступление – это меня в госпитале научили. А тут – коллективный отказ. Формально я должен «принять меры». Арестовать что ли этих обманутых пацанов? Нет, не зря меня «причащал» в экипаже Глеб Яковлевич Кащеев: командиру лезть в бутылку сейчас и опасно, и просто – нерационально. А вот некоторым болтливым «обещалкиным» надо кое-что сказать…
Иду в Управление, чтобы найти там Андрющенко и взять его за горло. Нет никого. Чем больше начальник, блин, тем позже поднимается…
Навстречу мне уже идет Шабанин: матросы отказываются идти на работу. Прямо тебе броненосец «Потемкин», только не с мясными червями в борще, а с несчастной сечкой без масла.
– А кто отказывается? – спрашиваю Шабанина.
– Да все до единого, – растягивает губы Шабанин, словно радуясь. Позже я узнал, что он действительно радовался.
Подхожу к кубрику. Народ стоит у дверей на утреннем солнышке, покуривает, греется. Работа – не волк.
– Постройте группу, – отдаю ЦУ Шабанину. Группа построена в две шеренги, «равняйсь», «смирно», «товарищ старший лейтенант…», – все по науке, все привычно и обычно. Вот только без обычного «вольно» обращаюсь к правофланговому старшине 2 статьи Жуку:
– Вы не хотите работать?
От внезапного вопроса и официального «Вы» Саня даже теряется:
– Да нет, почему, я – хочу!
– Выйти из строя!
Саня по всем правилам делает несколько шагов вперед, затем поворачивается лицом к строю. В упор обращаюсь к следующему:
– Вы не хотите?
– Я хочу!
– Выйти из строя!
По одному перебираю весь строй. Образуется строй «вышедших из строя». Остается человека три. Доходит очередь до Рожкова. На мой стандартный вопрос Жора со слезами обращается к вышедшим из строя:
– Ну, что же вы? Мы же договорились!
Я повторяю вопрос. Рожков с отчаянием восклицает:
– Да! Я не хочу и не буду работать!
– Рожкову – оставаться на месте. Вы не хотите работать? – это уже вопрос к следующему. Оставшихся два матроса – «хотят», и переходят в новый строй. В бывшем строю остается один Рожков.
– Ну, вот теперь все ясно, – я обращаюсь к Шабанину. – Не хочет работать один Рожков, все остальные – хотят. Матросу Рожкову – в кубрик, можешь там отдыхать и спать. Остальных, – это уже команда Шабанину, – ведите на объект.
Шабанин поворачивает и уводит строй. Ко мне подходит ошарашенный Рожков.
– Товарищ старший лейтенант! Разрешите мне стать в строй! Я буду работать!
Слабачок, не выдержал и минуты. Холодов на Новой Земле больше суток держался.
– Нет, Жора, ты не хочешь работать. Зря я тебя на сварщика учу: не нужно это тебе. Тебе, как Косте Кулиеву, отдыхать очень хочется, – я бью по самым больным местам. Балабол и горлопан Рожков – мужик все же трудящийся и деятельный. Кулиева он презирает. Сварщиком Жора хочет стать до дембеля: в его родных местах – огромный спрос на сварщиков, там их на руках носят.
Рожков со слезами на глазах начинает уже прямо канючить. Он, дескать, страстно мечтает вернуться к радости свободного труда. Чтобы не заржать, я поворачиваюсь и ухожу. Жора это воспринимает как разрешение и рысью несется догонять строй…
Иду к Баранову. Докладываю ему, что его собственный зам может устроить в гарнизоне вторую серию броненосца «Потемкин». Такое кино нам надо? Полковник Баранов – настоящий командир. Он темнеет лицом и прощается со мной. На другой день питание матросов идет строго по аттестату…
Воссоединение
Минует печальное время,
Мы снова обнимем друг друга…
На несколько дней я приезжаю в Ленинград. Эмма уже почти закончила работу над дипломным проектом, день защиты уже назначен. То ли надо было что-то напечатать для диплома, то ли я хотел «обрасти» настоящей канцелярией, но почему-то нам безумно захотелось иметь в своем семейном арсенале пишущую машинку. Вообще-то множительные аппараты – предмет строгого надзора «органов». В любом учреждении пишущие «Ундервуды» перед выходными и праздниками сдаются и опечатываются. Конечно, это делается, чтобы диссиденты, которых мы клеймим, сажаем или периодически выгоняем за границу, не могли печатать свои растленные опусы и прокламации по праздникам: пущай отдыхают хоть в это время.
Не совсем понятны эти строгости: пишущие машинки можно приобрести в магазине: купи себе и твори. Новенькие роскошные «рейнметаллы» для формата А3 мне не по карману. Есть портативная «Москва», но она тоже дорога, да и буковки в ней маленькие – не солидно как-то. В комиссионке на Жуковского находим малогабаритную «Олимпию» с большими буквами, сравнительно дешевую. Правда, в ней с муками передвигается каретка, и заедает половина букв, но я исполнен уверенности: вылечу.
Из части идет грузовик в Котово, и мы отправляем с ним кое-какие габаритные вещи, в том числе – наше никелированное чудо с шишечками. Не то, чтобы шишечки стали нам не милы. Просто такую «только кровать» нельзя ставить в наши 17 метров. Нам нужно нечто, на котором днем можно было бы также сидеть. В Котово же у нас – «полное ай – люли»!
Везу свою дорогую жену в новые палестины для ознакомления. Эмма – в восторге. Мы еще никогда не жили вдвоем в отдельной квартире с телефоном. Лес – красивый сосновый бор – начинается прямо от нашей улицы. За считанные минуты набирается туесок отличных маслят, которые сразу можно жарить. Чистый ухоженный городок, есть магазины и все, что надо…
Неделю мы счастливо живем в нашем раю. Устраиваемся надолго, обставляем жилище скромно, но удобно. Просторы – неописуемые. И главное: наконец мы вместе. Даже ремонт пишмашины не омрачает нашего счастья.
Ремонт оказался серьезным по зависящим от нас причинам. Болезни механизма – нашего пишмаша – обнажатся только после его разборки, и я бодро занялся этим увлекательным занятием. Сняв несколько букв с машинки, я сообразил, что все проволочки, тяги и крючочки на каждой букве имеют различные размеры и конфигурацию. Чтобы отыскать дорогу назад (значит, была надежда ее найти!), я взял чертежный лист и расчертил его на квадратики с обозначением всех букв и знаков. Теперь снимаемые детали я уже укладывал комплектами в нужную ячейку. Несколько смешанных комплектов, снятых «без ума», мне пришлось сложить на отдельную кучку: придется подбирать им место методом проб и ошибок. Этот метод еще называют методом «научного тыка». Неоконченную работу я отложил на следующий вечер…
Днем моя прелесть, моя молодая хозяйка, наводила порядок в вигваме и красивым глазом заметила безобразие. Тщательно распределила крючочки и тяги по оставшимся квадратикам, радуясь, что посильно участвует в нашем созидательном труде…
… В общей сложности около двух суток провел я за «научным тыком» теперь уже всех до единого крючочков и тяг пишмаша. Периодически я отвлекался, чтобы вытереть слезки любимой жене, которая умоляла меня простить ее, разбить проклятый пишмаш об стенку и начать новую счастливую жизнь без этого предмета…
Вставка – почти историческая. Этот пишмаш вот уже почти полстолетия живет с нами. Сначала он печатал все бумаги в Котово, затем – участвовал в написании книги по сварке, отпечатывал в нескольких экземплярах всякие важные семейные заявления, доклады и даже стихи. До тех пор, пока наш сын не привез мне для ознакомления старенький 386-й компьютер и принтер. Сейчас пишмаш бесполезно занимает место в шкафу. Я просто не могу его выбросить на свалку – он живой, он – мой друг. Мы в ответе за тех, кого вылечили.
Эмма вскоре убывает в Питер на защиту дипломного проекта. Возвратится она к Октябрьским праздникам, чтобы остаться в Котово. Если отсюда придется уезжать, то уедем вместе. Теперь мы будем вместе везде, куда бы ни забросила нас военная судьба…
Овощное рагу в воинском исполнении
Здравствуй, милая картошка,
Пионеров идеал!
Андрющенко меня уже забыть не может. В пятницу ко мне вестовой солдат приносит от него записку на клочке бумаги: «Командиру в/ч ст. л-ту Мельниченко. В воскресенье к 9:00 всему Вашему л/с прибыть к КПП для поездки в колхоз «Победа» на уборку овощей». И размашистая подпись: «Подполковник Андрющенко».
– Товарищ подполковник сказал, чтобы вы дали ответ, – добавляет солдат.
– Передай товарищу подполковнику, что матросы никуда не поедут!
– А писать ничего не будете? – спрашивает удивленно солдат.
– А что еще писать? Разве непонятно?
Вышколенный солдат из охраны арсенала просит разрешения выйти и уходит. Ишь, что придумал подполковник! Я уже знаю, что с окрестными колхозами и совхозами у него крепкая дружба и «совместное распитие». Все свободное время солдаты караула и арсенала проводят на колхозных полях на картошке, свекле, моркови, капусте. Но почти ничего из этих овощей на стол к ним не попадает, кроме казенной сечки и шрапнели. Мне, конечно, до этого дела нет: я не прокурор. Но мои матросы пахать на благо лично тов. Андрющенко не будут. Стоит один раз поддаться, так и будут использовать матросов для всяких своих дел. Если работать – то на себя: у нас тоже дел невпроворот.
Объявляю на воскресенье рабочий день. Успешно молотим до обеда, затем уходим отдохнуть. Баня у нас по графику через 10 дней, политзанятия – с утра по субботам, так что иногда и отдохнуть надо. В понедельник меня вызывает на ковер замполит Баранова полковник Пржеборо. Рядом с ним сидит Андрющенко. Замполит – огромный, рыжий, вальяжный. Разговаривает снисходительно: старший лейтенант должен почитать за милость, что к нему обращается такая важная персона. Вопрос ко мне один: почему я не выполнил распоряжение по гарнизону, в котором живет мой личный состав? Я, старший лейтенант, которому приказал целый подполковник? Какое право я имею нарушать Устав гарнизонной службы?
Этот разговор я предвидел и подготовился к нему. Даже пролистал Уставы, на которые ссылается замполит. Сам-то он их, наверняка, не читал давненько. Отвечаю спокойно, коротко, четко – как на экзамене. Повышать голос и волноваться вскоре начинает замполит. Андрющенко сидит молча, только переводит глаза с одного оратора на другого.
Требования гарнизонного и строевого уставов моим подразделением выполняются. Для помощи колхозам у меня нет сил, средств и времени: они без остатка уходят на выполнение важной задачи, поставленной командованием. Что касается воинских званий, то высокочтимые начальники должны знать, что командир отдельной роты (я) пользуется властью комбата, для которого предусмотрено звание майор – подполковник.
Полковник не ожидал такого квалифицированного отпора от старшего лейтенанта. Он теряет лицо и сбивается на мелочевку:
– А вот вы требовали для матросов улучшения питания, и вам пошли навстречу: все требования удовлетворили!
– За счет подшефных колхозов? – спрашиваю я.
– Да, да – в том числе – колхозов! – повышает голос Пржеборо.
– Можем посмотреть меню столовой за прошлый месяц? – предлагаю я.
Этот поворот разговора уже перестает нравиться Андрющенко, и он миролюбиво замечает:
– Но колхозам, нашим кормильцам, надо ведь помогать?
– Дело не в колхозах, а в воинской дисциплине! – уже вопит Пржеборо.
Прения сторон в таком ключе продолжаются. Хочется им укусить локоть, но не можется. Наконец замполит не выдерживает и обещает направить в мою часть представление о наложении на меня взыскания. Я пожимаю плечами:
– Это ваше дело.
После этого высокие недоговорившиеся стороны расстаются, взаимно недовольные друг другом. Вскоре этот разговор мне аукнется. Однако эти прения имели и другие последствия. Больше никто и никогда мне не предлагал послать матросов на картошку. А вот начальник гарнизона полковник Баранов просто прослезился у меня на груди, когда мне пришлось уезжать из Котово. Видно, и он натерпелся от своего вальяжного замполита. Забегая вперед, скажу, что Николай Андреевич после увольнения в запас стал в Ленинграде начальником КЭУ и помог мне решить очень важную задачу с устройством лаборатории, о чем надеюсь еще рассказать. Ничто на земле не проходит бесследно…
Ноябрьское побоище на Октябрьскую годовщину
И тайно, и злобно
Оружия ищет рука…
Эмма защитила дипломный проект, получила желанные корочки, приезжает в Котово. Вместе с ней приезжают в полном составе Лапшутики. Так мы в быту зовем семью Мещеряковых после обращения маленького Сани: «Ну, пошли, лапшутики!». Приезжают они к Октябрьским праздникам. Это уже несколько поводов праздника: воссоединение семьи, защита диплома, встреча с друзьями, годовщина Революции. Есть и еще поводы: мне на помощь подкидывают одного офицера – Гену Корзюкова и вольнонаемного инженера Женю Ивлева, который до этого работал в проектной группе.
Я выкраиваю время и готовлюсь: привожу в порядок свой дворец, закупаю продукты. Накануне праздника в группе тоже полно всяких мероприятий: политзанятия, строевые смотры, приборки. При внезапной проверке в каптерке «находятся» полтора десятка поллитровок, наполненных отнюдь не лимонадом. Хозяев, как водится, – нет. Бутылки перед строем, торжественно, под общие вздохи сожаления, опорожняются на землю. Алкоголь – наш враг № 1. Со всеми потенциальными «алканавтами» проведены душеспасительные беседы. На весь период праздников назначаются дежурные сверхсрочники, да и самому придется не раз заглянуть в кубрик. Конечно, держать полсотни молодых ребят взаперти нельзя. Большинство свободных от вахты могут получить увольнение с единственным условием: записать адрес места нахождения. Конечно, в пределах Котово: я не могу увольнять в Москву, Питер или Новгород.
Эмма с Мещеряковыми приезжает вечером 6-го ноября. Устраиваемся, ночуем. Праздничный обед назначаем на 12 часов 7-го ноября – 41 годовщину Великой и т. д. Сейчас нам телеящик объясняет, что это был мятежный переворот, сделанный к тому же на немецкие деньги. Для нас же это был великий и настоящий праздник, годовщина события, которое повернуло огромную страну на другую, более успешную дорогу…
Женщины – Эмма, Люда Мещерякова и Люся Корзюкова – приготовили прекрасный стол. Усаживаемся, шутим, смеемся. Мы – молоды и счастливы. Я, правда, чувствую за спиной полсотни «гавриков», поэтому в сторонке вешаю китель со свежим подворотничком.
– Да что ты переживаешь, – говорит Лева, – еще рановато для матросской пьянки: они начинают попозже!
Лева не постучал по дереву. Не успели мы поднять рюмку, как зазвонил телефон. Дежурный по городку сообщил, что в завязавшейся драке между солдатами и матросами, мой матрос ножом тяжело ранил четырех солдат-строителей.
За несколько минут я добежал к месту происшествия, оно рядом с кубриком. Взвод охраны, поднятый «в ружье» уже прекратил драку – все было на виду. Раненные солдаты доставлены в санчасть. Все ножевые ранения – в нижнюю часть живота. У троих солдат ранения сравнительно легкие, – с ними попытается справиться местный врач. Один солдат ранен серьезно, поэтому его надо транспортировать в Окуловку, а возможно – в Новгород.
Главный «убивец» уже доставлен на гауптвахту. Захожу в камеру. Это мой электрик матрос Борис Дементьев, до этого случая – дисциплинированный, спокойный и исполнительный. Да и сейчас он не производит впечатления пьяного. Вот только глаза у него какие-то мутные, бегающие. Он явно не понимает, что происходит. Вопросов будто не слышит, что-то бормочет…
Старшина, начальник гауптвахты, показывает мне нож, которым орудовал Дементьев.
– Это же мой нож! – узнаю я. – Пропал нож: теперь он вещественное доказательство…
Старшина соглашается. Этот перочинный с длинным лезвием нож я выпросил у тещи: он был очень удобен в командировках. Накануне Дементьев попросил его у меня на время. Сказал, что он потерял свой монтерский, а сейчас надо было разделать кабель…
Только часа через четыре всяких разбирательств и мероприятий возвращаюсь к своим гостям, голодный как волк. Гости уже тепленькие. Гена в полный голос поет душещипательную, даже можно сказать – «душераздирающую» песню:
…………………………………………
Он ей сказал: «О, вверх взгляните, леди,
Там в облаках бушует (!) альбатрос!
Моя любовь вас приведет к победе (?),
Хоть вы знатны, а я простой матрос.
Припев подхватывают все «свободные от вахты» так, что в скромной квартире создается полная иллюзия воспеваемого штормового безобразия на Черном море:
А море Черное ревело и стонало,
На скалы с грохотом катил за валом вал.
Как будто море чьей-то жертвы ожидало.
Стальной гигант кренился и стонал.
Знатная леди дала простому матросу … полный отлуп. И в этих экстремальных природных условиях простой матрос вынужден произвести со знатной леди действо, аналогичное хулиганскому поступку Стеньки Разина с персидской княжной. Жуткая, но вполне морская история: не в речку же какую-то бросил, а непосредственно в Черное море:
… и бросил леди он в бушующий простор!
Озабоченная Люся ходит следом за певцом и просит:
– Геночка, ну, не пей больше! Лучше – пой!
– Ты, Люся, дуй своей дорогой, а я – своей!
– Эммочка, ну скажи Гене, чтобы не пил больше: он тебя уважает. Ему нельзя пить: у него грыжа. Геночка, покажи Эмме грыжу!
Геночка вертит пальцем у виска и запевает очередной куплет… У него с Люсей размолвка по поводу будущего, незапланированного Геной, ребенка…
Вставка из будущего. Боже, сколько же лет прошло с тех, молодых, времен… Люси уже нет. Гена, капитан первого ранга в отставке, работает слесарем. Его ребенок давным-давно вырос, в звании кап-3 уволен из армии. Требовал разделить родительскую квартиру, добытую десятилетиями монтажной службы. Может быть, и это укоротило век Люси. При воспоминаниях о жене на глазах Гены появляются слезы…
Следующие недели проходят во всевозможных разбирательствах, докладах, прибытиях и убытиях комиссий и просто высоких начальников. Узнав, что в руках у преступника был мой нож, Пржеборо настойчиво, на всех уровнях, пытается доказать, что это именно я, кровожадный старший лейтенант, вложил в руки бандита нож и послал «на дело». («Пржебору» эту скоро выгонят в отставку: думаю, на моем примере все увидели, как он агрессивно глуп).
Приезжает и новый замполит нашей части полковник Пилюта Сергей Степанович и еще какое-то строевое начальство из УМР. Меня обвиняют в низкой требовательности, из-за чего и пошатнулась дисциплина личного состава. Смотрят журнал взысканий. За пару месяцев я объявил взысканий, в том числе – гауптвахты, в несколько раз больше, чем за предыдущие четыре года службы…
«Помощь Вам будет оказана в приказе» – старинный, но вечно юный исход всех разбирательств по воинской дисциплине. По моему ЧП следует приказ по УМР, в котором мне объявляется самое большое взыскание для офицера: «предупреждение о неполном служебном соответствии». Конечно, это несколько лучше, чем, например, – «полное служебное несоответствие»… В причинах сурового взыскания фигурировало также загадочное для многих «нетактичное поведение с руководством». Это уже был крупный «намек» на Пржеборо и Андрющенко. Хорошо, хоть Циглер не жаловался…
Чтобы кончить тему, следует забежать немного вперед. Начальство поняло, что в моей группе концентрация разгильдяев превысила критическую величину. После их увольнения в запас (дембеля), поступающие матросы были вполне нормальными ребятами, и больше вопросов с дисциплиной не возникало. Саша Жук там женился и остался на сверхсрочную службу. Балабол Жора Рожков «перековался»: он стал хорошим сварщиком и после «дембеля» еще поработал в нашей части по вольному найму. Мое жуткое клеймо неполноценности просуществовало недолго. К концу года по представлению 6-го Управления ВМФ Леву Мещерякова и меня наградили орденами Красной Звезды. Две записи в моей карточке взысканий и поощрений сочетались плохо, поэтому взыскание решили снять. Снять орден было труднее…
Неожиданно начинаются разборки среди моего «комсостава» – Жени Ивлева и Ионаса Вайтекунаса. Ваня – чрезвычайно вежливый и предупредительный, не только начальника – муху не обидит. И тем не менее ко мне с жалобой на него пришел Ивлев: Вайтекунас, главный старшина сверхсрочной службы, его, инженера Ивлева – «послал» подальше. Начинаю «слушания сторон». Ионас со слезами на глазах рассказывает, что Ивлев отдал ему распоряжение, а затем раз десять повторил для верности, чтобы не забыл, так как считал распоряжение очень важным. Вайтекунас – человек очень исполнительный, обиделся, что с ним обращаются как с недоумком, ну и «послал» – может быть впервые в своей военной жизни, он и формулу «посыла» по-русски недавно только изучил… С Иваном все понятно: его я знаю еще с Читы матросом-первогодком. Говорю ему укоризненно:
– Ваня, нехорошо начальство посылать…
У Ивана на глазах слезы, он страдает даже от такого замечания…
С «посланным» – сложнее. Он молодой, интеллигентный, неразговорчивый, всегда углубленный в себя. О таких в матросской вольнице говорят: «прибитый мешком из-за угла». У Жени «одна, но пламенная страсть»: герои Гражданской войны. По этой войне у него кубометра два литературы, он знает и помнит всё и обо всех: Уборевич, Щорс, Пархоменко, батько Махно со всеми соратниками и еще сотни других, – для него они, если не родные, то знакомые до последней косточки люди. Стоит Женю разговорить по его «пунктику», и он из «буки» превращается в пламенного трибуна. Особенно достается тем, кто ставил к стенке его любимых героев… Женя собирается надеть погоны добровольно, по семейным обстоятельствам. Рядом с ним я чувствую себя уже старым и опытным офицером. Вспоминаю свои первые шаги, уроки Г. Я. Кащеева, и начинаю повышать командирский уровень Ивлева.
– Женя, ты знаешь, как бабушка допрашивала Савушку и давала ему советы?
Женя не знает, и я ему пересказываю почти детскую, но весьма ядовитую, «считалочку»:
«Где ты был, Савушка?» «На деревне, бабушка», – вежливо отвечает воспитанный Савушка. «Что делал, Савушка?» – и так далее. На тридцатом вопросе выдержка и терпение очень хорошего Савушки исчерпаны, и он отвечает не по теме: «Иди на …, бабушка!». После моей притчи Женя обиженно поджимает губы и уходит задумчивый: мой ответ его явно не устраивает. А может быть, он не понял всей трагической глубины отношений бабушки и Савушки, и это моя недоработка?
Спустя неделю Женя опять приходит с такой же жалобой: его «послал» уже Шабанин.
Это уже серьезно. Надо забыть анекдоты и начать процесс воспитания. А как???
– Женя, а почему тебя посылают? Почему – только тебя?
– Не знаю… – задумывается Женя.
– Ну, когда решишь эту задачу – скажи. Тогда и будем наказывать Шабанина.
Наверное, Ивлева еще не раз «посылали», но ко мне он больше не обращался. Деловой уровень его потихоньку растет. Вскоре он надел погоны, мотался по монтажам как офицер группы КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика). Дослужился до майора, уволился, работает «кочегаром» – оператором газовой котельной. Встретились мы с ним на юбилее части осенью 2004 года, повздыхали о днях золотых… О героях Гражданской я Женю не спрашивал: зачем травмировать человека, если в нашем мире все черное вдруг стало белым и пушистым. И наоборот…
Котовские каникулы
И жизнь
хороша,
И жить
хорошо.
(В. Маяковский)Мы с женой очень любим фильм «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн. Смотрели мы его несколько раз, неизменно восхищаясь этой сказкой и главной героиней. Особенно – теперь, когда «телеканализация» заполнена насилием и всяким мусором. Оглядываясь на собственную жизнь, мы осознали, что 1959–1960 годы, проведенные в Котово, тоже были нашими «каникулами». Котовские каникулы отличаются от римских примерно так же, как Котово от Рима, а статус-кво жены монтажного офицера от статуса принцессы. Но все же есть и общие черты: это было счастливое время, а прелесть моей жены не уступала прелести принцессы. Я люблю их обеих…
Зима в Котово ослепительно красива. Огромные сосны вдоль нашей улицы одеты в иней, великолепно сверкающий на синем небе. Сугробы чистейшего снега совсем не похожи на питерские сборники сажи. Полукилометровая дорога на объект проходит через сосновый лес и тоже навевает мысли о сказочном королевстве…
Работы на объекте много. Морозы ее тормозят изрядно, но графики жесткие, и нам нельзя расслабляться. Я использую читинский опыт: – каждый офицер имеет свой личный состав и практически работает бригадиром. Теперь у меня на объекте работают Корзюков и Ивлев. Гена отвечает за гнутье и подготовку арматуры. Ивлев занимается правкой тонкой арматуры. Шабанин – материально ответственный: наши склады забиты оборудованием заказчика и своим. Вайтекунас – в бригаде Ивлева. Матросы работают отлично: все в одном месте, все на виду.
Я – тоже работаю бригадиром, на котором еще и обязанности начальника участка: личный состав, политзанятия, документация, форма 2, внешние связи, подготовка грядущего монтажа и т. д., и т. п. Пока что я плотно занимаюсь сборкой, сваркой и монтажом каркасов. Но скоро начнется бетонирование, и мне надо готовить также всю механику тяжелых и герметичных затворов, ставить и выверять закладные. Короче: дел по горло, все работают от души. В отличие от Новой Земли – рабочий день для личного состава – нормальной продолжительности.
Потихоньку и я привыкаю к нормальному ритму работы, когда рабочий день не превышает 12 часов. «Ямщик, не гони лошадей – мне некуда больше спешить». Седок это произносил с болью и надрывом, а я – с радостью: в теплом доме меня ждет любимая жена. Даже – с обедом, а вечером – с ужином. С продуктами в магазине – не ахти, и иногда Эмма берет обеды просто в столовой: там они довольно приличные. С очередью в магазине жена познала особенности жизни в военном городке, а заодно понятия о пользе воинских званий. С женой Володи Николаева она стояла в очереди за чем-то лакомым, которое кончалось. Внезапно вплыла дама в мехах и двинулась непосредственно к продавцу, минуя очередь. Эмма собралась, было, провозгласить классическое «Вас тут не стояло», но более опытная Ира Николаева своевременно дернула ее за рукав:
– Ты что? Это же комендантша!
Очередь из дам военного городка распределяется строго по должностям и званиям мужей: таков закон джунглей, в том числе – военных.
Постепенно Эмма вполне осваивается с новой жизнью. Ведет всю документацию по монтажному участку: наш пишмаш выдает на гора вполне качественные бумаги. Особо следует отметить «представительские функции» жены. Приведу два примера.
На нашем объекте принимал выполненные работы и визировал форму 2 весьма въедливый инспектор КЭУ ЛенВО. Он все записанные для оплаты объемы работ тщательно проверял в натуре, не жалея ни своего, ни чужого времени. Все приписки безжалостно вычеркивал. Для Лопаткина его приезд был божьим наказанием: строители после каждого визита несли ощутимые потери, не говоря о нервотрепке. Когда этот инспектор первый раз сверял мою форму 2, то времени на сильном морозе тоже было потрачено много, но никаких приписок он не обнаружил. Я уважаю людей, скрупулезно выполняющих свой долг. Да и жалко стало замерзшего человека, поэтому пригласил его домой на чаепитие. Эмма блеснула гостеприимством. Мы расстались добрыми друзьями. С тех пор инспектор никогда не проверял объемы работ, показанные мной в форме 2, а сразу ее подписывал. Лопаткин и Николаев завидовали черной завистью, я же отшучивался:
– О, солгавшие единожды! Горька ваша доля! Но – Бог милостив: молитесь, ищите и обрящете!
Следующим нашим визитером был Дмитрий Николаевич Чернопятов, человек, которого я глубоко уважал, от которого многому научился. ДН внимательно изучил наше производство на объекте, побывал на складах и в кубрике; кажется – остался доволен. Чтобы поработать с документацией, мы просто обязаны были зайти в офис, который по совместительству был также и нашим жильем. Эмма впервые познакомилась с любимым командиром, которого раньше знала только по моим рассказам.
Все документы и чертежи монтажного участка заботами моего нештатного секретаря находились в идеальном порядке, что ДН сразу же оценил. Конец работы с бумагами незаметно перешел в обед. Среди прочего Эмма накормила нас какими-то удивительными пирожками, от которых ДН был в восторге, сказал, что только украинки могут так вкусно готовить…
Подозреваю, что я и раньше был «любимчиком командира». Теперь он без всяких колебаний, причем – первым номером, присоединил туда и Эмму…
Быт нас не особенно отягощает. Однако я замечаю, что нагрев воды для мелкой стирки и мытья посуды занимает у жены много времени. Быстренько «соображаю» кипятильник мощностью киловатт 5–6, предварительно «реконструировав» плавкие вставки на щитке. Теперь ведро воды согревается за минуту. Правда, при этом на всей нашей линии садится напряжение, но ведь только на одну минуту! Однажды Эмма пожалела соседку Иру Николаеву, которая грела воду для «стирки» маленьких дочек, и ссудила ей кипятильник… Николаевы потом сидели без света несколько часов, пока я не пришел с работы. А щиток в их квартире мне пришлось капитально ремонтировать…
Вставка про электромузыкальный эффект. История нашего кипятильника имеет и музыкальное продолжение. Покидая Котово, Эмма не смогла расстаться с любимым прибором и забрала его с собой. Поскольку в Питере он был не нужен, то поехал в Брацлав, где и пребывал в забвении из-за своей иррациональной мощности. Мы были в отпуске, а я – так еще «у тещи на блинах». Читали, отдыхали, загорали, в летней кухоньке варили изысканное варенье из зеленого крыжовника, начиненного орехами…
Квартира директора детдома является одним крылом детского корпуса. Там дети выставили на улицу свой «радиолык» и начали крутить пластинки. Волей-неволей мы стали их слушателями тоже. Музыка состояла из разных песен и песенок, и нам было даже интересно. До тех пор, пока ребята не зациклились на одной пластинке – «Мама». Конечно, – «мама» понятие для детдома больше, чем святое, поэтому десяток проигрываний пластинки мы перенесли спокойно. Тем более, – я, закаленный китайским разучиванием «Голубки». Когда счет проигрываний «Мамы» стал приближаться к третьему десятку, мы поняли, что нам бы хотелось уже послушать что-нибудь и о папе. Сказать об этом детям – нельзя: не замахиваться же на святое. Решение было техническим: применить дистанционное управление репертуаром. Тут и пригодился наш суперкипятильник. Просто надо было включать нагрев воды в ведре. При первых аккордах «Мамы» вода в нашем ведре начинала согреваться, а напряжение садилось так, что «радиолык» начинал вещать угасающим басом. Другие пластинки крутились нормально. После четвертого неудачного запуска «Мамы» ребята пришли к правильному выводу: «Пластинка испортилась».
С соседями по дому мы жили хорошо, хотя и не проводили с ними совместных маневров и «распивочно-закусывательных» мероприятий. Особенно я подружился с Володей Николаевым, длинным любимцем женщин. Он там «очень дружил» с какой-то штукатурщицей. По этому поводу его жена Ира плакалась в жилетку Эмме. Оправдывая Володю, я предположил, что, возможно, так выражается его новаторство в отделочных работах в строительстве. Лопаткин, будущий Начальник СУ ЛенВО, казался мне мужиком довольно нудным и тягучим, но именно он прокатил Эмму на коляске своего мотоцикла. Эмма, к счастью, – выжила, но эта поездка стала важным аргументом против нашего мотоцикла, о чем – дальше.
Интересной была пара Леши Попова и его жены Эльвиры. Против желания мы близко познакомились с ними благодаря особенностям нашего общего «бунгалы», в котором все четыре спальни располагались рядом. Эльвира, плотная большая женщина цыганского типа, бывала у мужа наездами в праздники. Чтобы уберечь своего начинающего уже болеть алкоголика, Эльвира на мероприятиях «принимала на грудь» вместо него. В ночи рассвирепевшая супруга трясла бедного и трезвого Лешу и орала в полный голос:
– Разжалую, … твою мать! Уволю, блин!!! Выгоню из армии, … мерзавец!
Утром Эльвира как побитая собака с опухшей мордой (лица), но с надеждой на отрицательный ответ, вопрошает Эмму:
– Колька все – все слышал???
Эмма гуманно успокаивает ее, что я спал без задних ног. Эльвира немного успокаивается, совершенно забыв, что уши растут совсем не на задних ногах…
… Весеннее и летнее Котово нисколько не хуже зимнего. Запомнился коллективный выезд на рыбалку. Кроме нас с женой, рыбачили также Гена Корзюков с Люсей и Шабанин с женой Тоней. Именно он нашел это благословенное местечко и доставил нас к нему. В обрамлении сосновых лесов спокойная речка с коричневатой торфяной водой и песчаными отмелями – удивительно хороша. Мы остановились в домике, где проживала пожилая пара: мужик был то ли егерем, то ли лесником. Наловили рыбы мы недостаточно для ухи, но хозяйка радушно накормила нас необыкновенными пирогами, в которых целая рыбина запечена в тесто…
Больше года мы прожили в «Рае № 2» – Котово. После всех передряг в первые годы совместной жизни это место и время для нас оказались действительно райскими… Изгнали нас из этого рая вовсе не за вкушение яблок, а по суровой производственной необходимости, о чем – дальше. Но еще до изгнания в нашей жизни наступила новая эра – Эра Автомобиля.
21. Автомобили, автомобили…
Автомобили, автомобили,
Вы все пространство заполонили…
(Детская песенка внука Славы)Пришествие четырех колес
Автомобиль – роскошь, которая иногда бывает и средством передвижения.
(Из собственных наблюдений)Мой мичман Шабанин владеет автомобилем «Москвич 401», а мечтает сесть на «Волгу». Для осуществления этой мечты нужна такая уйма денег, что мечта кажется нереальной. Однако Макарий Михайлович с неукротимой энергией и настойчивостью работает в этом направлении. В Котово с ним живут жена Тоня и дочка, которые ему просто не могут не помогать. Он их посадил на голодный паек во всем – от харчей до одежды. Тоня – неплохая портниха, дома она может заработать больше, чем на производстве. Так вот ММ и держит ее дома для этой работы, а все средства идут в копилку «мечты». Дисциплина в его семействе – прямо железная, всякое свободомыслие подавляется на корню, все нацелено на результат, все силы – на копилку. Но самый существенный вклад в эту копилку должен внести «Москвич».
«Это было в те далекие времена, когда…», – так начинается фильм «Фанфан Тюльпан». Все наши действия современному человеку будут непонятны, пока не раскрыто это самое «когда». После денежной реформы 1947 года в продаже в СССР впервые появились автомобили! «Москвич» стоил около 9 тысяч рублей, «Победа» – 15 тысяч, ЗИМ – 40 тысяч рублей. Это были настолько огромные деньжищи, что все с уважением осматривали автомашины примерно так, как в Эрмитаже смотрят на большую, очень красивую, но неприменимую в быту вазу из малахита. Покупателей автомобилей народ воспринимал как богатых, но эксцентричных марсиан. Конечно, есть подпольные миллионеры, но для них такая «засветка» смерти подобна…
Потихоньку обстановка меняется: машинами обзаводятся все больше людей. Денег стает много, они накапливаются на книжках и в чулках, образуя «отложенный спрос»: стоящих товаров-то не было. Но дело, наверное, не столько даже в деньгах, сколько в преодолении предрассудков. Лед тронулся, и через короткое время автомобиль стал страшным дефицитом. В магазинах, торговавшими автомобилями, периодически устраивали записи в очередь, когда народ по несколько суток стоял в очередях, чтобы получить пяти-шестизначный «номер надежды». Это была очень далекая надежда, поскольку поступления машин были мизерными. Позже, когда начал работать ВАЗ, машин стало больше, но они распределялись по крупным организациям, которые создавали уже свои очереди и приоритеты…
Тогда же купить легально машину по номинальной цене стало вообще невозможно, из-за чего резко возросли цены на подержанные машины, причем, они продолжали непрерывно повышаться. Купивший новую машину мог ездить на ней несколько лет, затем – продать вдвое дороже.
Вот такая была обстановка, когда Шабанин в шутку предложил мне купить у него машину «Москвич 401» за 15 тысяч рублей. Сначала я только хмыкнул: откуда я мог взять такие деньжищи… Постепенно мной начала овладевать идея: а может быть, в самом деле? Все-таки, автомобили – моя вторая, военная, профессия. На чем я только не ездил в колхозе, затем на Новой Земле. Да и здесь все большие грузовики в зону я заводил сам: водителей туда не пускала охрана на КПП. И мои права, полученные в институте – действующие! А еще – голубая мечта!
Свои мысли и сомнения я высказал любимой жене. Пока рассказывал, кое-что осознал и сам с большим удивлением. Оказалось, что все мои, самые заветные и несбывшиеся мечты были о транспортных средствах! В войну в Казахстане – как я мечтал иметь лыжи! Мне снилось, что приходит порученец Сталина и вручает мне настоящие, хорошо загнутые лыжи. Не сбылось. После войны, когда избранные катались на велосипедах, – как мне нужен был этот велосипед! И здесь – не получилось: недоступно было мне это чудо техники. Во время учебы в институте мне совершенно необходим был мотоцикл. Такой, какой был у Владьки Крыськова – ИЖ-49, чтобы быть свободным как муха и летать на нем в Брацлав и Деребчин! Опять – ничего не получилось. И вот теперь – автомобиль. Жизнь пройдет напрасно, если и это не сбудется… Может быть – мотоцикл с коляской: он дешевле?
«Она меня за муки полюбила», – Эмма становится стойкой сторонницей автомобиля, лишь бы я был только счастлив! Вариант мотоцикла с коляской она яростно отвергает: ей хватило опыта километровой поездки на мотоцикле Лопаткина. Именно в это время была дана великая клятва никогда – никогда! не садиться в кастрюлю, несуразно прикрепленную сбоку этой тарахтелки!
Начинаем подсчитывать свои ресурсы. Их, конечно, не хватает. И не хватает очень много. Эмма предлагает занять у родителей. В целом – я против: надо жить по средствам. Но, если по-честному, с последующей отдачей, – один раз можно. Пишу письмо Федору Савельевичу, объясняю, что автомобиль сейчас, в условиях непрерывного роста цен – это копилка на колесах. Это я к тому ввернул, чтобы дорогой тесть не сомневался, что долг мы обязательно вернем. Федор Савельевич невнимательно прочитал мое письмо, что затем нас смешило многие годы. Он отвечает: «Ну почему вы, дети, пишете, что «Москвич» – это коптилка на колесах? Это вполне нормальная машина!».
Решение принято, и все начало вертеться в одну сторону: мы ищем деньги. Эмма перебирает свой гардероб и все бросает в ненасытную пасть механизации: кофточки, платья, блузки, подаренные родителями дорожки, коврики и т. п. На мои вериги покупателей нет, и мой алчущий взор устремляется на фундамент семейной жизни – кровать с никелированными шишечками. Если есть любовь и матрац, то с родной женой можно спать и на полу…
Бабке, которая из ближней деревни нам носит молоко, нужна именно такая кровать. Договариваемся: цена 300 рублей, с моей доставкой. Пока я добывал машину, бабуля отказывается от покупки: слишком большой шик для ее деревни, завистливые односельчане могут не выдержать.
– Нет, нет, бабушка, все уже решено, вот и машина подъехала. Как вы можете отказаться от такой прелести всего за 300 рублей???
Я загружаю кровать и привожу ее к бабуле. Потом она хвалилась:
– Ой, какая красота! У меня вся деревня перебывала: любовалась шишечками! А уж как мягонько спать!
Какие-то деньги мы занимаем у родителей. Правда, потом они категорически отказались получить наш долг…
Позже я с удивлением уразумел, что продавать старую машину знакомым, тем более – начальству, – себе дороже. Все грядущие поломки и недочеты в машине обращаются на бывшего владельца. Наверно, об этом догадывался и Шабанин, но отступать ему уже некуда. Тем более, что я принял его, несколько завышенную цену, не торгуясь. Шабанин едет в Ленинград, проходит там непонятную операцию «техосмотр» и заново окрашивает машину. Я прошу его окрасить ее в серый цвет, который мне тогда почему-то нравился, но тут Шабанин непреклонен: цвет останется «родной» – «беж с краснинкой».
Этот цвет мне очень нравится до сих пор. На замурзанной до предела машине стоило протереть фары и никелированные детали, – и она смотрелась как чистенькая и новая. А уж если хорошо отмыть ее – она вообще ставала нарядной и светлой. Во всех своих последующих машинах я хотел иметь именно этот цвет, но бывали только похожие. Кроме того, я понял, что перекрашивать без полной разборки машину в другой цвет – последнее дело: старая краска начнет проявляться в самых неожиданных местах.
«Манюня» Первая
Ранней весной 1960 года «Москвич 401» стает нашей собственностью. Мы с Шабаниным едем в Питер оформлять продажу-покупку. Я сажусь за руль легковой машины фактически – впервые. Тем более – в условиях интенсивного городского движения. Шабанин морщится от моих рывков-толчков. Я еще не чувствую своего положения на дороге и ориентируюсь по проекции капота на бровку, – просто смех. Возле Комаровского моста меня зажимают с двух сторон огромные МАЗы, я вижу вокруг только их колеса, – страшно, аж жуть… Что делается сзади – в зеркальце через маленькое заднее окошечко – плохо видно. Да, собственно я туда и не смотрю: хорошо бы увидеть все впереди. Чтобы показать едущим сзади, что я поворачиваю налево, следует приоткрыть левую дверь. А если направо – еще хуже: надо опустить стекло и выставить левую руку, согнутую в локте. А рук только две, ими еще надо рулить и переключать передачи. А педали слишком маленькие, их потерять – раз плюнуть! Ох, недоработал фюрер этот «Опель кадет», из которого москвичи потом слепили свой «четыреста первый»! Да еще при изготовлении «усугУбили» многое, что я узнаю несколько позже. И все-таки – автомобиль есть, и он бегает!
Возвращаюсь в Котово уже бывалым водителем. Мой первый рабочий рейс – встретить Эмму из санатория в Саках. Поезд в Окуловку приходит очень рано, и я завожу будильник так, чтобы иметь запас времени. Будильник не срабатывает. Я просыпаюсь в то время, когда в Окуловке поезд уже подходит к перрону. Как ошпаренный вскакиваю, наспех одеваюсь. Благо машина – под окнами, для нее 10 км – не расстояние, хоть дорога и не ахти…
На полпути мой аппарат пару раз чихает и останавливается. Лезу под капот: что там могло произойти??? Второпях что-то отвинчиваю, что-то подкручиваю. Не помогает – не заводится. Беру себя в руки – начинаю думать, вместо «трясения дерева». Версия: нет бензина. Отвинчиваю бензопровод: да, он сухой. Почему, когда у меня полный бак? Над бензонасосом стеклянный отстойник подозрительно коричневый. Надо снять. Только бензонасос размещен рядом с раскаленным коллектором. Перчаток нет, в брезентовых рукавицах – не отвернуть. Руки – заживут, отворачиваю. В отстойнике полно грязи. Вычищаю, ставлю на место. Подкачиваю бензин рычажком на бензонасосе. Машина завелась. Рву со старта. Через 50 метров – опять глохнет. Повторяю все предыдущие операции. Заводится. Проезжаю опять только 50 метров. Остервенел. Повторяю все сначала. Опять проехал 50 метров, опять заглох. Руки уже все обожжены, но я упорно продолжаю двигаться как кенгуру. Со времени прибытия поезда прошел уже почти час. Я уже озверел. Если бензонасос не работает, то как же он подает бензин при ручной подкачке??? Бессмысленно шевелю рычажок подкачки и вдруг замечаю, что он может фиксироваться и во втором положении внизу. Оставляю его там. Машина заводится и больше не глохнет. После ручной подкачки я оставлял бензонасос в выключенном состоянии! Такая идиотская конструкция бензонасоса была только в одном 401-м «Москвиче» и нигде больше!
Эмма меня не дождалась. С тяжелыми чемоданами она пошла на автобусную остановку. Когда я вернулся домой, она была уже там…
Лиха беда – начало. Первая машина обращалась с нами очень нехорошо и дальше – все шесть лет. Вот краткий перечень ее грядущих проделок, некоторые из них я для наглядности собрал вместе. Например: отломался рычаг переключения передач, расположенный на руле. Она это проделала посреди потока машин на Невском проспекте, мне даже трудно было выйти из машины.
Коробка передач у нее заклинила посредине Литейного моста. Поработал прямо на мосту под машиной, как-то поставил на нейтраль, начал голосовать… Сердобольный грузовичок взялся меня доставить в Автово. Остановка по красному светофору. Дают зеленый. Грузовик трогается, трос обрывается, но «манюня» (партийная кличка нашей машины) успевает выкатиться на трамвайные пути и застопорить движение в обе стороны. Кстати, останавливать движение – ее любимые проделки. Например, колесо у нее спускает на винницком главном мосту, по которому движение идет в один ряд по глубокому желобу.
Еще у нее пунктик – тормоза. Пройти техосмотр без бутылки коньяка на заднем сиденье – вообще невозможно: одно колесо никогда не тормозит юзом, а именно «на юз» проверялись тогда тормоза на техосмотре. Если у него выбрать все зазоры, перестает тормозить другое. Вот мы в Деребчине, преодолевая первобытную грязь, взбираемся на высокую гору. И тут у нас полностью вытекает вся тормозная жидкость. Иду пешком в завод, где мне сваривают съемник для снятия заднего барабана. Перебираю всю систему, заливаю туда добытую жидкость. Выезжаем из мест обитания во чисто поле. И уже здесь тормоза намертво заклинивают, все до единого…
Едем в отпуск. Машина ведет себя изумительно. Радостно въезжаем в праздничный Киев. День Молодежи, все улицы заполнены веселящимся народом. На самом запруженном бульваре Шевченко наша, украшенная снаружи канистрами и большой задней рессорой, «манюня» показывает норов: движок работает, но не тянет, и мы еле ползем. Вдруг движок взвывает, и манюня прыгает как тигр. Такими рывками и движемся среди народа, вызывая у него подлинное веселье и фонтан сочувственных советов. Глохнем вообще возле изумленной гаишницы на Евбазе, затем вприпрыжку движемся дальше. Я как в бане, в которой забыл снять зимнюю одежду. Намечаю: допрыгаем до Святошино и там остановимся смотреть карбюратор. За двести метров до намеченного места мотор начинает работать мощно и ровно. Мы едем дальше опять хорошо…
После шести лет неслыханных наслаждений решаем продать машину в Брацлаве: там есть знакомый покупатель, которому машина понравилась в прошлом году. Правда, вышел закон: продавать только через комиссионный магазин по месту жительства. Но наш родственник, начальник областной ГАИ Иван Бондарь, обещал помочь. Еще в Ленинграде привожу машину в порядок, окрашиваю ее, полирую: манюня просто сверкает. Приезжаем в Брацлав. Покупатель будет только через несколько дней. Чтобы на Ее Великолепие и муха не села, на багажник напяливаем покрывало… Вот приходит покупатель, мы снимаем покрывало и ахаем: по всей машине вместо краски висят безобразные струпья… Последняя проделка манюни нам обошлась в копеечку… Кстати, почти все машины, на которых я ездил, после принятия решения о их продаже – сопротивлялись. Чаще всего они влезали в ДТП, которое делало невозможной их продажу… Я и раньше подозревал, что автомашины – живые и все понимают. Я уважаю свои машины, поэтому никогда не снимаю с них установленные мной приемники, антенны, другие прибамбасы. Они ведь к ним привыкают, верно?
И все-таки, и все-таки: несмотря на все ее проделки, – я люблю свою первую машину! Во-первых, она Первая. Именно она привела нас в мир автомобиля, из которого мы уже не можем и не хотим уйти. Я пишу только о Ее проделках. Она могла бы много рассказать и о моей «автосерости», которая ей наносила травмы, причиняла боль…
Во-вторых, она за шесть лет показала нам около 100 тысяч километров нашей бывшей Большой Родины, которую по-другому мы бы никогда не увидели.
Есть и третья причина. Она, наша машина, могла нас троих, вместе с нашим не родившимся еще сыном, запросто убить, но – не сделала этого. Об этом случае – дальше.
Первые авторадости
… наматываю мили на кардан…
(В. В.)Начинаю совершенствовать машину, готовить ее к дальним странствиям. Первое дело – установить указатели поворотов и тумблер переключателя. Затем – специальный багажник над наружной запаской для двух канистр. Для регулировки клапанов и ревизии двигателя, снимаю его и переношу на веранду. Без всяких моих просьб к этим работам подключается молодой парень с соседнего дома. Он работает фрезеровщиком на арсенале. Это – Георгий Федорович Бельский, с которым мы будем потом работать вместе долгие годы. Невысокий, ладно скроенный, разговаривает с белорусским акцентом, трудолюбивый и безотказный.
Вставка-реквием. Это был удивительный человек с воистину золотыми руками, влюбленный в технику. Ему не хватает образования, приходится до всего доходить самостоятельно. Слесарь Жора – просто блестящий: может изготовить любое изделие, отремонтировать любой двигатель. Может работать на любом станке, на любом оборудовании. Позже он запросто освоил все виды ручной сварки, в том числе – в аргоне. А вот управление автомашиной у него получалось не ахти: очень часто попадал он в ДТП со своим желтым «Москвичом». Бельский стал сверхсрочником в нашей части, и долгие годы мы работали вместе. Чтобы наверстать выслугу и получить жилье, он отправился служить в новоземельскую группу. Я усиленно «пробивал» ему жилье, мне приходилось общаться с женой Жоры Зоей – женщиной недалекой, упрямой и подозрительной, которая всех «прикладывала», считая, что ее хотят обмануть… Через год работы на Новой Земле у Жоры начались проблемы с сосудами головного мозга. Вместе с врачом Леней Лившицом мы настаивали на том, чтобы Жора распрощался с Землей, но Зоя опять нас заподозрила во всех грехах и настояла на продолжении службы. Квартиру они получили… Жора ушел в отпуск. Умер он за плугом, когда пахал огород родственникам в Котово…
У нашей манюни оказывается уйма узких мест, которые издали не просматривались. «Передние крылья могут проржаветь, я запасся материалами для их сохранения» – предупреждает Шабанин. Снимаю крылья, очищаю до неприличного блеска, окрашиваю свинцовым суриком на натуральной олифе. Ставлю новую прокладку, а под болты – латунные, «запасенные» Мишей, шайбы. Все – очень красиво, и я «свернулся клубком на камне, гордясь собою». Через годик я кое-что начну понимать в контактной коррозии, но манюне уже будет причинен большой вред…
Передняя подвеска состоит из двух наполненных маслом поворотных «поросят», в которых спрятаны пружины-рессоры и даже амортизаторы. Сальники безбожно текут, и масло надо без конца доливать. Главная же беда – втулки пальцев, на которых поворачиваются «поросята». Их надо смазывать солидолом через каждую тысячу километров. Тем не менее, они разбалтываются еще быстрее, и машина начинает вилять.
В те времена был популярным такой анекдот. На директора психушки поступила жалоба: свободных мест – навалом, а он не принимает желающих. Пришла комиссия. Действительно: застеленных кроватей – целые залы, а людей нет. Начали писать протокол.
– А вы загляните под кровати!
Под каждой кроватью лежал человек и перебирал пружинки сетки.
– Это наш золотой фонд, – гордо пояснил директор, – бывшие владельцы «Москвичей.
С колесами, так называемой «резиной», – дело труба: ее нет. Ставилась резина с самолета (протектор – нарезается), либо с трактора (часть протектора срезается). Если очень повезет, то за большие деньги можно добыть новые покрышки ЕШЗ – Ереванского шинного завода. Резины как таковой, правда, в них нет, и «чистая сажа» протектора полностью стирается после тысячи километров пробега. Надо еще учесть примитивную балансировку колес или ее полное отсутствие. А слова «динамическая балансировка» широким кругам автолюбителей были вообще неизвестны.
Позже я купил и поставил на манюню более мощный двигатель с 402-го Москвича, который мог провернуть колеса при старте. Однако ездить быстрее, чем 90 км в час, было нельзя: машина начинала метаться по всему полотну дороги. Рев же стоял такой, как будто я пытался взлететь на гусеничном тракторе…
Задние рессоры на нашем лимузине – из длинных пластин. Шабанин очень боится, что рессора может обломаться. Густо смазываем их графитовой смазкой, укутываем в капроновые чулки и брезентовый чехол. Запасную рессору берем с собой. Она настолько длинная, что внутри салона ей места нет. Привязываем ее над наружной запаской под канистрами. Концы рессоры угрожающе торчат с обеих сторон машины…
С бензином в пути проблем у нас быть не должно: этилированный (!) бензин А-66 льется везде рекой. Перед выходными водители умоляют купить у них канистру бензина за 1 (один) рубль. У всех уже в путевых листах и нарядах накручены виртуальные сотни километров, спидометры успешно поломаны, а полученный в парках бензин надо куда-то девать. Можно, конечно, слить в канаву народное добро, но более гуманно – помочь товарищу, и при этом еще добыть средствА на «злодейку с наклейкой»…
А вот с маслом – дело табак. Автол расхватывают мотоциклисты, да и нагар он, якобы (как бы), дает большой. Готовлю для манюни «супер» из смеси авиационного масла и веретенки. Заполняем элитной смесью одну из двух 20-литровых канистр: пригодится… Еще как пригодилась: наш масляный след протянулся по трем братским республикам…
Ночевать мы собираемся в машине. Шабанин с гордостью демонстрирует свою доработку: неразборные от рождения передние сиденья, теперь могут откидывать спинку, образуя весьма горбатое, но все же – ложе. Выдержим! Шабанин учит меня и многим другим премудростям. Одна из них: не ездить компанией из двух и более машин. Спасибо, Миша (так все зовут Макария Михайловича), я многократно убеждался в ценности этого совета. Конечно, речь идет о дальних поездках. Кстати: наши отношения с Шабаниным пришли в норму. Позже мне говорили о мелких кознях мичмана против меня, но я зла не держу: младший по возрасту и старший по званию-должности должен быть сдержаннее…
Еще одна вставка-реквием. «Волгу–21» Шабанин приобрел, из армии – уволился. Последняя наша встреча была спустя пару лет после описываемых событий: он пришел ко мне. Неустанное пополнение копилки, видно, не прошло бесследно для его психики. Миша с гордостью хвастал своим бизнесом и доходами. Он ранней весной отправлялся на юга, набивал свой танк-лимузин, очищенный от сидений и всего лишнего, почти тонной маленьких огурчиков (разве сравнишь грузоподъемность и выносливость Волги с параметрами бывшего дохлого «кадета»!). Через сутки непрерывного движения он был в Питере, где огурчики шли нарасхват в два-три раза дороже. После огурцов наступала очередь черешни, вишни… Не знаю, для чего нужно было так яростно пополнять копилку. Возможно, он уже не мог остановиться. А может быть, чтобы купить подержанный ЗИМ (новых уже не выпускали)? Последующую «Чайку» частникам уже не продавали; «Мерседесов» надо было ждать еще очень долго. Даже «Жигули» тогда не просматривались… Через несколько месяцев от ребят живших в Песочной я случайно узнал, что М. М. Шабанин умер еще месяц назад… Мир его праху. Все там будем.
Наша манюня бодро бегает по городку и окрестностям. Я использую ее для поездок в зону объекта, пару раз даже доставлял на ней кислородные баллоны. Начал учить езде жену: получалось у нее неплохо. Те огромные потери в нарядах, которые нанесла ей манюня, ставали меньше и оправданней: это такое удовольствие, когда тебе повинуется машина! На мотоцикл Лопаткина теперь Эмма вообще смотрела свысока. Стиль вождения машины непрерывно улучшался, – пока я сидел рядом и мог в любой момент вмешаться…
Груз ответственности – тяжелая штука для многих. Среди новоземельских летчиков известна быль-легенда. Во время полета с ними очень назойливо кокетничала некая привилегированная дама, жена большого начальника. Дама без всяких комплексов зашла к пилотам. Среди разных вопросов был и такой:
– Мальчики, тяжело управлять самолетом? Я хочу попробовать!
– Да делать нечего! – ответил командир. – Вот смотрите на этот самолетик на приборе. Если он наклоняется вниз – тяните штурвал на себя, пока самолетик не выровняется, если вверх – отдавайте штурвал вниз, – летчик показал, как легко самолет направляется вверх и вниз.
– И все дела. Садитесь на мое место, пробуйте!
Дама с визгом восторга уселась в кресло пилота, слегка пошевеливая сопротивляющийся штурвал и вглядываясь в самолетик авиагоризонта. На ее очередной вопрос никто не ответил. Дама оглянулась и обнаружила, что в кабине больше никого нет, и она одна ведет ревущий самолет в облаках, далеко от земли…
Больше всех негодовал бортмеханик: именно ему пришлось приводить в порядок командирское кресло…
Конечно, самостоятельное управление автомобилем, тем более – после учебы, не столь впечатляюще. Вот как это выглядело. Я приехал домой для срочной работы.
– Ты обещал свозить меня в магазин, – напоминает Эмма.
– Очень некогда, малыш, в другой раз…
– Я тогда сама поеду! – заводится Эмма. Я молча протягиваю ключи от машины: ездила она уже довольно прилично, а ехать было недалеко.
– Я поеду! – это уже угроза.
– Конечно – езжай, малыш!
Эмма недоверчиво берет ключи, садится в машину и уезжает. Проехать в магазин надо было полкилометра по городку, затем через КПП и переезд.
Через четверть часа наша машина показалась на дороге, подъехала к дому и остановилась. Эмма вышла из машины, и… разрыдалась горько на моей груди. На мое успокоительное мурлыканье, она сквозь слезы сказала:
– Я думала, что ты не разрешишь мне ехать… Зачем ты разрешил???
Уже потом все путешествие было изображено в красках. Эмма доехала до магазина, зашла туда, молча постояла. Продавщицы выжидательно смотрели на нее. Но она забыла, что ей там надо было купить, и, поскольку ноги дрожали, – вышла и поехала назад… Если бы я сидел рядом, это была бы ничем не примечательная поездка, можно сказать – обычный «шопинг».
Первое автопутешествие
…поездки наши – счастья пир:
Живем вдвоем в пространстве малом,
Под шины стелется весь мир!
В первых числах июля 1960 года мы с Эммой уезжаем в Ленинград. Пару дней снаряжаем свою манюню и себя к дальнему путешествию – в Винницу.
От дома мы отъезжаем в три часа утра. Все светло и прекрасно: у нас еще белые ночи. Дороги пустынны, и мы быстро выезжаем из города. Вот позади уже Пулково, Гатчина… Двигатель работает ровно, легко перемещая в пространстве нашу довольно-таки нагруженную манюню со скоростью просто непостижимой – 80 километров час!
Перед нами расстилается очень приличное шоссе. Проезжаем красивые места: рощи, мосты, селения с диковинными названиями. Все интересно, все в первый раз! Народ только начинает просыпаться, а мы уже проехали Лугу. Остановок почти не делаем. У нас с собой двухлитровый термос с крепким чаем, бутерброды. Эмма меня поит и кормит на ходу.
Мы дурачимся, смеемся, поем песни. Когда у нас на спидометре выскакивает круглая или диковинная цифра, мы даем троекратный сигнал и чокаемся чашками с чаем. За Лугой мы приветствуем все встречные машины с ленинградскими номерами. Шик в том, чтобы приветствовать первым, а не отвечать. Мы – ленинградцы, это наша традиция и символ нашего единства на чужих дорогах. Спасибо Шабанину: это он рассказал нам об этом обычае. Я полной мерой оценил также его совет – не связываться с попутчиками и второй машиной: мы свободны, независимы, не вертим головой и не дергаемся; едем и останавливаемся только так, как удобно нам.
Эмма – штурман, определяет по карте и спидометру наше положение во времени и пространстве. На карту наносятся всякие приметные и нужные места для обратной дороги: где можно помыть и заправить машину, где можно ночевать. Немного удивляемся: наша крейсерская скорость – 80 км/час. Через несколько часов езды рассчитываем среднюю скорость, она получается всего 50 км/час. Даже маленькие остановки и замедления резко снижают среднюю скорость. Ну и что? Никакой усталости нет и в помине – мы можем непрерывно ехать хоть круглые сутки!
Проехали Псков. Шоссе проходит через леса и поля. Солнце припекает прямо в лобовое стекло, и мы принимаем решение немного вздремнуть. Выбираем лиственный лес и удобный съезд. По давно заброшенной дороге забираемся вглубь леса, выходим из машины. Солнце пробивается желтыми лучами сквозь зеленую листву, под ногами – трава-мурава. Мы одни в этом прекрасном мире. Тишина нарушается только пением неведомых птичек. Так бывает только в раю. Мы молоды и счастливы и бросаемся друг другу в объятия…
Вставка из прекрасного будущего. Наш сын, который родился в апреле следующего года, бесконечно любит лес и не расстается с автомашиной…
Проезжаем большие и малые города и поселки, с интересом рассматриваем неведомые нам раньше лики Родины. Россия уже кончилась, мы едем по Белоруссии. Лесов стало больше, поселки реже. Мы уже накрутили на кардан около 800 км. Вечереет, надо думать о ночлеге.
На открытой опушке леса замечаем большой костер, две палатки и три машины. Присоединяемся к ним. У костра ужинает и развлекается больше десятка взрослых и детей. Две машины – ленинградские, они уже возвращаются. Нас радостно приветствует общество у костра. Женщины приглашают к ужину – печеной в костре картошке, один радушный мужчина даже наливает грамм по 50 коньяка. Мы выкладываем свои припасы. С мужиками обмениваемся ценной информацией: они мне о дороге до Киева, я им – о пути к Ленинграду. Уже глубокая ночь, искры из костра ярко взлетают в темное небо, но никто и не думает ложиться. Дети резвятся вокруг костра: это необыкновенный праздник для них, городских жителей.
Потихоньку наши новые друзья разбредаются по палаткам. Мы с Эммой планировали ночевку в салоне манюни, используя откидное изобретение Шабанина. Но рядом с нашим автостойбищем находится большая копна душистого сена, в которую мы с восторгом и забираемся. Однако наш уход от животворного костра с таким же восторгом воспринимают и местные комары: они набрасываются на нас поодиночке и компаниями. Наша молодая кровь им нужна для продолжения рода. Меня всегда занимал вопрос: кем бы они закусывали и как бы размножались, если бы мы здесь не появились? Мы ввинчиваемся в сено, закрываем за собой пути-выходы. Минутку блаженствуем, затем опять слышим знакомое пение и чувствуем, что нас потребляют ненасытные звери. После часа героических, но бесплодных усилий мы покидаем уютную нору, выкидываем из салона все габаритные вещи на багажник и кое-как укладываемся на буграх шабанинского изобретения. Кровопийцы теперь могут только издали разглядывать наше блаженство, прильнув к поднятым стеклам дверей…
Покидаем мы гостеприимный лагерь в утренних сумерках: путь наш далек и долог. Без остановок едем несколько часов, кормимся на ходу.
Машин на дороге немного. Во-первых, воскресенье, во-вторых, чем лучше дорога, тем меньше на ней машин: они проезжают быстрее. Небольшое происшествие слегка портит наше настроение. Догоняем велосипедиста. Он оглядывается, видит нашу маленькую, обвешанную канистрами и рессорой машину и начинает с нами играть. Перед самым носом машины начинает ехать по дороге синусоидой, болтаясь от одной бровки к другой. Эмма занервничала:
– Осторожно! Смотри не сшиби этого лихача!
Мне тоже не по себе: всегда в самых кошмарных снах мне видится, что я машиной сшибаю велосипедиста. Аккуратно его обгоняю, стаскиваю с велосипеда уже большого парня лет 16-17-ти, отвешиваю ему от души мощную оплеуху и отпускаю со словами: «Понял, как надо ездить?». Эмме очень не нравятся мои методы воспитания, она считает, что мне надо было провести с нарушителем просто беседу. Рассказываю ей случай из своего детства: я бросил комок глины в проезжавшего мотоциклиста. Он меня догнал, надрал уши, да еще сказал отцу, который добавил. И вот с тех пор я никогда больше не бросаю твердых предметов в проезжающих мотоциклистов. Мы слегка ссоримся, но я говорю, что только такую науку он запомнит, то есть я, возможно, спас его жизнь в будущем. А длинные лекции не запоминаются, да и времени на них у нас нет.
Раз мы остановились, то уже заливаем бензин из канистры, осматриваем колеса. Трогаемся дальше, но Эмма мной недовольна по-прежнему. Через пару километров нагоняем велосипедиста. Нас он не видит, но едет ровненько по самой бровке шоссе. Эмма смеется, и говорит на одесский манер:
– Нет, ты его-таки перевоспитал, в самом деле!
Мир и согласие восстанавливаются: доброе дело, есть доброе дело…
А вот наша манюня, которая первый день вела себя безукоризненно, начинает выкидывать коленца: откуда-то из двигателя вытекает масло. Весь двигатель и низ машины в подтеках, уровень масла – близок к минимальному. Тщательный осмотр двигателя ничего не дает: после остановки и на холостых оборотах масло не течет. Радуюсь своей предусмотрительности: у меня масла целая канистра. Доливаю чуть выше уровня, трогаемся дальше. Километров через 50 все повторяется: масло опять ушло. Доливаю, едем дальше.
Вот уже скормил манюне половину большой канистры. Прикидываю – до Винницы масла не хватит. Замечаю, что очень быстро расходуется только избыток масла. Если его уровень близок к минимальному, масло почти не расходуется. Теперь я уже доливаю понемногу, не более середины уровня; потери масла уменьшились. Позже я вычислил место течи: выпал труднодоступный болтик крепления водяного насоса, проходивший прямо в блок. Деревенский болт, снятый с двери погреба в Виннице, навсегда ликвидировал неисправность…
Как мы проезжали столицу Украины в день Молодежи, – я уже описал. Такой уж солоноватый юмор был у нашего первого автомобиля…
Киев мы покинули примерно в 16 часов. До Винницы остается еще около 250 километров, то есть 5–7 часов пути, учитывая, что надо проезжать незнакомые Житомир и Бердичев. Как показал опыт, в крупных городах никаких указателей нет, и заблудиться там очень даже просто. Чтобы не искать дорогу в темноте, решаем поднажать. Нажимаем. Дорога широкая, и мы даже пытаемся обогнать путешествующих на иномарке французов. Во время обгона замечаем, что иноземцы фотографируют какие-то строения слева от дороги. Это непорядок: я воевал со шпионами еще до войны. Записываем километр, номера машины, которая теперь нас легко обгоняет. В Житомире мы передаем эти сведения гаишнику. «А, 65-й километр? Да, там они вечно пасутся!». Номер машины он записывает. С чувством выполненного долга, мы покидаем Житомир и устремляемся к Бердичеву.
Увы, теперь гнать приходится осторожней. Мало того, что дорога стала уже, – на левой ее половине насыпаны кучки гранитной щебенки, предназначенной для ремонта. Дорога стала фактически однополосной. Встречные автомашины, прижимаясь к щебеночным холмикам, раскатывают их на половину единственной полосы. Если быстро наехать на такой «язык» левыми колесами, то запросто можно совершить «оверкиль» в кювет. Поняв эту опасность, внимательно смотрю вперед и лавирую, не снижая скорости: торопимся.
Нагоняем коричневую «Победу» без номеров, медленно ползущую посередине полосы. Машина, очевидно, из ремонта и недавно окрашена: на бампере краска даже не очищена. «Бибикаю» своим дохленьким кадетским голоском, прошу старшего товарища сдвинуться правее, чтобы я мог обогнать. Победа послушно смещается. Когда я начинаю обгон, Победа опять принимает влево, чтобы я наехал на очередную щебеночную кучу. Я резко торможу, пристраиваюсь в кильватер, и опять начинаю бибикать. Все повторяется сначала. В Победе сидят несколько дюжих мужиков и ржут. Ну, пошутили два раза – и хватит! Я еще несколько раз пытаюсь обогнать, но у «победистов» видно запасы юмора неисчерпаемы. Мой штурман негодует и переживает вместе со мной…
Опять сигналю, опять Победа смещается вправо. Опять начинаю обгон, Победа снова начинает перекрывать мне дорогу. Только теперь вместо тормоза я утапливаю полностью газ, с грохотом прохожу по левому борту шутников и вырываюсь на оперативный простор. В зеркало вижу: машина остановилась, мужики выскочили из нее и осматривают содеянное нами…
Эмма растерянно смотрит на меня: такого исхода она не ожидала. Я – тоже. Но теперь, если колеса крутятся, надо просто удирать, пока нас не начали «прикладывать»: у них сил и свидетелей явно больше. Мы не знаем, какой урон понесли мы, но осматривать некогда. Несемся на большой скорости километров пятнадцать, пока решаемся остановиться и осмотреться. Выбираем съезд с дороги, но, увы, повернуть я не могу: мои колеса при повороте издают ужасающий скрежет, а молча могут ехать только прямо. Спасибо вам и за это, дорогие!
Осматриваемся. Наши травмы не так уж велики: нас спасли ручки, выступающие из дверей Москвича на манер квартирных. Они крепко продрали борта Победы, оставив на себе несколько слоев краски с обидчицы. Под коричневой краской у нее была, оказывается, голубая, затем – желтая и грунт. У нас смято правое переднее крыло, но так удачно, что мы смогли удрать по прямой. Я беру молоток и восстанавливаю пространство для поворота колеса. Красоту наведу после: есть шпаклевка и краска – «беж с краснинкой». Представляем себе свежеокрашенную Победу с продранными бортами: это влетит им в копеечку… Ну, что ж: ребята получали удовольствие, а за это надо платить. А может быть, – все юмористы соберутся с силами и побьют режиссера веселья? Мы представляем эту картинку и тоже веселимся – уже в движении к дому.
В Винницу мы приезжаем поздно вечером, но тут нас примут в любое время.
Отпуск на ремонте
Автомобиль является транспортным средством для поиска запчастей к нему
(Народная мудрость).Мы наслаждаемся свободой передвижения. Наскоро восстанавливаю крыло, устраняю течь масла: мы опять на ходу и можем порхать как мухи по родной Винницкой области и дальше.
Сначала представляемся родителям в Брацлаве. Они наше приобретение одобряют. Мобилизуется народ и ресурсы, и на наши неказисто-бурые сиденья шьются роскошные чехлы из плотного зелено-золотистого гобелена. Особенно нам по душе огромные карманы за сиденьями, в которые может поместиться даже двухлитровый термос. Двери изнутри покрываются зеленым сукном. Все – «в тонус», как говаривала одна творческая женщина.
Живем на два дома – в Виннице и Брацлаве, посещаем маму в Деребчине. Там вспоминаю о благодатной Арыставке, сплошь усеянной гигантскими черешнями. Через считанные минуты мы уже там. Просто-таки великанские черешни стоят облепленные черными или розовыми плодами. Обращаемся к первой увиденной женщине, просим продать черешен. Она даже разводит руками от удивления:
– Ось вам, діти, драбина, вилізайте туди і рвіть собі скільки влізе!
Мы с женой влезаем на дерево с черными, некрупными, черешнями: это самый вкусный и мягкий сорт, его нельзя перевозить далеко. Все привозные в город черешни – специально выведенные гибриды. Они большие, твердые и безвкусные, но допускают перевозку и длительное хранение. Около часа мы упиваемся на дереве неземным вкусом настоящих черешен. Слезаем с фиолетовыми губами и сожалением: нам бы такое дерево в Питер!
В Виннице частенько выезжаем на пляж: очень быстро и удобно. Над нами берет шефство сосед и родственник Иван Бондарь, начальник областного ГАИ. Ваня – эпикуреец чистой воды: он считает, что у всякого, уважающего себя и здорового начальника должен быть животик, и усиленно занимается его наращиванием. Вот едем с ним по Виннице. В связи с жарой на Иване одна майка и подобие шортов.
– Коля, остановись, попьем пивка!
Останавливаемся. Иван берет бокал себе и мне.
– Ваня, я же за рулем, вон и гаишник наблюдает!
– Да не бойся, пей свободно!
С опаской прикладываюсь к прохладному бокалу. Гаишник немедленно приближается к нам, но, разглядев в полуголом пляжнике высокое начальство, берет под козырек:
– Виноват, Иван Петрович: не разглядел Вас!
– Начальство надо узнавать и без штанов! – смеется Иван, здороваясь за руку со своим кадром. – Ну, иди, гуляй, Андрюша: тебе при исполнении нельзя пить пиво на дороге!
Однажды я один поехал к дяде Антону. Радушные родственники были очень рады, и я никак не мог их обидеть быстрым отъездом. Возвращался на Старый город уже затемно. Начинался участок неосвещенной окраины. Внезапно в свете фар показалась знакомая фигура. Это любимая жена, плача, вышла встречать меня: по слухам, здесь пошаливало хулиганье. Но Эмма была крепко вооружена – она держала в руках самые большие бабушкины ножницы…
Меня очень беспокоит боковой износ передних шин. После многочисленных измерений и консультаций определяю причину: прогнулись концы передней балки и развал колес у меня «не в ту степь». Поэтому машина еще и плохо держит дорогу. Лечение одно: менять балку. Федор Савельевич привозит мне новенькую, окрашенную голубой краской, балку из Киева, – в Виннице это супердефицит. Сначала я хотел менять ее сам, но нужно было много инструментов и подъемник. В то же время ремонтники автобазы открыли техпомощь для машин «частников», и тамошний бригадир обещал мне все сделать за два дня.
В понедельник приезжаю на базу к 7:30. Начало работы – в 8:00. Никого из бригады нет. Начальство извиняется: понедельник – день тяжелый. Часам к 11 появляется один рабочий, но без бригадира принять машину не может. К часу приходит сам бригадир – здоровенный мужик, изъясняющийся на блатном жаргоне. Просит денег на опохмелку, обещает завтра начать уже без раскачки. Деньги даю и уезжаю.
Во вторник уже лучше: бригада из 3-х человек собирается к 10 часам. В 12 часов моя машина уже «на яме». Яма – как яма: вся заполнена грязью и маслом. Бригада зачем-то до ниточки разбирает передние колеса, наверное – чтобы я не смог уехать. Подшипники и сальники укладываются в пыль рядом с ямой. Уходят все на обед. Денег уже не просят, но возвращаются навеселе. Пытаются кувалдой выбить шкворень из балки – не получается. Просвещаю их: если бы это можно было сделать кувалдой, то шкворень вылетел бы на ходу. Должен быть стопор. Вся бригада – не согласна со мной. Лезу в яму, нахожу стопор, выбиваю его, после чего шкворень легко выходит. Теперь бригада одобряет мои действия и предлагает сделать то же самое с другой стороны. Я вымазался по самые уши, а домой мне надо ехать на автобусе. Кое-как отмываюсь бензином, добытым из собственного бензобака: за водой надо идти в другое здание, а мыла вообще нет…
На следующий день уже прихожу со спецовкой, переодеваюсь и начинаю работать. Планирую поднять двигатель и освободить балку. Для этого нужно еще хотя бы два человека: тали нет. Бригада собирается к 11 часам, но ее снимает с моей машины руководство и «бросает» на новый объект. По Украине на Москвиче 402 (новый «стиляга») путешествовал некий партийный деятель. Именно в Виннице у него разлетелся задний мост, и обком приказал рембазе: сделать немедленно.
На своей яме я работаю один, привожу, что можно, в порядок. Три дня «моя» бригада калечит партийный Москвич прямо во дворе, – свободных ям больше нет. Работают злые, но относительно трезвые. Со «стилягой» дело уже шло к благополучному финалу, но наведался владелец и решил рублем поощрить тружеников сервиса. На день после этого они «выпадают». Владелец в истерике; обком дает втык руководству автобазы. Бригаду собирает на рабочем месте сам начальник на служебной машине только к вечеру, когда я уже уходил. Задерживаюсь возле несчастного стиляги. В пыли под машиной копошатся мои благодетели. Поскольку я уже переодет в чистое, меня просят завести мотор и проверить передачи – задние колеса висят в воздухе. Завожу, втыкаю наугад незнакомую передачу, колеса крутятся. «Задняя работает! – слышу радостные крики. – Давай теперь вперед!»
Втыкаю другую. «Вперед, тебе говорят!» – кричат умельцы. Разбираюсь со схемой передач на рукоятке и начинаю командовать сам: «Включаю первую!» «Это задняя!» – кричат из-под машины. «Даю вторую!» «Это опять задняя!». Я начинаю кое-что понимать и включаю заднюю передачу. «Ну вот, наконец попал!», – радуется «партер».
– Так вот это и есть задняя! – затыкаю я вопли умельцев. Затем командую:
– Смотрите! Первая, вторая, третья, четвертая! Теперь – задняя!
В ответ – гробовое молчание. Умельцы впали в ступор. Теперь отремонтированный Москвич имеет 4 скорости (передачи) назад и только одну – вперед. Ездить, конечно, можно, но – только задним ходом, повернув голову на 180, что не всегда удобно.
Приходит ясное понимание, что после вмешательства этих умельцев моя машина не сможет доехать даже до Старого города. Беру власть и инструмент свои руки. Объявляю бригаде, что они все – мои подсобники. Пьяных – уволю без выходного пособия. Если через два дня моя машина не будет собрана, я тоже пойду в обком, чтобы наказали всю фирму, а их всех уволили.
К сожалению, я и сам еще мало понимаю тонкости своего аппарата. Добываю всякие книжки по Москвичу, консультируюсь, разбираюсь. Новая балка уже стоит на месте, для настройки схождения делаю линейку со штангелем. Умельцы притихли и тоже кое-чему учатся…
Через день я выезжаю с осточертевшей ямы и приезжаю на Старый город. Эмма и бабушки рады. Начинаем готовиться к возвращению: отпуск уже кончается…
Загружают и «упаковывают» нас родители по-настоящему: банками, фруктами, припасами, всякими разными одеждами и вещами, которые нам якобы будут совершенно необходимы в нашей будущей жизни. Я уже начинаю переживать за здоровье своей, только что отремонтированной машины, говорю, что она не выдержит. Федор Савельевич соглашается не нагружать машину:
– Ну, ладно, – привезу вам на поезде!
Мне его жалко еще больше, и я покорно распихиваю по щелям манюни очередную нагрузку.
– Ничего-ничего! Будете ехать тихонько!
Тихонько, дорогой батя, мы уже ездить не можем: наша «коптилка на колесах» теперича бегает очень-очень быстро…
Возвращение
…я горизонт проскакиваю с ходу…
(В. В.)Выезжаем по обычаю очень рано с надеждой еще посетить в Киеве друзей. Штурман привычно достает карты, намечает, где будем пить чай. Преодолеваем цветущие села вокруг Винницы, выходим на бердичевское шоссе. Идем с привычной скоростью, хотя машина рыскать стала немного меньше, и можно было бы прибавить. Пьем чай, любуемся природой, разговариваем, дурачимся, короче – живем.
Нас нагоняет новенькая 21-я Волга с оленем на радиаторе. Я немного снижаю скорость, перемещаюсь вправо, включаю правый поворот. Это всем водителям понятный сигнал: даю дорогу, обгоняй! Однако Волга идет плотно за нами и не думает обгонять. Тогда я прибавляю скорость. Волга не отстает, все так же плотно висит на нашем хвосте. В ней сидят два жителя Бердычева и нагло «лыбятся».
– Чего они хотят? – нервничает Эмма.
Я зверею. Проходу нет от этих юмористов: то проехать не дают, то с хвоста не уходят. Разгоняюсь. Волга как привязанная идет за нами. Вижу встречную машину, начинаю резко тормозить. Волга автоматически берет влево, но там навстречу идет машина. Повиляв туда-сюда, Волга тормозит и опять пристраивается к нашему хвосту. Морды лиц у «волгарей» немного вытянулись, но еще сохраняют подобие улыбки. Еще раз разгоняюсь, встречную машину подпускаю поближе, торможу сильнее. Волге приходится тормозить до полного юза колес, так, что они дымят. Волга останавливается, по мнению моего штурмана, – для чистки основательно испорченных штанов. Штурман гордится своим крутым пилотом…
Гораздо позже я начинаю понимать, какой опасности я подвергал наши жизни, и не только наши. Если бы эти придурки не успели затормозить, то они бросили бы других придурков (нас) прямо на встречную машину, в которой тоже наверняка бы пострадали весьма приличные люди… Лобовое столкновение, когда скорости суммируются, – весьма эффективное средство для камикадзе. Я ничего еще не знаю о скрытой опасности, которая обнаружится спустя всего лишь несколько часов…
Очень умная вставка. Наблюдая агрессивный и наглый стиль езды некоторых водителей теперь, я свято чту «закон трех Д»: «Дай Дорогу Дураку», как ни чешутся руль и газ. Из приведенного случая видно, что и тормоз может чесаться…
…Наташа и Юра Яворские проводят лето на близкой даче лесничества. Она находится в нескольких километрах от конечного трамвайного кольца в Святошино. Конечно, Киев очень зеленый город, но это – город. Здесь же, невдалеке от житомирского шоссе, – земной рай и полная лепота. Помещений много, хозяева – радушные. Мы принимаем их приглашение погостить у них денек. На даче проводит выходной еще одно семейство друзей с детьми. Мы бодро вливаемся в большую компанию. С Яворскими мы не виделись с осени 1956 года, когда Юра сажал нас с Эммой на поезд в Ленинград: нам есть о чем поговорить.
Вечером семейство с детьми заторопилось домой. Я усаживаю всех в машину, чтобы довезти до трамвая, извиняясь, что не могу довезти их прямо к дому: я уже не знаю Киева, особенно в начинающихся сумерках.
Проезжаем пару остановок после кольца: там удобный разворот. Высаживаю новых друзей, с каждым дитем прощаюсь за руку, что их очень веселит. Убеждаюсь, что они благополучно сели в нужный трамвай и радостно ложусь на обратный курс: теперь можно посидеть с друзьями за рюмкой чая. Сумерки уже сгустились.
Проехав метров 100, вижу неглубокую канаву поперек дороги. Резко торможу, но въезжаю в канаву, хоть и с небольшой скоростью. Раздается треск, машина накреняется вправо и ползет по инерции на встречный трамвай. Трамвай проносится в считанных сантиметрах от машины. Выскакиваю из салона. Правого колеса нет: оно затянуто под машину. Резко пахнет тормозная жидкость, вытекающая из разорванной трубки. Оглядываюсь. Я наехал на недостаточно засыпанную канаву после прокладки кабеля поперек шоссе. На левой стороне эта канава засыпана полностью, и я ее даже не заметил до разворота.
Собирается толпа зевак и гаишников. Один из них философски заявляет:
– Да, вот такая эта канавка! Здесь у Победы и Газона вообще передки отлетели! А иностранец подпрыгнул на метр – ничего: постоял и поехал дальше!
– Вам бы, паразитам, по шапке песку принести сюда – ничего бы не было! Вон вас сколько! Только штрафы умеете брать, бездельники х…вы! Что мне теперь делать? – ласково обращаюсь я к стражам порядка на дорогах. Они, понимая, что услышат еще не такое, рассасываются в сумерках. Я обращаюсь к оставшимся зевакам:
– Хочет кто-нибудь купить эту машину??? Отдам дешево!
Зеваки тоже исчезают потихоньку. Я остаюсь один на один с покалеченной манюней. Ослепляют меня фарами и объезжают одни легковые машины. Меня нельзя буксировать. Погрузить – не на что и нечем. Сообщить ребятам о своем положении тоже не могу. Начинаю работать по-грязному в чистой одежде. Добываю домкрат, поднимаю правый бок, вытаскиваю колесо. У новенькой балки отломался по сварке рог со шкворнем, вокруг которого поворачивается «поросенок» с колесом. Отсоединяю рулевые тяги, вместе с колесом загружаю все на верхний багажник. Доступ в обычный багажник в манюне через салон, туда мои обломки не поместятся, да и грязные они очень. Теперь моя манюня могла бы ехать: левое колесо руль поворачивает. Если бы только что-нибудь поддерживало ее вместо правого колеса!
Неожиданно из темноты возникает Юра с товарищем: меня не было слишком долго. Жить стало легче. Юра ловит случайный грузовик, коротким тросом мы подвязываем передок к фаркопу грузовика и трогаем. Я сижу в манюне, рулю, и подтормаживаю ручником, чтобы не очень влезать носом в ведущего…
Балку надо менять, я знаю как это долго и сложно. Правда, я теперь имею опыт. Но не имею ямы и инструмента. Юра успокаивает: он завтра пригласит знакомого автослесаря.
Утром он приводит парнишку в светло-голубом комбинезоне. Я смотрю на него с сожалением, представляя, в каком виде он вылезет из-под машины, готовлюсь ему помогать. Паренек стеснительно говорит, что помощь ему не нужна. Через 15 минут (!!!) голубая балка уже без шкворней у меня в руках! Голубой комбинезон на умельце – такой же чистый, он даже руки не очень вымазал. Есть гениальные поэты, певцы, конструкторы, я же видел гениального слесаря!
Мы, три инженера-сварщика, разглядываем разрушенный стык в балке, сваренный контактной сваркой на стыковой машине. Он просто не мог не разрушиться: непровар по сечению был более 70 %! Такой же был и второй стык. Я с ужасом начинаю понимать, что передние колеса по одному, или оба сразу, могли у нас отвалиться на скорости 90 км или при «тормозных игрищах» с Волгой! Сколько хлопот было бы, у желающих собрать наши тела…
На «стиляге» еще одних друзей едем в автомагазин на Красноармейской улице: именно там Федор Савельевич приобрел голубую балку.
– А, армянская балочка, – небрежно говорит продавец. – Бросьте ее в угол и выберите себе другую. Пять человек уже принесли нам такие же балки!
Я представляю, сколько же людей не смогли предъявить «рекламацию», и уже никогда не будут заниматься ремонтом своих автомобилей! Внимательно осматриваю оставшийся десяток голубых изделий: все до единого – явный брак! Проварить шов обычной сваркой нельзя: рог со шкворнем поведет, колеса будут наклонены в разные стороны, и покрышки (тоже ереванские!) «спилятся» мгновенно!
Довожу эти сведения до продавца. Он «проникается», особенно после небольшой мзды. После длительных поисков под стеллажом находим ржавую московскую балку из предыдущей партии и забираем ее.
Гениальный паренек через час выдает нам готовую машину. Схождение колес он установил своим прибором тоже, и теперь машина не виляет!
На радостях «гуляем» у Яворских остатки дня и вечер. Утром они нас провожают в дорогу. Разговариваем с женой: все-таки наша манюня нас любит: оставила нас в живых, когда мы неслись с большой скоростью и до предела нагруженные, сломалась в нужном месте, на малой скорости, когда в салоне был я один. Мы еще не знаем, что в живых она оставила и нашего сына…
Первая машина у нас была 6 лет. Я построил металлический гараж по дороге на Турухтанные острова, затем более совершенный – возле Броневой. Приключений и забот у «частников» в те далекие времена было более чем достаточно… Мы с манюней, неизменным штурманом, а чуть позже – с сынулей, всегда были вместе со всем народом, и все мытарства и невзгоды прошли сполна. Например, с маленьким Сережей я поехал ставить машину в гараж под Новый год. Недалеко от гаража на Броневой мы так зарылись в сугробы, что часа три не могли выбраться. Был приличный мороз, а отопление в Москвиче 401 не предусмотрено. Малыша я укутал в свои одежды, самому же было жарко – работал бульдозером.
Друзья и другие машины
Следующая наша машина – голубой Москвич 408, – называлась «синявочка». В советской торговле была какая-то проруха: объявление о продаже новых Москвичей я услышал по радио. К тому времени у нас уже были деньги: мы продали манюню, и еще я получил 1600 рублей гонорара за принятую в печать книгу. В Апраксином Дворе мне продали машину за 4511 рублей 25 копеек. В ней был приемник! Плата за пользование приемниками (!) была отменена, и 11 ре 25 коп являлись мздой за дальнейшее пользование эфиром. (Цены не уменьшились: это были уже совсем другие деньги. Прошла реформа, и 10 старых рублей стали равны одному новому).
Максимальная скорость М-408 по паспорту – 115 км/час. На хорошо обкатанной машине мы поехали в отпуск со скоростью 100 км. Москвич на такой скорости создает иллюзию движения на ревущей ракете, не только по звуку, но и по вибрации и рысканью поперек дороги. Через 6 часов езды я устал как молотобоец, работающий одновременно у трех кузнецов. Пришлось остановиться на ночлег, не дотянув даже до дневной нормы бывшей «манюни»…
Во время этого рейса мое водительское образование резко повысилось после такого же резкого торможения при большой скорости на мокрой дороге. Было впечатление, что все тормоза оборвались. После «тулупа» в три оборота мы остановились, свесив нос машины над кюветом. К счастью, встречные и попутные машины нас не успели таранить…
На синявочке мы ездили больше пяти лет. На ней я установил ручной газ и антенну с «Чайки». Нажимаешь переключатель, и вверх выползает большая и блестящая антенна – как у какого-нибудь члена ЦК! Синявочка в целом была неплохой машиной, но оставалась все же «москвичом»: через 30 тысяч километров пробега пришлось менять все клапаны в двигателе. Двери в машине традиционно не прилегали к «туловищу», и чтобы уберечься от сквозняков мой штурман мостил всякие подушечки. Немало бед этой машине причинил и я сам из-за наивной доверчивости к технической литературе. Двигатели тогда заливались водой, которую зимой следовало подогревать перед ежедневной заливкой. Я решил перейти на антифриз, который изготовил по рецептам учебника для водителей 1-го класса (!) из воды, глицерина и бутилового спирта. Зиму я ездил, а весной мой радиатор стал как решето. Из другого справочника я несколько поздновато узнал, что глицерин разрушает олово. Радиатор пришлось менять. Бедные, бедные, доверяющие учебникам, водители 1-го класса!
Следующий удар по синявочке моими руками нанес журнал «За рулем». Там был опубликован рецепт антикоррозионного зелья из десятка ингредиентов, причем – весьма экзотических. Друзья искали их по всему СССР, особенно трудно было добыть метиловый спирт. Сварил я этого зелья два литра. Испытал, намазав ржавый болт на номерном знаке. Ржавчина сошла, образовалась благородная сизая поверхность, которая больше не ржавела. Моим восторгам не было предела. Чудо-зельем я промазал пороги машины и гордо ездил пару месяцев. Случайно коснувшись пальцем порожков, я почувствовал, что они прогибаются, как бумажные… В сырости мой антикор ставал обычным электролитом! Порожки пришлось срочно менять. Чтобы задобрить машину я изготовил их более толстыми и оцинковал.
Наш батя Федор Савельевич был заядлым грибником. Мы были в отпуске в Брацлаве, когда он пришел с радостным известием: пошли маслята! Через полчаса мы были уже возле сосновых посадок. Маслят было столько, что набили ими весь багажник. Чистили их несколько «привлеченных» до полуночи. Следующий раз мы поехали втроем без ФС. Маслята кончились, и мы решаем поехать в другой лес, – надо только проскочить небольшой ручеек. Обленившись, на разведку брода посылаю Сережу. Он проходит трассу и авторитетно говорит: «О΄ кей», после чего мы по уши застреваем в ручье. Только через час нас выдергивает случайный военный грузовик. Выдергивает в нужном направлении, и мы набираем хороших грибов. На обратной дороге на разведку брода иду уже сам и тщательно прощупываю ногами всю трассу. Преодолеваю ее с хода, но на скользком подъеме колеса забуксовали. У меня есть опыт прохождения машины в глубоком снегу. Ставлю движок на ручной газ и выхожу, чтобы подтолкнуть буксующую машину. Она радостно вылетает на берег и, набирая скорость, несется к ближайшему обрыву. Я бегу рядом и ничего не могу сделать. К счастью, на руле был ворсистый заграничный чехол (подарок Каблукова). Кончиками пальцев удается отвернуть синявочку от гибельного пути…
Эта машина сыграла большую роль в «водоплавающем» развитии Сережи. Сам я научился кое-как плавать уже в институте, когда надо было сдавать нормы ГТО. Плавание быстрым кролем, когда ногами надо работать чаще, чем руками, самочинно я так и не смог освоить. Всегда остро переживал свою неполноценность. Решил отыграться на беззащитном ребенке. Устроиться в плавбассейн тогда было большой проблемой. Помог бывший командир части Глеб Яковлевич Кащеев, работавший в спорткомитете. Сережу взяли в группу, начинающую занятия около часа дня в бассейне возле Мариинки. Все у нас было расписано по минутам, для чего Сережу мы снабдили часами. В свой обед я несся из Охты в Автово, возле школы Сережа влетал в машину, и только так мы успевали к началу занятий, а я – к концу перерыва. Как мало тогда в Ленинграде было машин, и, следовательно, – пробок! Сейчас эта дорога в часы пик заняла бы часа два, а то и больше…
Кстати, о часах. Учительница Сережи устроила нам форменный разнос за «ненадлежащую демонстрацию роскоши на ребенке», которую мы, по наивности, считали совершенно необходимым прибором времени. Что бы она сказала теперь, увидев малявок, снабженных «мобилами» и важно беседующих по ним…
А еще синявочка прославила себя в зимнем спорте. Загружались в нее 7 человек: трое нас и четверо Мокровых. Машина с лыжами на багажнике очень походила на грозную «катюшу» военных времен. Увидев такое количество лыж гаишник захотел пересчитать нас, однако салон был так плотно заполнен, что он махнул рукой. Забирались мы на лесистые горки возле Всеволожска по узкой расчищенной дорожке. Выехать оттуда можно было только пятясь задним ходом почти километр. Зато три шкета и четверо взрослых «оттягивались» по полной программе. А мокрых мальчишек всегда можно было переодеть и напоить горячим чаем в теплом салоне…
Продажа синявочки была вообще драматической. Машина, узнав, что ее хотят продать, немедленно влезла в ДТП. Возле Балтийского вокзала левый борт она подставила грузовику. Подкраска после спешного ремонта выделялась, и покупатели давали очень низкую цену. Я даже потерял лицо и начал их уговаривать взять машину дешевле, чем стоила новая. Хорошо, что они не поддались. Краску я исправил, затем предложил Эмме и Леве, который гостил у нас, заработать за полдня по 100 рублей минимум. Втроем мы отмыли «личико» и салон автомобиля стиральным порошком до неописуемой чистоты. Это Эмма «внедрила» порошок: даже бензином я не мог отмыть белую обивку салона. На торги в Апраксин двор синявочка явилась во всем великолепии и с гордо поднятой антенной. Кучу покупателей растолкал молодой эстонец, которому машина так понравилась, что он уже не отходил от нас и не торговался.
Продали мы машину уже за 6000 рублей! Такова «се ля ви» была в то время. Кстати, такая продажа машины была цирковым номером: формально она проводилась через комиссионный магазин, который назначал «нормальную» цену с учетом износа и размера мзды оценщикам. С этой цены магазину «отстегивались» 7 % комиссионных, поэтому в интересах продавца (меня) было сделать ее минимальной. Разницу между магазинной и договорной ценой (более половины реальной цены) надо было получить у покупателя раньше, чем он получал ключи и документы машины из магазина. Покупатели кавказской и среднеазиатской национальности часто «кидали» наивных продавцов, потрясая квитанцией из магазина:
– Какие ишо дэньги? Я всо ужэ заплатил!.
Обманутый таким путем, капитан первого ранга из Дзержинки, сдуру написал заявление в милицию. Милиция же написала в училище: ваш преподаватель спекулирует машинами и обманывает государство. Там все всё понимали, но мимо официального «сигнала» пройти не могли и устроили коллеге показательную порку с оргвыводами. Были также и «обратные» примеры: продавец заранее получал разницу, затем говорил, что он раздумал продавать, и уезжал, прикрываемый парой дуболомов.
Мы, зная эти суффиксы, синявочку продавали со всякими предосторожностями. Мне помогали Боря Мокров и Лева Мещеряков на служебном «козле». Была разработана система сигналов и «удержаний». Боря держал для страховки документы и ключи эстонцев; я сдал ключи и документы машины магазину только после получения отмашки Левы, что деньги получены. Меня тоже «пасли» два эстонца. Все прошло как по маслу, и мы расстались довольные друг другом.
Заработал уже ВАЗ, и весь СССР замер в ожидании. В числе первых «копейку» (так называть эту модель стали позже) приобрел наш офицер Петя Жительный, гараж которого стоял возле лаборатории.
– Ну как??? – был единственный вопрос к нему.
– А, ерунда! Жестянка настоящая! Замки не работают, двери не закрываются, – отвечал Петя, у которого это была первая машина.
Борю Мокрова, моего близкого друга, умницу, шутника, рафинированного интеллигента, досрочно выставили из Египта, где он планировал накопить инвалюты на «Волгу»: за конвертируемые дензнаки машину продавали вне всяких очередей. Теперь у него валюты хватало только на «горбатого». Правда, не совсем горбатого, это уже была несколько выпрямленная версия «Запорожца». Такого, какой купил себе Федор Савельевич. По его отзывам это была неплохая машина. Единственный ее недостаток, правда – только лично для ФС, были размеры: руль упирался в объемистый живот нашего бати. Чтобы повернуть руль, он сначала должен был сделать глубокий выдох и подобрать живот. Боре такие манипуляции не грозили, и я рекомендовал ему купить «Запорожец», как надежную машину, вместо ненадежных «Жигулей».
Боря моим рекомендациям, к счастью, не внял, и купил «Жигули». Он только недавно получил права и попросил меня отогнать машину в гараж на Васильевском острове.
После оформления в Апраксином дворе я, как крупный спец по автомобилям, сел в салон и приготовился завести двигатель. По «москвичевской» привычке несколько раз качнул педалью газа, чтобы подать бензин в двигатель. Стартер долго жужжал, но движок никак не хотел заводиться. Продавец со словами:
– Так жигуль не заводится, – выставил меня из салона, удалил стартером избыток бензина, полностью (!) вытянул на себя воздушную заслонку, после чего двигатель сразу же завелся.
Мы сели в машину и поехали. Несколько раз при трогании я пытался снова завести уже работающий двигатель: он работал так тихонько, что его не было слышно. На набережной я взглянул на спидометр, и выпал в осадок: я ехал со скоростью 80 км/час, совершенно не ощущая этого и не слыша двигателя! Машина легко набирала скорость, шла совершенно плавно, послушна малейшему движению руля… Я влюбился в эту машину с первого взгляда, точнее – с первого «влезания».
Мокрова учил водить машину один мичман в Североморске, где Боря, к тому времени офицер Дзержинки, пас курсантов на практике. После нескольких поездок мичман обратился к нему с призывом:
– Товарищ капитан второго ранга! Если вы хотите, чтобы я вас обучал дальше – приходите не в форме! Я, глядя на ваши погоны, не могу говорить все, что думаю про вашу езду!
Мичман был глубоко прав: я это понял на нашем первом же совместном выезде. Выехали мы из гаража. Я был за рулем: выезд был действительно усложненный, скажем так. Затем за руль сел Боря. Пару раз дернулись, раз пять заглохли. Ну, новый автомобиль, пока его почувствуешь… Поехали все же. Едем по Гаванской улице, впереди слепой перекресток с Большим проспектом. Горит красный светофор, по проспекту несется транспорт, выскакивая из-за угловых домов. До перекрестка еще метров 50. На всякий случай спокойно говорю:
– Красный.
Машина прибавляет ход. Я уже громче:
– Боря, красный! – машина еще прибавляет.
– Боря, стой! Тормоз, стой!!! – ору в полный голос. Машина на полном ходу выскакивает на Большой проспект по красному светофору, перед самым носом вынырнувшего из-за угла троллейбуса. Руль кручу левой рукой уже сам, чтобы не вылететь на тротуар с пешеходами и повернуть налево. На проспекте после нескольких попыток все же останавливаемся, чтобы порадоваться: как-никак – второе рождение… Выясняем, что Боря не видел светофора, потому что сначала искал глазами (!) педаль тормоза, а затем принял за тормоз педаль газа…
Лет через двадцать на машинах юмористов появится надпись: «Путаю педали». Нам бы она пригодилась без тени юмора.
Отдышались, едем дальше. Боря втыкает первую передачу и собирается так ехать через весь город. Оказывается переключение передач он тоже усвоил «не очень»… Рисковать жизнью, конечно, – профессия офицера, но не до такой же степени!
С утра до позднего вечера на широкой обочине у Красного Села отрабатываю с Борей всего лишь элементы разгона – остановки: «снять ручник, первая, трогаем, вторая, третья, четвертая, едем, тормоз, стоп, ручник». Если водитель это будет делать автоматически, а не искать глазами педали, то у него появится время увидеть еще что-нибудь и на дороге.
За длинных два дня занятий я смог добиться только небольших успехов своего ученика, что подтвердила дальнейшая жизнь. Боря пытался опрокинуть трансформаторную будку во дворе и МАЗ на дороге, попал в кювет, который не уступил дорогу и т. д. Мой штурманок освоил эту технику быстрее… Это можно объяснить тем, что Боря за руль сел уже в 40. Но Леня Лившиц, врач, а не инженер, впервые начал учиться после 50-ти, и все у него было очень хорошо. А за первое ДТП ему даже автобус деньгу заплатил. Леня у меня выяснил только единственный вопрос: что делать, если скорость едущего впереди ниже, чем его «горбатого» на первой передаче?
– Выжми сцепление наполовину или больше, – отвечаю я.
– Это же не допускается! Нам так преподаватель говорил! – заводится Леня.
– Ну, если такие строгости, то упирайся ему в зад и повышай скорость – подталкивай!
Леня – человек дотошный. Он испытывает «мой» метод и возмущается:
– Чему дуроломы учат в этой школе! Так просто все!
Тут уже возмущаюсь и объясняю неофиту, что сцепление может сгореть, если так ездить часами, и в целом преподаватель прав.
Был у меня еще один «ведомый» водитель – Георгий Борисович Каблуков, которого все называли ГэБэ, мой непосредственный начальник, вместе с которым мы начинали писать книгу. ГБ был намного старше, инженер-тотальник, имел звание майора. Надломила его гибель сына, который на мотоцикле попал под машину на слепом перекрестке улицы Говорова.
Пару лет он провел в командировке в Индонезии. До заграницы ГБ был необычайно вежливый и корректный человек. Ко мне, например, он обращался только по имени-отчеству и на «вы», хоть мы почти дружили семьями.
В чуждых тропиках, возможно от жары, у него слегка «поехала крыша», и он там повздорил с каким-то чином. В 24 часа его «выперли» из страны Индонезия, где мы сооружали базу для субмарин (!). Знакомая высокопоставленная врачиха поместила ГБ в Центральный госпиталь Бурденко в Москве. Условия лечения и проживания там намного превышали нормы пятизвездочного отеля. Например, у каждого «больного» был двухкомнатный с прихожей и телефоном номер, врачи и сестры приходили по вызову, обеды – развозили, и т. д.
На свою беду, ГБ и там разругался по пустякам с другим больным в казенном халате, который оказался главным прокурором Советской Армии. Так этот прокурор его упаковал обманным путем прямо в психушку. ГБ сказали, что его переводят для лучшего ухода. Когда он понял, где находится, то, естественно, попросил его выпустить. Реакция «врачей» и дюжих «медбратьев» хорошо известна даже из литературы: смирительная рубашка, изоляция и огромный шприц некоего зелья, которое отключало свободолюбивого пациента на целые сутки.
Когда ГБ пришел в себя – все повторилось. Приняв пяток таких процедур, ГБ понял, что ему не выжить, если не замолчит. Стал молчать, уколы стали полегче: отключали только на пару часов. О выходе на связь с внешним миром, чтобы отстучать SOS – и речи не могло быть. Неизвестно, чем бы кончилось «лечение», если бы в проверяющей психушку комиссии случайно не оказалась женщина, поместившая раньше ГБ в госпиталь Бурденко.
– Как вы здесь оказались? – ее удивлению не было предела. ГБ только расплакался.
Она его вызволила снова. И даже без губительного диагноза, что дало ему возможность дослужить десяток месяцев, недостающих до выслуги на минимальную пенсию. Но это уже был совсем надломанный человек…
Однако вернемся к автомобилям и более ранним временам. Жена ГБ, энергичная и веселая Ксения Георгиевна, обратилась ко мне:
– Коля, мы хотим купить машину. Как вы нам посоветуете: стоит это делать?
К тому времени я уже лет пять колесил на манюне и был набит информацией как собака блохами. Тем не менее – призадумался.
– Ксения Георгиевна! Это другой мир, со своими радостями и трудностями. Кто может сказать, чего будет больше в вашей жизни после покупки автомашины? Лично я уже не мыслю жизни без колес, хотя трудностей были воз и маленькая тележка, – уклоняюсь я от прямого совета.
Супруги Каблуковы получают права и покупают «Волгу». Попеременно ездят на ней, попадая во всякие неприятности, к счастью – небольшие. ГБ ведет машину со страшным напряжением, для него это – адская работа. Я обнаружил еще одну особенность его зрения: он видит только узкую область впереди и ничего не замечает сбоку.
Однажды ГБ попросил меня довести машину в Металлострой. Я впервые сел за руль «Волги». Машина показалась мне тупым колуном: разгонялась очень медленно, свято блюла дозволенную скорость 60 км/час – не более. Я предложил ГБ снять ограничительную шайбу под карбюратором, которую устанавливал завод на время обкатки. Когда снял воздушный фильтр, то увидел на карбюраторе вывернутую пробку насоса ускорителя. При резком нажатии на газ бензин просто выливался наружу! Хорошо, что обошлось без пожара.
Снял шайбу-ограничитель, завернул пробку, выехали на испытания. Недавний колун в облике автомашины превратился в ласточку! ГБ сел за руль, машина рванула. Через сотню метров он остановился со словами:
– Езжайте дальше сами, НТ: я ее теперь боюсь!
Следующий наш ремонт был вообще юмористический. У «Волги» начал греметь задний мост. Спецы вынесли вердикт: мост менять. Стеная на судьбу, ГБ ехал для дорогостоящей покупки в магазин. Я напросился в попутчики. Изображая спеца, сел на заднее сиденье и начал слушать; звуки дефектного моста показались знакомыми. Попросил у ГБ тряпку и запихнул ее между кузовом и глушителем. Чудо! «Дефектный» мост исправился и стал работать тихонько…
После продажи синявочки я нацелился на «Жигули», стал в очередь, общую для всего УМР. Светило мне в этой очереди долгое ожидание, если бы не случай. Все в очереди стояли на «копейку» – ВАЗ 2101, других не было. В это время начался выпуск «тройки» – ВАЗ 2103. Одну машину выделили УМР вместо запланированной «копейки». На «тройку» покупателей не нашлось: она стоила 7500 рублей, а не 5600, как «копейка».
Обогащенный удачно проданной синявочкой, я не раздумывал ни секунды и вскоре получил руль светло-серой красавицы в тоскующие руки. Надо сказать, что новую машину я уже любил заранее, так сказать – заочно. Журнал «За рулем» поместил ее подробное описание и картинки, которые я не просто изучил, – «впитал» всеми органами чувств.
Машины, выпущенные в первые годы ВАЗом, – не чета теперешним, когда автозавод опустился до средне-российского уровня разгильдяйства. Тогда все штампы были новые, итальянская технология соблюдалась железно, ничего еще не было упрощено и переделано. Никаких шайб-ограничителей не было, в инструкции было только пожелание: не превышать 90 км/час в первую тысячу километров пробега. Сначала, правда, нам не очень понравилось черное матовое покрытие на торпеде, затем его преимущества стали очевидными.
Вскоре на новой машине мы поехали в отпуск на Украину, и у нас началась прямо-таки новая эра. Выехали только в 8 утра, хорошо выспавшись. На шоссе потихоньку прибавляю скорость, искоса поглядывая на штурмана. Вот скорость уже 90, 100, 110, 120 км/час. Мой «естественный тормоз» сидит совершенно спокойно. Тихонько мурлычет двигатель, играет музыка. Машина движется без всяких вибраций и колебаний, мягко и ровно. Нигде не сквозит, сиденья – мягкие и удобные, можно сидеть хоть сутки. Это тебе не Москвич, где железяки сидений впиваются в копчик… Дожимаю до 130-ти. Никаких изменений в звуках движения нет: все также тихо работает двигатель, негромкую музыку прекрасно слышно. Мой штурман, правда, заявляет вдруг:
– Мы не слишком быстро едем?
«Снижаюсь» до 120-ти, после чего кажется, что машина еле ползет. Так и едем дальше, в том числе, – в целях экономии: теперь мы «кормимся» 92-м бензином, а он есть не везде.
Скоростная вставка. Кстати, о скорости и шуме двигателя. В пору освоения новых «Жигулей» было много ДТП. Водители, пересевшие с ревущих и дрожащих «Москвичей» и «Запорожцев», попадали в происшествия только потому, что теперь «не слышали» скорости: по ощущениям она казалась незначительной. А тормозной путь и стиль торможения при 60 и 100 км/час – две большие разницы, как говорят в Одессе, и как я уразумел еще на синявочке. Тем более – с усилителем тормозов. В «Жигулях», во всяком случае – в машинах из первых партий, за скоростью лучше следить по приборам.
Был такой случай. Из Деребчина мы взяли маму и ехали к Тамиле. Шоссе к Могилеву – широченное и гладкое, маленькие деревья защитных посадок далеко от полотна дороги. Я держу скорость 120 километров, машина и женщины ведут себя спокойно, хотя я замечаю краем глаза, что мой опытный штурман уже собирается поинтересоваться, куда это я так спешу? Внезапно ко мне обращается мама:
– Коля, чого ми так помаленько їдемо?
Я чуть не выпрыгнул из штанов:
– Мама! Мы едем 120 километров в час! Такое расстояние в 41-м году мы проезжали за пять дней! А в городе ездят на скорости в два раза меньше!
Рассказываю ей анекдот. Таксиста спрашивают: «Как это вы убили свою пассажирку?» «Мы ехали за городом со скоростью 100 км/час. Когда в городе я снизил скорость до 60-ти, ей показалось, что машина уже остановилась. Она открыла дверь и вышла!»
И еще: «Вы меня остановили, потому что я очень быстро ехал?» «Нет, потому что вы очень низко летели!»
При крейсерской скорости 120, наша средняя скорость теперь – более 80 километров в час. Около 18 часов мы уже в Орше, преодолев более 800 км. Поселяемся в гостинице, как белые люди. Ужинаем в ресторане, пьем вино, танцуем, спим на настоящих кроватях…
В Киеве останавливаемся у Марчуков: они вместе с их ребятами нам совсем родные. Наша машина на улицах Киева еще редкая гостья, и на остановках нас окружают автолюбители с извечным вопросом «Ну как она?». Мы не скупимся на похвалы, мы гордимся нашей красавицей…
Окончательно добивает нас невиданный ранее в суровой жизни автолюбителей сервис ВАЗа. Под Винницей, возле роскошного ресторана «Дубовый Гай», действительно стоящего в тенистой дубовой роще, нас останавливает гарантийный сервис ВАЗа! Они нижайше просят(!!!) разрешения проверить шарниры передней подвески. Проверяют. Говорят, что есть небольшой люфтик на одном шарнире, который желательно устранить. Я заявляю, что у меня нет на это ни денег, ни времени.
– Что вы, что вы, – обижается мастер в фирменных комбинезоне и кепочке, – это совершенно бесплатно и займет не более 10-ти минут!
Я милостиво разрешаю. Два молодца мгновенно снимают колесо и шарнир, раскалывают его на две половинки, вставляют в разборный палец самую тонкую из точно калиброванных прокладок и собирают все вновь за считанные минуты…
– Счастливого пути!
Я, как завороженный, наблюдаю за их работой. Очнулся только, чтобы отвалить им средствА на несколько кружек пива. И тут их «главный» добивает меня окончательно:
– Нет, нет, нам запрещено брать какие-либо деньги у клиентов!
Однако! На очень высокую орбиту выводит нас новый автозавод!
Через пару месяцев мои неумеренные восторги рассеиваются как сон, как утренний туман. У меня неполадки: надо сменить амортизатор, тумблер вентилятора и еще какую-то дребедень, которой нет в продаже. Еду на гарантийную станцию в Колпине, единственную на весь Ленинград. Увы, там очередь, и меня только «записывают». Через неделю приезжаю к 5 утра: тут уже стоит, сидит, лежит «живая» очередь с прошлого вечера. Часов в 12 мою машину загонщик отгоняет в цех, куда водителям вход строго воспрещен. Бедолаги вроде меня неприкаянно тыняются по пыльному пустырю возле узилища своих любимиц: ни сесть, ни лечь, ни отойти… В 17 часов я уже бегаю под «гарантийными» закрашенными окнами, чтобы найти протянутую руку, в которую можно вложить мзду за возвращение машины в любом виде. Рука находится, благосклонно принимает мзду, но машины нет по-прежнему. По слухам – ее могут оставить на другой день, если водки у «мастеров сервиса» будет достаточно. Около 20 часов – радость неописуемая! – «моя» показывается в воротах цеха. Якобы даже все сделано. Измученный, но довольный, сажусь в машину и уезжаю. Через двести метров слышу ужасный грохот в передней подвеске. Свечу фонариком: сорвалась опора стабилизатора, на которую забыли поставить гайки. Свинчиваю «неответственные» гайки с других мест и лезу в чистой одежде под машину, подсвечивая фонариком…
Нет, слава Богу, я еще в своей стране! А то было возомнил, что нечистая сила забросила меня в какую-нибудь вражескую Германию!
Ну, не все о машинах, надо немного о гаражах, в который меня вселила ракета корабля «Союз – Аполлон». После переселения на Черную речку в 1976 году гараж на Броневой стал очень уж далеко. Пытался сначала обменять на другой поближе – не получалось. Места под гаражи распределял районный ДОСААФ, главой которого был отставной генерал, мурло и грубиян. Я в который раз пришел к нему на очередной прием, ничего хорошего не ожидая. В ожидании поговорил с его секретаршей, милой женщиной. Видно, импульс на «дачу мзды» пришел прямо из тонкого мира: я вдруг вынул из портфеля и положил ей на стол духи «Союз – Аполлон», которые купил для жены… Спустя пару дней пришла открытка с сообщением о выделении мне места в «Межпутье», в котором пребываю до сих пор. Правда, моя «вишенка» теперь все чаще стоит под окнами: дойти километр до гаража стало проблемой, а передвижение без машины — мечтой…
Строительство гаражей – настоящий детектив советских времен. На месте гаражей между ж/д путями было непролазное болото. Собрали деньги. Наша предводительница, инженер Водоканала, организовала непрерывную поставку битого кирпича и строительного мусора со всего города, расплачиваясь с водителями наличными – «черным налом», естественно – без всяких расписок. Когда дело было сделано, нашлись подлые и недовольные, которые обвинили ее в растрате и отдали под суд. Следователь, тоже женщина, среди других вызвала и меня в качестве свидетеля. Я начал давать показания:
– Наша председательница – очень добрая, но неорганизованная женщина. В ее сумочке все было перемешано: помада, деньги, документы. Она выдавала водителям наличные деньги, даже не записывая себе для памяти…
– Вы что видели, как она выдавала деньги? – настораживается и грозно вопрошает меня «прокурорша», грязноватая баба, без намека на сексуальное благополучие.
– Конечно, видел, и не один раз!
– Вы видели? Вам это показалось! Кроме Вас, никто этого не видел! Я Вас привлеку за лжесвидетельство! – сверкает на меня прокурорша мутными глазками.
– Вы меня, кажется, пугаете? У вас уже все написано и подписано? Я порчу вам уже нарисованную заранее картину? Вам истина не нужна? Торопитесь? – завожусь я.
Работница правосудия не ожидала такого яростного отпора и вянет. Я все угадал точно, судя по последующим событиям. Она долго молчит, потом задумчиво выдает нечто подлое:
– Пожалуй, я не буду вызывать вас на суд: ваши показания не дают ничего нового!
Только в кино умные следователи сильно и долго копают, чтобы добраться до истины. Обычным следователям эта истина только мешает получать нужные результаты в короткие сроки. Возможно, дело еще в том, что в кино на одного жулика приходится минимум три следователя: торопливый, но поверхностный; медленный, но дотошный, в глубине души – очень хороший, любящий справедливость. К концу появляется третий: очень умный генерал, все видящий сквозь стены и все понимавший еще до совершения преступления. Кино почему-то не показывает передовые методы работы следователя, который в одиночку расследует пару десятков дел…
Суд состоялся без меня. Подсудимой дали 5 лет и конфисковали машину в возмещение якобы растраченных 6 тысяч рублей. Деньги перечислили «пострадавшему» гаражу – нам. Через год ее выпустили, признав невиновной. Я костьми лег на правлении, чтобы надломленной и униженной женщине вернуть все ее деньги до копейки…
Нам надо построить периметр из сотни бетонных гаражей. Заключаем договор с РСУ, расположенному аж возле Сенной площади. Только этому РСУ выделяют «фонды» на бетонные плиты, правда, – всего на два(!) гаража в год. Но, несколько тысяч недостающих плит нам поставит неизвестно кто от имени РСУ, если мы заключим отдельный договор с некоей ремонтной фирмой на устройство буронабивных фундаментов и ворот по цене целого гаража. Мы (правление) соглашаемся, выдаем аванс. Работа начинается в бешеном темпе: огромные грузовики тащат к нам неизвестно по каким «фондам» добытые плиты, ревут сварочные агрегаты, сваривая их по две. На каждую стенку гаража бурятся машиной-столбоставом три ямки, которые заполняются камнями и заливаются бетоном. Это – фундаменты.
Работа кипит, как на китайской народной стройке. Внезапно возникает некий наш товарищ Аразбаев, Заслуженный строитель РСФСР, который заявляет, что на среднюю опору нагрузка будет недопустимой и стройку надо прекратить. Я на правлении ему на пальцах доказываю, что стенка и крыша, весящие 10 тонн, опираются на три фундамента. Если посчитать их общую площадь, то давление на грунт будет меньше допустимого 1 кг/см2. Он мне возражает:
– Вы не строитель и не понимаете, что сырой кирпич давит на среднюю опору в два раза больше, чем на крайние!
– При чем здесь сырой кирпич, если стенка гаража – жесткая балка? Хотите, вообще выбьем среднюю опору, и стенка будет стоять?
На правлении все принимают мою сторону, но Аразбаев не сдается и пишет письмо в Ленгорисполком. Оттуда приходит грозная бумага: если мы до понедельника не представим расчеты прочности фундаментов, то стройку остановят.
Это конец. Если начнут разбираться с фундаментами на остановленной стройке, то всплывут и непонятные фирмы и фонды, выплаты «черным налом» и тому подобного якобы криминала, предпринятого нормальными людьми для компенсации тупости плановой системы. Факты, лежащие прямо на поверхности, так любят проницательно откапывать «органы» для улучшения статистики в отчетах. И будем мы сидеть не в своих гаражах, а в кабинетах правдолюбцев-следователей… Им же почему-то достанутся все барыши после остановки строительства…
Новый председатель наших гаражей Гальван, бывший полковник, смотрит на меня:
– Коля, сделай что-нибудь! Больше некому…
Я киваю на Наталью Николаевну, специалиста именно по фундаментам в проектном институте. Правда, во время нашего теоретического спора с Аразбаевым она почему-то не произнесла ни единого слова…
– Нет, нет, нет, – трижды открещивается НН, – Я не смогу сейчас сделать этот расчет.
Ясно вижу, что она и «потом» не сможет. А гараж – очень нужен. Я скрепя сердце соглашаюсь: не боги горшки лепят. Вот только времени мало для этой лепки – три дня.
У ребят из ВИТКУ добываю фолиант по фундаментам. Господи, как много здесь написано. Вникаю, работаю всю субботу. Выбираю четыре метода расчета, среди них даже экзотический метод висячих свай. Считаю по четырем вариантам – фундаменты выдерживают по любому. Понятней всего метод упругих оснований: если одна свая вылезет, то нагрузка ее осадит, пока остальные не подставят плечо…
Все четыре расчета помещаю с наглядными картинками на листе полуватмана. Все бы хорошо, только моя подпись – недействительна: нужна подпись спеца по фундаментам…
На встречу с той же Натальей Николаевной едем вместе с женой. Ловим НН возле метро.
– Не путайте меня в это дело, ничего я не могу и не буду подписывать!
– Наталья Николаевна, смотрите, все очень просто и понятно! Вы же в этом больше понимаете, – пускаю я грубую лесть. – Вы ведь тоже без гаража останетесь! – пугаю ее.
– Нет, нет, я не могу! – отвечает главный специалист по фундаментам целого проектного института, не в силах понять простые расчеты. Бедный, бедный институт и все его фундаменты…
В бой вступает Эмма, бьет по женским струнам, ссылается на мои доблести в математике, на ночное сидение за расчетами… Спустя час мы все-таки уламываем «очень ученую» даму, и она боязливо ставит свою закорючку. Уточняю ее должность и титулы, которые надо написать перед подписью. Боже, кто поручает таким непроходимым и неграмотным дурам рассчитывать важные вещи? Кто плодит «заслуженных строителей», считающих железобетонную балку как сырой кирпич?
Нарочный отвозит «бумагу» в исполком, стройка продолжается.
Гаражи стоят уже тридцать лет, побольше некоторых высоконаучных сооружений…
Гараж Аразбаева напротив моего, года два он ездил на машине. Я не могу отказать себе в сатисфакции и при каждой встрече интересуюсь:
– Как там наш сырой кирпич? Стоит? Не гнется под ударами судьбы?
«Заслуженный» отворачивает голову и гордо, но молча, проходит мимо.
О приключениях на автомашинах и возле них можно рассказывать бесконечно: более половины столетия я не расстаюсь с автомобилями. Кроме того, свою автомобильную историю Сережа тоже начинал писать рядом со мной на «ревущем сороковом» «Москвиче». Сейчас мир изменился, и заботы прежних лет забыты, а современному человеку – непонятны. Зато появилась масса новых примочек, о которых тоже можно рассказывать очень много…
Меня удерживает только пример Владьки Крыськова, большого любителя таких рассказов. Со свидания в теплом визави, не выдержав пламенных бесед о мотоцикле, от него сбежала в новогоднюю ночь юная дева. Владик однажды ночевал у нас и рассказывал истории о своей «Волге», когда мы с Эммой уже крепко спали, сквозь сон вставляя вежливое «Да-а…».
22. Высокие горизонты подвала
Прощание с раем
Одного яйца два раза не высидишь!
(К. П. № 31)Предыдущая глава об автомобилях невольно заскочила в другие времена (проскочила горизонт) по вине беспокойного автора. Сейчас нам следует возвратиться в 1960 год, когда мы с женой возвращались из первого отпуска на автомобиле. Готовимся отбыть в свое любимое Котово, где нам так хорошо.
Являюсь в часть: «закрыть» отпуск и получить ЦУ по объекту Котово. Меня ошарашивает сначала Дубровина, которая и здесь является серым кардиналом планового отдела. С явной радостью она извещает, что по моему объекту очень большие убытки. Это меня сшибает с катушек: я думал, что наладил такое мощное поточное производство… Начинаю разбираться.
У строителей возле сооружения простаивает башенный кран, окончивший работу после нулевого цикла. Теперь он будет нужен только для бетонирования после окончания моих работ. Строители меня спрашивают, нужен ли кран мне. «Конечно, неплохо, если он будет», – отвечаю. Мне проще монтировать каркасы арматуры, а крану все равно стоять. Я буду давать заявку на крановщика для краткосрочных подъемов, расписываюсь, что кран будет нужен. Хитрецы же из управления механизации почти год выставляли счета нашей части на непрерывную двухсменную работу(!) башенного крана. Все счета, не без содействия того же планового отдела, безотказно оплачивались. Целый год полсотни человек трудились в поте лица, чтобы оплатить мифическое использование простаивающего чужого башенного крана, и никто из «безбашенных» плановиков ничего не говорил!
Моя вина тоже есть: я не подозревал, что эксплуатация крана стоит так много. Я мог сказать: да забирайте вы свои игрушки, обойдусь без них! Кран бы стоял, как стоит: снять его на время – себе дороже. Теперь – опыт есть, но денег нет: поезд ушел… Впрочем, это не финансовая проблема части, а только моя, и то – чисто моральная. Оказывается, нам, воинской части, заработанные честным трудом деньги – вообще не нужны, более того – они вызывают большую головную боль у руководства! Я надеюсь еще рассказать об этой типовой «загогулине» нашей социалистической жизни…
В части – большие перемены. Шапиро переводят в Ригу на ловлю не столько счастья, сколько – чинов. Там у нашего УМР есть какая-то строительная фирмочка, у которой штатами предусмотрен командир в звании «полковник». Командиром нашей «десятки» на время обретения Шапиро высокого воинского звания назначается Д. Н. Чернопятов.
Холодная война в разгаре, и в СССР строится много ракетных стартов, пока что – для жидкостных ракет «среднего» радиуса действия. Старты строятся в местах, откуда ракеты могут достать агрессора: на Дальнем Востоке, Западной Украине, Северо-западе, включая Прибалтику.
Жидкостная ракета должна быть окружена огромной инфраструктурой. Заправлять ее горючим, окислителем и жидкостями для работы топливных насосов можно только перед стартом. До того все, очень агрессивные, компоненты хранятся в резервуарах из нержавеющей стали и алюминия. Из этих же материалов изготовлены насосные станции и трубопроводы. Даже полы – металлические. Все электрооборудование, кабели, автономные дизельные электростанции – тоже кислотоупорные.
Окислитель и топливо ракеты – две вещи несовместные. На инструктаже по ТБ ракетчики показывают наглядный опыт. На землю проливают топливо гептил – керосин с ядовитыми присадками. Над пятном подвешивают сосуд с окислителем – концентрированной азотной кислотой с еще более ядовитыми примесями. При опрокидывании окислителя – взрыв, вспышка большой энергии и температуры.
Такой же эффект будет, если человек в промасленной спецовке попадет в насосную, в которой пролит окислитель… Окислитель, к сожалению, – проливается. Часто – по нашей вине, и парит бурым дымом, резкий запах которого «слышен» за сотни метров. Вдохнуть «дымок» – верная и мучительная смерть: ракетчики работают в противогазах и специальных костюмах.
Резервуары и трубы для окислителя надо изготовлять из алюминия высокой чистоты: только он может выдержать агрессивный напор азотной кислоты. Сварка алюминия – очень непростое дело из-за тугоплавкой пленки, мгновенно образующейся на поверхности. Кроме того, у алюминия большая теплопроводность, и тепло при сварке интенсивно уходит в окружающий металл. Значит – нужны мощные источники тока при сварке.
ДН озабочен. В части только один сварщик алюминия, и его катают самолетом по всему Союзу. Наш суперспец варит только газовой (ацетиленокислородной) сваркой, при которой пленка окислов разрушается химически – специальным флюсом. И вот Чернопятову пришел сигнал, что начали течь несколько заваренных и испытанных стыков, когда в трубу закачали ракетный окислитель. И это произошло на стартах уже поставленных на боевое дежурство, то есть происшествие разбирается на уровнях сверхвысоких. У многих зашатались кресла и даже зачесались шеи…
– Ну, что будем делать, сварщик? – обращается ко мне ДН. Я понятия не имею, что нужно делать. Вспоминаю случайно прочитанную статью о преимуществах сварки в среде аргона и нагло заявляю:
– Надо варить в аргоне!
ДН уставляется на меня, как на инопланетянина, и разочарованно машет рукой:
– Опять ты со своими академическими теориями!
Всегда исключительно вежливый и корректный ДН обычно обращался ко мне по имени-отчеству, часто – на «вы». Здесь же его так заело, что он не может сдержать эмоций и возмущения. Чернопятов учился, кажется, еще в гимназии, и знает, что аргон – благородный и редкий газ. Применять его для сварки – все равно что мостить дорогу изумрудами. Я тоже так думаю: мало ли какую экзотику могут придумать со скуки в сварочных НИИ рыба – НИИ мясо. Чернопятов отпускает меня в Котово, где мне предстоит ответственный монтаж купола и затворов.
Мы с Эммой нагружаем манюню и отбываем в благословенное Котово: там нас уже ждут. Мои матросы, кажется, немного обленились. Ничего, это пройдет.
За месяц ударной работы мы монтируем атомно-прочные купол и затворы. После бетонирования надо будет установить и обкатать их приводы.
Неожиданно получаю предписание: полностью передать участок Корзюкову и прибыть в Ленинград. На какие арбузные места теперь меня бросит военная судьба? Звоню ДН, уточняю некоторые вопросы по передаче участка, пытаясь выяснить и этот вопрос. ДН уклоняется от разъяснений, но подтверждает, что в Котово я больше не вернусь. Делаю последнее усилие:
– Дмитрий Николаевич, здесь еще надо будет делать охранный контур «Сосна»: я мог бы выполнить эту работу…
Монтаж «Сосны» – работа для связистов, но почему бы мне ее не освоить, как раньше арматуру, – думаю себе я. Так не хочется уезжать из Котово.
– Не придумывайте, – говорит ДН. – Выполняйте распоряжение.
Мы с Эммой прощаемся с Котово. Здесь мы были счастливы… К сожалению, все в этом мире кончается. Прощаюсь со своей командой, прощаюсь со всем начальством. Вальяжного Пржеборо уже выгнали в отставку. Даже Андрющенко жмет руку и выражает сожаление. Полковник Баранов чуть ли не рыдает на моей груди… Последняя ночевка в пустой квартире. Ранним утром манюня берет курс на Ленинград, к новой жизни.
Умножение сущностей
Сущности не следует умножать без необходимости.
(«Бритва Оккама»)Первыми словами Дмитрий Николаевич ставит меня на уши:
– Нам надо срочно научиться варить алюминий и нержавеющую сталь в аргоне. Почти все стыки алюминиевых труб, сваренные газовой сваркой, не держат окислитель больше недели. У нас крупные неприятности. Вопрос на контроле заместителя министра. Завтра ожидаю от вас заявку на материалы, требующихся людей и все остальное. Для ваших работ очищена комната в подвале. Начинайте работать немедленно!
Дело серьезно, если ДН стал сторонником редкого аргона. Беда в том, что любимый начальник думает, что я сам что-нибудь понимаю в аргоновой сварке… Что же мне надо???
В технической библиотеке сгребаю всю литературу по сварке и все последние журналы. Впитываю всю информацию по аргону, крупицами разбросанную по источникам. В старых учебниках этого способа вообще нет, там для алюминия описаны только технологии с применением флюсов, против которых я должен бороться. Начинаю кое-что понимать. Несмотря на последующую очистку после сварки, часть едкого флюса остается в металле шва. Флюс продолжает свою работу – разрушает пленку окислов. А именно пленка окислов делает алюминий стойким против азотной кислоты. Она же, пленка, – не позволяет сварить металл…
Пленку окислов в сварочной дуге можно разрушить электрически – так называемым катодным распылением в среде аргона, когда на металл подается минус (катод) от источника. Но при этом начинает плавиться и разрушаться анод – вольфрамовый электрод, который по определению обязан быть неплавящимся. Найден компромисс – сварка переменным током, от обычного сварочного трансформатора, давно и широко применяемого. Однако при этой простоте сварочная дуга гаснет сто раз в секунду и частично выпрямляет переменный ток. По этим причинам возникает такая уйма проблем, что для их преодоления сварочная установка неимоверно усложняется…
Выделенная мне комната площадью около 20 квадратных метров имеет два узеньких окна на шоссе Революции, сквозь которые можно наблюдать фасоны обуви пешеходов. Называется комната с самого начала гордо «лаборатория». ДН дает мне карт-бланш, и сюда я отбираю лучших матросов и старшин: Зуева, Егорова, Степанова, Кащеева, Николаева. Это питерские ребята – электрики, механики, сварщики – со средним образованием, выученные в ПТУ, успевшие поработать на заводах, трудолюбивые и способные.
Спустя несколько дней комната, как черная дыра, начинает поглощать оборудование, кабели, шланги, баллоны с аргоном, огромные танковые аккумуляторы. Снабженцы стают на уши от моих заявок с неслыханными раньше материалами: вольфрам, окись тория (кстати – радиоактивная), кристаллокорундовые сопла, трубки медицинские и еще вагон и маленькая тележка. Мы собираем свою установку для сварки алюминия в аргоне.
Вообще-то такие установки, они называются УДАР-300 или 500, по заказу делает завод «Электрик», но они нам не годятся для монтажа: слишком громоздкие, многоэлементные. А главный их непреодолимый недостаток: сварка должна быть на расстоянии не более 3-х метров от установки, иначе не проходят высокочастотные импульсы, которые 100 раз в секунду поджигают гаснущую дугу. Такие же проблемы на заводе им. Жданова, где варят алюминиевые надстройки на военных кораблях. Дружу с начальником лаборатории сварки завода М. С. Кернером, невысоким, вечно озабоченным сварочными проблемами человеком. Его, как и меня, достали осцилляторы – высокочастотные генераторы для возбуждения дуги: в них постоянно пробивают высоковольтные конденсаторы колебательного контура. Добываю десяток более совершенных конденсаторов, половину отдаю Михаилу Сауловичу. Теперь он мой друг и помогает мне горелками, соплами, вольфрамом и советами…
Наша самодельная установка начинает работать рядом с УДАРом завода «Электрик», учимся сварке на обрезках листового алюминия и труб. В комнатке теперь не только не провернуться, – не продохнуть.
Напротив, через коридор, – большая комната, заполненная до потолка всяким имуществом: рукавицами, метлами, мылом и т. п. Я с вожделением смотрю на эту комнату: хорошо бы ее заполучить.
– Ха, ха, чего захотели, – смеется отменно упитанный мичман Смирнов, хозяин этого богатства. – А шХиперское имущество куда девать?
Со вздохом признаюсь, что мне действительно некуда девать такое ценное имущество. В конце дня в нашу закопченную и забитую оборудованием комнатку приходит ДН. Уже утром мичмана и его имущество начинают куда-то перевозить. Теперь у нас просто огромное пространство под камбузом. Потолки у нас изначально невысокие, да по ним еще проходит вентиляция камбуза. Зато в нее врезаем собственную, и аэрозоли металлов, возникающие при сварке, теперь частично минуют наши легкие. На новом месте у меня появляется небольшая выгородка, где устанавливаю стол и даже «пожалованный» ДН городской телефон.
В каждой бочке меда есть своя ложка бяки. Полчища тараканов, доселе мирно живших и кормившихся под пищеблоком, приходят в необычайное волнение. Теперь они вместе с нами настойчиво учатся и овладевают новыми технологиями: раскрывая утром рабочую тетрадь, вижу сотню убегающих зверей разного калибра. Медицина снабжает нас гексахлорановой (?) дымовой шашкой размером с приличную кастрюлю. Закрываются окна-двери, шашка поджигается. Белый ядовитый дым вырывается через все щели…
Утром полчища любознательных тараканов лежат поверженными в ядовитую серую пыль. Часа через два работы нам тоже хочется туда прилечь. Атмосфера – очень специфическая. Моя шинель теперь имеет такой запашок, что в метро вокруг меня образуется свободное пространство. Чтобы слиться с массами, я побрызгал шинель одеколоном, но гуманное мероприятие только увеличивает зону отчуждения. Пришлось досрочно отправить боевую шинель в запас…
Лаборатория обрастает оборудованием. Требуется изготовлять много приспособлений, всяких мелочей для горелок, разрезать и испытывать образцы и т. п. В нашей первой комнате теперь стоит токарный и фрезерный станки и гидравлическая машина для разрыва образцов. Для контроля сварки на объектах нам нужны радиоактивные изотопы. В торце подвала оборудуется хранилище радиоактивных изотопов на 5 глубоких колодцев с тяжелыми свинцовыми крышками. Уникальные рабочие контейнеры делаем сами.
Сначала они получаются не очень надежные и совершенные. Немного позже лаборатории придется разработать другую конструкцию, изготовить штампы и детали, освоить литье свинца под давлением и закрепление кусочков вольфрама вокруг источника. Для перезарядки источников из транспортных контейнеров изготовляем перегрузочный стол, позже – с дистанционными манипуляторами. Дело в том, что для повышения чувствительности снимков мы вынуждены применять в основном короткоживущие изотопы – селен, иридий, тулий. Их поэтому надо заменять свежими через 3–4 месяца. Само собой, у нас появляется автомобиль с красными лепестками в желтом круге для перевозки опасных источников.
Негде хранить наши химикаты, и для лаборатории очищается еще помещение, где до того мирно пребывали бочки с огурцами.
Для металлографических и коррозионных испытаний на 2 этаже штаба нам выделяется еще одна комната. Тем не менее – места не хватает, и лаборатория выплескивается во внутренний двор. Здесь собираются все крупные изделия, например стенд для сварки рулонов, передвижные сварочные мастерские, передвижная лаборатория с гелиевым течеискателем и мощными вакуумными насосами.
Эта лаборатория, которую мы сооружаем в фургоне на колесах, – интересное и трудное наше изделие. Гелий – самый «жидкий» газ, он может просачиваться сквозь сплошной металл, благополучно выдержавший испытание воздухом при давлении 500 атмосфер. Мы должны испытывать на гелиевую плотность многие трубопроводы и баллоны для гелия, входящие в комплекс перегрузки ТВЭЛов в реакторах субмарин. Для испытаний в этих трубопроводах надо создать космический вакуум. Это чрезвычайно сложно: приходится изучить курс вакуумной гигиены(!), ставить несколько мощных насосов, связанных полированными внутри трубопроводами. Обычный вакуум создается мгновенно большим форвакуумным насосом. Чтобы добиться требуемого высокого вакуума, включаются инжекционные насосы, которые откачивают ничтожные остатки воздуха сутками. А если в испытываемом изделии остался кусочек органики, то достичь высокого вакуума вообще не удается, и все приходится начинать сначала. Когда вакуум достигает нормы (не менее 10-4 рт. ст.), то труба или сосуд обдувается тоненькой струйкой гелия. Если «гелиевой» плотности нет, то атомы гелия через микротечи попадают в масс-спектрометр, который выдает сигнал. Если это сварной шов, то его исправляем, и все начинаем сначала. Если это заводское изделие, то оно бракуется. Так мы забраковали 3 из 10 больших баллонов, испытанных заводом на давление 600 атмосфер: гелий запросто проникал сквозь толстенную стальную стенку.
Инструкторы лаборатории проводят ответственную сварку на объектах, обучают сварщиков на заводах для всей части (около 40 человек в год). Мы изготовляем и ремонтируем сварочное и другое оборудование, ставим его на колеса, составляем проекты организации работ.
Уже давно лаборатории не хватает электроэнергии: постоянно горят плавкие вставки-предохранители. Увеличивать допустимый ток не разрешает главный инженер «пятнашки», который ведает электроснабжением всего дома. Начинаю разбираться и выясняю, что величина входных вставок на весь дом тоже занижена. Говорю об этом главному инженеру соседей, подполковнику Михайлову
– Николай Петрович, нам надо разрешить вставки хотя бы 100 ампер, если вы входные поменяете на 150 или 200: разрешенная мощность это позволяет.
– Да нет, вы не понимаете: надо еще умножить амперы на cosφ (косинус фи), есть такой коэффициент, которого вы не знаете!
– А зачем же вы умножаете? Здесь надо делить! – пишу ему формулу. Николай Петрович густо краснеет: он слегка позабыл, как надо учитывать cosφ. (Позже я решал для НП и другие задачи, когда он стал целым ГИПом проектного института).
Энергию лаборатории добавили, но вскоре и этого нам стало не хватать…
В части создается целое сварочное направление. Г. Б. Каблукова назначают заместителем главного инженера, начальником сварочного направления; занимается он проектами. Я – командир группы, все люди, техника, лаборатория и сложная сварка на объектах – мои. Теперь это около 20 человек в лаборатории, 10 инструкторов и больше сотни сварщиков на объектах, 30–40 матросов в учебных группах. Начальником лаборатории назначается инженер-электрик Борис Мокров, окончивший училище Дзержинского. Мы оба сидим в подвальном отсеке, успешно сотрудничаем. В наших технических дебатах и рождается нечто, отлитое в металл. Боря при этом постигает сварку, а я – электротехнику. К нашему тандему часто примыкает Володя Волчков – главный механик.
Мозговой штурм. (Б. Мокров, В. Волчков, я)
Вера
И создал Господь Бог женщину…
Для лаборатории изыскивается штатная должность инженера-испытателя. По умолчанию – это должность для женщины, которая должна постоянно находиться на одном месте, то есть не мотаться по командировкам, как мы. Кроме работы на испытательных приборах, она также должна уметь чертить, чтобы облекать наши гениальные замыслы в осязаемую плоть эскизов, схем и чертежей. Кроме того, у нас накапливается как снежный ком техническая и материальная документация, которую надо приводить в некую систему, обновлять и содержать.
Более-менее соответствовала этим требованиям Наташа Романова, слегка экзальтированная дамочка, жена слушателя какой-то военной Академии. Но ее муж окончил учебу, и она уехала с ним в дальнюю Тьмутаракань. Следующая за ней огромная и упитанная дева (подвальные ребята называли ее простенько – Бомбой) отлично чертила, но без всякого понятия о том, что и для чего она делает. Нам нужны были быстрые рабочие чертежи, она же стремилась выдать безукоризненный с точки зрения ГОСТов чертеж, для создания которого требовались мои подробные эскизы, после рисования которых красивая копия нужна была, как рыбе зонтик. Короче: она была простой копировщицей. Все остальные обязанности дева высокомерно игнорировала, считая их недостойными своего Чертежного Превосходительства.
Я потратил много усилий и времени, пытаясь воспитать Деву (имя ее просто не помню) в «русле требований». Поддавалась учебе она туго по причине элементарной лени и отсутствия интереса к чему-либо. Впрочем, тут я ошибался: неожиданно проявился весьма сильный интерес к этиловому спирту, который применялся в лаборатории для ускоренной сушки рентгеновских пленок и для обработки металлографических образцов. Спирт находился рядом с ее рабочим местом в нашей комнате на втором этаже, подальше от моих подвальных «морлоков», и, как недальновидно я полагал, – в полной безопасности. Несколько раз мне казалось, что дева находится в слегка возбужденном состоянии, но я легкомысленно отнес это на капризы женской психики в воинском коллективе…
Момент истины наступил в полном блеске однажды после обеда. Когда я зашел в нашу комнату, то увидел впечатляющую картину. Голова девы стонала в умывальнике под струей холодной воды, а весь пол комнаты покрыт последней закуской в полупереработанном виде… Могучий Юра Зуев в промасленной спецовке дотащил на своих плечах бездыханное тело Девы в санчасть. Туда же, и в таком же состоянии было отбуксировано тело еще одной ее подруги из бухгалтерии. Я не рискнул это сделать сам: тела Дев могли повредиться жестким погоном кителя, да и общественность меня бы осудила, приняв за собутыльника или кого-нибудь похуже… Доктор в санчасти с интересом, но спокойно созерцал двух лежащих женщин: он до сих пор в таком состоянии видел только забулдыг-матросов. Зуев чертыхался матом, очищая спецовку. И тут я вдруг с ужасом вспомнил, что часть спирта у нас была приготовлена для травления образцов и разбавлена серной кислотой и еще какими-то ядовитыми специями!
Призраки двух молодых трупов мгновенно согнали с нас благодушие, телефон 03 сразу раскалился. Через несколько минут прохожие с интересом наблюдали, как из воинской части среди бела дня бегом выносят двух пьяных в дугу «девочек» и грузят на скорую…
К счастью, девочки выжили, и вскоре явились за расчетом на собственных ножках…
Нет, брать на такую должность человека с улицы нельзя. Я бросил клич по всем знакомым, две части – наша и соседняя знали, что я ищу человека. Предложения посыпались как из рога изобилия, но все кандидатуры были женами, дочками, племянницами. Беда была в том, что они почти ничего из требуемого делать не умели.
Но вот ко мне подошел пожилой мичман Коптев из «пятнашки». Надо сказать, что я был дружен со многими старыми мичманами этой части. Обычно это были специалисты высшего класса – электрики, связисты, прошедшие войну и службу на кораблях, и знающие себе цену. Я многому у них научился, они же с удивлением знакомились впервые с возможностями сварки в аргоне и другими нашими работами; мы всегда активно помогали друг другу.
– Николай Трофимович, хочу рекомендовать вам свою соседку Веру Пурвину. Она замужем, инженер – недавно окончила институт. Но дело не только в этом. Я знаю ее с детских лет. Она просто золотой человек: скромница, умница, трудолюбивая, вежливая, настоящая ленинградка. Вы не пожалеете, если возьмете ее…
Мичмана Коптева я уважал, и его знанию людей можно было довериться.
Так в лабораторию на должность инженера-испытателя пришла Вера Николаевна Пурвина. Как-то незаметно Верочка переключила на себя большой объем работ, причем без всякой натуги и понуканий. Она выдает нужные чертежи, сутками может кипятить образцы, освоила металлографический микроскоп и стилоскоп, спокойно тянет огромный и растущий воз документации лаборатории. Наша лаборатории приобретает человеческий вид с занавесками и комнатными растениями, исчезает грязь и окурки на полу и крепенькие словца в речах. Мы привыкаем, что к началу обеда у нас уже кипит чайник… Особенно эти качества женщины-хозяйки станут заметными в новой лаборатории, когда мы выйдем из подвала – об этом дальше.
Но дело даже не в этом. Если меня самого можно было считать мотором лаборатории, то Вера, без всякого сомнения, стала ее душой. Все мичмана и матросы приходили к ней плакаться в жилетку и делиться радостями. На «втором этаже», как кратко у нас обозначался штаб и командование, – Вера являлась полноценным представителем лаборатории, неизменно защищающим ее трудящихся и руководителя перед нападками «врагов внешних».
В армейской среде известны кучи анекдотов о всезнании жен и женщин вообще. На командном «втором этаже» большую часть составляли женщины, которые знали все наперед, как им и положено по анекдотам. Вера там была целиком и полностью «аккредитована», и ее своевременные предостережения не раз спасали меня от опрометчивых шагов. С другой стороны Вера всегда выступала защитником людей лаборатории передо мной – свирепым самодуром, способным сгоряча наломать много дров…
Челдоны, болтуны и писатели
Лаборатория стремительно развивается. Мы учимся и учим, осваиваем все новые виды работ. Конечно, такой рост лаборатории был бы невозможен без поддержки командира – Д. Н. Чернопятова, а также его боевого главного инженера – моего друга Бориса Николаевича Лысенко. Правда, отношения с моими отцами-командирами не такие безоблачные и пушистые. Вот Дмитрий Николаевич дает мне поручение изучить некую проблему. Вникаю, изучаю. Проблема имеет множество решений, зависящих от начальных условий и предварительно принятых решений. Докладываю об этом начальству. Чернопятов злится:
– Что ты рассказываешь? Ты мне ответь просто: «да» или «нет»!
– Да не могу я так ответить, Дмитрий Николаевич! Если будут условия «А» – то «да», если условия «Б» – то «нет», а при обстоятельствах «В» – придется искать еще и третий выход!
Начинается спор, я стою на своем, доказываю, что «черно-белого» решения нет.
– Вот хохол упрямый! – совсем заводится дорогой шеф. И тут я «ляпаю»:
– Ну, пусть я хохол упрямый, но не челдон, и понимаю все, что мне говорят!
Сам не знаю, откуда я взял это слово, возможно из книг Лескова или Шишкова; до сих пор не знаю точно, кого оно обозначает. Его я употребил в значении «чурка», желая сказать всего лишь, что я не такой…
– Хорошо, пусть я – челдон, – внезапно успокаивается Дмитрий Николаевич. Я могу только извинительно прижать руку к груди, хотя следовало бы ударить кулаком себе по голове или по разболтанному языку. Дальше у нас идет спокойный разговор. Простое «черно-белое» решение «да – нет» раскрашивается целой радугой вариантов «если – то». ДН тоже учится…
Мой непосредственный начальник – главный инженер Боря Лысенко – человек упорный, энергичный, увлекающийся и энтузиаст. Он помогает «огнем и колесами», радуется как ребенок нашим успехам, но тут же неустанно ставит все новые и новые задачи, с жестко обозначенными сроками. Боря долго был начальником наших «Северов». Семьи у него не было, и он привык работать все 24 часа в сутки, удивляясь, что у его подчиненных могут быть еще какие-то заботы. Боря – толковый и опытный инженер, решительный и бескомпромиссный человек. Работать с ним – одно удовольствие. Проблемы начинаются, когда требуется сделать «шаг в сторону» от работы, например – уйти в отпуск. Все оговорено, согласованы задания, которые надо выполнить «до того». Подходит срок, но главный «раздвигает новые горизонты». Говорю ему:
– Боря, я же связан с другими людьми. Они уже свои планы тоже подогнали под мои сроки. Кто теперь я перед ними? Безответственный болтун?
Главный убеждает меня, что это совершенно необходимо сделать, потому что…
На третьем «раздвижении горизонтов» я уже зверею, и готов запустить фасонистой чернильницей в ее обладателя, но Боря, наверно, ожидает этого и скрепя сердце отпускает меня…
С другой стороны, – поддержка отцов-командиров была бы невозможна, если бы лаборатория не выдавала непрерывно «продукцию». Даже трудно перечислить эту продукцию, но она решала многие непростые проблемы части, причем, не только в области сварки. Решения некоторых из этих проблем показаны в моей книге и статьях. Кстати, именно благодаря ДН написаны эти статьи, а позже – книга. Он гордился нашими достижениями и непрерывно понукал нас с Борей Мокровым: «Пишите в журналы статьи, пишите!». Писали по отдельным вопросам, статьи публиковали. Боре публикации были нужны: он готовился заняться наукой в родном училище; мне же эти статьи были просто дополнительной нагрузкой. Позже родилась идея написать книгу, которая бы частично обобщила наш опыт и восполнила дефицит учебников по монтажу и сварке.
Расскажу о решении одной необычной проблемы. На стартах установлены алюминиевые 10 м3 емкости для перекиси водорода, продукта весьма нестабильного и взрывоопасного. После нескольких аварий в корпуса резервуаров толщиной 16 мм потребовалось вваривать большие горловины с предохранительными клапанами, чтобы избежать резкого увеличения давления и взрыва. Такую толщину в аргоне сварить нельзя: не хватает мощности источников, нет таких мощных горелок. Электроды для сварки алюминия были только импортные, да и те только в справочниках. Разрабатываем технологию. Делаем приспособления и изготавливаем электроды в лаборатории, испытываем их, учим инструктора. Обмазка электродов чрезвычайно хрупка и гигроскопична. Приходится изготовить также специальные герметичные пеналы, облицованные изнутри пористой резиной, в которых нарочный доставляет свеженькие электроды на объект. Там место сварки нагревают два газосварщика, третий быстро заваривает шов врезки электродом, питаясь от мощного агрегата ПАС 400 постоянным током обратной полярности…
Читаю в сварочных журналах информацию о плазменной резке, которая нам нужна чрезвычайно: нержавеющую сталь и алюминий резать нечем. Один из самых продвинутых авторов – Д. Быховский из ВНИИЭСО. Договариваюсь с ним о встрече. Консультацию он дает неохотно, утаивая основное. За чертежи резака требует 500 рублей. Много хочете, товарищ: в капитализьме мы будем еще не скоро. Через неделю у меня уже «пашет» плазмотрон собственной конструкции. Вторую модель я запускаю в Североморске на нашей базе. Третья, машинная, – уже работает на заводе. Плазмотрон проще и надежней, чем у Быховского.
Возникает проблема: на объектах негде сушить электроды. Напрягаем интеллект и технику. Выдаем в металле десятка два печек, которые кроме сушки электродов, могут еще обогревать помещение, готовить пищу, быть термосом, сушить грибы. Лучшая аттестация печкам: их, в конце концов, разворовывают по домам и дачам – свои и чужие. А могли бы и сломать…
В больших количествах мы делаем для объектов электрододержатели, горелки своей конструкции – легкие и надежные, без водяного охлаждения, гораздо лучше промышленных. После каждого «дембеля» нам приходится изготовлять новые партии. Я считаю это нормальным делом: почему не подарить нашему воспитаннику на память то, что ему нравится? В конечном счете, главное, что делает наше направление – воспитывает специалистов-сварщиков и вообще – людей техники. Приходит паренек «от сохи», уходит мастером. Распрямляется духовно и физически. Только замполиты думают, что именно они воспитывают людей политзанятиями. Гнусная криминальная дедовщина возникнет гораздо позже…
Вот мне звонит из Череповца после демобилизации мой любимец, светлый паренек, Толя Яблоков. Он, техник-механик, стал первоклассным сварщиком-аргонщиком, вместе с ним мы сваривали автоматом рулоны из нержавеющей стали в Палдиски.
– Николай Трофимович, я хочу сделать для своего завода установку для сварки алюминия. Какой осциллятор мне лучше заказать?
– Ой, Толечка, тебе же нужно будет еще много всяких прибамбасов, в первую очередь – горелка!
– Горелка есть, извините – я взял вашу. Она очень хорошая!
– Что же ты, разгильдяй такой, не прихватил и осциллятор? – смеюсь я. – Он не поместился в дембельский чемодан?
Письмом посылаю Толе подробные инструкции: мы в ответе за тех, кого научили…
Еще одна «сцена у фонтана». У нас аттестуется чужой сварщик по алюминию. Ему никак не удается сварить без непровара толстые образцы. Наконец он приносит образец и заявляет, что он научился варить, и теперь все будет нормально. Вырезаем образцы для испытаний на разрыв. У меня возникают сомнения, велю своим ребятам изготовить и протравить шлиф сварного шва. Наглядно проявляется хитрость неумехи: он взял целую пластинку и с двух сторон наплавил валики швов. Подзываю пальчиком хитреца и показываю ему шлиф. Он даже не мог представить себе такого наглядного разоблачения, падает на колени, обещает обильные коньячные поставки, если я забуду об этом образце… Халтурщик безжалостно изгоняется: нельзя вешать лапшу на уши знатокам. И еще: мы дорожим своей, уже завоеванной репутацией.
Нас теперь трое!
Козыряй!
(К. П. № 150)Перечитал ранее написанное и ужаснулся: это не автобиография, а технический отчет лаборатории о проделанной работе. Хотел все изъять по Достоевскому: он считал, что главная доблесть писателя – уметь вычеркивать. Но – не могу я вычеркнуть хотя бы и косноязычные и куцые слова о весьма счастливых и насыщенных годах своей жизни. Опять же соображение: все равно никто читать не будет, а мне приятно вернуться в те молодые годы…
Упиваясь всякими техническими прибамбасами, я не рассказал, что ДН, вскоре после нашего возвращения из отпуска, пригласил меня и Эмму к себе домой на дружеский обед, где познакомил мою Эмму со своей. Там он пригласил Эмму на работу в часть инженером ПТО: видно ему понравился порядок в документации моего участка, который жена навела в Котово. Узнав уже от Эммы Павловны, что Эмма возможно беременна, он даже обрадовался:
– Вот и хорошо: уйдет в декретный отпуск, получив деньги, да и стаж будет идти, пока за малышом будет ухаживать!
Мы сразу согласились: устройство на работу решало наши некоторые проблемы. Теперь мы ездили вместе: я – на службу, жена – на работу. Работа Эмме нравилась, тем более что шефство над ней сразу взял мой «годок» и друг Володя Зубков, человек исключительно интеллигентный. В положенный срок Эмма ушла в декретный отпуск как работающий человек. Накручивался стаж, да и получаемые Эммой деньги были совсем не лишними…
12 апреля 1961 года в Советском Союзе работали только те, кто не мог отойти от своего рабочего места. Остальные бегали от телевизора к радио, и все вместе ликовали. Такая большая и единодушная радость была последний раз только 9 мая 1945 года. Наш Гагарин в космосе!!!
Мы, военные люди, переживали за воинское звание Юры. Сначала ведь было сообщение о полете старшего лейтенанта Гагарина, затем речь пошла уже о майоре.
13 апреля в четверг народ понемногу начал вспоминать о делах и медленно возвращаться на рабочие места. Я стоял на пороге своего подвального офиса и «жучил» инструктора группы прапорщика Матюшенко Колю за какие-то упущения. Пришел матрос из штаба и дал мне телеграмму, взглянув на которую, я смог только сделать прапору отмашку «уходи вон». Вот она:
ИЗ БРАЦЛАВА ВИННИЦКОЙ. 13 АПРЕЛЯ, 8-00. ПОЗДРАВЛЯЕМ СЫНОМ ЧУВСТВУЮТ ХОРОШО ЖДЕМ ДВАДЦАТОГО ЦЕЛУЕМ РОДИТЕЛИ
СЫН!!! У НАС СЫН!!! Конечно, я был бы рад и девочке, но жена подарила мне СЫНА!!!
Я нигде не писал, что мы с женой уже давно ждали и надеялись, что на этот раз все будет хорошо. Эмма после Нового 1961 года раздобрела, и я называл ее не иначе как «моя толстая и добрая зайчиха». Сейчас модно для родов ездить за бугор – для престижа. Но кто сталкивался с порядками в наших роддомах, готов был поехать на любые «кулички». Для нас, конечно, идеальным решением был Брацлав, куда и поехала Эмма рожать. Там родители, там опытный врач Монелис, там требуемый уход.
Телеграмма – не тайна, меня все поздравляют. «Конечно, вы назовете сына Юрой!» – такое общее мнение, Юрий Гагарин – человек № 1 во всем мире. Я отвечаю, что имя малышу уже давно дано: девочке – Наташа, сыну – Сережа. Мы не хотим в именах никакой экзотики. Юра – хорошее, а теперь и прославленное имя, но наш сын будет Сережей!
Вечером по телефону узнаю подробности. Рост – 53 сантиметра, вес – 4,5 килограмма. Сведущие люди говорят, что это просто гигантский малыш. Что роды в связи с этим были непростыми, от меня скрывают: все самое трудное и опасное для матери уже позади.
На майские праздники на пару деньков прилетаю в Брацлав на первое очень «волнительное» свидание с сыном: как повлияли на него мои новоземельские развлечения?
В кроватке лежит чистенький кругленький малыш с голубыми глазами и улыбается мне! Когда я потом рассказывал об этом на работе, надо мной посмеивались:
– А закурить у тебя он не просил?
Никто не верил, но малыш действительно улыбался мне! Эмма рассказывает:
– Ты взял его ручки, сосчитал на них пальчики; затем – на ножках. Поводил рукой над лицом – реагирует, видит! Пощелкал пальцами – слышит! После отцовского «медосмотра» осторожно поднял «новобранца» и прижал к себе…
Первое свидание. Маленький, маленький…
Радостная вставка из будущего. Сейчас, в конце марта 2006 года, когда я пишу эти строки, нашему сыну через полмесяца исполнится 45 лет. Он – хороший, благородный и большой малыш, наша с женой радость и надежда. Сын состоялся как человек, специалист и руководитель. К этому времени он родил дочку и сына, построил дом, и наверняка посадил не одно дерево, в том числе в нашем садоводстве. В последний раз, правда, заснято это действо камерой документально, – он яростно крушил старые кусты больной смородины по просьбе престарелых родителей…
Теперь вся жизнь в доме родителей, а в какой-то степени – и детдома, крутится вокруг одной точки: нашего малыша. Кое-какое внимание перепадает, конечно, и его маме… Малыш всем улыбается, всем нравится, сразу и охотно пошел на «ручки» к бабушке Жене. А Тамила очень долго называла его «голубоглазиком», хотя вскоре его глаза стали карими… Дед Федор Савельевич души не чает в своем первом внуке. Деду я привез подарок, который мне в связи с рождением сына подарил радиолюбитель мой матрос Костя Егоров. В корпус пластмассовой мыльницы он поместил транзисторный приемник (наша промышленность начала выпускать похожие только лет через восемь). Дед страшно гордился этим подарком: все «падали», когда в его кармане вдруг начинала играть музыка или передавали последние известия.
Расстаюсь со своей, увеличенной на главного человека, семьей ненадолго: в конце июня мне обещан отпуск. Уезжаю в Латвию, на ракетную базу в лесах. Там мне предстоит непростая работа. В июле на время отпуска меня должен подменить Боря Мокров.
Вставка – извинение. Не могу умолчать о разных железяках, даже описывая рождение своего единственного сына. О времена, о нравы!
Каникулы на Венте
Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу
(К. П. № 30)На действующей ракетной базе в лесном массиве Латвии мне предстоят большие работы: надо сварить несколько километров труб и трубочек разных диаметров из нержавеющей стали. К этой работе мы готовились: добыли у Минсредмаша трубосварочные автоматы АТВ, фаскорезы, обучили там людей, изготовили специальный центратор – основу разработанной технологии. Я уже знаю, что автоматы АТВ не очень хороши: их не смогли запустить даже на ЛМЗ – знаменитом Металлическом заводе. Тяжелый автомат в теории надевается на стык двух труб, тщательно (до 0,1 мм) отцентрированных и закрепленных. Сварочная горелка с вольфрамом вращается вокруг неподвижного стыка, проволоку в зону сварки подает другой механизм.
Автоматы капризны, сложны в настройке, работают нестабильно. Очень чувствительны к броскам и провалам напряжения в сети. Требуется программирование величины тока в зависимости от положения сварки – потолочного, вертикального или нижнего; но оно не предусмотрено. Дорабатываем технологию и приспособления, чтобы хотя частично устранить эти безобразия. На объекте разворачиваем свое хозяйство. Автомат у нас подвешен над нашим стационарным, быстрым и точным центратором. Плеть сваренных труб длиной более 100 метров вытягивается из центратора, с другой стороны подаются отдельные трубы, которыми наращивается плеть. Готовые плети выкладываются вдоль трассы.
Трубы, после снятия фасок под сварку, надо тщательно готовить. Они изнутри отполированы, но их надо еще промыть в чистейшем бензине прямой перегонки «галоша», чтобы снять консервацию, затем протирать чистой бязью. На каждую трубу мы наносим клеймами трехзначный номер; шестизначный номер каждого стыка заносится в журнал работ.
На месте из алюминиевых листов приходится сооружать непростую мойку и хитрый инжекторный пистолет: бензин такой, что может полыхнуть от любой искорки. Зато мгновенно испаряется без всяких следов. Однажды прапорщик Лукашенко простирал в бензине старый замызганный китель. Чудо! Китель стал как новый! Теперь у нас куча «енотов-полоскунов», и все спецовки стают чистенькими и нарядными.
Внутри командного сооружения все стены и агрегаты опутаны тоненькими трубками. Заварить их стык ручной сваркой почти невозможно. Зато самый маленький автомат АТВ соединяет их очень просто и быстро. Одно это окупает все наши страдания с не очень совершенными автоматами…
Однажды возле нашей площадки появляется кортеж черных машин. За генералом – начальником Главка, наглым и грубым матершинником, перешедшего к нам из охраны ГУЛАГа, – свита генералов поменьше. Мы заранее предупреждены: отвечать только на вопросы, во всех спорах с высоким начальством предусмотрено единственное возражение: «Так точно, товарищ генерал!». Мы молча и спокойно работаем, генералы удивляются красоте стыков, сваренных автоматом. Краем глаза замечаю, что главный генерал не в духе и набирает воздух в легкие для разноса. В это время другому генералу так понравился стык на трубе, что он здоровается с ним «за ручку». Раздается вопль: стык еще раскален, и генеральская ладонь превращается в волдырь с хорошо прожаренной корочкой. Кортеж мгновенно сворачивается и уезжает зализывать полученные боевые раны. Мы же остаемся без руководящего «вливания»…
С удивлением присматриваюсь к жизни офицеров-ракетчиков. Они все сплошь младшие офицеры, с соответствующими окладами, хотя некоторые уже весьма в летах, как тбилисский старший лейтенант. Во всей части штатным расписанием предусмотрено только три должности старших офицеров – для командира и двух его замов. Жизнь у младших офицеров совсем не малина: неделя обычной службы сменяется неделей боевого дежурства, когда они неотлучно находятся возле своих игрушек. Для коротких сновидений рядом с технической зоной стоит маленький домик с большим ревуном на случай боевой тревоги. Неделя «обычной» службы тоже проходит в том же лесу от отбоя до подъема: надо обучать и воспитывать вверенный Родиной личный состав. Лишь поздно вечером молодой офицер может уехать на латышский хутор, находящийся не ближе 20–30 километров. Там жена и дети «оккупанта», за приличные деньги снимают комнатку в халупе у потомков латышских стрелков. Дети уже спят. Когда их родитель уедет на службу, дети будут еще спать…
В их шкуре для меня, наверное, самой тяжелой была бы основная деятельность: все действия повторяются бесчисленное число раз, чтобы «отработать их до автоматизма».
Автоматизм – и никаких просветов. Нет уж, лучше тяжелый монтаж: не люблю быть автоматом.
Вставка из будущего. Многие из этих ребят привыкли к Латвии, к ее вежливым людям, природе. Перед «дембелем» они получат кое-какое жилье и решат остаться здесь. Они не могут даже в кошмарном сне предвидеть, что окажутся за границей, получат титулы «оккупантов» и «неграждан», а всегда корректные и вежливые латыши полюбят свастику и начнут их вытеснять из жилья и страны… Слава Богу, что эта участь миновала наших ближайших друзей – Лапшутиков-Мещеряковых: Лева случайно успел вернуться в Россию, хотя в Риге у него уже было неплохое жилье.
Это все будет позже. Сейчас же мы куем ракетно-ядерный щит Родины и не подозреваем о грядущих переменах…
У нас образуется еще один выходной – в среду. В этот день ракетчики возятся со своими игрушками. Техническая зона – намертво закрыта. Мы всей командой – три офицера, два десятка прапорщиков и матросов – волей-неволей отдыхаем. Рядом протекает небольшая и чистая река Вента, там хорошо загорать, купаться и ловить рыбу. Два рыбака идут по правому и левому берегу речки, лески их спиннингов связаны, на крючке – стрекоза. Приманка сканирует поверхность воды, крупная щука или другой хищник часто ловит стрекозу с крючком, наполовину выпрыгивая в воздух. Более спокойные рыбаки дергают окуньков удочками с берега, кто-то плавает или загорает с книгой.
Проходит пару недель, и рыба совершенно перестает клевать. Главный рыбак майор Володя Васькин, бывший егерь, вдруг заявляет всему обществу:
– Не ловится рыба, потому что вы все не умеете ловить!
Успешные до того рыбаки заводятся с полуоборота: как это не умеем? Ловили же сколько! Вот покажи, сколько ты наловишь сам! Васькин продолжает в том же духе:
– Я не ловлю, только потому, что некуда складывать рыбу! Вот дайте мне подходящую тару, например – сумку от противогаза, и я вам покажу, как ловить рыбу!
В конце концов, кто-то добывает у ракетчиков желанную сумку. Заключается пари: если рыбы не будет, то Васькин посыпает голову пеплом, кается перед народом, что он болтун и хвастун, и, само собой, – делает всем офицерам и прапорам «бутыльброт».
Живописная толпа движется к речке. Впереди с противогазной сумкой на плече и с совершенно пустыми руками невозмутимо вышагивает Васькин. Толпа сзади потешается: где удочка, лески, крючки и прочие орудия лова? На берегу Володя молча срезает коротенькую палочку, из кармана достает веревочку, раздевается, на голое тело надевает ремень сумки. Зрители просто валятся от смеха: «Сумка маловата! Такой палочкой кита – не поднять! Можно уже бежать за кастрюлей для ухи? Килограмм лаврового листа – хватит?».
Васькин заходит в воду, доплывает до середины реки, где рыба никогда не ловилась, и стает на отмели – почти по плечи в воде. Затем на конец палочки привязывает веревочку с крючком, забрасывает рядом с собой и начинает пританцовывать в воде. Ликование зрителей достигает пика, некоторые особо смешливые острить уже не могут и просто катаются по траве.
Внезапно смех замолкает: рыбак выуживает довольно крупного окушка и демонстративно кладет его в сумку, подвешенную теперь к шее. Опять забрасывает свою снасть, опять танцует и тащит второго, третьего… Зрители застывают с открытыми ртами: как это, как это??? После наполнения сумки наполовину, наблюдатели и спорщики опять приходят в безудержное веселье, но уже с другим уклоном, с другими шуточками: «Давай! Гол!!! Лови за жабры! Еще один!»
Вышедшего из воды Васькина с увесистой сумкой облепляют рыбаки с единственным вопросом: «Как это получилось?». Слегка посиневший Васькин отвечает скромно:
– Я же вам, лопухам, говорил, что вы не умеете ловить!
Секрет свой он выдал мне только в другой обстановке через пару месяцев. Он в воде не танцевал, а ногами взрывал дно. Окуни и слетались на всплывающих червячков. Все очень просто. Надо, правда, еще знать, как это делать, где и в какое время…
Когда я приехал в часть, чтобы уйти в отпуск, то не смог этого сделать: в отпуске уже находился мой зам – Боря Мокров. В оставленной записке Боря извинялся, писал, что у него «неожиданно родился сын». Я здорово удивился «неожиданности рождения»: раньше я не думал, что Галя Мокрова может делать такие чудеса. (Кстати, родившийся тогда Миша стал нашим общим любимцем и художником). Тем не менее – с отпуском пришлось притормозить на месяца полтора. В Латвию после отпуска я уже не поехал: практически вся сварка там уже была сделана. Да и работы в Питере было много.
Вдруг с объекта приходит ужасное известие: дал течь полукилометровый трубопровод, сваренный «под моими знаменами» трубосварочным автоматом. ДН вопрошающе смотрит на меня: как это могло произойти в нержавеющем супертрубопроводе, где буквально «вылизана» каждая трубочка. Я просто убит, собираюсь возвращаться на объект. Через пару часов приходит телеграмма от Васькина: «Повреждение найдено зпт исправлено тчк нам претензий нет». С души сваливается камень: это не дефект сварки, а повреждение…
Позже Володя Васькин рассказал мне о случившемся. Внутренние объем и полированная поверхность трубопровода диаметром всего около 30 мм должны быть осушены до «точки росы – минус 40 °C». Это значит, что только при таком морозе поверхность имеет право на «точку росы»: проще – слегка запотеть. Поэтому всю полукилометровую трубу, вместе с другими проложенную по лесной чаще, промывали и испытывали не водой, а чистейшим этиловым спиртом. Эту «скользкую» операцию проводили ракетчики, мы им только помогали.
Спирт закачивали с одной стороны трубы, принимали через полкилометра с другой. Пока переливали несколько раз «из бассейна А в бассейн Б» усушки и утруски рабочего вещества никто не замечал. Но когда трубу закрыли с одного конца и начали наращивать давление с другого, – начались вопросы к монтажникам: давление упрямо не хотело подниматься, сколько ни закачивай. Версия сжимающихся воздушных пробок была отвергнута, осталась одна – течь по сварке. Трубы были настолько идеальны, что о течи по целому металлу и речи не могло быть. Вот тогда и родилась первая телеграмма, поставившая нас «на уши». Течь нашли через несколько часов после тщательной проверки трубопровода, – буквально по миллиметру. В труднодоступном месте нержавеющая трубка с толщиной стенки 5 мм была аккуратно пропилена ножовкой. При внимательном обследовании обнаружились также следы отбора огненной жидкости. Это удивительно: наши ножовки тех времен почти не могли резать нержавеющую сталь, требовалась ножовка из стали Р9.
Течь наши ребята заварили, а ракетчики начали искать умельцев в своей семье. По их данным испарились около 50 литров спирта. Мне кажется, что сюда вошли и «накладные расходы» самих искателей, дай им Бог здоровья…
Завоевание плацдарма
Квартирный вопрос портит не только москвичей
(соб. инф.)Из-за неожиданностей в области деторождения моего зама, ухожу в отпуск месяца на полтора позже. Проводим отпуск в Брацлаве вокруг маленького Сережи. Эмма хотела взять отпуск на полтора года для ухода за малышом, но ДН просит выйти на работу: у него могут быть неприятности. Очень трудно пережить счастье и благополучие коллег многим нашим «соратникам», которые спокойно бы пережили наши несчастья, а возможно – пришли бы даже на помощь…
Чтобы не подводить ДН и не повредить малышу, берем с собой в Питер няньку – сельскую девочку. Немедленно нам стает очень тесно, и мы ностальгически вспоминаем о прежней комнате.
Мучаемся мы почти год. Затем наша соседка собралась выходить замуж. У жениха где-то на улице Чайковского есть большая квартира, и свою комнату в нашей квартире соседка будет просто оставлять. Она предлагает нам меняться комнатами с доплатой: ей все равно, что бросать.
Наш дом на Краснопутиловской строили военные для себя, поэтому он принадлежит (находится на балансе) МИС ЛенВМБ – Морской Инженерной Службы Ленинградской Военно-морской базы. Начинаю выяснять возможности обмена комнат.
Увы, обмен невозможен по формальным причинам: обмен комнат в пределах одной квартиры, тем более – неравноценных комнат, никто не делает. Мы в отчаянии от бессилия: близок локоть… Постепенно у нас рождается довольно нахальная идея из студенческого анекдота: если нельзя вместо двойки поставить тройку, то, может быть, можно поставить четверку, или даже – пятерку?
Владельцам современных приватизированных или купленных комнат легче: они просто могут продать свои «метры». Правда, они сначала должны официально предложить свою жилплощадь купить соседям по квартире; и только после их отказа – продать по цене не ниже заявленной. В те далекие времена все было иначе. Чтобы прописаться в другом месте, надо было выписаться с прежнего, плюс – отремонтировать и сдать (бросить) старую жилплощадь в полном порядке.
Соседка может «бросить» свою комнату только написав «отречение» в МИС ЛенВМБ. За это отречение она хочет получить с нас 15 тысяч рублей – рыночную цену нашего подержанного Москвича 401. Мы согласны заплатить эти деньги и получить «5» вместо имеющейся в наличии «двойки». Вся беда в том, что принимает экзамен и ставит оценки нам не один экзаменатор…
Допустим: соседка передает нам свое «отречение» в обмен на наши деньги. С этой «бумагой» я иду в МИС. А там куча желающих получить хоть какую-нибудь комнату, и мне запросто дают от ворот поворот… Получение комнаты – никто не гарантирует. Рисковать или нет – наша проблема.
Провожу консультации сначала с Шапиро. Александр Михайлович загорается. Если маневр получится, тогда он добивается, что УМР выделяет нашему третьему соседу Уткину большую комнату или однокомнатную квартиру, а нам – отдает свою двухкомнатную. В крайнем случае – отдает Уткину комнату тестя и съезжается с ним: все равно тесть и теща живут у них. Шапиро тогда возвращается в свою старую любимую трехкомнатную квартиру уже полным хозяином, без всяких соседей.
Готов поддержать меня Дмитрий Николаевич: у него уменьшается очередь офицеров на улучшение жилищных условий. Он подписывает официальное ходатайство в УМР, в котором заслуги и орден инженер-капитана Мельниченко Н. Т. преувеличены до небес и обоснованы притязания на дополнительную жилплощадь для прописанных трех человек тем, что жена беременна, и что надо забрать к себе мать-пенсионерку. ДН советует мне обратиться в УМР к замполиту И. А. Кривошееву, который ведает распределением жилплощади.
Иван Абрамович Кривошеев, замполит УМР, капитан 1 ранга – личность колоритная. «Партийная кличка» у него – «ОшЕчка»: он – рыжий, немного шепелявит, заядлый охотник, а у этих ребят часто бывают осечки. Ивану Абрамовичу я все рассказываю как на духу, в том числе все дальнейшие планы, связанные с Шапиро. ИА мои планы принимает благосклонно: у него огромная очередь офицеров и прапоров на жилье, и мои самостоятельные потуги ему нравятся. Он задумчиво изрекает:
– Эти зас…цы из МИСа комнату так просто не отдадут… Ну, ничего: мы им напишем гарантию компенсации в будущем нашем доме. Они там все равно вырвут свою долю, даже без всяких гарантий. Действуй!
Окрыленный – действую. Соседка пишет отречение. Обмен деньги – бумага происходит точно так, как передача подписанных договоров у дипломатов: из рук в руки, с последующим пожатием таковых. Иду в УМР, чтобы забрать и отнести в МИС «отношение», в котором просьба оформить на меня комнату подкреплена гарантией возврата МИСу другой в строящемся доме.
Кривошеев сразу наносит нокаутирующий удар. Он холодно рассматривает меня, как внезапно появившегося внебрачного сына, потребовавшего отцовского наследства.
– Ничего не полушится, Мельниченко. Обшшественность возражает…
Сбылись кошмарные сны: у меня в руках бумажный фантик, за который я выложил большие деньги. Но не жалко денег: рухнула надежда на лучшую жизнь для моих малышей…
После некоторого ступора беру себя в руки и вяло интересуюсь, какая именно личность олицетворяет собой суровый голос широкой общественности. На удивление охотно Иван Абрамович называет эту личность: секретарь парткома УМР Пономарев. Эту личность я знаю. Это отставной подполковник, бывший замполит старой «десятки», зануда с мертвыми закисшими глазами. Он терроризировал еще Кащеева, когда тот был командиром «десятки», дожимая его последними постановлениями Партии и Правительства. Пономарева «вычистили» при реорганизации части. Всплыл он в УМР на совершенно бесполезной, ни за что не отвечающей должности секретаря парткома, сохранив при этом все вельможные замашки крупного партийного бонзы. Такую «обшшественность» мне в одиночку не одолеть. За помощью я обращаюсь к Шапиро: рушатся ведь и его планы. Александр Михайлович уже в курсе дела:
– Не впутывайте меня в свои аферы! – почти верещит он, совершенно забыв о своем несокрушимом юморе. Сильна у нас «обшшественность»: и этот товарищ «облослался», как говаривал один мой маленький знакомый…
Делаю последнюю, почти безнадежную, попытку: иду сам к Пономареву.
– Иван Григорьевич, я пришел к вам по жилищному вопросу. В нашей квартире освобождается комната. Она будет просто оставлена; никаким образом к УМР она не попадет. Я могу решить свой жилищный вопрос для пяти человек семьи, купив эту комнату за свои кровные. При этом я ничего не прошу у командования. Мне сказали, что вы возражаете. Почему? У вас что-то есть против меня?
Пономарев не выдерживает прямого взгляда и прямых вопросов и отводит глаза:
– Да, нет… Собственно, у меня возражений нет…
– Пожалуйста, скажите об этом Ивану Абрамовичу, – я чуть ли не за ручку веду Пономарева в соседний кабинет: промедление – смерти подобно.
– Я думаю, что мы можем разрешить капитану Мельниченко… Тем более – передовой офицер, орден получил… – выдавливает из себя Пономарев.
– Конечно, конечно, если вы не возражаете. Как там, Иван Григорьевич, у нас обстановка на… – Кривошеев умный мужик: он переводит разговор на другие рельсы, закрывая тем самым предыдущую тему, как безусловно решенную.
Спустя неделю исходные бумаги обретают на верхних полях много косых разрешительных надписей важных чинов. В отделе МИСа, расположенном недалеко от Мариинки, получаю невзрачную бумажку с печатью, которая называется Ордер!!! На радостях я покупаю несколько коробок самых дорогих конфет и отдаю их женщинам в отдел. Они рады чрезвычайно: о грядущих денежных «откатах» в % от стоимости приобретенного, – еще ничего не известно.
Мы с восторгом «расширяемся» в свою старую комнату, из которой нас выкуривала Розочка пять лет назад. Для начала мы делаем там ремонт и сдираем густо-синие обои, наклеенные нами же без всякого понятия еще в 1957 году. Вообще-то ремонт должна делать уезжающая сторона, но мы не мелочимся, да и хочется сделать все нормально…
Само собой: в лице соседей мы получаем злейших и подлых врагов, о яростных стычках с которыми не хочется и вспоминать.
Несколько лет мы пытаемся обменять свои метры на отдельную квартиру: пишем объявления, договариваемся с маклерами. Последний из них пытался нас «кинуть» на 400 рублей, – я уже рассказывал об этой «операции». Однажды нам предложили обмен на отдельную четырехкомнатную (!) квартиру. Тогда мы впервые подробно изучили «хрущебу» и поняли все прелести жизни в ней. Главная 16-метровая комната состояла из стеклянного угла кухни, окна и нескольких дверей, даже стул там приткнуть было негде. Остальные комнаты – узенькие пеналы-одиночки. Чтобы в прихожей завязать шнурки на ботинках, «корму» надо было выставить на лестничную клетку. О совмещенных удобствах и говорить не приходится, настолько они «совмещены». (Анекдот того времени: на конкурсе мебели для хрущевок победил ночной горшок ручкой внутрь). И все это великолепие эффективно продувается семью ветрами через щели в тоненьких панелях, а морозу даже щели не нужны. Если добавить еще «мелочь» – радиоактивную щебенку в панелях, то все средневековые разновидности казни для вдохновителей, авторов и строителей «народного жилья» не будут казаться чрезмерно суровыми…
Через несколько лет Уткины получат квартиру, а в их комнату въедет с матерью Пантелеева Клара Александровна. Наша коммуналка сразу превращается в нормальное жилье с человеческими отношениями. Одинокая и больная Клара Александровна до сего времени часто звонит нам, помнит все наши даты…
И все-таки, – эти годы на Краснопутиловской издали видятся счастливыми, как все молодые годы. Да и объективно: мы жили в приличных условиях по сравнению со многими. И еще: наш сын занимался музыкой на новеньком пианино с любимой учительницей Раисой Ивановной. Потом, правда, Раечка вышла замуж и уехала. Ее же родную сестру Сережа не принял, и музыка «сошла на нет», оставив все же ощутимый след в образовании Сережи. Гораздо важнее был перевод сына в 397-ю школу, где была любимая учительница английского. Сын свободно владеет английским, что значительно определило его карьеру. Даже старина Маркс понимал, как важно знание die Fremd sprache im Kampf des Lebens…
Чтобы кончить тему «жилплощадь», очень непростую, дойду пунктиром до настоящего времени: нет сил, времени и желания ворошить эту сторону прошлого. Покинем мы Краснопутиловскую только в 1976 году, прожив там 20 лет после первого вселения. Мы стали жителями вновь построенного дома-вставки на Черной речке, расположенного в нескольких сотнях метров от места дуэли Пушкина…
После всех перетрясок и переселений со сватами и невесткой, когда мы с Эммой были фиктивными жителями комнаты на Васильевском острове, Сережа с семьей получил квартиру на Вавиловых, а мы с женой и двумя матерями остались на Черной речке. Обе мамы ушли, и сейчас мы вдвоем доживаем дни в неплохой трехкомнатной квартире. Проклятие первого этажа стало нашим преимуществом: сюда мы можем еще подняться…
Вставка из далекого будущего – привязка к быстротекущему времени. Сейчас – ноябрь 2006 года. Неудобства первого этажа все же дают о себе знать. В июле подвал нашего дома наполнился горячей водой и пребывал в таком состоянии пару недель. Вернулись мы с дачи в середине октября. Стены отсырели, пол под недавно настеленным красивым линолеумом провалился… Боремся с проклятыми работниками теперь уже капиталистического Жилкомсервиса: пишу письма, чтобы хотя осушили и санировали подвал. О бесплатном ремонте квартиры речи и быть не может: мы собственники, владельцы этой недвижимости…
23. Жизнь за периметром
Начало исхода
Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части
(К. П. № 109).Лаборатория разрослась неимоверно. Мы уже захватили почти весь подвал, половину двора, комнату на втором этаже. Одних радиографов у меня до 6 человек. Когда они возвращаются с объектов, их некуда сажать для оформления заключений. А еще нужна фотокомната для проявления и сушки рентгеновских пленок. Многие вещи надо проектировать, для чего требуется кульман; ставить его некуда. Лаборатория изготовляет оснастку, инструменты, плазмотроны, передвижные машины для сварки на объектах. Наши станки непрерывно работают: они обеспечивают не только наши непосредственные работы, но и многие заказы части. Станкам тоже тесно, негде хранить металл и инструменты. Еще мы готовим и аттестуем сварщиков для части, а некоторых – для УМР и даже пограничников. Несмотря на вентиляцию, в подвале – не продохнуть. Наша малогабаритная разрывная машина по новому ГОСТу не годится, новая – высокая, в подвал не влезет, да и некуда ее ставить. И главное: нам не хватает электроэнергии.
Лаборатория решает очень многие вопросы, причем, теперь не только для части, но и для всего УМР. Это мы на заводе сделали установку плазменной резки, которая режет нержавеющие фланцы для всего УМР. Это мы выпускаем труборезы, за которыми охотятся все части. Нашим сварочным машинам, которые могут варить всё в полевых условиях, завидуют ракетчики. Теперь в лабораторию приходят с уникальными заказами или для консультаций из серьезных учреждений. В задымленном тесном подвале с ожившими потихоньку тараканами важных посетителей стыдно принимать…
Короче: лаборатория не может уже жить в существующих границах, а часть, и даже УМР, уже не могут жить без лаборатории. Для нас начинают искать новое место.
Завод 122 изгоняется из города окончательно в труднодоступные и ветхие помещения бывшего кирпичного завода за Металлостроем. Может и нам туда? Но там тоже бардак и теснота. Резко также возражает наш главный инженер Борис Лысенко: он по несколько раз на дню бывает в лаборатории, а на кирпичный завод – не набегаешься. Да и лаборатория потеряет половину специалистов. Едва не захватываем закрывающуюся котельную недалеко от части. Случайно узнаем, что на этом месте скоро будут строить дом…
В конце концов наши алчущие взоры замыкаются на особняке домоуправления, – одноэтажном здании с покатой, совмещенной с потолком, крышей. Здание находится совсем рядом. Домоуправ Савва – очкастый мужик с необъятным пивным животом, по совместительству – также большой любитель зеленого змия. В домоуправление непрерывно шастают разномастные ханурики, оттуда выходят уже с повышенным настроением и замедленной походкой. Проводим глубокую разведку. Оказывается, что это здание общественной прачечной, которая не работала ни одного дня. Дома вокруг – военные, прачечная и домоуправление в ней – тоже принадлежат КЭЧ (или КЭУ?) округа. Иду туда на разведку и встречаю там полковника Баранова, с которым мы так трогательно расстались в 1960 году! Встречаемся мы теперь как старые друзья. Объясняю Николаю Андреевичу без недомолвок цель своего визита, он меня радостно поддерживает. Оказывается, он проживает в одном из ближних домов, и буйная распивочная в подведомственном домоуправлении его уже «достала».
При таком содействии самого начальника бумажная круговерть быстро кончилась. Управдом переселен в полуподвал в другом доме, где от горя начал предаваться… трезвости и даже похудел. Наши войска с развернутыми знаменами вступили на завоеванную территорию.
Территория – так себе. Площадь – всего около 150 м2, но потолки, хотя и косые, – высокие, особенно в центральной оси дома. Если действовать с умом, то здесь можно разместить почти всё наше хозяйство. Не прекращая работу в подвале, готовим здание для переселения.
Впереди паровоза приходится выполнить одну работу. На старую явку к нам непрерывно прибывают небритые и хмельные «товарищи», забредают прямо на места прошлых «нерестилищ», очумело ищут «хозяина». Выпровождение каждого кадра отнимает много времени. Из подручных средств собираем электрический кодовый замок, который успешно молотил три десятилетия… На окна по всему периметру приходится изготовлять защитные сетки.
Для начала вычищаем несколько кубометров (!) пустых бутылок, настилаем полы и линолеум в главной комнате. Из большого зала выносим и продаем большие стиральные машины и разнокалиберные бадьи: здесь будут станки, верстаки, сварка. Все ревущие и громоздкие сварочные преобразователи, выпрямители, а заодно и вентиляторы приходится разместить в три этажа в маленькой комнате. Управление этим оборудованием теперь может быть только дистанционным, для чего проектируем и изготовляем огромный щит с приборами, переключателями, кнопками и индикаторами. К щитам, естественно, подходит большое количество кабелей, проводов и проводочков, которые надо разделывать, прокладывать, укладывать, закреплять…
Все рабочие столы, верстаки, книжные шкафы, электрические щиты – проектируем специально и изготовляем на месте из гнутых профилей, заказываемых на 122 Заводе. Цели: максимальное удобство, универсальность и экономия пространства. Например, рабочий стол вдоль стенки имеет вместительные выдвижные ящики, внизу – еще один ярус хранилищ, утопленный так, чтобы не мешать ногам. Выше над столом – несколько ярусов открытых полок, узких внизу и расширяющихся кверху. Неглубокие книжные шкафы распластаны на всю высоту и ширину стены и почти не занимают места. В бесполезных углах – встроены треугольные столы с такими же полками, или вытяжной химический шкаф с приточно-вытяжным вентилятором…
Разногласия вызывает место для кабинета командира сварочной группы и начальника лаборатории (к тому времени я оказался один на этих двух должностях). Командир и главный инженер считают, что под кабинет надо оборудовать небольшую комнату справа от входа. Я – против: здесь должно быть чистое место для ремонта кислородных редукторов и, возможно, – для электрика. Мое же место – в общей большой комнате, так сказать, – «вместе с моим народом». Вопрос имеет предысторию. Шапиро и Чернопятов, затем Чернопятов и Лысенко сидели в одной комнате. Такое размещение командира и главного – удобно для производства в авральном режиме и подчеркивает монолитное единство руководства.
Новый командир предпочитает отдельный, просторный и хорошо обставленный кабинет: так нужно для политесов, приемов и совещаний в узком кругу – стиль и темп жизни стали другими. Теперь командира и главного объединяет общая прихожая с секретарем: эра партизанской жизни кончилась, офис должен быть солидным. Меня же вопросы «узких совещаний» не волнуют, а работать мне так удобней. Командир и главный уступают моим доводам.
Надо несколько заглянуть в будущее, чтобы потом уже не отвлекаться. Начали мы обустройство лаборатории (очень подходящее слово возродил Солженицын) в начале 1966года. Обычная текущая работа ведь продолжалась. По новой лаборатории работы тоже очень много, приходится на ходу придумывать, искать материалы и оборудование. Нетерпеливо меня торопит главный инженер Боря Лысенко. Я тоже тороплюсь. Но я теперь уже точно знаю, что мне надо построить, причем, – на высоком уровне: многое сделанное быстро и плохо потом нельзя будет исправить. На очередной нетерпеливый вопрос Бориса Николаевича: «Ну, когда ты кончишь?», я бухаю немыслимый срок: «К пятидесятилетию Революции!», т. е. – к 7 ноября 1967 года. Бедный Боря чуть не выпрыгнул из штанов от моей дерзости. А в действительности – все так и получилось. На даты у меня полное беспамятство, а вот эта запомнилась…
После обустройства всей лаборатории мой стол стоит в углу большой общей комнаты. Слева располагается длинный рабочий стол со щитом наладки, ящиками и приборами, сзади – книжный шкаф, справа – стол Веры Николаевны, моей правой руки, совести и души нашей лаборатории. На моем столе стоит два телефона, кнопка открывания двери и микрофон, включение которого автоматически отключает радиотрансляцию во всех помещениях. Я вижу и слышу всех работающих в комнате, они – видят и слышат меня. Мы – единая команда, нам нечего скрывать друг от друга.
У Верочки очень много работы с графикой моей книги. Каждую картинку в книгу надо вычертить тушью на кальке в масштабе 1:1, что является уменьшенной копией подлинника. А вот цифирь и буквы уменьшать нельзя, иначе они станут «нечитабельными». Это адская и кропотливая работа сверх обычных обязанностей. То, что книга издана – огромная заслуга Веры Николаевны. А ведь в ее попечении и работе находятся еще металлографический микроскоп и стилоскоп для быстрого спектрального анализа металлов, не считая полок с документацией и химического шкафа для коррозионных испытаний образцов.
На столе слева стоят готовый к работе ультразвуковой дефектоскоп. В комнате работают ребята на двух больших кульманах. Электронщики на высоком и длинном столе справа налаживают схемы на осциллографах. Есть столы для работы 2–3 радиографов и свободный стол. Посетители из других организаций попадают в атмосферу работающей лаборатории. Принимать их не стыдно: у нас чисто и светло. Панели стен окрашены в светло-салатовый цвет, на полу красивый линолеум, все столы и шкафы отделаны лакированным дубом и буком. Верочка на окнах повесила легкие занавески, расставила красивые цветики. Вдвоем с Жорой Бельским они разработали элегантные кронштейны и разместили на них цветы в горшках везде на стенах, где оставалось еще свободное место. Как водится, – подобные кронштейны нам пришлось делать потом для всей части. То же происходит с вертикальным металлическим шкафом с закрывающимися и опечатываемыми полками. Шкаф получился такой удобный и красивый, что для всей части нам пришлось изготовлять его в нескольких десятках (!) экземпляров…
Большой зал частично разделен верстаками нашей конструкции на две неравные части. В меньшей стоят станки: по два токарных и сверлильных, фрезерный, шлифовальный, заточной, гидравлический 20-тонный пресс для испытаний сварки, который мы также используем для многих работ, в том числе, для штамповки.
Большая часть зала отдана сварке. Длинный стальной стол для сварки больших конструкций может разделяться на 4 поста, на каждом могут быть различные виды сварки, в том числе, в среде аргона. Над столом – входной отсек вентиляции, в котором размещены все греющиеся элементы: балластные реостаты и дроссели. На стене красуется огромный щит с приборами, рубильниками, кнопками, сигнальными лампами. Со щита можно включать все источники сварочного тока на любой пост. Для плазменной резки источники могут соединяться последовательно. В сварочной части зала есть сборочный стенд, труборез, небольшая гильотина, гибочный станок и еще много нужных вещей.
Теперь у нас отдельная, хорошо оснащенная фотолаборатория, точнее – комната для обработки рентгеновских пленок.
Работа лаборатории немыслима без запасов металла и оборудования. Его хранят два склада: один в подвале прежнего здания, другой – рядом с гаражом Лившица, который мы для этого и построили. В старом подвале у нас остается хранилище радиоактивных изотопов с колодцами, перезарядным столом и множеством рабочих и транспортных свинцовых контейнеров.
Перед лабораторией разбиваем цветник (самосвал растительного грунта нам дарит СУ, в котором теперь работает Эмма), сажаем тополя, делаем низкую ограду. За мзду из моих собственных денег нелегально асфальтируется площадка перед лабораторией, которую мы тоже считаем своей площадью: здесь стоят большие пресс-ножницы, а также на время монтажа – фургоны сварочных мастерских, которые мы выпускаем для объектов. Здесь же работает воздушно-плазменная резка: тучу бурого дыма от нее не в состоянии забрать наша вентиляция. Единственное спасение: плазма работает очень быстро, и туча дыма уплывает в небо раньше, чем ее засекут недовольные…
Следует еще рассказать о некоторых правилах, которые я с самого начала установил в лаборатории «за периметром». Мне всегда было неудобно за фирму, когда с объектов приезжали люди – прапорщики и вольнонаемные, и неприкаянно, как чужие, тынялись по коридорам в ожидании получки, собрания или приема для решения отдельных вопросов. В таком положении я бывал сам, когда приезжал с объектов, хотя офицеру легче приткнуться в чужом кабинете, да и вопросов для решения набирается побольше. Поэтому я сразу установил, что лаборатория должна быть родным домом для всех прибывающих с объектов сварщиков. У нас приезжий товарищ всегда мог переодеться, умыться, оставить вещи. Я при этом получал полную информацию с объектов о работе наших воспитанников и разных проблемах.
За сварщиками потянулись и другие офицеры и мичманы. И если после получки они распивали «по быстрому» бутылочку в «малом» помещении, то я закрывал глаза: не в подворотню же идти нашим трудящимся. В обеденное время выделялись два стола для «козлистов», постепенно весь доминошный бомонд со штаба части перебрался в лабораторию. Поскольку народа набиралось много, то играли «на высадку» укороченным и ускоренным «морским» козлом. Смею уверить – это вовсе не игра задумчивых пенсионеров, как считают интеллектуальные снобы, – морской козел требует быстроты реакции, чувства локтя и хорошей памяти. Взрывы смеха и шуток при «высадке» проигравшей пары превращали лабораторию в шумный развеселый кабак ровно на один час. Строго за 5 минут до конца обеда (большие морские часы висели над дверью) «игорные столы» превращались в рабочие, оживленные посетители уходили, а в лаборатории продолжалась обычная работа.
Ребята в лаборатории подобрались ответственные, работящие и дружные: Андреев Вася, Булаткин Володя, Гена Степанов, Жора Бельский, Толя Кащеев, Витя Чирков, Володя Минченков. Все они уже ушли в мир иной, один я из мужиков остался… Слава Богу, жива-здорова наша Верочка…
Размещение лаборатории вне периметра части – без охраны, контрольно-пропускных пунктов и дежурных, значительно облегчает нашу жизнь: можно запросто принимать и общаться с широкими слоями трудящихся и начальства из других организаций. Теперь принимать их было не стыдно, да и показать мы могли уже многое…
Аварии, материалы и политика
А я, сынок, если бы на твоего папу надеялась, то и тебя бы не было!
(Нар. мудр.)Руководство сварочного направления понесло потери. Ушел к себе в училище Боря Мокров, – преподавателем и соискателем ученой степени. Книгу, которую мы задумали написать втроем, теперь распределяем на двоих с Г. Б. Каблуковым. Свои главы книги я пишу дома вечерами от 20 до 24-х часов и целыми днями – в выходные. Предложение нового командира освободить меня от службы на 1–2 дня в неделю решительно отвергаю: некогда – раз; широкие слои общественности не выдержат такого счастья сослуживца – два. Спустя несколько месяцев ГБ сходит с «писательской» дистанции: от непосильного труда глаза у него стали как у вареного рака, он потерял сон и аппетит. Все написанное им в великих муках на языке «суконный русский» – не годится даже для производственной инструкции. Исправлять, редактировать написанные им главы – бессмысленно, все надо писать по-новому, с самого начала. Для этого надо вникать в тему, изучать написанное другими. Это – большая работа, а главное – время, время. Я продолжаю в одиночку отрывками писать книгу и верчусь как бобик на нескольких фронтах. Главная задача остается прежней – построить новую лабораторию на другом, более высоком уровне. После Читы, Новой Земли и «подвального этапа» я точно знаю, что мне надо построить…
Новый командир части Ефим Булкин – внимательный и вдумчивый, поддерживает лабораторию «огнем и колесами». Почти все мои просьбы и заявки выполняются. Для устройства новой лаборатории мне требуется много людей, как «синих», так и «белых воротничков». Надо проектировать и прокладывать от двух городских ТП (трансформаторных подстанций) мощное энергоснабжение. В условиях города, где каждый метр земли покрыт дорогами, пронизан трубами и кабелями, – прокладка нового кабеля требует колоссальной работы и согласований. Часть приглашает инженера-электрика, который с группой матросов и солдат занимается только этим. Внутреннюю коммутацию из сотен кабелей и проводов проектируем вместе с Володей Тулуевым, начальником группы КИПиА. Мне даже требуется столяр, его находят среди наших прапорщиков и временно отдают лаборатории. Отдел снабжения, понукаемый командиром и главным инженером, уже стонет от моих заявок. И все-таки, и все-таки… Оборудование, материалы, щиты, которые мне могут дать – обычное: громоздкое, устаревшее. Мне хочется сделать лучше, красивше, компактнее.
Нам на помощь приходят несколько несчастных случаев с человеческими жертвами, хотя это звучит и не очень гуманно. В СССР взорвались пяток древних вертикальных паровых котлов ВГД: не выдержала сварка, соединявшая нижний кольцевой грязевик с корпусом. Котлонадзор страны дал строгое ЦУ: сварку всех котлов ВГД в этом месте просветить. Оказалось: 1) котлов этих – уйма; 2) никто их просветить не может. Там очень узкое пространство, куда не помещается ни один подходящий по пробивной способности источник излучения. Ни один, – кроме нашего. (Буду стараться, где это можно, избегать технических подробностей: они для энтузиастов сварки более-менее внятно изложены в моей книге «Монтаж и сварка…»).
Немедленно лаборатория была завалена заявками жаждущих «просветиться», чтобы ИКН (Инспекция котлонадзора) не прикрыла котел, а вместе с ним – работы и целые производства. Среди заявителей, кроме множества мелких предприятий типа пионерлагерей, турбаз, мебельных фабрик и маслосырзаводиков в области, – были такие монстры, как ЛМЗ и завод им Свердлова, у которых котлы ВГД стояли на ж/д кранах.
Второе несчастье – чисто городское: обрушились с гибелью людей несколько кабин относительно новых венгерских лифтов. Там разрушался толстенный вал, несущий массивный канатоведущий шкив, на котором собственно и висит кабина лифта. При разрушении вала кабину от падения могли бы удержать автоматические ловители, конечно, – если они исправны. Но на нее, бедную, часто дополнительно с верхотуры грохался массивный шкив с обломком вала и тросами…
Уже другая инспекция Госгортехнадзора выдала предписание: эксплуатацию венгерских лифтов прекратить, валы выпрессовать из шкивов, испытать на отсутствие внутренних и наружных трещин в металле. Внутренние трещины выявляются ультразвуком, наружные – цветной дефектоскопией. Обоими методами в «одном флаконе», кроме нас, владели немногие. Наша лаборатория в ГГТН имела авторитет, и на нас обрушился второй вал заявок. Лифтов этих в Ленинграде тоже оказалось несколько сотен.
Все контрольно-испытательные работы весьма квалифицированные, поэтому – дорогостоящие и трудоемкие. Мы просто зашиваемся, хотя в поте лица трудятся уже пять радиографов и дефектоскопистов: ведь у нас работы на своих объектах тоже немало. Автомашина лаборатории со знаком радиоактивности носится по городу и области чуть ли не круглосуточно, а только каждый километр ее пробега стоит заказчикам 0.5 рубля, не говоря уже о стоимости контроля, пленки, оформления заключений. (Кстати, прежде чем подписать заключение все до единого снимки проверяю сам, что отнимает немало времени). Деньги на счет части непрерывно поступают – у нас предоплата перед выдачей документов. А радиографы выбиваются из сил, сидя на окладе (3 из 5 радиографов – вольнонаемные). Перевожу их на сдельную оплату, беру средмашевские расценки контроля сварки. Теперь по нарядам они получают около 500 рублей в месяц: это ведь малая толика из честно заработанных денег, – рассуждаю я. Работы ускорились. Переоблучений у нас не бывает: рабочий контейнер – хорош, контроль – надежен. Я очень доволен собой: правильно организовал работу своих людей, дело – кипит.
Два неожиданных удара выбивают меня из седла самодовольства. Ко мне заявляется полковник Итсон из планового отдела самого УМР. Он потрясает нарядами радиографов за последний месяц:
– Этого не может быть!
Достаю копии выданных заключений, показываю расценки, другие бумаги, – я взял меньше 3 % из фактически выполненных и оплаченных заказчиком работ (обычно – до 10 %). Итсон заходит с другой стороны:
– Радиографы переоблучаются! Вы нарушаете охрану труда!
Достаю журнал учета доз облучения, показания дозиметров, расчетные дозы для каждой операции.
– А может, у вас неисправные дозиметры?
Предъявляю журнал очередной поверки приборов, показываю, что радиографу выдается по два дозиметра. Записывается средний результат, если разность показаний не превышает допустимую…
Итсон уже вспотел контролировать меня. Он приближает лицо и просто шипит:
– Такой зарплаты допускать нельзя!!!
– Почему же? – прикидываюсь «шлангом».
– Потому, что вы такими зарплатами взорвете государство! Вы представляете, что с ним будет, если все будут получать такие деньги???
Я представляю. На политзанятиях с прапорщиками я даже задал им вопрос: что будет, если всем зарплату повысить в 10 раз? Слушатели сначала восхищенно ахнули, после разбора ситуации их энтузиазм иссяк начисто. Но здесь-то был локальный случай, не влияющий на судьбы государства…
– Это вы так думаете, – уже кричит Итсон. – Короче: эти наряды я не пропущу!
Возможно, я бы еще что-то доказывал, «трепыхался», если бы не второй удар со стороны уважаемого командира. Я к нему обратился за поддержкой против Итсона. Командир берет меня за пуговицу и говорит мягко и уважительно:
– Да, я должен вам сказать, Николай Трофимович, что бухгалтерия уже жалуется на поступления денег от посторонних организаций. Они нам не нужны: их надо полностью перечислять в бюджет, при этом они искажают финансовую отчетность… Строго говоря, мы не имеем права даже платить зарплату с этих денег…
Я сражен окончательно. Вот только как объяснить поверившим мне людям несовершенства бухучета и мироздания в целом??? Мы делаем нужное дело, затрачивая силы, время, средства? Да, конечно. Эти работы стоят денег, всеобщего эквивалента труда? А как же! Мы получаем эти деньги? Да, нам исправно платят, при этом еще и благодарят: мы решили заказчикам большие проблемы быстро и качественно. На этой стадии нормальная логика кончается. Начинается логика нашего планового государства: деньги – не нужны, оплата по труду – фикция. Главное – не превысить, не высунуться из сплоченных планом рядов. Начинаешь понимать глубинные истинные причины процветающего «теневого бизнеса», неприятных акул которого успешно разоблачают умные и обаятельные «Знатоки» в бесконечном сериале…
Я не могу и не хочу быть разоблачаемой акулой. Мне нужно только построить высококлассную лабораторию, чтобы вывести свой народ из закопченного подвала, чтобы работать здесь можно было не только продуктивно, но и приятно…
Объясняю ситуацию радиографам: массы понимают, если внятно объяснить. Вскоре, правда, с двумя из них расстаюсь: с одним – за пьянку, с другим – за нелегальные махинации на маслозаводе в области. Не просвечивая котел, он за мзду обещал выдать документы. Я испытал унижение, когда мне стал звонить и угрожать директор завода, требуя выдать обещанный проходимцем документ. Директору приношу извинения, направляю туда другого радиографа для настоящей работы, а мичмана безжалостно «вычищаю» из лаборатории.
Надо повседневную тактику подчинить принятой стратегии. Выхода нет: надо брать борзыми, это придумано уже давно. Надо перейти на первобытный бартер, не впутывая сюда цивилизацию с ее проклятыми товарно-денежными отношениями. Определяю предприятия, которым мы в первую очередь будем выполнять работу: фабрика торгового оборудования, ЭМП «Эра», завод имени Свердлова. Фабрика нам даст свои дубовые отходы (рейки и доски из дуба и бука) и пластик. Этими благородными и стойкими материалами мы отделываем столы и стены основного помещения лаборатории. Электромонтажное предприятие «Эра» нам дает очень много: кабели, провода, гравировку табличек и надписей, современную сигнальную арматуру. «Свердлов» делает для нас специальную головку, которая горизонтальный фрезерный станок сможет превращать в вертикальный. Нам нужно еще очень многое, в том числе: краски, светильники, электродвигатели, тиристоры, пускатели, реле, стройматериалы, металл, инструменты, запчасти. Все это нам предприятия отдают в счет выполненных работ или продают за деньги то, что нельзя передать, но и невозможно просто купить «на базаре».
Особо хочется сказать об «Эре». С начальником цеха Валерой Араховским у нас завязывается настоящая дружба на многие годы; мы неизменно помогаем друг другу решать различные технические вопросы. Сигнальная арматура от «Эры» – на небывало красивых и компактных газоразрядных лампах разного цвета, которыми мы оснащаем все наши щиты. Эти лампы могут работать десятилетиями, почти не потребляя энергии. Я прочту о них восторженный отзыв в журнале только через полгода после оснащения ими всех наших щитов…
Абсурдная ситуация получается с валами венгерских лифтов. Чтобы их проверить, они должны быть демонтированы из редуктора и выпрессованы из массивного канатоведущего шкива. Это непростое дело для неумех, работающих кувалдами. К нам на проверку привозят валы, значительно покалеченные уже в процессе разборки. А еще ведь предстоит обратный процесс – напрессовка и сборка, очевидно, – с применением тех же кувалд. Начинаю разбираться: с чего бы это начал разрушаться такой мощный вал? Тем более, что рядом спокойно и давно работают отечественные лифты с более тонкими валами. Оказывается, отечественный канатоведущий шкив закреплен на консоли (свободном выступе) вала, выходящей из мощного редуктора. Подшипники, а затем – закрепленный корпус редуктора и воспринимают всю нагрузку от кабины лифта, передаваемую тросами на шкив. В венгерском же лифте для вала предусмотрена еще одна опора вала (подшипник) с другой стороны шкива. Этот подшипник закреплен на отдельной, не очень жесткой, балке, проброшенной между двумя стенками. Создается трехопорная, так называемая, – статически неопределенная система. Редуктор жестко закреплен. Если третью опору собрать неточно – притянуть вниз или приподнять, то вал на выходе из редуктора при вращении получает циклические нагрузки: сжатие – растяжение. Терпит, бедняга, терпит, а потом просто отламывается. И отламывает его именно третья опора, призванная дать дополнительные гарантии! Решения могут быть очень простые или еще проще: точно подобрать прокладки под третью опору, либо ослабить один ряд креплений редуктора, чтобы он сам нашел свое место. И незачем калечить лифты для проверки вала: отсутствие усталостных трещин на выходе вала из редуктора (именно там вал разрушается) мы можем провести без разборки лифта. А прозвучивание вала по всей длине – вообще «глубоко бесполезно».
Пишу письмо с картинками в Надзор, удивляясь, что они сами до этого не додумались. Они верят и не верят, просят меня разъяснить подробно. Для этого собирают на Моховой две сотни инспекторов по грузоподъемным устройствам со всего Северо-Западного округа. Часа полтора я, чистокровный сварщик, с мелом у доски рассказываю механикам, отчего у них ломается лифт, как узнать скоро ли он сломается, и что делать, чтобы он не сломался никогда.
Высокие стороны расходятся «с чувством глубокого удовлетворения»: инспекторы получили полезную, облегчающую жизнь, информацию, я – 25 рублей 50 копеек за лекцию. Лифтовая горячка в СЗО ГГТН как-то сама собой кончается. Я спилил сук, на котором сидел, но мне вполне хватает второго – котлов…
Водка плюс электрификация…
Наши ученые скрестили кролика и крота. Гибрид ничего не видит, но уж если нащупает…
(Быль)На прокладке кабеля к лаборатории работает десяток строителей из ВСО (военно-строительного отряда), которые для экономии времени живут в нашей части. Среди них особенно выделяется трудолюбием худощавый Коля Кочергин, деревенский паренек из Вологодчины. Он без устали роет землю, подтаскивает кирпичи, не позволяя себе ни минуты отдыха. Им не нахвалится руководитель работ, офицер в отставке. Я тоже отмечаю его усердие на очередной планерке. Коля в подходящую минуту слезно обращается ко мне:
– Товарищ майор! Возьмите меня в лабораторию, научите чему-нибудь! Я же у маманьки – один, у бабаньки – один. Они меня баловали, я и не умею ничего делать! А ваши ребята – все-то они знают, все умеют… И мне – так хочется научиться!
Я очень люблю трудящихся ребят. А если они к тому же еще хотят учиться… Сколько таких ребят уже прошло через мои руки за 10 лет. Обещаю трудолюбивому тезке принять меры: ВСО принадлежит УМР, и перевод легко достижим…
Дежурю по гарнизону на шоссе Революции в воскресенье. Вечером принимаю прибывающих из увольнения матросов и солдат. В 22 часа дежурные по частям докладывают мне, что все прибыли своевременно, кроме своей части, которая сообщает, что из увольнения не прибыл рядовой Кочергин. Решаю подождать до 23 часов, потом принимать меры. Входную дверь – закрыть. Всем – отбой.
Минут за 10 до назначенного срока в дверь громко барабанят. Мичман помощник уже ушел поспать, открываю дверь сам: на пороге шатается развеселый мой Кочергин.
– То… Товарищ майор! Я – прибыл! Здрам жлам! Разрешите идти?
– Разрешаю, только – вот сюда!
Рядом с комнатой дежурного находится КВЗ – комната временно задержанных. Там только голые стены, лампочка под потолком и дверь с «глазком» – обычным отверстием. Под белые ручки препровождаю туда трудолюбивого юношу, запираю дверь на ключ: пусть немного проспится. Спать там можно, правда, только на полу, но он деревянный и относительно теплый.
Несколько минут в комнате тихо. Затем раздается воинственный крик – нечто среднее между «ура» и ревом ишака, и филенчатая дверь сотрясается от сильных ударов. Кочергин разбегается и бьет кирзовым сапогом в дверь, опять разбегается, опять бьет корпусом и сапогами.
– Прекрати! Сядь, успокойся! – приказываю через глазок. Куда там! Удары стают мощнее и чаще: узник теперь бьет каблуками. Дверь начинает поддаваться: ее конструкция рассчитана на более гуманное обхождение. На всякие мои призывы Кочергин не реагирует, грохот стоит на весь дом. К невменяемому солдату приходится принимать меры. Звоню в группу, приказываю поднять двух человек из дежурного отделения. Дежурным отделения по очереди объявляют на всякий пожарный случай, отдыхают ребята – как обычно. В вестибюль спускаются два сонных матроса. Открываю двери КВЗ, оттуда с воинственным криком вылетает разбежавшийся для удара узник и растягивается на полу. Тут же поднимается и лезет в драку с матросами. Те его укладывают и прижимают телами на полу, но он выскальзывает, как угорь: где только берутся силы и энергия в довольно щуплом теле. Греко-римская борьба по всему вестибюлю длится уже минут 10, матросы полностью проснулись и понемногу раскаляются: если бы меня не было, то бесноватый был бы уже в нокауте.
Вызываю подкрепление, велю захватить веревку. С веревкой является здоровенный старшина 2-й статьи, командир отделения, который раньше служил в милиции, – его даже старшина группы побаивается. Втроем матросы быстренько «пакуют» бесноватого: связывают руки с ногами за спиной, вносят в комнату и бережно укладывают на пол. Такого способа я не видел даже в кино. Чему только не научишься у народа!
Матросы уходят, полчаса у нас тишина. Ну, думаю, мой узник уже уснул, скоро пройдет дурной хмель. Тут мой подшефный подает громкий голос, с ударениями на каждом слоге:
– То! – ва! – рищ! – ма! – йор! – Не! – дай! – по! – гиб! – нуть! – он повторяет это заклинание бесконечно, как автомат, не меняя ни слов, ни выражения. Захожу в комнату. Жалко идиота: руки затекли, да и поза «лук» с выпяченным животом не самая удобная.
– Ты успокоился?
– Я ус! – по! – ко! – ил! – ся!
– Будешь вести себя прилично?
– Да! – да! – да! – это уже просто со всхлипываниями. Развязываю веревки, Кочергин садится на пол и начинает растирать затекшие кисти. Закрываю КПЗ. Уже идет второй час ночи, скоро надо поднимать помощника, чтобы самому вздремнуть пару часов: впереди тяжелый день. Смена нарядов «на суше» почему-то в 17 часов. Положенные по Уставу 4 часа отдыха перед дежурством – бесполезны: где и как можно отдохнуть после обеда? Поэтому дежурство – это два рабочих дня, соединенных бессонной ночью, причем второй день изматывает особенно. На объектах я всегда наряды менял в 8 утра или в 22 часа. Морские же 4-часовые вахты хороши только на корабле, с которого все равно никуда не уйдешь…
Размышляя этак о превратностях военной службы, я совсем разлимонился, достал книгу: можно почитать, если нельзя вздремнуть. Дикий рев и треск филенок двери возвращают меня в реальность. Кочергин наполнен новыми силами, как Антей, прикоснувшийся к земле: его удары теперь более сокрушительны, дверь скоро рассыплется на детали. Мои увещевания беснующаяся сторона оставляет без внимания…
Достаю пистолет, проверяю отсутствие в стволе патрона, дополнительно ставлю на предохранитель. Черный зрачок оружия теперь глядит в «глазок»:
– Не успокоишься – пристрелю гада!!!
Кочергин отшатывается от двери и на минутку замолкает. Затем прячется за стенку и закрывает глазок ладонью:
– Стреляй!!! Ну, стреляй!!!
Команду я не выполняю, и дверь опять начинает трещать под мощными ударами «военной обутки». Вот уже раскололась одна филенка, еще несколько ударов – и дверь рассыплется.
Опять вызываю дежурное отделение. Матросы только успели уснуть после потасовки и укоризненно смотрят на меня с немым вопросом: «Зачем развязал???». Орущего и извивающегося Кочергина «пакуют» еще круче, на пол просто швыряют, и, обозленные, уходят досыпать оставшиеся короткие часы.
Еще полчаса я слушаю вопли и призывы. Постепенно они затихают. Хмель и энергия для подвигов очевидно иссякли. Захожу в комнату. Да, завязали его в узел крутовато: кисти уже начали синеть. Мне не хочется отдавать «маманьке» единственное чадо инвалидом. Развязываю с трудом веревки. Кочергин выпрямляется и остается лежать на полу. Закрываю комнату, готовлюсь разбудить помощника: времени до подъема остается совсем мало. Уже взялся за телефон, когда услышал опять рев и удары в несчастную дверь – с еще большей силой и энергией: жив курилка. И не просто жив, – сил снова прибавилось!
Если вызвать опять матросов, то они свяжут теперь уже меня самого, а «неподдающегося» просто убьют. Прячу оружие в сейф. Настежь распахиваю дверь КВЗ и захожу туда.
– Сейчас я тебя задушу, алкаш проклятый, – спокойно объясняю притихшему Кочергину, разминая пальцы. – Ты уже никогда не будешь пить, сосунок.
Зажатый в угол Кочергин смотрит на мои руки круглыми глазами и садится на пол, не отрывая от них взгляда. Стою над ним минуту, потом молча ухожу и запираю дверь…
Шума больше не возникало. Мой помощник спал до самого подъема и хорошо отдохнул. После подъема спать дежурному (мне) не положено. Да и не очень хотелось…
…Случай с Павлом Пилюгиным выпадает из общего ряда. И мне самому, и моим ребятам в группе сразу понравился молчаливый невысокий крепыш из Северодвинска, работавший на «Зведочке» – главном производителе атомных субмарин. Паша Пилюгин, несмотря на молодость, был слесарем высочайшей квалификации. По эскизу он быстро и красиво мог изготовить любое изделие, поражающее совершенством. И все – молча, или с минимальным расходованием слов, и без всяких перекуров. В кубрике, который теперь называется казармой, поведение Пилюгина – безукоризненное, старшина уже присматривается к нему, чтобы присвоить звание сержанта и сделать своим помощником. При всей молчаливости у него чувствуется большая моральная сила: его короткие негромкие слова безусловно слышат все в казарме, даже «деды». Вот один из «дедов» слегка задирал «молодого» из Средней Азии. Паша только посмотрел и произнес:
– Оставь его.
«Дед» немедленно повиновался. (Разнузданной современной «дедовщины» тогда еще не было). Короче, Павел Пилюгин был человеком отличным и перспективным.
Случайно узнаю, что дома он успешно окончил 10 классов вечерней школы, окончить 11-й и получить аттестат зрелости ему помешал призыв на службу, о чем Павел очень сожалеет. Рядом с нами работает вечерняя школа, в которой раньше успешно занимались несколько наших матросов. Теперь, кажется, такая учеба запрещена, но если человек надежный, а школа близко, то многие командиры пойдут навстречу жаждущим знаний. Решаю этот вопрос с командиром, пишем «бумагу», и Паша стает учеником. Месяца два он исправно посещает школу, в обед не «забивает козла», а готовит домашние задания…
Однажды утром меня как гром среди ясного неба поражает известие, что Пилюгин сидит на гауптвахте за пьянку и избиение сержанта. Он пришел со школы вечером, не шатался, ничего не говорил, поэтому дежурный ничего не заметил. Пилюгин прошел в часть и шел по казарме. Навстречу, ничего не подозревая, двигался один из сержантов, рослый и сильный парень. Когда они поравнялись, Пилюгин вдруг нанес ему удар в челюсть такой силы, что бедняга перелетел через спинку кровати и потерял сознание. Паша как ни в чем не бывало дошел до своей кровати и улегся на нее не раздеваясь. Тут и стало видно, что он мертвецки пьян…
Спустя неделю я провожу с ним длинные «душеспасительные» беседы, в основном – мои монологи. Паша краснеет, как девушка, и отмалчивается. Все же я вырываю из него сожаление о случившемся и обещание ничего такого больше не повторять. С огромным трудом добываю у командира повторное разрешение на посещение Пилюгиным школы: о прекращении учебы он очень сожалел. Собственно, эта школа – и наша надежда на лучшее будущее: должна же быть у человека какая-то высокая цель. Да и ЧП – разовое, известно ведь, что и конь о четырех ногах спотыкается, но при этом остается лошадью…
Месяц проходит как прежде: ударный труд, напряженная учеба в вечерней школе. Прошлый случай уже начал забываться: мало ли что бывает… Дьявол, однако, не дремлет. Все повторилось точно так же: пьянка до умопомрачения, единичный нокаутирующий удар. Только повержен был уже другой человек. Мои «макаренковские» опыты ничего не дали, мне нечего сказать командиру части в свое оправдание. Пилюгина из лаборатории «вычищают» и отправляют на дальний объект…
Очень хотелось бы узнать, как сложилась дальнейшая судьба Павла Пилюгина – талантливого архангельского паренька. Сколько таких ребят променяли свою судьбу на любовь к народному напитку…
Вот более поздние истории с ликероводочным уклоном, но уже не с мальчиками, а мужами. В лабораторию принят слесарем и фрезеровщиком мичман-пенсионер Базлов Владимир Федорович. Человек он «партейный», член месткома, благообразный и осанистый, в очках, – вылитый профессор из знаменитого университета. Слесарь и фрезеровщик он весьма посредственный, но если Жора Бельский покажет ему, как закрепить фрезу и подберет режим, а я – настрою делительную головку, то неторопливо нарезать шестерню он сможет. Работал он в лаборатории несколько лет: дел у нас много, на всех хватает. Живет он рядом с лабораторией, естественно, – обедает дома. Обычно после обеда задерживается минут на 10–15. Я на это смотрю сквозь пальцы: все-таки человек в возрасте.
В последнее время Базлов стал уходить раньше и задерживаться после обеда уже на часик-другой. Да и приходит уже в сильном подпитии. Выясняю: берет левые заказы, за работу получает «жидкой валютой», полученное немедленно употребляется. Выражаю Базлову свое недовольство очень умеренно: не мальчик же. Ничего не меняется. Более того, на производственное собрание в конце рабочего дня Базлов является в сильном подпитии. Делаю ему замечание за неподобающий вид в рабочее время. Неожиданно «пьяный огурец» бросается на меня в атаку:
– А вы нас переоблучаете! У вас стоят радиоактивные контейнеры возле двери!
– Владимир Федорович! Вы сейчас оставите нас и уйдете домой. А когда проспитесь, я вам расскажу о радиации и дозах облучения для личного состава! – объявляю я свое решение поборнику радиационной безопасности и открываю дверь для более успешного выхода из лаборатории. Базлов гордо удаляется, возмущенно сверкая очками. Собрание продолжается.
Рабочий контейнер с радиоактивным иридием-192 действительно стоял возле двери. Самый безотказный и работоспособный мой радиограф мичман Андреев Василий Федорович только-то вернулся из командировки и оставил контейнер на час, чтобы участвовать в собрании. Наши контейнеры в закрытом состоянии, даже в течение первого месяца после зарядки свежим изотопом, – совершенно безопасны: по очень жестким правилам перевозки радиоактивных веществ (ППРВ) их можно перевозить даже в купе пассажирского поезда. Спустя период полураспада – для иридия он всего 75 дней, – активность источника уменьшается вдвое. И это на поверхности контейнера. При удалении же от этой поверхности излучение ослабляется в квадратичной зависимости от расстояния. На расстоянии метр и более излучение почти не превышает естественный фон: не каждый прибор его уловит.
Эти ценные сведения я и собирался выложить радиофобу Базлову на его трезвую голову. Но он уже успел забыть о радиации и пошел своим оригинальным путем. Через пару дней в лаборатории появляется партийный функционер из парткомиссии и сообщает мне, что от коммуниста В. Ф. Базлова поступило заявление, что нач. лаб. коммунист Мельниченко: а) использует металл для личных нужд; б) незаконно предоставляет автомашину посторонним организациям.
Все это «имело место быть», и я ничего не отрицаю. Пишу объяснения в разных форматах для различных парторганов. Израсходовал 6 п/м отходов стального уголка при замене картонной двери в новой квартире, так как деревянный короб новой двери не помещался в проем. Употребил также 3 метра нержавеющих трубок для устройства стола на кухне. Купить же уголки и трубки – невозможно: их нигде не продают. Да и трубки были мои – из лестницы, которую я соорудил из отходов для лечения плоскостопия у сына много лет назад. Когда надобность миновала, лестницу эту я привез в лабораторию, и она бесполезно лежала несколько лет. Машину дал на два часа для неотложных нужд магазину, который нам продал какой-то дефицит для работы радиографов. Ущерб, нанесенный мной государству, скрупулезно подсчитывается по розничным ценам и расценкам на использование такси. Плачу в кассу 7 рублей 85 копеек за металл и использование машины в личных целях…
При разборе на партсобрании я говорю коротко, что свою вину осознал, ущерб – возместил. Кто-то интересуется: почему коммунист Базлов именно сейчас начал разоблачать прошлые злоупотребления коммуниста Мельниченко? Начинаю объяснять, что коммунист Базлов не отличается дисциплиной и высокой производительностью труда… Базлов вскакивает и перебивает дальнейшие характеристики:
– А вы мне не даете заданий, мне иногда нечего делать! Поэтому я и ухожу раньше!
Обещаю собранию исправиться и в этом: буду выдавать ему индивидуально письменные задания на каждый день, – по ЕНВиР (единым нормам времени и расценкам), хотя это действо у меня и будет отнимать много драгоценного времени. Пусть погибнет Рим, но торжествует юстиция!
Разбирательства на разных уровнях продолжаются больше месяца. Это время почти потеряно для работы… Окончательный вердикт парткомиссии (это такие органы партийной инквизиции): «Виноват, но, учитывая … – ограничиться обсуждением». Все всё понимают, но на «сигнал» надо реагировать.
История эта оканчивается для Базлова увольнением по собственному желанию: он и недели не смог выдержать работы на полный рабочий день по нормальным нормам времени и расценкам. Месяц нервотрепки для меня имел весьма положительные последствия в будущем. В 1977 году мы начинаем строить домик в садоводстве, и на каждый забитый гвоздь и рейс машины теперь я предусмотрительно собираю целую папку «оправдательных» документов.
Хочется закончить тему о «национальном напитке» рассказом об оригинальнейшем человеке – питерском пролетарии Павле Петровиче Сусанине. Павел Петрович, пенсионер, «дед» – работал токарем у главного механика – Володи Волчкова. Когда хозяйство ГМ перевели в Металлострой, Сусанин достался лаборатории. Дед (так его называли все) был настоящим пролетарием. Жил он бобылем в коммуналке недалеко от лаборатории, хотя у него был взрослый сын, тяжелый алкоголик, изредка появлявшийся у отца. Наверное, в коммуналке деда не было ванны, потому что от него несло стойким запахом давно не стиранной одежды (подозреваю, что белья у него просто не было). Да и выглядел он как бомж из подвала.
Целыми днями дед добросовестно трудился на своем станке, который раньше назывался «догнать и перегнать» – ДИП 200 (очевидно имелась в виду Америка). Но трудился он не просто «абы как»: его вдохновляли только сверхтрудные задачи. Только дед мог расточить внутреннее отверстие под квадрат, пятиугольник или шестиугольник. Изготовлял для этого хитрый резец, крепил его особым способом. Резец вибрировал и прыгал, но исправно точил невозможную теоретически деталь с нужным числом граней и размерами. Иногда молчание деда нарушалось, и он выдавал стихотворную цитату неведомого поэта.
Вот дед с моим другом врачом части Леней Лившицом сооружают сверхмогучий ригельный замок на гараж Лени. Там будет храниться «горбатый» – «Запорожец». Ключ от этого замка – огромного размера и веса. Я посмеиваюсь, глядя на их конструкторские изыски, советую построить также тележку – для доставки ключа к замку. Замок торжественно устанавливается на двери гаража, после чего я за десяток секунд открываю его куском проволоки. Леня укоризненно смотрит на деда, который уныло изрекает, что от «профессоров преступного мира» нет спасения. На другой день он изобретает хитрую блокировку, которую и «профессору» уже не одолеть…
Истинное преображение скромного токаря в удалого гусара наступало после получки. Володя Волчков рассказывал, как он однажды заглянув в «забегаловку» на Среднеохтинском, увидел там своего деда. Пал Петрович радушно пригласил начальника за свой столик, а когда пиво кончилось, закричал голосом одного из Гогенцоллернов:
– Че-ла-вэк!!! Гарсон!!! Эщ-що вина!!!
Все посетители, конечно, остолбенели и уставились на царственных особ. Волчков утверждает, что не провалился он сквозь землю только потому, что пол был каменный…
В «лабораторных условиях» было несколько иначе. После получки дед гулял дня два. Возле лаборатории он проходил окруженный несколькими дамами «полусвета», с открытыми бутылками шампанского в руках. Дамы мило щебетали, обнимали деда, он сыпал стихотворными цитатами. Развеселая компашка проходила возле лаборатории; наш дед даже не глядел на место, где он неустанным трудом добывал средства на этот роскошный пир…
На третий день бледный и притихший дед уже стоял за своим ДИПом и гнал продукцию. Во время обеда он молчаливо продолжал работать до самого вечера. На другой день все повторяется: дед не отходит от станка. Наконец нас осеняет: у него нет ни копейки, соответственно – маковой росинки во рту – уже вторые сутки! Срочно делим свои бутерброды. Гена Степанов подходит с собранными харчами к деду:
– Пал Петрович, перекуси немного!
– Да вы что, ребята? Что я нищий? – хорохорится дед короткое время, затем, прослезившись, благодарит и удаляется с даянием за станок, где и подкрепляется. Скидываемся «по рублику», Гена деньги деду не отдает, а периодически подкармливает его хлебом и чаями-сахарами. А матросы приносят ему тарелки с кашей…
Кадры решают все
… или почти все, если им не мешать.
(Соб. инф.).Из Военмормонтажупра ВМФ нашу часть переводят в подчинение Главвоенстроя, который подчиняется Заместителю МО по строительству и расквартированию войск. У флота мы – пятое колесо, и до нас у него руки почти не доходили. В строительном главке, на который нас «замкнули», – мы тоже оказываемся нежеланными подкидышами: наши заботы, материалы, оборудование – им непонятны и чужды. Например, главк недоуменно направил полученные по нашему заказу промышленные рентгеновские аппараты в медицинское(!) управление. Однако наше командование радо: повысились категории в штатном расписании. Теперь командир нашей части – полковник, в УМР должностей полковников тоже прибавилось. В связи с изменением штатного расписания нашей части, у отцов-командиров какие-то неувязки. У меня спрашивают, согласен ли я перейти на более низкую по оплате должность начальника лаборатории. Я теряю в деньгах, но радостно соглашаюсь: меня достали командировки и упреки. Дело в том, что я был единственный командир группы, который базировался в Ленинграде, а не в одной из Тьмутараканей. Я во всех этих разных и прелестных местах тоже появляюсь, но на более короткое время. По новому штату для меня, кроме размера «получки», не меняется ровным счетом ничего. Я по-прежнему тяну все сварочное направление, в том числе – всего УМР и завода: нельзя же обычную свою работу уменьшить пропорционально зарплате.
… При распределении молодого пополнения я часто пользуюсь «правом первой ночи», которое завоевывал долго и непросто. Доказал, что в учебную группу сварщиков надо брать исключительно добровольцев. Человек работает один на один с расплавленным металлом. От него требуется предельное внимание и моральная устойчивость, чтобы результаты были приемлемыми высоким требованиям. По принуждению этого не добиться. Более того, после первого этапа учебы даже из добровольцев отсеивается один из пяти: этот «один» очень хочет стать сварщиком, но не может по физическим и психическим причинам. Само собой, для работы собственно в лаборатории мне нужны толковые и грамотные ребята, у которых на месте, кроме головы, также и руки.
При отборе новобранцев уже есть опыт: достаточно посмотреть, как человек поднимается, движется, отвечает на вопросы, чтобы понять его «общие параметры». Но у меня еще действует своя разведка – ребята, работающие в лаборатории: у них больше возможностей оценить новобранцев в кубрике и курилках. Получая от своих ценную информацию, действую с открытыми глазами, зная за кого из новобранцев следует бороться. Правда, возможность выбора резко сужается. Если раньше мы набирали людей из призывников, предназначенных для флота, то сейчас – из слегка ущербных кадров военных строителей. Теперь у нас почти нет ребят из Украины и Белоруссии, очень мало с настоящим средним образованием или с оконченным ПТУ. Ну и, конечно, самое главное: наши солдаты служат всего два года. Это именно тот срок, когда фактически кончается учеба и начинается практическая отдача наученного нами солдата.
При подготовке сварщиков есть еще одно препятствие. По Правилам аттестации после обучения сварщик должен проработать не менее 6-ти месяцев на объектах, после чего должно быть дополнительное теоретическое и практическое обучение. И только после этого сварщика можно аттестовать, то есть, после положительных результатов теоретического экзамена – допустить к сварке контрольных образцов. Если эти образцы выдержат всякие издевательства – просвечивание, разрыв, изгиб и другие, – то сварщику может быть выдан диплом, то есть разрешение на сварку ответственных конструкций. И срок этому важному документу – всего один год, после чего требуется переаттестация, то бишь – опять сдача экзаменов и сварка образцов для испытания.
Эта прелестная схема в наших условиях имеет один маленький недостаток: она невыполнима. Полуобученному сварщику на наших объектах делать нечего. Полгода он будет «круглое катать, плоское таскать» и непременно потеряет приобретенные навыки по сварке. Этот ров, наполненный водой, надо перепрыгивать сразу, вопреки Правилам аттестации…
В течение года мы готовим два потока сварщиков по 25–30 человек, из которых затем по Правилам получается всего-то несколько человек – дипломированных. За год набирается всего десяток талантливых ребят, которые на объектах сумели все же научиться сварке, и которых мы аттестуем. Но служить теперь им остается всего ничего…
Первым, кто на деле доказал, что эту канаву можно перепрыгнуть сразу и в массовом порядке, был молодой и грамотный прапорщик Третьяк Эрик Павлович, – человек неравнодушный и энергичный. На судостроительном заводе имени Петровского (возле Охтинского моста, где сейчас собираются возвести небоскреб Газпрома) он не отдал учеников в бригады, а сосредоточил их в одном месте и занимался с ними сам. У каждого ученика был отдельный пост и много металла. После трех месяцев первичной учебы почти все ребята «от сохи» спокойно варили в вертикальном и потолочном положениях. Я добился продления им учебы на полтора месяца, и они научились варить еще и трубы, да так, что их можно было уже аттестовать на сварку ответственных трубопроводов. Когда наши воспитанники пришли на объекты, там облегченно вздохнули: хорошие сварщики везде на вес золота.
Постепенно я сформулировал обязательные условия для эффективной подготовки высококлассных сварщиков за короткое время. Вот главные из них:
– отдельный, хорошо оборудованный, пост для ученика;
– свой инструктор: не только ас-сварщик, но и педагог;
– непрерывное изготовление нужных образцов для сварки (до 300 кг (!) металла на один день учебы для каждого ученика);
– бесперебойное снабжение нормальными (а не бракованными!) электродами;
– учеба без перерывов «на практику», по подробной программе, с четкими критериями годности при испытаниях всех без исключения промежуточных (учебных) образцов. Переход к сварке следующих, более сложных образцов, – только после удовлетворительных испытаний образцов предыдущего этапа;
– теоретическое обучение проводится параллельно по специальной, синхронной с практическими занятиями, программе.
Чтобы полностью реализовать эти идеи системы обучения, нужен был специальный учебный центр. На эту тему я написал докладную записку в УМР, которое теперь стало называться ВСУ – Военно-строительное управление.
Вставка из светлого будущего с печальным концом. Построить такой первоклассный Учебно-сварочный центр мне удастся только лет через пятнадцать (!) на территории нового 122 завода в Металлострое. Центр начал работать в 1983 году и сразу завоевал популярность: быстро и качественно готовил и аттестовал сотни сварщиков всех видов для многих организаций. За 4–5 месяцев мы из ребят «от сохи» выдавали «кадры», к уровню которых лучшие «сварочные» ПТУ и близко не подходили за целых три года обучения.
Расскажу только об одном штрихе системы обучения, принятой в Учебно-сварочном центре. На стенде висит план обучения – развернутая программа испытаний промежуточных образцов (свыше 30 позиций) и фамилии учеников. Освоил сварку этого образца – неси на положенные испытания. Выдержал образец – результат цветом полученной оценки тут же заносится в таблицу. На ней наглядно видно, кто и как успевает, что усвоил, и что еще остается. Отстающие стараются, очень стараются, догнать передовиков. Немудреная таблица стает важным стимулом учебы…
Всеми командуют два человека: здоровенный прапорщик Мосейков Саша и инструктор-сварщик, педагог и великий труженик – Витя Чирков…
За год Учебно-сварочный центр готовит около 150 первоклассных сварщиков, в том числе – аргонщиков и газосварщиков, и переаттестовывает около 500 человек для сварки ответственных конструкций и трубопроводов. Центр успешно работает до самой перестройки, до той поры, когда все пошло на слом…
Специально созданные сварочные столы, отличное, тщательно выбранное оборудование, энергоснабжение, вентиляция, разводка газов по постам и многое другое – все сейчас там растащено или сломано; помещение отдано под склад коммерческой фирмочке. У Вити Чиркова, главного человека в Учебном центре, сначала спилась и пропала жена – директор книжного магазина, затем погиб младший сын, мой ученик-электрик. Старший сын, вернувшийся из армии, стал законченным алкашом и тунеядцем, сидевшим на шее отца. Сам Витя был найден со следами побоев, от которых скончался, не приходя в сознание…
Все это будет потом… А сейчас, до постройки идеального центра, тоже надо было работать, приспосабливаясь к суровым реалиям. У лаборатории завязываются связи с рядом заводов, где учатся наши ребята. Очень плодотворно мы работаем с заводом Гидромехоборудования. Там сварки столько, что часть работ мы строго дозировано выполняем своими сварщиками, но так, чтобы это не вредило нашему плану учебы. Очень долго мы сотрудничали с начальником цеха Виктором Забрудским. Прямо в его цехе мы создаем десяток учебных постов с отдельными источниками тока, на цеховом оборудовании изготовляем нужные образцы для сварки. Трудности в том, что в цехе свариваются металлоконструкции слишком массивные, нам же, для конечной цели – сварки трубопроводов – нужно учиться на тонких образцах.
В лаборатории кипит особенно нужная работа при переаттестации своих сварщиков с объектов по всему Союзу. У нас тесновато, поэтому мы одновременно можем принять не более 5 человек. Заранее рассылаем расписание на направления. На каждую группу выделяется всего 3 дня. За это время наши асы – «варилы» или «сварные» по-народному, кроме сварки образцов для своих работ, узнают много нового и полезного, вспоминают о том, что успели забыть. Я разработал экспресс-способ для предварительного испытания образцов из стыков труб: стык труб в считанные секунды на токарном станке специальным резцом разрезается по шву. При этом наглядно видны все дефекты: поры, непровары. Режимы и приемы сварки тут же корректируются, завариваются новые образцы. Если дефектов уже нет, то только тогда свариваются образцы для настоящих испытаний: просвечивания и механических. Даже асы довольны: такой быстрой и эффективной учебы у них никогда еще не было…
Дела партейные…
Чтобы оставаться самим собой, не унижать и не унижаться – надо платить судьбой…
(Мысль из песни ночного «Шансона»).Партийные собрания проводятся у нас по расписанию – не реже одного раза в месяц и длятся иногда более двух часов. Мне жаль этого времени, и я однажды начал решать свою задачу: проектировать непростую электрическую схему. Я не могу сложную схему держать в голове, как это делают с шахматной доской выдающиеся шахматисты. В проектируемой схеме надо многое менять, додумывать, проверять, а для этого нужны время и обстановка. Первая схема, созданная на партсобрании, получилась почти идеальной. Вскоре я понял, что нет лучших условий для этой непростой работы, чем партийные собрания. Со стороны это, наверное, выглядело так. Сидит на собрании в шестом ряду задумчивый человек, слушает выступающих (уши ведь открыты!), изредка что-то записывает, возможно, – готовит тезисы для выступления, или записывает ЦУ и ЕБЦУ («ценные указания» и «еще более ценные указания»).
Кто-то выбывает из членов партбюро части, и меня, такого внимательного на собраниях члена КПСС, «кооптируют» в члены этого органа. Слово «кооптировать» у «непартейных товарищей» обычно вызывает ассоциации о способе обработки сырой колбасы и рыбы. Мне это слово тоже не совсем понятно, наверное – это нечто среднее между словами «назначение» и «избрание».
Сижу, весь из себя «кооптированный», на первом заседании руководящего органа. Здесь уже не порисуешь: народа мало, все сидят за двумя столами. Руководит партбюро подполковник Карандашов – человек тучноватый, но холерического темперамента, главный «козлист» части. После свертывания домино в связи с окончанием обеда, Карандашов – энергичный и горластый – увядает:
– Все хорошее в этот день – уже прошло!
По должности и по званию чуть повыше – замполит полковник Пилюта Сергей Степанович – широкий «дядько», не освободившийся от украинского акцента в речи, но освоивший, однако, в совершенстве нравы и неписанные правила командно-политического бомонда. Он часто берет рули на себя и становится «главным» в заседании бюро.
А вот тема заседания меня касается напрямую: «Личное дело коммуниста Третьяка Э. П.». Эрик Павлович, молодой и горячий прапорщик – мой лучший инструктор, впервые перепрыгнувший «канаву обучения» сварщиков (я уже писал об этом). Разбирается заявление жены Третьяка о развале им семьи и вступлении в преступную связь с 16-летней соседкой по коммунальной квартире…
Зачитывается заявление – неграмотное, бесстыдное и злобное. Затем начинаем слушать оправдания Эрика. Со своей женой они поженились, когда он проходил еще срочную службу в Молдавии и был молод и глуп. Тем не менее, он привез жену в Ленинград и жил с ней несколько лет. За это время жена полностью «проявилась»: стала ленивой грязнулей, прекратила всякое умственное и физическое развитие, нигде не хочет работать. На этой почве у них часто возникали ссоры и размолвки, после чего Эрик перестал с ней жить, хотя и оставался в той же комнате: деваться-то некуда. Соседка же по коммунальной квартире с «младых соплей» была влюблена в красивого и статного соседа, естественно – как ребенок во взрослого. Сейчас она выросла и не скрывает своих пламенных чувств. Поскольку подсудимый считал себя свободным от брака, то…
Начинается допрос с пристрастием.
– О чем вы думали, когда женились?
– Когда вы прекратили сношения с женой?
– Где вы прячетесь от жены с малолеткой, которую соблазнили?
– Вы знаете, что ваши действия несовместимы с моральным Кодексом строителя коммунизма? Что коммунист должен заботиться об укреплении семьи, ячейки общества?
Бедный Эрик отбивается, как может. Вопросы стают более подробными: где, как, когда, на чем, каким способом? Эрик покраснел, начинает говорить яростно и запальчиво. Когда партбюро выносит вердикт, что ему надо вернуться в семью, Эрик не выдерживает:
– Убейте меня, я с ней спать больше не могу: от нее козлом несет!
Снова выступает Карандашов и рисует «облико морале» Третьяка, как коварного Казановы, который каким-то чудом обзавелся партбилетом. Он соблазняет, затем бросает надоевших ему женщин, нагло попирая все нормы нашей коммунистической морали.
– Видите ли: ему запах законной жены не нравится! А когда вы ее соблазняли, он вам нравился? Вы что женились по принуждению, вас заставили, после того как вы ее соблазнили? Или вы сначала женились, а потом легли в кровать со своей женой? Теперь она уже стара для вас? А со своей малолетней пассией вы уже легли в постель? Она приятно пахнет?
И тут не выдерживает кооптированный член бюро. Долго я молча наблюдал эту высокоморальную инквизицию, которая уничтожала моего лучшего старшину и неравнодушного человека. Но всему есть предел, я сатанею и обращаюсь сразу ко всем, не выбирая слов:
– Как можно так, не сняв даже сапоги, лезть в душу человеку? Какое партбюро может находиться в постели между мужчиной и женщиной? Что у нас разводы уже запрещены? Почему никто не поинтересуется, как служит и как относится к порученному делу старшина Третьяк?
… Я знаю повадки этой стаи по своему комсомольскому прошлому в институте: она бросает жертву, и дружно набрасывается на осмелившегося выступить в ее защиту. После некоторого замешательства Карандашов, а за ним и Пилюта, оставляют Третьяка и «переносят огонь критики» на меня. Основной мотив выступлений – моя молодость и горячность. О «политической близорукости» – пока – речи нет: я все-таки в числе немногих в части награжден боевым орденом в мирное время. А может быть, – боятся. Как говаривал один из моих фюреров: «боятся – значит уважают»…
Судилище уже длится около трех часов. По предложению Пилюты продолжение «бюры» переносится на следующий день.
На следующий день власть на заседании полностью переходит в руки Пилюты. Начинаются вопросы к Третьяку совершенно неожиданные: о днях блокады, во время которой Эрик был совсем еще маленьким. Вопросы теперь задают почему-то об отце Эрика.
– Вы знали о том, что вашего отца привлекал СМЕРШ в качестве пособника фашистов во время блокады за распускание панических слухов? А может быть, – он еще и подавал сигналы немецким самолетам?
Эрик сражен наповал. Он бормочет, что его отец был инвалидом, поэтому не мог служить в армии, но он работал и умер прямо на заводе от истощения, что он был очень порядочным человеком…
– И вы ничего не знаете о том, что он «привлекался»? И не знаете всех обстоятельств его смерти?
Эрик, потупившись, отвечает, что ничего не знал. Но видно, что он все-таки что-то знал по семейным преданиям от матери, которая сумела сохранить во время блокады живыми его и сестру. Тем не менее – Третьяк уничтожен. Пилюта победоносно посматривает на меня, дескать, теперь ты видишь, кого защищал? Опять начинаются «постельные» разборки…
По Третьяку, при одном, слегка кооптированном, члене бюро, голосовавшем «против», выносится вердикт: исключить морально нестойкого перерожденца из монолитных рядов поголовно морально стойких членов КПСС. Это решение должно еще утверждаться более высокой инстанцией – партийной комиссией УМР. Сие означает, что бедному Эрику еще предстоит продолжение пытки на более высоком уровне…
Вышестоящая комиссия не утверждает исключение, ограничиваясь строгим выговором «с занесением». Но Третьяк уже сломлен: он уходит из части, продает даже гараж возле лаборатории и навсегда уходит из нашей системы. Сверхсрочникам (будущим прапорщикам) это можно сделать относительно легко, в отличие от офицеров и рядовых срочной службы…
Меня без шума «вычищают» из партбюро. Слово «декооптирование», кажется, не существует, но это было именно это действие. А мне это «по барабану»: я и не «стремлялся» в ваше болото на высоком месте. Для рисования схем мне хватает простых собраний…
Спустя какое-то время меня решают использовать в несколько другой ипостаси. Политзанятия (4 часа в неделю) с группой сверхсрочников (прапорщиков) части проводит зам. зама по МТО майор Карченков. Гоша – человек мягкий, пожилой, невысокий, с выдающейся лысиной. Буйная орава прапоров просто изводит майора: ему задают такие вопросы, на которые у него нет ответа, так откровенно не подчиняются его увещеваниям, что бедный майор за четыре часа политзанятий несколько раз выскакивает из аудитории и отпаивает себя смесью валерьянки и валидола. Дальнейшее повышение политического уровня подчиненных просто угрожает его жизни. Видно, он взмолился, где надо, и на ниву политпросвещения бросают меня. Я почти с радостью соглашаюсь: мне уже обрыдли дубовые темы политзанятий с матросами – солдатами, повторяющиеся из года в год. А для прапоров есть даже такие темы: «Зарубежные страны», «Армии НАТО», «Психология воспитательной работы с подчиненными». Ну и общаешься все-таки не с малограмотными в основной массе пацанами, а с мужами зрелыми, по крайней мере, – много видевшими.
К первому занятию готовлюсь очень основательно, делаю заметки из энциклопедии и журналов, правда, – пишу не конспект, а только короткие тезисы. Двухчасовая лекция превращается в четырехчасовую беседу, конечно, с перерывами на перекур, – совсем как на коллоквиумах в институте. От каверзных вопросов не увиливаю, обсуждаем их сообща. Конечно, после четырех часов таких занятий меня пошатывает, – как после тяжелой физической работы, но это и есть работа, причем, – не самая легкая.
В дальнейшем я несколько облегчаю себе задачу. Мне ведь надо еще опрашивать своих слушателей и ставить им оценки. Разбиваю грядущую тему на несколько подтем, по которым поручаю доклады конкретным лицам, по двое на каждый вопрос. Это для соревнования и для страховки, если один из докладчиков будет отсутствовать. Теперь они не просто слушатели, а содокладчики, и готовятся к выступлениям. После таких докладов – дополнения и выступления. Оценки докладчикам выставляются сообща. Короче – все работают, всем – интересно. И никаких валерьянок и валидолов.
Значительное время у нас уходит также на свободный треп «за жизнь». Больной вопрос у прапорщиков: начальство ничего не делает, а денег получает гораздо больше (что бы они сказали сейчас, сравнив доходы свои и олигархов!). Я привожу им притчи, давно еще рассказанные Чернопятовым нам, молодым офицерам.
Однажды приказчик стоял на берегу Волги со своим хозяином, купцом, и горько сетовал: вот, дескать, я такой же приказчик, как и Иван, а получка у меня намного меньше. Хозяин не отвечал и задумчиво смотрел на реку.
– Вот идет пароход… Интересно: что везут? Может быть, узнаешь?
Приказчик садится за весла, догоняет пароход, затем возвращается с докладом:
– Пшеницу везут на продажу!
– Интересно: по чем собираются продавать?
– Приказчик опять садится в лодку, долго догоняет пароход и возвращается в мыле:
– По двадцать копеек за пуд!
– А уступили бы они весь груз здесь по 19 копеек?
Догонял приказчик пароход долго, да не догнал, и вернулся совсем обессиленный.
– Так вот, – говорит ему купец. – Если бы на твоем месте был Иван, то он уже при первой поездке сторговался бы не за 19, а всего за 18 копеек, и пароход стоял бы уже на нашей пристани под разгрузкой!
Вторая притча – из американской жизни. Плохо работает у Форда новая турбина на заводе: вибрирует, не развивает мощности. Возится с ней куча спецов долго, но, увы, – безуспешно. Приходит еще один, смотрит, щупает, затем просит дрель, просверливает дырку, и машина начинает работать удивительно хорошо. Предъявляет он Форду счет на 10 тысяч долларов.
– Ладно, – говорит ему Форд, – я заплачу. Но скажи – за что???
– Нет ничего проще, – отвечает мастер. – За сверление дырки – 1 доллар. За то, что знаю, где сверлить – 9 тысяч 999!
Мои прапора заводятся и начинают сыпать примерами, взятыми из жизни. Переходить на личности – последнее дело: мы не партбюро. Согласовывается истина, что исключения могут быть, но если они слишком заметны, то только подтверждают общее правило. Один товарищ запальчиво предлагает всем повысить зарплату хотя бы в два раза. Для наглядности щедро повышаю в 10 раз. Детально разбираем ситуацию. Оказывается – ничего хорошего не будет…
Начинаем тему «Зарубежные страны» изучать со США. Кроме всяких разных справочников, я использую также «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова: это, пожалуй, последняя объективная и благожелательная книга об Америке. Я читаю оттуда избранные заранее места.
Материала много, поэтому на Штаты выделяю времени больше, чем положено по программе, продолжаем читать и обсуждать другую литературу. Посреди занятий в комнату врывается седой пожилой майор – пропагандист из политотдела УМР:
– Читаете запрещенную литературу! – он бесцеремонно выхватывает у меня из рук томик и начинает лихорадочно читать выходные данные. С майором все ясно: цепной пес «развитого социализма», конечно, действует по наводке. Внимательно оглядываю своих учеников: интересно же – кто «стукнул». Один малозаметный «товарищ» опускает глаза…
Майор прочитал выходные данные книги: это нормальное советское издательство, но продолжает листать книгу, наверное – в поисках печати «Самиздат». Не находит ее, неудовлетворенно кладет книгу на стол и сурово предупреждает меня, что заниматься надо строго по плану, и сейчас я уже должен «проходить» страны социалистического лагеря. Я обещаю наверстать упущенное. Мне противно. Сказано же в писании: «Не мечите бисера перед свиньями»…
Через какое-то время я осознаю, что свинья-то была всего одна, но даже эта мысль недостаточна для возвращения в прежнее русло. Вскоре я уезжаю на месяц в командировку, затем – в отпуск. С прапорами поручают заниматься кому-то из начальников отделов. Расстаюсь с группой без сожаления: времени не хватает на всякие развлечения…
Не минует меня и взаимодействие с Ленинским комсомолом. Молодой и амбициозный прапорщик, вождь комсомола части, ставит мне задачу: охватить всех моих комсомольцев на всех объектах движением «Внесем свой вклад в комсомольскую копилку!» Я должен добиться, чтобы подшефные сварщики на объектах и все молодые ребята из лаборатории взяли конкретные обязательства: что и на какую сумму они сэкономят, затем подбить итоги соревнования. Эти ребята вечно выдумывают «почины», которые никогда не кончаются: о них благополучно забывают, вдохновленные уже следующим, еще более крутым почином. Хочется послать комсомольского вождя подальше: ваш почин – вы и работайте. Но я уже достаточно зрелый-перезрелый, чтобы не делать этого. Смиренно принимаю от вождя для распространения и неустанной работы кипу прекрасно отпечатанных в цвете на мелованной бумаге листовок-воззваний «Внесем …и т. д.). Краем глаза замечаю в тексте орфографическую ошибку. Сажусь за стол и начинаю красными чернилами править текст, как учитель школьный диктант. Вождь с опаской поглядывает на мое действо. Число ошибок переваливает за две сотни. Ставлю двойку, расписываюсь, затем возвращаю побледневшему комсомольцу кипу листовок.
– Коля, сколько вы заплатили типографии за эти листовки?
Коля дрожащим голосом называет умопомрачительное число.
– Вот и считайте эту сумму своим первым взносом в комсомольскую копилку! А весь тираж потихоньку уничтожьте, чтобы не позориться.
Больше к раскрутке «починов» меня не привлекали…
Чтобы дополнить тему «партия и я», расскажу еще об одной, более поздней, борьбе с «партЕйными товарищами», где мне с друзьями удалось одержать победу. Для этого надо рассказать сначала о Лене Лившице, с которым мы подружились после его прихода в часть еще в «подвальный период».
Немолодой уже капитан медицинской службы, недавно переведенный к нам с Дальнего Востока врачом части, появился в подвале с авиационным топливным насосом в руках. Обратился он к электрику Гене Егорову с просьбой подключить «эту штуку» так, чтобы она вращалась от сети 220 вольт. Гена, отменный радиолюбитель, соорудивший мне «говорящую мыльницу» при рождении сына, именно этого не знал досконально, и они дождались моего прихода.
– Что и где качать? – был мой первый вопрос. Оказалось, – качать надо воду в ванной для гидромассажа младшей дочери-инвалида, перенесшей в детстве полиомиелит. Я вник в проблему, и мы быстро собрали не только безопасный регулируемый выпрямитель, но и всю гарнитуру для массажа: шланги, насадки и прочую «лабуду», т. е. сделали все «по уму» и «под ключ»: включи и работай.
Вскоре мы подружились «домами», как говорят теперь. А младшая дочка Лившицов – Валера стала и нашей любимицей. Эта, наполовину парализованная девочка обладала не только энциклопедическими знаниями, но и огромной волей к жизни и подлинным мужеством. Дважды ей оперировали в Новосибирске позвоночник зверским методом «переднего доступа», после которого на полгода (!) надо надевать на тело гипсовую броню, затем снова учиться как-то передвигаться. В больнице Валера всех покорила не только полным отсутствием жалоб и слез, но и моральной поддержкой других больных. Никогда она не стонет и не жалуется также дома. Нежно любит своих родителей, с обожанием смотрит на старшую сестру – красавицу Эллу. Валерия уже тогда знала несколько языков. Ее с восторгом приняли на работу в картографической фабрике, где она переводила поправки к морским лоциям, непрерывно поступающим на всех языках со всего мира. (Леня приобрел и на удивление быстро научился водить «Запорожец», чтобы возить дочку на работу). Были периоды, когда именно на ее зарплату и жила вся семья…
Обширности ее знаний в столь юном возрасте можно было только изумляться. Когда мы с Эммой не могли получить сведения о каком-либо литературном вопросе – кто, где или что написал, то звонили Валере, и всегда получали точный ответ. Вот последний пример: меня потрясает музыка в конце кинофильма «Был месяц май». В титрах фильма композитор не указан; несколько лет я безуспешно пытался узнать имя автора у разных музыковедов, о чем рассказал Элле, когда она гостила у нас. (Сейчас Лившицы живут в Израиле, но это отдельная история). Через неделю получаю E-mail от Валеры: музыка финала взята (украдена, если нет в титрах?) из песен Далиды!!!
Старшая дочка Лившицов Элла – тоже человек с обилием талантов и юмора, что редко присуще красавицам. Именно она присвоила мне звание «живой автор». Подразумевалось, конечно, что эти понятия несовместимы, так же как «гений» и «злодейство».
Ну, это – к слову: я пишу о битве с функционерами могучей КПСС. Лене Лившицу вскоре надо выходить на пенсию, а он остается, увы, пожилым капитаном м/с: должность врача части – капитанская. У младших офицеров значительно меньше пенсия, отсутствуют разные льготы. Уехать за званием в Тмутаракань, как Шапиро, Леня не может из-за дочери, да и в Питер он возвращался из Дальнего Востока долго и непросто. Леня уже смирился со своим статусом кво, когда мне(?) на ум приходит одна идея. Ушел на пенсию «главный козлист» части Карандашов. Должность секретаря бюро – выборная, предусмотренное воинское звание – майор. Почему бы врачу Лившицу, не стать функционером от КПСС???
Леня встречает неожиданную идею в штыки, затем «проникается» и соглашается временно – на 1 год – надеть волчью шкуру: врачом-то он все равно останется.
Идея может остаться идеей, если ее не дополнить практическими мероприятиями. Я разговариваю о «передвижении» врача Лившица в политработники с ребятами – офицерами, прапорщиками, рабочими – все принимают идею хорошо. Надо сказать, что дело не в моем красноречии: сам Леня Лившиц – человек чрезвычайно контактный и стал популярным в части за короткое время. И не только в части. Меня поражала его память на человеческие болячки и беды. Вот, например, заходим мы с ним в «подшефный» книжный магазин, где знакомые «девочки» оставили нам дефицитные книги: тогда все нормальные книги были дефицитом и добывались непросто. К Лене, как к родному, сбегаются все женщины, он расспрашивает каждую: «Ваша мама выздоровела?», «Вы достали то лекарство?», «Ваш сын теперь не болеет?», «Не злоупотребляйте этими таблетками!», «Ну как вы себя чувствуете в новой квартире?».
Я балдею и поражаюсь: он всех знает и все помнит о болячках и радостях каждой! Особенно, если учесть, что таких «подшефных» книжных магазинов у нас несколько!
…На отчетно-выборное партийное собрание сам замполит УМР привозит к нам дюжего подполковника, переведенного по сокращению штатов в резерв округа. Замполит УМР, полковник Трофимов, в одном лице соединяет ласковую Алису и жесткого Базилио, когда они уговаривали Буратино зарыть золотые монеты на Поле Дураков. Он красочно расписывает заслуги и богатый послужной список подполковника и настоятельно «рекомендует» нам избрать его «освобожденным» секретарем партбюро части. Собрание, правда, избирает не секретаря, а списком 5 или 7 членов партбюро. Но все понимают, что если в состав бюро пройдет «чужой профессионал», то на первом заседании бюро выборы секретаря станут пустой формальностью. Не «освобождать» же от службы действующего офицера-монтажника. Вопрос из зала:
– А жилье у подполковника есть?
– Есть квартира в Приекуле в Латвии, где сейчас проживает семья. Но Управление гарантирует подполковнику квартиру в строящемся доме.
По залу проходит ропот недовольства: на этот строящийся дом слишком много своих «безлошадных» имеют виды. Они ждут уже много лет, с детьми ютятся во всяких хибарах и комнатках в коммуналках или вообще на дальних объектах. Если даже «улучшение» дадут своему начальству, то за ним потянется цепочка переселений – улучшений. Выступает прапорщик из Североморской группы:
– Есть предложение: избрать секретарем нашего офицера, которого мы все знаем и у которого уже есть жилье – капитана Лившица! Дел в санчасти не так много, и он мог бы совмещать две должности, пока подберут врача!
Трофимов не ожидал такого оборота. Сгоряча он даже угрожает собранию:
– Вы что, хотите загубить всю партийно-политическую работу части??? Мы этого не можем допустить! Какой политработник может быть с врача???
Собрание закусывает удила. В яростных выступлениях сравниваются качества бездельника Карандашова и капитана Лившица, с его трудолюбием и внимательным отношением к людям. Трофимов добивается только включения своего представителя в списки для тайного голосования, пытается ограничить список только требуемым числом кандидатов. Это все известные и проверенные приемы наших «выборОв»… Собрание это прекрасно понимает и принимает решение список не ограничивать, чтобы сохранить возможность выбора…
Лившиц проходит в члены бюро подавляющим большинством, креатура Трофимова блистательно проваливается. Леня избирается секретарем бюро. Трофимову приходится с кислой миной соглашаться со своим поражением. Конечно, в душе он «затаил некоторое хамство», как говаривал Зощенко, и вскоре с непокорной «десяткой» он поквитается…
Обычно, когда офицер занимает более высокую должность, то сразу же посылается представление на присвоение очередного воинского звания. Трофимов представление на Лившица не подписывает: посмотрим, дескать, через год. Леня год поднимает партийно-политическую работу на небывалую высоту, одновременно оставаясь врачом части. Только после вторичного избрания Лившица, Трофимов вынужден подписать представление, и в части появляется новенький майор!
Поквитался же с нами замполит «специфически». На очередном партсобрании части Трофимов выдвигает идею: разделить первичную парторганизацию части на ряд мелких организаций по местам базирования групп. Тут были такие тонкости. Собрания в первичной организации должны обязательно проводиться один раз в месяц. В части, объекты которой раскинуты по всему Союзу, такие собрания были очень нужным предлогом, чтобы собрать всех удаленных начальников объектов и районов. У них всегда набиралась уйма вопросов, которые можно было решить только в части, и почувствовать себя частицей одного коллектива. Для многих офицеров и старшин это была единственная, кроме отпуска, возможность встретиться с детьми и женой. Для командования части эти сборы тоже весьма необходимы: для технической учебы подчиненных, доведения всяких приказов и нормативных документов, да и просто общения с людьми «с передовой», где решается успех боя, чтобы держать руку «на пульсе». И вот такой, казалось бы, чисто технический вопрос разделения парторганизации, начисто ликвидировал предлог и возможность ежемесячных общих встреч.
Образуемые на объектах карликовые парторганизации по несколько человек (начиная с 3) были, конечно, недееспособными. Все эти соображения были многими, в том числе – мной, высказаны замполиту на собрании в ответ на его, как нам казалось, совершенно абсурдный план. Отвечая на выступления, Трофимов уже не улыбался как лиса Алиса, а был непреклонен и требователен как кот Базилио. Собрание все же проголосовало «против». А через короткое время все свершилось по замыслу Трофимова. Позже мы, наивные, узнали истинную причину его «большевистской целеустремленности»: Трофимову не доставало количества первичных парторганизаций, чтобы из заместителя командира по политчасти стать Начальником Политотдела, где всего больше: денег, чинов и т. д.
Следующее мероприятие уже Начальника Политотдела – устройство гнездышка, достойного такого высокого чина. В доме, который строила подчиненная часть, он плотно «курировал» свою четырехкомнатную квартиру, превращая ее в суперэлитную, заодно присоединив к ней комнату соседней квартиры. Эту соседнюю, теперь уже только однокомнатную квартиру, тоже отделали «под люкс», и соединили дверью с «основной». Сюда он поселил молодого прапорщика, предварительно договорившись с ним о последующих перемещениях. Цель была чрезвычайно благая и увлекательная: получить на 4 человек 5-комнатную квартиру-люкс – с двумя кухнями, ванными и туалетами, ну, – как при коммунизме. Это в то время, когда большинство офицеров и старшин живут в перенаселенных коммуналках. Этот проект не осуществился только из-за упрямой жены прапорщика, которая твердо заявила: «Квартиру мы получили законно, и никуда отсюда я не поеду! А дверь можно и заделать!»…
По иронии судьбы мы оказались с Трофимовыми соседями: они, как и положено, занимают элитный третий этаж, а мы – на первом. Тучи комаров из сырого подвала под нами не могут добраться до третьего этажа, и всю свою энергию отдают только нам. Зато у нас долгое время был унитаз «от Трофимова». Подшефные строители совершили непростительную ошибку: поставили в квартире Трофимова унитаз – обычный, а не супер. В нашей же квартире унитаз был просто разбитый, и его тоже надо было менять. Конечно, доставка элитного и последующая передислокация унитазов была успешно произведена в намеченные руководством сроки. Надо ли говорить, как трепетно и благоговейно садилась вся наша семья на толчок с такой родословной!
Спустя много лет, в бурные 90-е годы, в последний раз меня пугал представитель КПСС, когда я, пенсионер и рядовой рабочий лаборатории, написал заявление о добровольном выходе из КПСС. Опять был майор из политотдела, очень похожий на того, который изучал мою запретную книгу на политзанятиях. Он яростно набрасывается на меня, рабочего, со сварочной маской на голове:
– Что, крысы покидают тонущий корабль? Почувствовали, что пахнет паленым? Наверное, и в партию поступили, чтобы примазаться?
Пренебрегаю постулатом «сердишься, значит – неправ», и выдаю высокоидейному майору на всю катушку:
– Это вы и ваши руководящие бонзы и есть крысы! Это вы, бездельники и паразиты, примазались к государству и заботились только о своей шкуре и сладкой жизни! Вы всем распоряжались и ни за что не отвечали! Кто сделал главой огромного государства безвольного и трусливого болтуна? Кто развалил великую державу? А я, между прочим, уже полвека трудился, чтобы укрепить эту самую державу, мою Родину! Что, например, лично ты, майор, сделал полезного для нашей Родины?
Майор не ожидал такого отпора от рядового труженика «электрода». Он выкрикивает угрожающе:
– Вы еще пожалеете о своем поступке! – и выскакивает, как ошпаренный с моим партбилетом. Вскоре я действительно очень пожалею, но только о том, что отдал ему такую ценную историческую реликвию. Там были указаны мои трудовые доходы за многие годы, а также суммы отчислений на безбедное существование всех этих тунеядцев – служителей культа.
Я не успел еще остыть после вылета из КПСС, когда в лаборатории появляется новый замполит, полковник Т. – молодой и здоровый бугай, хотя и с несколько телячьей фамилией. Эти молодые замполиты-полковники, пользуясь связями в высоких сферах, идут дослуживать к нам на подполковничью должность. Тут они отодвигают многолетних и многодетных очередников на жилье и получают лучшие квартиры в Ленинграде: как же, такой высокий чин – и совсем без жилья! Затем они благополучно «сваливают» на более доходные места, где нет головной боли – «вверенного личного состава», или вообще уходят в запас на хлебные должности. А к нам приходит очередной соискатель жилья.
Наш бычок уже успел получить квартиру, и сейчас его единственная работа – ее благоустройство. Именно в этом созидательном процессе он пару дней назад просто разрушил наши точные поворотные тиски, когда пытался согнуть в них непотребную железяку. Эти, очень нужные нам, тиски заработал я лично, выполняя трудоемкий заказ «нового русского». Ни обещаний замены сломанного, ни даже простого извинения от «бычка» не последовало… Сейчас он вошел и начал высматривать в закоулках нужную железку. Меня прорывает:
– Ну, что ты, политический работник, опустил голову и шаришь глазами по чужим сусекам? Надо сначала поздороваться с трудящимися, посмотреть им в глаза, расспросить об их бедах и здоровье. Рассказать нам о последних решениях партии и правительства, о трудовых достижениях народа. А ты сразу хочешь забрать без всякой сатисфакции наши материальные ценности! Я уже не говорю о сломанных тисках…
Видно, у полковника не совсем еще потеряна совесть: он краснеет и здоровается со всеми. Правда, тут же уходит: после моего приветствия ему уже не с руки искать нужную железку.
Путь в банкиры
Когда деньги есть, легче соглашаться, что не в них счастье.
(Истина № 1).В России еще не придуманы такие деньги, которые нельзя разворовать.
(Истина № 2).Однажды в штабе я случайно заглянул в комнату материальной бухгалтерии. Там заседали человек десять, в основном – женского пола. Мое появление в дверях почему-то вызвало бурный восторг заседавших и дружные взмахи руками: заходи, дескать, погрейся. Польщенный таким вниманием, я гордо взошел. Через несколько минут я понял, во что вляпался: в отчетно-выборное собрание правления КВП – кассы взаимопомощи части. Уже успел отчитаться о «проделанной работе» старый председатель КВП – капитан в отставке Корецкий, маленький и лысый бухгалтер с непререкаемым голосом прежнего всемогущего начфина части. Корецкий твердо заявил, что у него и так много дел в бухгалтерии и больше председательствовать в КВП он не будет, поскольку он уже не офицер, а работающий пенсионер. Собрание, оказывается, ломало голову – кого же приспособить на эту незавидную должность. Радость же от моего фейса была вызвана появлением недостающего зверя, который сам прибежал к ловцу.
– Нет, нет, друзья, эта высокая честь – не для меня. Даже мои деньги у нас в семье считает жена. Конечно, – за исключением заначки, – отбиваюсь я.
– А придется, Николай Трофимович, – вы офицер, меньше других проводите времени в командировках. Короче – мы вас выбираем, и вам не отвертеться!
На меня дружно набрасывается коллектив, обильно сдабривая понукания заверениями в уважении, и даже любви, к моей персоне, а также – в небольших затратах времени на исполнение высокой и почетной должности.
– Да вам только подпись поставить, а все документы будет готовить Мария Дмитриевна!
– То есть, я буду как зитцпредседатель Фунт? И на отсидку пойду?
Женщины смотрят на меня непонимающими глазами, из чего делаю вывод, что бессмертное творение Ильфа и Петрова ими изучено еще не до конца.
Скрепя сердце соглашаюсь с высокой честью быть банкиром. Прошу только Бориса Ильича провести при мне заседание правления КВП, дабы поучиться уму-разуму у профессионала. Все довольны, кроме меня, конечно.
На заседании правления рассматриваются два вопроса: о выходе из членства в КВП капитана Смирнова и просьба о ссуде прапорщика Мугинова. Ведет заседание Б. И. Корецкий, кассир Мария Дмитриевна представляет документы, я – пока стажируюсь. Заявление Смирнова надо удовлетворять: членство в КВП – дело добровольное. Хуже то, что ему надо возвращать накопленные за десяток лет службы взносы, что значительно оголяет нашу общую кассу.
– Но Смирнов и выходит из кассы, чтобы забрать деньги. Он мне сказал, что на следующий месяц напишет заявление, чтобы опять вступить в кассу, – говорит Мария Дмитриевна.
– Так может, дать ему ссуду на эту сумму? – интересуется бухгалтер Валя, член правления.
– Не имеем права, – отрезает Корецкий. Не более двух окладов по Приказу. – А он накопил уже почти четыре. – Исключить из КВП, выдать ему его деньги! – принимается решение.
Слезная просьба прапорщика Мугинова о выдаче ссуды отвергается Корецким сразу:
– Не давать! Он их затратит на свою любовницу!
Мария Дмитриевна покорно уже начала писать на заявлении слова «В выдаче ссуды отказать», но вмешивается председатель-стажер:
– А почему «отказать», если на любовницу человек берет деньги? Логичней было бы отказать, если брал бы для жены: она должна укладываться в семейный бюджет!
Такая точка зрения потрясает правление своей простотой. Первым в бой, уже на меня, бросается Корецкий:
– Касса взаимопомощи не может поощрять любовниц прапорщиков на объектах!
– А что – он с ней расстанется, если мы не дадим ему 150 рублей? – беру бразды правления в свои руки. – Оформите Мугинову ссуду, – обращаюсь уже к Марии Дмитриевне. Она радостно принимает решение нового начальника и зачеркивает отказ на заявлении…
Я все-таки должен подковаться юридически. Забираю у МД для изучения Приказ Министра Обороны о правилах функционирования КВП в воинских частях, изданный еще в 1900-затертом году. Все там жестко регламентировано: ежемесячные взносы около 2 %, ссуды – не более двух окладов, плата за ссуды – около 0,1 % (естественно – точных цифр я не помню, но важен порядок величин). И все остальное – в таком же духе. Да, не разгонишься, даже с собственными деньгами. Только при «третьем чтении» обнаруживаю некую туманную лазейку: кое-что может быть по-другому, если будет создан и принят собранием Устав КВП.
Проект нового Устава перед получкой висит перед окошком кассы. В случае одобрения – его надо подписать. Пожалуй – это единственный способ голосования, возможный в наших условиях.
Подписей набирается около 80 % всех членов КВП; новый Устав вступает в силу. Взносы в кассу – «положенные» 2 % плюс, по заявлению или наличными, – сколько хочешь. Свои накопленные деньги можно забрать в любой момент без всякой волокиты. Ссуды (сверх своих накоплений) мы выдаем – до 6-ти окладов, а если для покупки машины – то до десяти. Плата за ссуды – строго по приказу – 0,1 (или 0,2?)% в месяц. Краткосрочные ссуды до одного месяца («до получки») – вообще бесплатны.
Уже после первой получки Мария Дмитриевна появляется у меня с круглыми глазами и пачкой заявлений о приеме: наша касса невероятно выросла «вширь и вглубь». К МД просто стояла очередь желающих внести наличные деньги от 50 до 100 рублей, а также жаждущих вступить в нашу, такую хорошую кассу взаимопомощи. Многие пишут заявления в финчасть об увеличении ежемесячных взносов в КВП до приличных сумм.
Я, когда писал новый устав, рассчитывал только на некоторое послабление бюрократических «низзя». Эффект же был просто оглушительный: наши возможности (капитал?) за короткий срок выросли в 10–15 раз(!) и продолжают быстро расти! Удивляюсь, как легко можно достичь прогресса в сложном банковском деле. Конечно, мы не платим процентов за хранящиеся деньги. Сберкассы (это не теперешний грабительский и наглый Сбербанк!) платили тогда 2 % годовых. Но мы зато практически бесплатно выдаем ссуды и без всяких проволочек принимаем на хранение бывшие мужские заначки!
Присваиваю МД титул Главной Хранительницы Заначек. Приходится решать и еще один вопрос: куда девать деньги физически? Маленький сейф в бухгалтерии, принадлежавший МД уже не помещает распухший баланс (или авуары? или бюджет?), короче – наличность. Да и украсть сейф могут целиком, не прибегая к квалифицированному вскрытию. В большом сейфе части хранить наши деньги нельзя: они могут «смешаться» с казенными или пойти друг к другу в гости. Решаем открыть счет в ближайшей сберкассе на имя Марии Дмитриевны Мелковой. Это нарушение, но счет на организацию там открыть нельзя, и у нас нет выхода.
Наша КВП приобретает потрясающую популярность, и денег у нас – куры не клюют. У многих офицеров и прапорщиков бывшие заначки сложились уже в кругленькие суммы и могут быть использованы для серьезных покупок. Узнав удивленно, сколько у него накопилось денег, причем, без ущерба для ничего не подозревающей жены, такой человек часто еще увеличивает свой взнос: забрать свои деньги у нас чрезвычайно просто. Мы легко выдаем ссуды всем желающим, практически – в любом размере: несколько человек берут большие ссуды на покупку автомашин. Частенько наличностью для неотложных нужд у нас разживается «большая» касса части. Даже при такой мизерной плате за пользование ссудами и небольших процентах сберкассы, у нас набираются приличные – свободные – деньги, которые надо тратить. Устанавливаем на правлении небольшую ежемесячную плату своему кассиру и премии – помощнице, покупаем хорошие авторучки и подарки. А вот и более весомая затрата: не может вернуть ссуду уволившаяся из-за болезни ребенка служащая части, и мы безболезненно списываем ее долг.
Соседние части с завистью смотрят на наше процветание, Наш устав КВП копируют, готовятся ввести его у себя…
Смертельный удар по нашей авангардной КВП наносится из бывшей германской цитадели Кенигсберга! В советском областном городе Калининграде был наш ВСО – военно-строительный отряд, принадлежащий УМР. И была там своя КВП, самая, что ни на есть, – правильная. И кассой этой заведовала некая дама с пламенным сердцем. И полюбила эта дама всем пламенным сердцем не мужа своего, а некоего красавцА. А этот красавЕц оставался равнодушным к притязаниям пламенного сердца Дамы, пока она не сложила к его ногам (или сердцу?) несколько тысяч рублей, накопленных в ее бедненькой кассе взаимопомощи. Дальше – сведения о Даме, роковом КрасавцЕ и растраченной ими Сумме – теряются на фоне грозного Приказа о поголовной ревизии всех КВП в русле их соответствия Приказу МО.
Наибольшие «несоответствия», естественно, были обнаружены у нашей процветающей КВП, поскольку процветание и являлось следствием этого «несоответствия». Последовал специальный грозный приказ: вернуть все «в обратный зад». Мы раздали все деньги и вернулись в этот самый зад. Забавно, что там не захотели находиться почти все прежние члены КВП, поэтому касса благополучно, в полном соответствии с требованиями Приказа МО, – скончалась, так сказать, – почила в Бозе…
На всех парах…
… наш паровоз летит вперед!
Лаборатория «вне периметра» в основном построена и решает все более сложные задачи. Я с головой ухожу в непростые проблемы монтажа и сварки атомных центров в Палдиски под Таллином и в Гремихе на Севере, а также ракетных стартов в Прибалтике и на Украине. Большинство наших сварных конструкций там – первой категории. Это значит, что они должны работать безотказно десятки лет. Такие параметры требуют очень высокой технологии и сверхтщательного контроля на всех этапах сварки. Для этого в лаборатории появляется сложное оборудование и приборы: стилоскоп, металлографический микроскоп, осциллографы, станки и многое-многое другое. Установку для коррозионных испытаний, рабочие контейнеры для просвечивания, а главное – машины для сложных монтажно-сварочных работ, мы делаем сами. Еще в «эру подвала» мы сделали передвижную лабораторию с насосами высокого вакуума и гелиевым масс-спектрометром, – теперь ее эксплуатируем в Гремихе, вникая в тайны глубокого вакуума. Вакуумная гигиена – очень непростая наука!
Сварка в среде аргона – теперь для нас обычный процесс. Но заводские установки для нее – многоэлементные и тяжелые, иногда – совсем непригодные для работ на монтаже.
Унылое отступление. Статью «Монтажникам – передовую сварочную технику», инициатором которой был еще Д. Н. Чернопятов, в которой были показаны все недостатки отечественного оборудования и требования к нему монтажников, у нас не принял ни один технический журнал. Отмечая недостатки своего оборудования, мы пишем, что за границей уже давно применяются инверторы, которые в десять раз легче отечественных источников сварочного тока. Кроме того, – у инверторов большие технологические возможности. Но эта тема – «табу». На мои вопросы об отечественных инверторах один из руководителей ВНИИЭСО (Всесоюзный НИИ электросварочного оборудования) вынужден был ответить, что им не дают мощных транзисторов, которые требуются для инверторов: их производят поштучно, все они идут только на военный космос…
Ждать нельзя, и мы проектируем и делаем свои машины, все более совершенные, которые на объектах могут делать всё. Имеющиеся тяжеленные источники тока ставим на колеса. Чтобы подобраться к месту сварки, собираем длинные кабели и шланги в пучок. На конце кабелей – небольшой ящик с осциллятором, горелкой и дистанционным управлением.
Вот только один пример. Непригодны в большинстве случаев и заводские горелки: они нуждаются в водяном охлаждении, что очень усложняет жизнь в полевых условиях монтажа, особенно – зимой. Нахожу в поселке им. Морозова «почтовый ящик», который делает термостойкий (до 900 °C!) кремний, органический полимер, и добываю эту почти секретную продукцию в натуре. Чтобы придать полимеру нужные свойства, его надо около двух суток непрерывно «разбалтывать» в бочонке. Быстренько сооружаем устройство «пьяная бочка», которое и проделывает это разбалтывание.
Полимер, добытый так трудно, применяем для пропитки изоляции специально разработанных горелок. Конструкция обеспечивает надежный отвод тепла от вольфрамового электрода. Присоединение силового кабеля обычно – самое больное и горячее место горелок. Наше – надежное и простое, даже отводит тепло от горелки в кабель. Кроме того, нагретый корпус не «укутан», как в других горелках, а защищен изолирующей рукояткой, перфорированной как кожух автомата. Особенно тщательно подбирается устройство канала истечения аргона: его поток на выходе из горелки должен быть ламинарным, то есть – истекать без турбулентных завихрений как можно дальше. Для испытаний разных вариантов горелок сооружается генератор дыма, чтобы поток газа сделать видимым…
Я описываю для примера только некоторые задачи, которые приходится решать при проектировании и изготовлении простой аргоновой горелки. За внешней простотой наших массовых изделий скрывается большая конструкторская и даже – исследовательская работа. Теперь горелки не требуют водяного охлаждения и стают легкими и надежными. Лаборатория выпускает эти горелки крупными сериями. За нашими горелками начинают охотиться другие организации.
Мы не можем работать с нержавеющей сталью без плазменной резки. Влезаю в ее проблемы с головой. Вскоре в Североморске уже работает наша установка для ручной резки, а на 122 заводе – целая машина. Кстати, при ее наладке для устойчивой работы, пришлось изобрести хитроумный инжекторный смеситель газов, на который получаю первое авторское свидетельство на изобретение – бесполезную, но очень красивую «бумагу» с печатью на красной ленточке.
Первое авторское свидетельство
Вообще, деятельность лаборатории – непрерывное создание нового или его улучшение, которое на официальном языке называется «рационализаторской работой» (язык можно сломать). Если все такие работы оформить как следует, подсчитать экономический эффект, то можно получить некоторые деньги из БРИЗа части. Рацпредложения оформляются на ребят, что дает весомую прибавку к их довольно тощим заработкам. Мои собственные основные идеи и даже изобретения – увы, не рассчитываются «экономически», поэтому поощряются в основном похвальными грамотами…
Книга успешно окончена. Меня опять спасает женщина – редактор от издательства Т. Л. Лейкина. Она мгновенно определяет нестыковки в тесте, образовавшиеся после купюр неграмотного рецензента – некоего доцента Грохольского, у которого знания по сварке относились ко временам царя Гороха. При окончательном редактировании всё было восстановлено. Правда, Ленинградский Машгиз из-за схода с дистанции Г. Б. Каблукова успел вычеркнуть книгу из плана изданий 1967 года, не надеясь, что оставшийся в одиночестве автор уложится в срок. Книгу печатают только в 1968 году, она моментально исчезает с прилавков. Я еле успеваю добыть для части десятка три экземпляров, которые строго распределяются по направлениям части.
Написать «нормальную» техническую книгу – очень непростое дело. Знать предмет вообще и знать так, чтобы коротко и внятно изложить и нарисовать на бумаге, – «две большие разницы», как говорят в Одессе. Автору пришлось изучать массу книг и других источников. Кстати, сразу обнаруживаются «нормальные» книги и всевозможные компиляции, когда перепечатываются даже ошибки первоисточника. Особенно этим грешат общие справочники, написанные группой «товарищей» под общей редакцией именитого «светила», которому недосуг читать статьи «товарищей». Иногда в «нормальных» книгах нахожу ответы на нерешенные проблемы. Например, в тоненькой брошюрке нашел оригинальное решение: как сваривать без дефектов стыки алюминиевых труб. Простое и эффективное решение после проверки было немедленно внедрено на всех объектах.
После написания книги начинаешь понимать, как мало знал раньше о предмете, которым занимаешься, кажется, – вполне профессионально, и который, якобы, изучал в институте… Но нельзя сказать: вот теперь я знаю уже всё: потому что «чем больше радиус знания, тем больше длина окружности соприкосновения с неизвестным»…
Кочки на гладкой дороге прогресса
От малых причин бывают весьма важные последствия; так, отгрызение заусенца причинило моему знакомому рак.
(К. П. № 79)Напряженная работа не может обходиться без накладок и ЧП, которые потрясали не только лабораторию, но и всю часть. Расскажу только о двух.
Мы перешли на применение радиоактивных изотопов с мягким излучением и, к сожалению, – коротким периодом полураспада: они давали снимки более высокого качества. Старый рабочий контейнер с цезием-137, имеющим очень жесткое излучение и большой период полураспада, хранился на нашей базе в Североморске и не применялся. Я велел радиографу мичману Яковлеву В. Я. привезти его в часть для последующего захоронения.
Несколько раз Яковлев не выполнял моего приказания, ссылаясь на разные объективные причины, пока я не стукнул кулаком по столу. Под Новый год он привез самолетом контейнер, доложив мне, что колодец, на дне которого хранился контейнер, дал течь, в него проникла вода и замерзла вверху. Колодец – это герметичный пенал из трубы, врытый в землю на глубину около двух метров. Яковлев раздолбил лед, заставил привлеченного солдата-строителя вычерпать оставшуюся воду и извлек контейнер с изотопом. (По инструкции источник мог находиться в воде). Так как у него вышел из строя рентгенметр-дозиметр, то он просто вытер тряпкой мокрый контейнер и в рюкзаке провез его на самолете из Мурманска в Ленинград «контрабандой» для экономии времени, – не объявляя о радиоактивности своего груза.
Через некоторое время, уже в лаборатории, Яковлев доложил мне, что свой рентгенметр он исправил, но никак не может выставить стрелку на нуль. Меня как током ударило. Я схватил клюшку большого рентгенметра и приблизил его к Яковлеву. Прибор отчаянно затрещал, стрелка зашкалила. Живой человек и его одежда стали источником радиоактивного излучения! Особенно сильно излучали руки и одежда. Привезенный контейнер был уже помещен в наш колодец и закрыт свинцовой крышкой, но даже участок пола, где побывал контейнер перед загрузкой, сильно излучал.
Немедленно ушли телеграммы о радиационной аварии на Северный флот и вышестоящим командирам. Началась длительная и тяжелая работа по ликвидации последствий аварии и поисков виновных…
Приведу только ее итоги. Я отделался необычайно легко: получил строгий выговор в приказе. Самолет, на котором Яковлев летел из Мурманска в Ленинград, поймали в Челябинске и подвергли дезактивации (о дезактивации я еще напишу). Химслужба Северного флота выдолбила на нашей базе Сафоново возле Североморска 100 кубометров (!!!) мерзлого радиоактивного грунта, загрузила его в пластиковые мешки и захоронила как радиоактивные отходы. Солдат, черпавший воду, успел демобилизоваться. Его отловили прямо на свадьбе в Белоруссии и поместили в госпиталь. Завод-изготовитель радиоактивных источников для контроля сварки был признан главным виновником ЧП: источник не должен был потерять герметичность. Заводу пришлось изменить технологию изготовления оболочек для цезия-137, – вместо завальцовки донышек цилиндрической ампулы, стала применяться аргоновая сварка. Все старые источники цезия-137 были отозваны на завод.
Наша авария все же была небольшой, но и она попала под гриф «совершенно секретно». В СССР было много аварий и покрупнее, о чем мы узнали только недавно. Я даже не говорю о ядерных полигонах – Семипалатинском и Новоземельском и радиационной аварии на предприятии «Маяк». На Тоцких учениях прославленный маршал привычно послал войска «вперед!», – прямо в неостывшую зону атомной смерти. Как горестно заметил Пикуль, – чем больше убитых, тем больше в России славы полководцу. Только теперь «потери личного состава» прикрывались не войной за свободу и независимость Родины, а учебными целями, по принципу: «тяжело в учении – легко в гробу». Да и потери были скрытыми, «размазанными» по времени: разве поймешь, от чего заболел и умер потом бывший боец? Теперь, оглядываясь назад после Чернобыля, всем это кажется песочными играми в детском садике. За исключением погибших, для которых тот бой стал последним…
Тогда же маленьких радиоактивных источников было очень много, как и разгильдяев, ими пользующихся. Лаборатория сварки Главленинградстроя вообще потеряла на дороге два контейнера с изотопами. Веселенькую историю мне по секрету рассказал проверяющий чин из Центра. Под Москвой некий НИИ облучал для науки картошку мощными источниками кобальта-60. НИИ закрыли, и военные строители снесли бульдозерами бывшие лаборатории. Солдаты растащили по карманам блестящие цилиндрики. Несколько человек попали в госпиталь с диагнозом «членовредительство»: радиационные ожоги ног врачи сначала приняли за следы втирания керосина с целью освобождения от военной службы… Потом радиоактивные источники собирали по всей округе.
А теперь – о дезактивации. Одежду моего мичмана захоронили как радиоактивные отходы, а его самого поместили в спецотделение госпиталя и начали отмывать особо пораженные участки дважды в день специальными моющими и адсорбирующими растворами. Кожа его рук стала напоминать древний пожелтевший пергамент. Только через месяц такого мытья руки довели до нормы – не более 450 распадов в минуту на одном квадратном сантиметре кожи. А ведь период полураспада цезия-137 – около 34 лет! За это время его активность уменьшится только наполовину. Все наши беды произошли от малюсенькой ампулки диаметром 5 и длиной 12 мм! А как оценить масштабы радиоактивного заражения при взрыве атомной бомбы или Чернобыльского реактора, а заодно – эффективность дезактивации замшелой крыши или деревянного здания одноразовым поливом обычной водой из пожарного шланга?
Второе ЧП у нас произошло тоже на Севере, где мы сооружали базу атомных подводных лодок, точнее – все технологические устройства для обслуживания атомных реакторов субмарин. Важной частью этих устройств были подземные резервуары из нержавеющей стали для хранения жидких радиоактивных отходов. В этих очень ответственных сооружениях сварка должна быть особо надежной, поэтому все делалось очень тщательно, все швы просвечивались. Днище приваривалось к жесткому контуру, залитому в бетон, и светить сварку было технически невозможно. Специально обученные сварщики через каждые пять метров сварки заваривали в идентичных условиях т. н. стык-свидетель, который маркировался, регистрировался в журнале работ, затем подвергался металлографическим, коррозионным и другим испытаниям. При малейшем несоответствии качества стыка-свидетеля сварщик отстранялся от работ, а его швы браковались и вырезались. Мы все сделали классно, но несколько преждевременно: резервуары еще не были нужны и около двух лет стояли пустыми и открытыми. Когда возникла потребность, и резервуары начали приводить в порядок, то на их днище обнаружили около 400 (!) темных пятнышек, под которыми металл легко разрушался. Появлялось расширяющееся сквозное отверстие, плотно забитое черной сажей. Первое впечатление было, что это металлурги выдали испорченный прокат, а монтажники, не проверив или умышленно, поставили его на самое ответственное место.
Началось расследование, поиски виновных; дело принимало облик вражеской диверсии со всеми вытекающими последствиями. Мы знали, что все делали хорошо, и грешили только на скрытый от наших глаз брак металлургов. Г. Б. Каблуков поехал в Институт стали в Москве, чтобы узнать, как это металлурги умудрились закатать в тонкий (3 мм) лист из благородной нержавеющей стали столько дефектов, и почему их не было заметно при монтаже и сварке? Вернулся он с просветленным лицом и подаренным учеными ребятами образцом. Блестящий кубик нержавеющей стали был пронизан насквозь пещерами и ходами, как сыр рокфор. При этом вся поверхность кубика вне язв оставалась полированной и блестящей.
Так мы узнали о питинговой – точечной коррозии нержавеющих сталей. Оказывается, в жидкой застойной среде к поверхности «нержавейки» цепляется ион хлора и начинается точечная коррозия. Образующиеся продукты коррозии (черная сажа) ускоряют саму коррозию, и она принимает лавинообразный характер – образует сквозные дефекты. Хлор-ионы есть везде, это, например, раствор обычной поваренной соли. Наш резервуар стоял открытым; строители, бетонируя наружные стены, не убрали деревянные конструкции внутренних распорок и опилки. Некоторые, особо утонченные натуры, использовали резервуар как туалет с замечательным уединением: попасть в него можно было только через верхний люк. Туда же попадали вода и снег, которые и образовали недостающий, но очень важный компонент головотяпства – застойную среду, – в прямом и переносном смысле…
Оргвыводы нас не касались. Касался – кропотливый ремонт бывшей отличной конструкции и несколько месяцев нервотрепки. Зато, как сказал юморист, – опыт есть. А еще раньше другой юморист говаривал: «Неучастие в политике не освобождает от ее последствий».
О кризисе жанра и втором дыхании
Семь бед – один переворот.
За кедом кед,
За годом год,
И только глупый не поймет,
Что все – наоборот.
Товарищ, тырь. Товарищ, верь.
За дурью дурь,
За дверью дверь.
Здесь и сейчас пройдет за час,
Потом – опять теперь.
Дорогу осилит идущий, плохую
дорогу – ползущий.
(Неизвестные гении из WWW)К концу 1969 и началу 1970 года вырисовалась такая картина: паровоз лаборатории летит вперед, нагруженный многочисленными проблемами военной монтажной части. Машинист и одновременно кочегар этого паровоза – автор этой писанины, инженер-майор и прочая и прочая…
У меня, очевидно, есть фатальная способность – накручивать на себя работы и обязанности, а также – ставать «любимчиком командиров», которые непрерывно бросают меня и вместе со мной мое войско, – в бой. Все время забываю флотскую заповедь: «не давай умных советов начальству, а то тебе же придется их выполнять». Мало того: я без конца «вляпываюсь» во всякие работы и обязанности. Как мне пришлось быть банкиром и партийным функционером, я уже писал. А вот еще, всего лишь несколько, перлов-жемчужин из обширного перечня «внебрачных» работ, помимо основной.
Мощные кабели от двух ТП к лаборатории проложены, но, чтобы их подключить, нужен «ответственный за электрохозяйство». Изучаю ПТЭ и ПТБ, ПУЭ – это две толстых книги непростой науки. Сдаю очень строгий экзамен комиссии Ленэнерго. Поскольку я единственный такой грамотный, то автоматически стаю «главным по электричеству» всей части, отняв хлеб насущный у главного механика. Отнимаю у него заодно также ремонт всего электросварочного и газового оборудования – все равно в этом деле он ничего не понимает. Само собой: труборезные станки, фаскорезы и прочее для «околосварочных» работ мы также делаем и ремонтируем сами.
Радиоактивные изотопы только в лаборатории; автоматически я назначаюсь также «ответственным за радиационную безопасность» всей части.
В лаборатории нужна печь для сушки электродов. Напрягаемся, делаем сложное, но надежное и универсальное устройство: кроме электродов, на нем можно сушить грибы, готовить пищу и обогревать помещение. Печь настолько всем нравится, что лаборатории приходится делать такие печки десятками – для всех объектов части.
В ПТО части бумаги и чертежи не помещаются уже в стандартные деревянные шкафы. Даю совет: вот у вас ниша, можно вписать туда металлический шкаф до потолка. Шкаф этот из гнутых профилей получается очень удобный и емкий, дверцы открываются и вдвигаются внутрь, не занимая пространства. Секретчик требует, чтобы дверцы закрывались на замок и опечатывались. Выполняем требование. Все получается просто и изящно, все бумаги заполняют новый шкаф меньше чем наполовину, работать стало легко и приятно… А лаборатория в дыму и копоти сооружает еще 32 (!) огромных шкафа для всей части, под размеры каждого кабинета…
Боря Лысенко просит сделать подставку под телевизор: заводская тумба угрожающе шатается под весом почти стокилограммовой(!) «Радуги». Боря – мой свирепый начальник и близкий друг. Выкладываюсь в жанре технической эстетики в симбиозе с сопроматом: изобретаю для него прямоугольную массивную рамку, в углы которой просто вварены длинные, проточенные на конус ножки с белыми фторопластовыми шариками внизу. Конструкция «вылизана» и окрашена в черный цвет. Боря удивился видимой хрупкости подставки, попробовал отогнуть довольно длинную ногу, которая крепилась только в одном месте: она не шелохнулась. Утром пришел восторженный: тяжелый телевизор как бы парит в воздухе, но держится при этом чрезвычайно устойчиво! Надо ли говорить, что пришлось делать еще десятки таких подставок?
Вот на монтаже повреждают резиновую манжету в уникальном и дорогом устройстве поставки заказчика. Задание лаборатории простое: сделать манжету. Проектирую пресс-форму, изготовляем и доводим ее, изучаю требуемые режимы (время – температура) вулканизации резины. Нагреваем, выдерживаем. Разобрать форму невозможно: резина намертво приварилась к латунной форме. Только с третьего раза подбираем металл, – это нержавеющая сталь. Задача решена. В сознании начальства откладывается мысль: лаборатория может делать резиновые детали. Я понимаю, что отныне придется делать и резину, поэтому сохраняю в рабочей тетради все нужные параметры.
Вставка по обмену старым, но все же – полезным опытом. Очень нужная вещь рабочая тетрадь (в действительности – толстый журнал). Их у меня «возникает» несколько штук в год. Никаких отдельных теряющихся бумажек: ставишь дату и чиркаешь в тетрадь любые записи этого дня: задачи, чертиков, схемы, расчеты, заявки, главные эскизы, телефоны и фамилии. Здесь, как в Интернете, – найдется все! Заодно – и ответ на вопрос «когда?».
Монтаж ряда уникальных объектов целиком доверялся только лаборатории. Я уже упоминал объекты в Эстонии, Латвии и на Севере. Сравнительно небольшие объекты НИИ-13 под Выборгом, экранирование нескольких помещений ЭВМ в Ленинграде и Прибалтике, масса текущих работ – тоже съедали время.
Катастрофически не хватает времени, но я уже привык, а, может быть, – даже люблю работать в таком режиме. Хуже другое: мне становится скучно.
Кажется: вот еще сделаю вот это, это и это, – и можно будет заняться работой для души и на перспективу. А перспектива, кажущаяся такой близкой и досягаемой, такой же и остается все время, как вершина в горах…
Эта вершина постепенно начинает прорисовываться в тумане повседневной толкучки. Случайно мне пришлось познакомиться с новым классом полупроводников – тиристорами: капитан Ваня Игольников из соседней части дал мне прочитать статью. Затем я где-то добыл «живой» тиристор и из чистого любопытства начал его испытывать. Поражали мощь и быстродействие тиристора в сравнении с громоздкими и медленными ртутными игнитронами, которые применялись в контактных сварочных машинах. Тиристоры могли бы решить многие проблемы сварки. Урывками, полуподпольно, я начал заниматься ими – тиристорами и проблемами.
Немного о проблемах. Во время работы над книгой я набрел на сборник «Проблемы сварки», из которого узнал, что существуют закритические режимы сварки, когда металл в сварочной дуге переносится не каплями, а струей. Капли же (около 30 в секунду) закорачивают дугу, после чего красиво взрываются, унося до 20 % металла в брызги-потери. Но варить на закритических режимах нельзя: выделяется слишком много тепла. И еще: автоматы стабилизации в источниках тока слишком медлительны: они реагируют на возмущения (нарушения процесса) длящиеся около одной секунды. Я хотел решить две проблемы сразу: варить только на закритических режимах, чтобы избежать брызг. Чтобы избежать перегрева металла, – ток подавать отдельными импульсами. Автоматическое управление шириной (длительностью) импульса позволяло бы источнику тока реагировать на любые, даже микроскопические возмущения в дуге со временем порядка одной миллисекунды. Предварительные прикидки показали, что мне надо включать и выключать токи около 1000 ампер примерно 500 раз в секунду! Такое быстродействие могли обеспечить только тиристоры с совершенной системой управления. Сразу же обнаружились пробелы в моих знаниях по автоматике, математике и электротехнике, – пришлось их наскоро «штопать»…
Мне опять стали навязывать политзанятия с личным составом – это вообще скука несусветная. Пришлось выбрать альтернативу – занятия в университете марксизма-ленинизма на самом трудном – философском факультете. Неожиданно учеба там понравилась. Наши преподаватели, весьма неглупые люди, просто «оттягивались», вместе с нами залезая в дебри диалектики. Занятия философией в Доме офицеров можно пояснить диалогом Петьки и Чапаева. Василий Иванович тоже изучал диалектику и объяснял ее Петьке на примере решения простого вопроса: кого мыть в бане первым – грязного или чистого бойца. Простодушный Петька сказал: зачем мыть чистого, давай сперва помоем грязного. Василий Иванович диалектически доказал ему, что сначала надо мыть чистого: не загрязнится вода для последующего мытья грязного бойца. Петька согласился, но Чапаев опять опроверг и это решение, – тоже строго по диалектике, доказав, что сперва надо мыть грязного.
– Так кого же будем мыть первым? – задает уже экзаменационный вопрос Василий Иванович.
– А черт его знает, – совсем запутался Петька.
– Вот теперь ты усвоил, что такое диалектика! – обрадовался Чапаев.
Интересными и познавательными были занятия по научному атеизму: я впервые узнал не столько атеизм, сколько церковную иерархию и внутренние законы различных конфессий.
После года учебы в УМЛ положен был экзамен, который можно было превратить в сдачу обязательного кандидатского минимума, что я и сделал. Заодно уже подучил с репетитором и сдал такой же кандидатский минимум по иностранному – немецкому, конечно, – языку.
Вот теперь моя вершина и начала прорисовываться в тумане: надо было уйти из части, чтобы заняться высокой наукой, для чего я уже созрел гораздо больше, чем после окончания КПИ, когда мне предлагали ИЭС имени Патона. Куда уходить в погонах, которые невозможно снять, – было ясно: в ВИТКУ (Высшее Инженерно-техническое Краснознаменное Училище). Туда меня звал мой приятель, талантливый инженер-электрик Толя Орлов.
Памяти друга, ушедшего так рано. Полковник Орлов Анатолий Васильевич, офицер-монтажник, возвратившийся в свое училище, защитивший там сначала кандидатскую, затем – докторскую диссертацию. Толя – человек удивительно остроумный, открытый и дружелюбный, готовый всем помочь. Даже моего сына после окончания школы водил по всему училищу, уговаривал поступить туда. Орлов решал (и решил!) проблему запасного энергоснабжения ракетных стартов: аварийная дизельная электростанция при отключении сети должна запуститься и дать ток так, чтобы точные приборы не потеряли питание и его фазу даже на сотые доли секунды. Для опытов ему нужны были батареи мощных конденсаторов, которые я давал ему в аренду: такие «кандёры» делали только для импульсных генераторов в сварке.
Квартира Орловых была недалеко от лаборатории, его жена Оля долго работала в лаборатории, когда ушла Вера Пурвина. Однажды Толя окрашивал дома батареи. Ему не понравился цвет краски, и он попросил у меня немного «колеру». Для цветной дефектоскопии мы применяли ярко-красный судан-4. Я отговаривал Толю: судан этот ядовит, но он настоял. «Колер» получился на славу, художник был доволен. Через день он появился в лаборатории с круглыми глазами: на окрашенной батарее проступило множество «кровавых слез». О таких подлых свойствах нашего ядовитого красителя мы сами не подозревали…
Толя много сил потратил в самых высоких сферах (ЦК, Совмин), чтобы запустить в серию свое детище – аварийные генераторы. Категории эти – высшей степени секретности, поэтому результаты мне неизвестны. Долгое время он заведовал всеми научными исследованиями в училище. О его смерти я узнал случайно и поздно. Вдову и дочку по базе данных найти не удалось: жилье они поменяли, а Орловых – много в Петербурге…
Я был не очень высокого мнения о размахе и возможностях научной деятельности в ВИТКУ. На книгу по сварке преподавателя училища Урушева мне пришлось написать убийственную рецензию, в которой только сводная таблица ошибок и нелепиц превышала объем книги. Курс сварки для курсантов был всего 20 часов, а мы матросам давали около 200 часов только теории! В мастерских училища станки и оборудование стояли покрытые слоем музейной пыли: к ним курсанты допускались только «визуально».
Выпускникам этого, как мы шутили, – «балетно-пехотного» училища приходилось по-настоящему учиться только после выпуска: во время учебы их «долбали» в основном строевой и политической подготовкой. Немногие, как Орлов, достигали высот в профессии инженера. Большинство делало карьеру на командных должностях, дослуживаясь до звания «полковник минус инженер», успешно забывая куцые технические знания, полученные в училище. Толя Орлов меня успокаивал:
– Так ты же все и раскрутишь, как надо!
Раскручивать все с нуля было немного поздновато: я приближался к сорокалетию. Правда, я уже много знал, написал книгу. Спрятав совесть в карман, мог бы быстренько написать и защитить проходную диссертацию с грифом «секретно»: так делало большинство военных «преподов» в училище. Тогда, получив «кандидата наук», можно было бы заняться и самой наукой «для души». Решались бы и другие мои проблемы, например, присвоение очередного воинского звания. В родной части мне ничего «не светило»: у начальника лаборатории должность была майорская, как и у всех командиров групп.
Однажды, сидя на очередном собрании, я нарисовал картинку. Огромная арба, нагруженная до верху «проблемами сварки» с упряжью для трех лошадей. Обе крайние с надписями «Каблуков» и «Мокров» – пустые. Тянет тяжелую фуру одна средняя лошадь – «Мельниченко», согнувшись в три погибели. Для стимуляции его усилий впереди на оглобле висит «гайка» – очередная звезда на погоны. Так недостижимым пучком сена поощряют тяговые усилия ослов. Картинка попадает к командиру – Булкину, который ее внимательно изучил. Наверное, ему стали известны также мои телодвижения в ВИТКУ: он сам его окончил, и там у него все друзья-приятели.
Через пару дней Ефим Ефимович появляется в лаборатории и отводит меня в сторону для конфиденциального разговора.
– Что вам, Николай Трофимович нужно? – задает он вопрос, не ожидая от меня ответа. – Очередное звание? Оно у вас будет. Вам нужна исследовательская работа? Вы в лаборатории сейчас можете делать все, что вам нужно, чтобы написать и защитить любую диссертацию. Люди, помощники? Скажите, кто вам нужен, и я переведу его в лабораторию. Много текущей работы? Перекладывайте ее побольше на своих помощников. Если вам нужны приборы, оборудование, материалы, – мы все приобретем. Свободные дни? Я вам предлагал их еще тогда, когда вы писали книгу. Вы думаете, что в ВИТКУ будут лучшие условия для работы, которую вы хотите сделать? Поверьте мне, я эту кухню знаю слишком хорошо, – там редко кому удается работать по-настоящему, как хочется. Вы вложили огромный труд в эту лабораторию, у вас все есть здесь для работы. Работайте здесь, как вам хочется, ладно?
Командир доверительно берет меня за пуговицу: это у него знак доверия. Я тоже ему верю: он сделает все, что обещает. Я восхищен проницательностью командира: он понял мои неосознанные желания лучше, чем я сам. Предложить человеку, который изнывает от перегрузки работой, лечиться дополнительной работой! Это высший класс понимания человека, когда после разговора он уходит радостный, окрыленный, что ли (как бы). Немного завидую: у меня так никогда не получалось, часто я добивался цели грубо и примитивно, иногда ломая людей…
Мне действительно нужна новая работа, чтобы жизнь была интересной. Раздвоение мое кончается, я принимаю его условия и продолжаю работать по-прежнему. Но, – не совсем по-прежнему. Повседневная текучка становится просто неизбежным фоном, который требует затрат времени, но не душевных сил. Все остальное – для решения поставленной самому себе задачи.
Вскоре меня формально меняют должностями с главным механиком Володей Волчковым. Мне присваивают звание подполковника. В лаборатории появляются осциллографы, из молодых ко мне приходит грамотный техник-электронщик Саша Клюшниченко. Мы начинаем по-настоящему осваивать управление тиристорами. Для начала надо построить выключатель на несколько сотен ампер, который мог бы включаться и выключаться раз 500 в секунду…
Автор с благодарностью посвящает эту главу из своей биографии
Александру Ивановичу Панюшкину,
– блестящему Врачу и Настоящему Человеку.
24. В штопоре
Штопор… – критический режим полета самолета по крутой нисходящей спирали малого радиуса с одновременным вращением относительно всех трех его осей.
(БСЭ, т.29, с.1485)Медицинская книжка
И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер-шелал-хаш-баз.
(Исайя, кн. 8)Болезни приходят и уходят, а здоровье – увы – только уходит!
Моя медицинская книжка состоит из нескольких скрепленных томов и томиков, к каждому из которых приклеены и пристегнуты скрепками большие и маленькие бумаги с заключениями, анализами, решениями ВВК (военных врачебных комиссий) и другими свидетельствами неустанной заботы родного министерства о моем здоровье, которое оно (министерство) до тоГО успешно подрывало. Вот первые, вполне понятные и немногословные записи, сделанные в 1954 году. Рост, вес, объем легких и другие параметры здорового молодого человека. Вот дорогая для меня книжечка-вставка 1956 года, когда подлая черная икра прервала на несколько дней мое стремительное движение к любимой… Итоговая запись: «Жалоб нет, здоров».
Если от этой точки начать вести кривую графика в координатах «время – здоровье», то вместо жизнерадостного подъема, обычно свойственного кривым на графиках, моя упорно стремилась только вниз. Небольшие горизонтальные участки и локальные «подъемчики» кривой даже близко не приближались к уровню начальной точки.
Вот конец 1958 года – после трех новоземельских командировок. Некий загадочный диагноз «нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу с вегетативными нарушениями» и ограничение годности к военной службе. Поскольку диагноз был непонятен ни мне, ни отцам-командирам, то на моей службе это ограничение никак не отразилось. Впрочем, возможно меня бы с таким диагнозом не послали в космос. А выполнять обычный цикл офицера-монтажника «уехал – раскрутил – сделал – переехал – раскрутил и т. д.» запись в медкнижке никак не препятствовала.
А вот уже появляется запись: «жалобы на боли в сердце» и разъясняющий диагноз: «блокада правой (!) ножки ГИСа», после которой как-то сразу стало спокойнее. Правда, осталось непонятным: почему болит слева, если у моего собственного ГИСа не в порядке правая ножка?
Записей стает все больше и больше. Если бы над расшифровкой этих знаков поработали люди, прочитавшие даже древнеегипетские иероглифы, то я еще многое мог бы рассказать о своем здоровье. Впрочем, некоторые записи памятны и понятны: это выписки из санаториев. Особенно там согревают душу слова «с улучшением».
Большое место в медицинской книжке занимают записи рукой моего друга – Лени Лившица. Его иероглифы так же понятны, как и остальные, но я их сразу узнаю по левому наклону. Легко читаются только заголовки: «Заключения СОК при в/ч «десятка»». Таинственная «СОК» – санаторно-отборочная комиссия, которой в нашей боевой монтажной части отродясь не бывало. Леня отважно ее создавал и распускал по необходимости, будучи в единственном числе. Тем не менее, эта виртуальная СОК много раз неизменно утверждала, что я нуждаюсь в лечении в имярек санатории. Требуемые медицинским этикетом заключения появлялись обычно после того, как Леня уже имел для меня путевку в кармане, иногда парную, чаще всего в отличный санаторий Северного флота «Аврора» в Хосте. Однажды Леня решил меня напрямую связать с «серым кардиналом» по распределению путевок. Мы поехали к нему в Горелово на дачу. «Кардинал» не мог решить мучительную задачку: откуда берется вода в облицованном металлом погребе? Я рассказал человеку о точке росы, предложил на лето утеплять (!) стенки погреба. Видно, совет был хорош, потому что мы надолго стали «лицами, приближенными к императору». Тогда еще чиновники в массе были идеалистами и «натуралистами», слово «откат» было им неведомо.
О первом воздействии Лени на мое здоровье записи я не нашел, но хорошо его помню. Я перенес на ногах воспаление легких, чувствовал себя неважно, но никак не мог вылезти из дымного от сварки, прокуренного табаком и противотараканными шашками подвала. Леня поднял настоящий крик у командира, и, несмотря на мое сопротивление, переселил-таки меня в комнату лаборатории на втором этаже. А мне пришлось изобрести особый телефон для непрерывной связи с подвалом, где кипела основная работа.
Мне очень хорошо помогали мацестинские ванны, да и море добавляло немало здоровья. Наверное, эти, пройденные заботой друга, санатории и держат меня, болезного, на плаву до сих пор. Вокруг все больше появляется вдов друзей, приятелей и знакомых ребят, которые были моложе и здоровее меня…
О своем первом санатории следует рассказать особо. Я уже писал, как фатально не везло мне с отдыхом в разных пионерских лагерях в предвоенные годы. Потом долгие годы отдыхать было некогда. И вот заботами Лени Лившица мне впервые в жизни, летом (!) выделяют путевку в санаторий, причем, – парную, с женой! И не куда-нибудь, а в военный санаторий в Евпатории, которая считается также детским курортом! Нашему сыну уже исполнилось 4 годика. Сережа часто болел, простужаясь в «казенных» детских учреждениях, и мы с радостью взяли его с собой, заранее представляя, как хорошо мы всей семьей отдохнем, позагораем и подлечимся на теплом море!
Радостные, мы доскакали на самолете и такси прямо к санаторию и вошли в вестибюль с малышом и чемоданами. Внезапно на нас яростно набросилась некая служивая дама:
– Выйдите сейчас же! Немедленно!!! В санаторий вход с детьми категорически запрещен!
Я объясняю, что у нас семейная путевка, что наш малыш спокойно может жить с нами в одной комнате, которую нам, конечно же, должны предоставить. Дама замахала руками с удвоенной частотой:
– Нет, нет, нет! Категорически! Запрещено! Запрещено детям даже находиться в вестибюле! Таковы правила! Выходите немедленно!!!
Я интересуюсь, кто составлял эти правила.
– Правила утверждены самим Министром Обороны!
– Нет ли у вас конверта? – я просто сатанею от полного крушения наших прекрасных планов. – Хочу отправить наши с женой путевки министру, пусть он ими и воспользуется! Где можно купить обратный билет на самолет???
Вокруг нас уже собралась небольшая толпа отдыхающих и служителей кузницы здоровья. Одна женщина, с симпатией глядевшая на нашего испуганного малыша, отвела нас в сторонку:
– Да вы не волнуйтесь, не делайте глупостей! Здесь многие в таком положении! Детей берет на полный пансион нянечка, которая живет рядом. Вы только спать будете в разных местах, а весь день будете с вашим малышом, – ласково погладила по голове нашего Сережу. – Идите, регистрируйтесь, я присмотрю за ним!
Мы потихоньку смиряемся с собачьими реальностями военного отдыха и начинаем церемонию регистрации. Там уже другая служительница «кузницы» взяла наши путевки и документы, а нас самих поторопила в столовую: обед уже заканчивался.
Когда мы, на ходу дожевывая пищу, выскочили к нашему голодному сыну, он очень удивился и укоризненно спросил:
– Вы уже поели?
Из песни слово не выкинешь: мы преступно и тайно насытились, оставив голодным наше единственное чадо. До тоГО мы, кажется, так не поступали, что и вызвало удивление Сережи.
…В целом мы неплохо провели свой первый семейный отпуск на море, но его конец был не лучше начала. В последний день Сережа капризничал, не хотел лезть в теплое ласковое море, где я учил его плавать. К вечеру у него повысилась температура, врач определил сильнейшую ангину. Мы были в отчаянии: остаться на неопределенный срок в бесприютном состоянии, без обратных билетов – нельзя, лететь с больным ребенком на руках – опасно. Все же – со страхом и опасениями – улетели домой…
Есть в моей медицинской книжке еще один любопытный раздел, когда я выдавал себя за «тяжело здорового». Для контроля сварки лаборатория начала работать с радиоактивными источниками. Десятки источников в год надо было принимать, перезагружать из одних контейнеров в другие, отгружать на захоронение. Основные перегрузочные операции я выполнял самолично, по чапаевским заветам: командир должен быть впереди на лихом коне (открытом радиоактивном контейнере). За эту вредность положено было 10 суток дополнительного отпуска, но также и ежегодные обследования, где надо было быть здоровым, чтобы получить допуск к работе с ИИИ (источниками ионизирующих излучений – именно так назывались наши зловредные ампулки).
Но все это было позже. Я хочу написать о времени, когда кривая моего здоровья близко-близко подошла к нулю и едва не заскочила в неизвестную живым область отрицательных чисел.
Вставка, как всегда неуместная, но привязывающая автора к быстротекущему времени. Эту весьма нерадостную главу я начал писать в апреле 2006 года, едва начав подниматься после очередного обострения своих болячек и отчаянных попыток кое-как двигаться. Тем не менее – в начале мая отбыли «на фазенду» (это словечко прочно прижилось в России после латиноамериканских сериалов: оно звучит более «гламурно», чем «дача» или «садоводство»). С помощью друзей накрыли парники, засеяли их огурцами и прочей петрушкой, которые и поедаем до сего времени.
Если игнорировать (терпеть, «стойко переносить» – как пишут в уставах) боль каждый день с утра, то можно раскочегарить себя до некого подобия работоспособного состояния, когда, кроме быта, удается кое-что сделать «по хозяйству» и даже сверх того. Например, – отремонтировать окна веранды… Этим я и занимался прошедшие весну и лето. Времени и сил для писаний уже не оставалось. Продолжаю только сегодня – 8 сентября. Не то чтобы дел уже не осталось, просто кончилась летняя засуха, стало холодно, и поливают дожди.
С грустью хожу между выросшими соснами, калиной и яблонями нашей фазенды. Почти 30 лет мы выкладывались здесь и были счастливы. Пока строили дом, мы с Эммой в выходные и отпуска с нетерпением ожидали 9 часов утра, когда на веранде можно было включить наши ревущие деревообрабатывающие самоделки. Зимой мы пробивались сквозь сугробы на машине, встречали Новый год в жарко натопленной хате. Утром выходили на лыжах в ослепительную синь с зелеными соснами, покрытыми белыми шапками. Вечерами мы гуляли по дорогам садоводства между темными притихшими домами. Снег изумительно хрустел под валенками; небо было усыпано сверкающими далекими мирами. Сквозь широкие окна дома мы с восторгом следили за быстро меняющимися волшебными картинами восхода. С крыльца можно было смотреть на феерическое кино заката…
В нашем небольшом мирке «фазенды» есть все для отдыха, работы и просто – жизни. Вот только жизнь кончается. О поездках сюда зимой речи уже давно не идет. Вряд ли у нас останутся силы, если даже останемся живы, приехать сюда на следующий год весной…
Отшумели все круглые и квадратные юбилеи 2006-го. Сереже исполнилось уже 45 лет, Эмме – 70, мне – 75. 6 сентября – наша золотая свадьба. Сережа приезжал к нам из Москвы 3 сентября, поэтому пришлось эту дату в полном составе семьи отпраздновать чуть раньше. А юбилейную свадьбу, также как и первую, мы праздновали только вдвоем, с традиционным поеданием икры, правда, не гибельной черной, а победоносного красного цвета. Однако уже в 10 часов получили СМС-ку: «Сердечно поздравляю с золотой свадьбой! Целую, Люшечка». Это поздравила нас вдова моего друга Гены Солина. Немедленно отправили ей наш ответ:
Полвека кануло куда-то,
Мы отмечаем эту дато!
Вдвоем, блин!
Наши совместные стихи нам показались почти пушкинскими, и позже мы отправили их также сыну. Он сразу же откликнулся: «Мысленно я с вами».
А уже к вечеру праздника у меня была техническая делегация, и весь следующий день я занимался проблемами сварки (появились трещины!!!) на огромном паровом котле в Красном Селе… Монтажная фирма основана нашими бывшими офицерами. Ехал я туда с тяжелым сердцем, ожидая увидеть бардак и разруху. Возвратился радостный: тревога была ложной. Я увидел классную работу и четкий порядок. Тем более что провезли меня по только-что открытому полукольцу КАД и тоннеля под ж/д путями в Мурино. Десятки часов провел я перед этим переездом в прошлые годы… Не все еще развалено в нашей стране: кое-где работают на будущее, и работают неплохо.
Кстати, огромный котел-утилизатор монтируется на очистных сооружениях города для выработки электроэнергии от сжигания ила, остающегося после очистки сточных вод. На большой территории очистных сооружений – тоже чистота, строгий пропускной режим и полный порядок. Никаких запахов: они упрятаны под землю; на ухоженных просторных территориях зеленеет травка и растут цветы.
Отвлекся, продолжаю сагу о медицинских записях. И все же, и все же: слава письменам и документам! Слава глиняным табличкам и папирусам! Слава надгробным надписям на граните, слава каракулям записных книжек и детских рисунков, на которых заботливые родственники поставили дату!
Когда я начал писать эту главу, то яркие осколки впечатлений при падении в штопоре никак не хотели складываться в последовательную картину целого. Так пассажир падающего самолета не может сказать, на каком именно витке ему на голову свалился чемодан соседа, когда ему защемило ногу, а когда начало сворачивать шею. Если падающий самолет, как пишут в отчетах, – «встречается с землей», то история пассажиров кончается, и подробности уже не имеют никакого значения. Подробности эти прогрессивному человечеству «до лампочки», если погибший не служил египетским фараоном, Генсеком ЦК, или принцессой Дианой…
Но если происходит чудо и рядовой пассажир остается живым, то ему очень будет интересно вспомнить и нарисовать картину падения в целом. Конечно, – для себя, точнее – для своих мемуаров. Человек творческий и художественный написал бы: «Не помню когда, не помню где, не помню с кем, но помню, что очень шарман!!!». Но если ты технарь до мозга костей, вроде меня, то разве сможешь написать так коротко, ярко и самобытно? Будешь жевать свои «до тоГО» и «после тоГО»…
Так вот, «до тоГО»: при написании этой главы у меня куда-то пропадал целый год, и не сходились концы с концами. После тоГО, как я развернул и расшифровал хоть некоторые потрепанные листики из медицинской книжки, – все сошлось и вспомнилось! Слава бумагам и бумажкам с проставленными датами!
Виток первый
«Ложись! Не видишь – пуля подлетает!»
(Неизв. автор)Все чаще меня прихватывает радикулит. Передвигаться можно только с перекошенной осанкой и мелкими шагами, как ходят стыдливые интеллигенты, из последних сил достигая вожделенного туалета. Лечусь дома по вечерам всякими пластырями, йодными решетками, горячими утюгами, зарядкой, даже прокисшим тестом, – не очень помогает. Родная военно-морская поликлиника делает рентген позвоночника и щедро снабжает просроченными таблетками ядовитого бруфена и горького анальгина. Говорят, что хорошо бы еще массаж и физиотерапию, но там очередь уже на полгода, да и ходить далеко. Начинает болеть правая нога, к ступне – не прикоснуться. Особенно не любит нога сидячей позы. Почему она болит и неестественно выворачивается – вообще неизвестно: наверное – просто совпадение по закону бутерброда. Теперь даже питаюсь стоя, как в забегаловке.
Предложение лечь в госпиталь решительно отвергаю. Очень это все не вовремя: у меня только-только началась настоящая работа: конструирую сверхмощный тиристорный выключатель небывалого быстродействия. Уже готов генератор управляющих импульсов с регулируемой частотой, добыты импульсные трансформаторы для запуска тиристоров.
Но эта машина – всего лишь снаряд, на котором я ворвусь в неизведанные дебри сварочной дуги, чтобы осчастливить прогрессивное человечество. По крайней мере, – его «металлическую» часть. Мы с Сашей Клюшниченко не отрываемся от осциллографа, изучая и совершенствуя отдельные части устройства. Лечиться «с отрывом от производства» мне сейчас, когда командир поощрил меня дополнительной работой «по интересу», – никак нельзя. Может быть, потом, когда-нибудь…
Пока отлеживаюсь с учебниками в руках по воскресеньям. Лежка, правда, тоже «не в дугу»: в понедельник двигаться особенно тяжело. Эмма, глядя на мои телодвижения, не выдерживает и вызывает на дом кандидата медицинских наук из единственной платной Максимилиановской поликлиники. Молодой, но уже очень серьезный мужик постучал молотком по суставам. Они остались безучастными к его усилиям. Потыкал иголкой мои ноги: кое-где уколы не чувствовались, что с лихвой компенсировалось чрезмерной чувствительностью в других местах. Изучив рентгеновский снимок, медицинское светило заявило:
– У вас очень серьезное положение: сжат вот этот хрящ между позвонками. Вам надо лечиться в стационарных условиях, и лечиться по-настоящему!
Выводы спеца мне не понравились чрезвычайно. После его ухода я начал изучать и замерять расстояния между полупрозрачными позвонками. Они были почти одинаковыми, конечно, – в пределах точности измерений. «Переучился кандидат, придумал сжатие, чтобы оправдаться за потраченные на его визит деньги», – таково было мое заключение по его заключению.
Одну рекомендацию светила – спать на жесткой постели, – применяю. Отодвигаю семейный диван от стенки, в образовавшуюся щель вставляю дверь, покрытую тощим матрасиком. Если верить приметам, что лидер семьи не спит у стенки, то я надолго перестаю быть главой семьи…
Боль становится уже постоянной и нетерпимой. Приходится все бросать и ложиться в госпиталь. Ухожу домой посреди рабочего дня, чтобы подготовиться. Завтра меня увезут. Кое-как добредаю до жилища. Дома меня встречает Сережа с соседским мальчиком, который сразу же ретируется. Не успеваю раздеться, когда раздается звонок. За дверью стоит целая комиссия с милиционером во главе.
– У вас есть балкон, выходящий на Краснопутиловскую? – спрашивает милиционер.
– Да, есть, – отвечаю. – А в чем, собственно, дело?
Милиционер объясняет, что с балкона двое мальчишек бросали в прохожих камешки – отколовшиеся бетонные нашлепки. С пятого высокого этажа таким камешком можно покалечить человека. Я заверяю милиционера, что бросания больше не повторится, и высокая комиссия закрывает дверь. Я вперяю тяжелый взгляд в сына.
– Это не я, это Вадик бросал!!!
Я никогда не поднимал руку на сына, единственного и любимого. Но тут все сошлось клином, меня прорвало, и я выдаю ему на полную катушку:
– Это – чтобы не сваливал на младших! Это – чтобы умел отвечать за свои дела сам! Это – чтобы знал, что за все отвечает хозяин, а не гость!
…Много лет спустя, будучи зрелым мужчиной, сын сказал, что не может простить мне тот случай. Прости, сын: я не Макаренко, тем более – не Песталлоци. В аналогичном случае, когда я бросил камень в мотоциклиста, твой дед, мой дорогой папа, тоже выдал мне по первое число… Я-то давно простил ему все-все, а за памятную науку – даже благодарен…
В четырехместной палате два пенсионера – «профессиональные больные». Они в госпитале отлеживаются, как я, дурак набитый, тогда считал, просто для развлечения, – как в санатории. Их тянет на неторопливую беседу, а мне – некогда, я овладеваю теорией автоматического управления. Кроме того, – уйму времени отнимают процедуры, завтраки, обеды, ужины – на них я хожу, как ходит большинство. Еще один гражданский, автомеханик с Круглого дома на Новой Голландии, тоже радикулитчик. У него ничего особенно не болит, только стопа ноги болтается: потеряла управление. Постигаю связь ног и позвоночника: слишком уж хорошо теория подкрепляется практикой. А я раньше думал, что ноги сами по себе.
В госпитале меня начинают лечить уколами, витаминами, анальгетиками, блокадой, специальной гимнастикой. Врач советует подольше висеть на перекладине, когда позвоночник растягивается. Хватаюсь за эту мысль: надо растягиваться. Сколько может человек провисеть на своих руках? А вот если подумать… Меня навещают ребята из лаборатории – Гена Степанов, Жора Бельский, Володя Булаткин. От меня они уходят с эскизами лечебного снаряда небывалого типа.
Снаряд изготовляется и доставляется больному в рекордные сроки. Широкий и жесткий, с кожано-стальными прибамбасами, монтажный пояс превращен в удобный бюстгальтер. Вместо бретелек у него закреплены две длинные цепи с карабинами.
Лечение начинается без проволочек. Чтобы жестковатый бюстгальтер не резал подмышками, доброхоты снабжают меня фуфайкой. В курилке туалета есть высокая балка – разновидность виселицы. Туда меня и подвешивает половина отделения. Табуретки мало, и болельщики приносят стремянку. Я схожу с нее и повисаю в своем лифчике. Повис. Хорошо: весь позвоночник растянут весом ног и таза. Висеть так я могу всю ночь, значит – вылечусь непременно. Народ вокруг заинтересованный, наблюдают с живым интересом, покуривают, выдают умные советы. Обсуждают возможности применения моего бюстгальтера для казни через повешение.
Приходит мысля – «глубже, шире и более» усилить лечебный эффект. Даю команду: к каждой ноге привязать по гире. Добровольцы быстренько снимают пояса с больничных халатов, и привязывают ими по пудовой гире к моим конечностям. Боль отступает, я в восторге транслирую свое состояние болельщикам. Народ ликует; это подталкивает меня к новым подвигам: велю двум добровольцам повиснуть на моих ногах. Волонтеры повисают, держатся несколько минут. Боли уже нет нигде, я вылечился, я – здоров!!!
Восторженные зрители снимают меня с виселицы как героя. Я отстегиваю вериги и пускаюсь вприсядку! Вот так, дорогие врачи, лечатся инженеры!!! Завтра же утром я потребую выписки!!!
…Спал я не более часа, проснулся от невыносимой боли в ноге. Обращаюсь с ней, как с дитем малым: укладываю в разных позах, баюкаю, растираю… Ничего не помогает. Утром мне вкатили большую дозу анальгетиков, после чего удалось поспать пару часов…
… В дальнейшем я научился спать часа по два-три без вредной химии. На мягкой панцирной сетке кровати у меня был установлен деревянный щит. Поднимаю щит под углом и закрепляю его на одной спинке кровати. Туда же сердобольные соседи привязывают длинные штанины кальсон, надетых на меня. Бренное тело при этом оказывается под неким градусом, голова – внизу. Теперь уже вес головы и туловища – растягивающий фактор постоянного действия. Только так боль в ноге можно было понизить до «уровня засыпания»…
… Так надоело лечиться, что спустя полтора месяца я объявляю себя здоровым. Медицине, очевидно, тоже осточертело возиться с неподдающимся майором, и меня выписывают «с улучшением» на день рождения Эммы – 18 апреля 1970 года. Я рвусь к работе. Вот отдохну после лечения по предоставленному отпуску по болезни, пройдут майские праздники, и я займусь делом.
Однако, действие анальгетиков, которыми меня напичкали в госпитале, кончается. Работать – невозможно, жить – тоже уже невмоготу. Леня Лившиц «пробивает» для меня дефицитное лечебное место в саму Военно-медицинскую Академию. И вот, вместо работы, 5 мая санитарная машина части отвозит меня в Клинику нервных болезней на Лесном проспекте 2.
Виток второй – на академической высоте
Только неминуемая гибель может спасти его от верной смерти.
(Неизв. гений из WWW)В палате на высоком втором этаже 8 человек. Моя койка почти привилегированная – вторая от окна. Мой лечащий врач – Дина Иосифовна Крикливая – эффектная и целеустремленная брюнетка лет тридцати. Мне она уже знакома: это пассия и бывший лечащий врач Володи Волчкова, вечного холостяка. Он привел ее впервые на корпоративную вечеринку части в ресторан, где она сразу всех «обаяла». Дина разведена, к ее браку с Володей нет никаких препятствий. Мы уже было предвкушали веселую свадьбу, но Волчков непонятно почему тянул резину, что вызывало массу шуток. Тем не менее, некие добрачные отношения у них, очевидно, продолжаются.
Несколько первых дней уходит на сбор информации о моем бренном теле. Затем меня начинают лечить разноцветными таблетками. Добросовестно все глотаю: наука точно знает, что мне надо: Дина пишет диссертацию на тему лечения таких недостойных, как я.
С Эммой видимся редко: ее пускают только на часик, только по воскресеньям, остальные дни «сношаемся» как Маша Троекурова с Дубровским: через дупло. Роль почтового дупла выполняет ящик в вестибюле с отсеками по алфавиту. Сережа на Украине, катается как сыр в масле у деда и бабушки.
По непонятным причинам мне стает все хуже. Даже выходы в туалет и курилку теперь почти равноценны подвигу. Эскулапы принимают решение: растягивать меня. Я уже растягивался, не хотелось бы наступать на те же грабли. Правда, обходя заботливо расставленные грабли, мы лишаем себя возможности получить бесценный опыт. Тем более что Дина меня уверяет, что все будет «о΄ кей»: дыба у них не простая, а вполне академическая.
Действительно: снаряд впечатляет. Большое корыто со штурвальчиками и циферблатом. Наклонный щит и объект растяжения погружены в теплую воду (морду лица объекта гуманисты оставили над водой, на случай, если больной вдруг захочет подышать). Растяжение с регулировкой силы по циферблату выполняют две цепи, закрепленные на поясе. Чтобы не «впёрнуть» больного в глубины корыта, подмышки его (не корыта, а больного) привязаны к щиту.
Руководительница дыбы – молодая сестричка – укладывает и привязывает меня к еще сухому щиту, наклоняет его, выбирает слабину цепей. Булькает снизу теплая вода и заливает меня по горло. Прогреваюсь несколько минут. Закрыв глаза от страха, сестра начинает вращать свой штурвал, натягивая цепи. Синхронно со стрелкой силомера из орбит начинают вылезать мои красивые глаза. Извиваться, как червяк, мне хочется, но не можется: я крепко прикован к дыбе. Единственно свободными остаются зубы, язык и челюсть, которые я накрепко соединяю вместе, чтобы не начать вслух (конечно, – на эсперанто) высказывать свое мнение о медицинской науке. На сестричке лица нет: она явно не готова стать палачом при этом орудии пыток, но, обливаясь слезами, твердо выдерживает заданные килограммы – минуты адской процедуры…
Наконец тяга цепей ослабевает. Со звуками говорливого унитаза уходит вода из дыбы. У сестры тоже наступает облегчение, и она как добрая самаритянка осушает поцелуями мой бледный фейс…
Почему же самодельное вытяжение в госпитале мне приносило «шарман»??? При очередной пытке уясняю: цепи ко мне крепятся слишком высоко; при натяжении они добавляют изгибающий момент! Эмма по эскизу шьет мне специальный пояс, в котором место крепления можно регулировать по высоте. Теперь бывшая научная дыба дарит мне минуты отдыха от боли, ну, – почти как самодельная виселица в госпитале. Параметры, конечно, послабее будут…
Но и этих минут остается все меньше: боль усиливается до вселенских размеров. Даже быстрое открывание рта пронизывает болью от затылка до пяток так, что на несколько секунд (или минут?) я вообще отключаюсь. Лежать я могу только в одной позе: лицом вниз, опираясь одним боком и коленкой, что значительно затрудняет общение с внешним миром.
Медицина принимает решение: изучить первоисточник болезни, для чего меня подвергнуть еще одному виду пытки: «пневмомиелографии». Хрящи позвоночника на снимке выглядят очень невзрачно, их надо фотографировать на фоне воздуха, пусть и не горного. Для этого из позвоночника забирают воду (ликвор), закачивают туда воздух, затем уже фотографируют, то бишь – делают рентгеновский снимок. И подлый хрящ будет очень хорошо смотреться. Все просто и понятно.
Меня везут на каталке строго головой вперед: я еще не дозрел, чтобы двигаться вперед ногами. Переваливают на большой и скользкий рентгеновский стол. Два врача под наблюдением Дины склоняются надо мной с огромными «шплентами» (так Сережа обзывал ненавистные ему шприцы). Велят согнуться. Невероятные мои усилия почти не увеличивают кривизну спины: я все-таки несгибаемый большевик. Зовут на помощь двух дюжих санитарок, которые сгибают меня в бараний рог. Чувствую укол шприца. Вдруг ногу сводит такая боль и судорога, что ее не могут удержать даже мощные работники санитарии и гигиены. Толстая игла покидает мое бренное тело; несколько минут все переводят дух. Вторая попытка оканчивается так же, но нога была уже другая.
Опять врачам нужен отдых. Мне то что: я лежу себе согнутый в дугу, просто болею.
После третьей попытки, когда игла упирается в кость (весьма неуютно!) следует команда санитаркам удвоить усилия, чтобы «еще более уменьшить» радиус моей кривизны. Четвертая попытка тоже оканчивается для целителей неудачей и необычной болью для меня.
Врачи в мыле. На ринг вызывается подкрепление в лице начальника клиники: полковник недавно вернулся из Перу, где пользовал пострадавших при землетрясении. Он отдает какие-то ЦУ исполнителям, что-то рисует на моей спине. Еще несколько попыток проткнуть меня и добыть вожделенный ликвор оканчиваются неудачей. Жизненные силы эскулапов исчерпаны до донышка, мои ресурсы – «по-прежнему хороши». Меня распрямляют, передвигают на каталку, буксируют все так же – головой вперед – в палату и перекатывают на кровать. Здесь я дома, здесь я отдыхаю. Так, наверное, нежится боксер после нокаута.
… На следующий день я прошу почитать книгу «Ишиасы» у соседа. Он врач и коротает время, повышая одновременно свой профессиональный уровень. Не очень охотно он протягивает мне книгу. Оставляю «Теорию автоматического управления» и погружаюсь в теорию своих болячек, обильно снабженную картинками и описанием случаев. Пробежав по-быстрому несколько глав, я натыкаюсь на слова «отсутствие ликвора». Лихорадочно перечитываю вновь и вновь все, что относится к этим словам.
Ликвора не бывает только в двух случаях. При открытом переломе (повреждении) канала позвоночника (или черепа) эта, очень полезная, жидкость просто вытекает. Не бывает ликвора также, когда канал спинного мозга заполнен метастазами раковой опухоли. Первому типу болезных здорово везет: они немедленно умирают. Второму – тоже на 100 % гарантируется «летальный исход», но после 4-10 месяцев (!!!) жизни, если можно назвать этим словом судороги раздавливаемого так неторопливо червяка. Лечение – невозможно и бесполезно. При мощном облучении (а слабое – ничего не лечит) разрушаются кости и жизненно важные органы.
Мужественный человек Фучик, написавший книгу «Репортаж с петлей на шее», сравнил ожидание верной скорой смерти с разновидностью острой болезни, внезапно поражающей здорового человека. Так-то – здорового человека и скорой смерти. Ко мне это почти не относится: я уже не здоровый, да и избавление от жизни придет не скоро…
На следующий день по пути к Дине в палату ко мне заходит Володя Волчков. Минут десять мы разговариваем о всяких разностях, о делах в части. На прощанье я небрежно поручаю приятелю:
– Володя, ты там узнай у Дины, что у меня за болезнь. Рак, что ли?
Волчков вздрагивает и машет на меня руками:
– Да ты что придумал? С чего бы это? Ну, ладно, я узнаю, конечно.
На том расстаемся. Отсутствует Володя больше часа. Хоть мне не терпится, но я понимаю: для встречи с милой любого времени мало. Наконец он появляется в палате, сообщая с ходу, что заскочил на минутку попрощаться. Я втыкаю в Волчкова вопрошающий взгляд:
– Ну что ты выведал у Дины?
Волчков скрещивает поднятые руки перед лицом:
– Я тебе ничего не скажу!
– Ну что ты кокетничаешь? Я же не кисейная барышня, в истерику не ударюсь! Рак?
– Я тебе ничего не скажу! Я тебе ничего не скажу! – повторяет он как заклинание одни и те же слова, пятится к двери и уходит.
В палате ничего не изменилось: незримый колокол пробил для меня одного, развеяв остатки сомнений и надежд. Значит – рак. Значит впереди 10 месяцев агонии с безусловным концом.
Любое лечение рака сокрушает человеческий облик больного и продлевает страдания. Это я уже видел своими глазами еще до войны, когда лечили облучением моего маленького младшего брата Жорика, которого душила саркома… Он был маленький, ничего не понимал, что с ним происходит. Изводились – очень долго и мучительно, – только отец и мама.
Я – большой и все понимаю. Я не буду мучить своих родных и себя долгой агонией. Надо обрубить швартовы бренной жизни, пока есть для этого силы. Решение принято.
Теперь я начинаю жить и чувствовать, как Фучик, приговоренный к казни. Беспорядочные, но яркие, картины прошедшей жизни кружат в голове, как осенний листопад. Под подушкой у меня круглосуточно работает приемник. Внезапно начинаю по-другому понимать музыку: меня просто потрясает какая-то симфония, которую раньше слушал бы как набор звуков…
Независимо от чувств непрерывно решаю чисто практическую задачу: как и чем буду рубить свои швартовы. Косая несколько раз очень близко уже подходила ко мне, но тогда она выбирала внешние орудия убийства. От них я, собравшись с силами, мог как-то уклониться. Теперь моя неотвратимая гибель засела внутри меня. Шансов уклониться от длительной агонии – никаких, кроме ускоренного ухода из жизни. Этот уход, пока есть силы, должен сделать я сам, конечно, – исходя из реальных возможностей. Оружия-то – нет, вешаться – щекотно.
Обращаюсь к Дине:
– Что-то я плохо стал спать, Дина Иосифовна. Не назначите ли мне снотворное?
Дина охотно соглашается, и вечером мне, среди прочих, сестра приносит еще одну небольшую таблетку, предупреждая, что это – снотворное.
– Такая маленькая? Да для моей массы это – что слону дробина!
Сестра согласна. На свой страх и риск добавляет еще одну таблетку, но требует, чтобы завтра я договорился с врачом, и он вписал цифру «2» в мою карточку.
Две таблетки – первый взнос – укладываются в освобожденный от спичек коробок. Мне нужно накопить два полных коробка, на это потребуется время.
Дни и ночи заболевшего болезнью Фучика сливаются в непрерывное бодрствование, иногда прерываемое полусном по десятку минут. И музыка из-под подушки. Даже веселенькие арии и напевы приобретают глубину реквиема…
Время теперь движется двойными толчками в сутки: это две таблетки пополняют мою надежду на избавление. Один коробок уже наполнен, второй – наполовину. Осталось не так много.
Мои усилия не остаются незамеченными. Молодой симпатичный парень, кажется, капитан ВДВ, присаживается на мою кровать:
– Ты что задумал, командир? Ты это зря: надо бороться до конца. У меня положение более безнадежное, и то я намерен терпеть и сражаться!
У капитана редкая и страшная болезнь: медленно, но бесповоротно, перестают работать все до единой мышцы. Я видел такого больного еще в госпитале: это был труп с открытыми глазами. Жена возле него находилась постоянно, выходя только чтобы тихонько повыть в коридоре, вытереть слезы и возвратиться к мужу бодрой и внимательной. Она кормила и поила его с чайной ложечки, а он благодарил ее только движениями век.
В нашей клинике есть пример «облегченного варианта» и моей болезни. Двадцатилетнему моряку, старшине первой статьи, лихой врач где-то на ТОФе сделал операцию на позвоночнике. Из-за неумения и (или) неосторожности хирург обрезал ему весь пучок нервов к нижней половине тела. Рослый и сильный парень-красавец передвигается теперь на кресле-каталке, еще не представляя всей глубины своей трагедии. Ему сказали, что массаж оживит ноги и все остальное. Без ног люди живут довольно успешно, без «остального» – стают тяжелым бременем для близких на всю оставшуюся жизнь… Сестры разговаривают с моряком бодрыми голосами, оживленно отмечают несуществующие улучшения и плачут после вывоза кресла-каталки…
Мы долго беседуем с капитаном «за жизнь», которой у нас уже не остается у обоих. Я уважаю его желание стоять до конца, но решение распорядиться остатками своей жизни не меняю: надо уйти, пока есть силы для этого. Иначе – я превращусь в скулящее от боли беспомощное животное, и будет это состояние длиться нескончаемо долгие месяцы.
Костер в ледяной ночи
Ах, обмануть меня не трудно:
Я сам обманываться рад!
(Кажется – Пушкин А. С.)В будний день в неурочное время у меня вдруг возникает мираж: на кровать подсаживается Эмма и берет меня за руку.
– Ты что придумал??? – грозно вопрошает прекрасный мираж без всяких вступительных аккордов. Обычно видения так и разговаривают: без всяких предисловий. – Нет у тебя никакого рака, нет! Понимаешь? Я разговаривала с начальником клиники, с врачом: ничего у тебя нет! Нет, нет, нет!!!
Я молчу и смотрю в родные глаза, которые постепенно наполняются слезами.
– Ничего, ничего нет, Коленька, Кузенька мой, ты все сам придумал! Ты выздоровеешь, ты будешь здоров, у тебя обычный радикулит, просто – в тяжелой форме! Я разговаривала с Диной: у тебя просто очень запущенная болезнь! Все будет хорошо, ты вылечишься!
Я молча и недоверчиво слушаю эти заклинания дорогого человека, но внутри у меня что-то медленно начинает оттаивать. А вдруг и в самом деле я – не простой смертник, а сложный больной?
Стойкий капитан отзывает жену в коридор для беседы. Вскоре Эмма возвращается, отгибает мою подушку и решительно конфискует два спичечных коробка с моим избавлением:
– Забудь и думать об этом!
Мне почему-то не жаль накопленных с таким трудом таблеток и очень-очень хочется «забыть и думать об этом»…
Моя ненаглядная прорвалась ко мне в будний день, просто разметав стражей. Поводом ее подвига стал сигнал от Володи Волчкова. Он туманно объяснил жене, что мне «плохо», уклонившись от разъяснений за обширным суесловием.
Взгляд из будущего (уже наступил 2007 год!). Если Володя Волчков чуть не погубил меня подтверждением диагноза, то он же и спас, своевременно прислав Эмму. Еще немного, и было бы поздно. Наверное, Дина тогда предполагала тяжелый диагноз, о чем и сказала ему. Дины уже нет в живых, выяснять прошлые подробности у больного Волчкова мне не хочется и не можется… Тем более, что чуть позже Володя помог мне по-настоящему!
Эмме выдают постоянный пропуск, как к «тяжелому». Теперь мы встречаемся почти каждый день. Эмма приходит после работы, кормит меня салатами, помогает всей палате. Палата немного завидует нам и ждет прихода Эммы тоже с нетерпением.
…Вскоре меня опять берут на пытку под прежним названием «пневмомиелография». На этот раз всего с третьей попытки врачам удается добыть долгожданный ликвор!!!
Значит – он есть! Значит – он был!! Значит – рака не было!!! Мои мозги разворачиваются на 180 градусов, я ликую и теряю бдительность, наступая на все грабли сразу. Впрочем, пассаж об обойденных вниманием граблях, я уже выказывал раньше.
Оказывается, каналы ликвора позвоночника и головы сообщаются! Эта подробность устройства человека приводит к тому, что перед закачкой воздуха меня помещают наклонно, головой вниз. А мне-то что: раз ликвор добыт, то я могу жить и так, тем более – опыт есть. У меня появляется вкус к плотским утехам, и, будучи уже в положении «штык в земле», я с аппетитом уплетаю принесенный обед. Непростительная глупость совершенного чревоугодия обнаружилась очень скоро.
Дело в том, что воздух, надутый вместо ликвора, никуда не девается, скопившись в районе поясницы и копчика. Пока воздух не растворится, надо почти неделю постоянно лежать вниз головой. Любая попытка приподнять голову жестоко каралась. Оторвавшийся пузырек воздуха медленно пробирался вдоль позвоночника, задевая веревочки нервов. Вот нестерпимая боль из живота перемещается вверх, перехватывает дыхание, сводит судорогой руки, останавливает сердце. В финале – прямо внутри головы взрывается граната, после чего надо минут десять отходить. Лозунг «Не суетись!» начинаешь понимать буквально. Но некоторые твои же свободолюбивые органы его знать не хотят.
Переполненный пузырь почему-то никому не хотел отдавать свое содержимое. Хлопоты по возобновлению извечной функции потребовали нескольких часов усилий, – как собственных, так и академической медицины. Хитроумные способы стимуляции, типа журчащего выливания воды из кувшина в тазик, на меня не действовали. Когда глаза уже начали покидать орбиту, пришлось прибегнуть к чисто сантехническим, менее интеллектуальным, приемам…
Увы, это были всего лишь цветочки. Уже другой, тоже переполненный, орган властно потребовал освобождения. В принципе, – высокая медицинская наука, в союзе с передовой практикой, уже изобрела и внедрила в производство надежную оснастку для этого живительного процесса – «утку». Подразумевалось, что субъект процесса лежит. Раз «лежит», то, «по умолчанию», – горизонтально. А если субъект пребывает в положении «штык в земле» и силы гравитации направлены в обратный зад?
…Волнительное решение указанных проблем неожиданно дает прозрение: чемодан космонавта, облаченного в неземной скафандр, набит отнюдь не секретными инструкциями!
Скафандра и чемодана в клинике не было, что добавило мне седых волос и опыта. «Асимметричный ответ», который я успешно использовал в будущем, был прост, как репа, и надежен, как ложка: «если ничего не загружать, то и нечего будет выгружать». Горжусь, что дополнил закон великих Ломоносова и Лавуазье: «что от чего убудет, то к другому и прибудет».
Потихоньку я начинаю переходить в горизонтальное положение, взорвав в голове всего пяток гранат. За всеми этими хлопотами встает вопрос: а что дальше? Состояние продолжает ухудшаться…
А что за таблетки я добросовестно глотаю? Начинаю выяснять, оказывается – гормоны. Из разговоров с болезными коллегами уже давно ясно, что это обоюдоострое оружие. Прекращение приема этих лекарств весьма чревато: собственные гормоны организм уже перестал производить, понадеявшись на импортные. Как в экономике: импорт душит свое производство.
Сообщаю Дине, что принял решение: прекратить мое лечение ее таблетками. Дина разочарована, но понимает, что дальнейшее лечение может плохо кончиться не только для меня, но и для ее диссертации. Она уговаривает меня, по крайней мере, – плавно закончить прием. Находим компромисс: не очень плавно, но быстро.
Две недели я просто лежу: никаких лекарств, никаких процедур. Медленно отхожу после лечения. Правда, появляется необычная процедура: меня тщательно измеряют. Фабрика протезов шьет специальный полужесткий корсет. Он должен поддержать меня морально и физически.
Скоро исполнится 4 месяца моих виражей по медицинским учреждениям и блистательного отсутствия на службе. Меня по закону надо пропустить через ВВК (Военно-врачебную комиссию), которая меня должна «комиссовать». Это значит – определить статью, вследствие которой я не могу служить, и уволить в запас
– надцатой категории, либо – вчистую с «белым» билетом. Никакие пенсионы за 15 лет службы мне не светят, эти годы просто добавятся в мой прежний гражданский трудовой стаж, который я буду наращивать теперь без погон и здоровья. Dura lex, sed dura. Закон суров, но это закон. Начнем с начала, начнем с нуля. Ну, не так, чтобы с полного нуля: есть семья, есть жилье, кое-что стал понимать в железяках – это плюс. В минусе маленький пустячок – здоровье. Интересно, сколько его у меня осталось, хватит ли, чтобы семья могла жить хотя бы сносно? РеГбус, кроКсворд… Уже назначен день ВВК.
Приходит Леня Лившиц и сообщает мне новости, после которых мои размышления меняют ориентацию (чуть не написал «сексуальную»: сейчас слово «ориентация» употребляется только в такой связке). Командир части Е. Е. Булкин обратился в Комиссию (ВВК) с просьбой не увольнять меня с военной службы, заявив, что я нужен части в любом состоянии. Леня устно добавляет мне существенные детали. От меня требуется одно: явиться на комиссию «своим ходом», не разводить сопли, а твердо заявить, что здоровье у меня хорошее.
Явиться «своим ходом» – задача для меня непосильная. Уточняем: перед ликом высокой комиссии просто надо быть в вертикальном положении. Потренируемся: пошитый корсет туго шнуруется спереди и сзади. Тело он сжимает так, что уже непонятно, что и отчего болит. Упругие стальные полоски, вшитые по периметру корсета, впиваются в ребра и филейные места пониже. Барышням было легче: в их корсеты вшивали китовый ус. Покачиваясь, как новорожденный теленок, встаю на «свои двои». Осанка у меня теперь, конечно, царственная. А если прислонить к теплой стенке, то со мной можно вести очень даже интересную беседу…
… В назначенный день санитарная машина доставляет меня на ВВК. Под командой Лени Лившица водитель и прапорщик-медбрат Коля Баркалов почти поднимают меня на второй этаж, где и прислоняют к двери. Вскоре меня вызывают. Ребята открывают дверь, я делаю шаг вперед и опираюсь на дверную коробку. За столом сидит несколько человек, их погоны скрыты белыми халатами. Ко мне обращается самый главный, держа в руках мою историю болезни:
– Ну, как ваше здоровье? Как себя чувствуете?
– Хорошо! – на голубом глазу утверждаю я. Комиссия кивает одобрительно головами, слегка похихикивая.
– Вы свободны, можете идти, – распоряжается «старшой».
Я нащупываю рукой сзади дверь и делаю шаг назад, не поворачиваясь. Заботливые руки подхватывают меня и в вертикальном положении быстро буксируют к машине, я еле успеваю переставлять непослушные ноги…
15 июля 1970 года меня выписывают из клиники нервных болезней ВМА. Здесь я провел почти два тяжелых месяца. Через неделю мне исполнится 39 лет.
На один день я выползаю на службу, чтобы прервать отсутствие. Пишу ребятам кое-какие задания и ухожу в очередной отпуск. Корсет действительно помогает жить: убирая болевые пики, он создает постоянную «болевую равнину», к которой можно привыкнуть, с которой уже можно жить. Правда, стальной «китовый ус» создает кровавые синяки, но с ними можно бороться, подгибая концы пластинок.
После отпуска, прошедшего без приема губительных лекарств, я себя чувствую терпимо. Работа сразу захлестывает с головой, заставляет забывать о болячках. К обеду ребята очищают рабочий стол в малой комнате, и я на нем минут сорок отлеживаюсь и распрямляюсь, не снимая корсета. Опять начинаю работать над проектом импульсного регулирования дуги, конечно, – сверх «обязательной программы».
Зимний вечер рядом с Гаграми
Лучше лечиться, чем болеть.
Лечись в меру!
(Из лозунгов нашей стенгазеты)Я настолько хорошо оправился от академического лечения, что Леня считает возможным возобновить его. Он решает отправить нас с Эммой в Хосту. Парная путевка – с 11 декабря 1970 года по 3 января 1971 года. Впервые мы Новый год будем встречать в таких, скажем так, – нетрадиционных, весьма «шарманных» условиях…
Опять вставка о прошлом, которая описывает текущий момент. Сегодня третье января 2007 года. Вот друг Компьютер не даст соврать: 03.01.2007 7:42:39. (Юмор и трагедия в том, что он, компьютер, настолько правдивый, что может потом обновлять это время на текущее, поэтому запишу его еще раз как копию: 03.01.2007 7:42:39).
Эта вставка возникла из-за семейных разногласий. Я не мог вспомнить, с кем мы оставили Сережу на это время: с бабушкой Женей или отправили в Брацлав. У Эммы было еще несколько вариантов. В конце концов, мы поняли, что не помним, когда бабуля переехала к нам в Питер… Господи, как эфемерна и коротка может быть наша память, даже о своих родителях!
Три дня назад я испытал жесточайший стыд. Позвонила наша старинная соседка по коммунальной квартире на Краснопутиловской – Клара Александровна Пантелеева. Она, бедняга, еле ходит, плохо слышит, но неизменно, почти полвека звонит нам как старый друг нашей семьи. Клара поздравила нас с наступающим Новым годом и напомнила, что она старалась всегда звонить в этот день – 30 декабря, чтобы заодно поздравить с днем рождения Евгению Семеновну. Я же об этом забыл… Бабуле исполнилось бы в этот день 97 лет.
Раз сам запамятовал, то послал СМС Сереже с просьбой помянуть бабулю. Кате в Дубай послал вторую в этот день «майлу» с фотографией: «Катенька, помяни бабулю. Она была хороший человек и очень любила свою Катрусю». Катя откликнулась, поблагодарила за фото.
Мы так и не могли вспомнить, когда мама переехала к нам в Ленинград. Спросить уже не у кого, умерли также все Крепостняки, даже молодые. Уничтожил собственными руками всю обширную переписку мамы, в которой можно было бы найти ответ. Занимает, дескать, много места. Вот так и появляются Иваны, не помнящие родства, выбравшие взамен «Пепси». Понимание этого приходит слишком поздно, когда уже надо «подбивать бабки» собственной жизни.
Эти размышления укрепили меня в стремлении продолжать писать эту скромную «повесть временных лет», насколько хватит отпущенного времени и сил. Она ведь не только обо мне…
Зимняя Хоста мало напоминает летнюю, с переполненными пляжами и парками. Теперь возле холодного моря только редкие энтузиасты ловят целебные анионы (или катионы?), короче – дышат чем Бог послал. Поредела публика, фланирующая по аллеям: день короче, зябко, часто моросит дождик; дня за три до Нового года выпал даже снег, отогнув разлапистые листья пальм под критическими углами. Народная жизнь сосредотачивается до обеда «на марциальных водах» в Мацесте, вечером – в палатах и питейных заведениях
В нашей «Авроре» достаточно многолюдно: отдыхают целые экипажи субмарин Северного флота. Им начальство предложило зимний отдых, наверное, чтобы уберечь от убийственной для северного человека акклиматизации в жаркую пору. Даже вид холодного моря навевает на моряков зеленую тоску, и они «оттягиваются по полной» только на суше: во всяких злачных местах, на танцах в клубе, в еженощном преферансе в своих палатах. Охотно посещают кино: подозреваю, что на лодках крутят всего 2–3 фильма, как у наших зимовщиков на Новой Земле.
В санатории нам с Эммой сразу выделяют комнату с лоджией, из которой даже видно море. Мы подружились с молодыми соседями, часто бродим и развлекаемся двумя парами. Костя Алканович – врач на лодке, только вернулся из плавания, Наташа – худощавая женщина, непрерывно требующая у мужа шашлыков и поглощающая их в огромном количестве. Костя, добродушный и высокий, любуется женой, как всякий моряк, сошедший на сушу после долгого плавания. Наташа злоупотребляет этим на всю катушку: когда ее рот не занят шашлыками, пилит своего благоверного. Их сын, как и наш, остался с бабушками.
Обычно до обеда мы заняты врозь: поездки на Мацесту, процедуры, то да се. После обеда движемся в поселок Хоста на базар. Алкановичи набрасываются на шашлыки, мы с Эммой – на мандарины. У нас в Ленинграде этот фрукт остается почти новогодней экзотикой, а здесь стоят целые развалы абхазских мандаринов по весьма приемлемым ценам.
Новый год стремительно приближается, мы начинаем определяться, как его встретить. Известно ведь: как встретишь, так и проведешь. Для начала выпускаем стенгазету. Рисовать ее нечем и не на чем. Закупаем всякие ручки-краски и большой плакат «Все на выборы!». Кого и куда выбирали – теперь не узнать, но флаги на нем были всех республик. На обратной стороне плаката размещается наша газета «Ку-ку, Гриня!», с десятком рубрик, в том числе передовой статьей, положенных серьезной прессе. Большую статью «Ешьте больше лука!» редакция повторно напечатала «по многочисленным просьбам бабушек и дедушек, оставшихся с внуками (получку дети увезли на курорт)». В обширном разделе «Удивительное – рядом!» сообщается: о том, что буйным цветом зацвели чебуреки, что часть шашлыков в столовой была без костей, что «состояние больного К.М.А. непрерывно улучшается, несмотря на все усилия врачей». Вот к дереву прибито объявление (почти подлинное):
«Тов. отдыхающие, больные и кто еще здоров! Внесите по 30 копеек, чтобы НАМ было весело на Новый год! Администрация и массовик».
В «Новогоднем Приказе по Авроре» пункт 2 приказывает дожди 31 декабря и 1 января считать снегом, а пункт 4 сообщает, что 31 декабря вместо ужина будет кино (хорошо бы!).
Большой раздел «Наши будни» оканчивается пророческими стихами:
… Бедняга на крылатом «ТУ»
Радикулит с курорта Сочи
Увез обратно в Воркуту.
Наша газета имеет широкий успех в узком кругу, но это не может заменить нам новогодний ужин. Ресторан отвергается: после подсчета наличности – решаем провести бал на дому. Кроме того, у нас с женой имеется уже ошеломляющий опыт ресторанной встречи Нового года в новом заведении на проспекте Стачек. За несколько дней до Нового года мы с Мещеряковыми пошли туда на разведку. Мы больше часа голодными сидели в ожидании ненавязчивого сервиса, затем наших дам облаял пьяный официант. Правда, на меня и Леву гроздьями висли веселые девочки… К счастью, это была всего лишь разведка, после которой наши жены дали великую клятву: Новый год праздновать только дома. Только дома, как ни тяжело им будет готовить яства, а затем смотреть на постылые рожи родных мужей…
Закупаем продукты, бутылки. Вместо рюмок в аптеке берем овальные мензурки. Наташа и Эмма властно подавляют наши возражения о их недостаточной емкости. «Ладно: увеличим обороты!» – решаем мы с Костей. Бал собираемся провести в двухкомнатном номере знакомого командира субмарины: он с женой будет встречать Новый год в ресторане.
Вечером 31-го в столовой санатория нас накормили какой-то дрянью, всех тошнило, на еду и выпивку смотреть не могли. С сожалением оставили стол накрытым до утра и разошлись по палатам, надеясь, что за ночь «проморгаемся».
Хозяин номера возвратился с женой и друзьями из ресторана голодные и злые: их надули, как обычно. Роскошь нашего стола их просто потрясла. Эту скатерть-самобранку они прикончили с великим удовольствием и в исторически короткие сроки.
Утром мы могли бы спать и подольше: делать было уже нечего…
«Как встретили – так и проведем» – ох, как верна эта народная примета…
На лермонтовских местах
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
(М. Ю. Лермонтов)Весь 1971 год я заглушаю боль работой. Корсет не снимаю, пытаюсь даже спать в нем. Ребра уже слиплись от постоянного сжатия, но помогает это все меньше. Леня добывает для меня путевку в Пятигорск: именно там происходят чудесные исцеления. Вытяжение там делают в среде необычайно целебной минералки…
К трапу самолета меня подвезла санитарная машина части, но в самолет я взгромоздился самостоятельно. Это запомнилось, потому что возвращение было не таким прекрасным: из самолета меня уже выносили.
Все красоты Кавказа, проезда к санаторию и устройства там в первый раз прошли как-то мимо сознания, озабоченного сохранением хотя бы подобия человеческого облика.
И вот я лежу в своей четырехместной палате. Все мои соседи с утра разбегаются по процедурам и иным развлечениям. У одного майора, с которым мы подружились и потом общались много лет, здесь куча родственников. Петр родом из Пятигорска, а служил в подмосковном городе Долгопрудном. Майор очень хороший человек, он пытается лечить меня всякими местными растениями, корнями и плодами. Я отнекиваюсь: в памяти и спине более чем свежо мое «инженерное» лечение. Не хватает еще «туземно-растительного».
Опять горестная вставка. Написал эти строки и решил позвонить по номеру телефона, сохранившемуся в старой книге. Ответила жена Лида, которая была у нас с мужем в гостях здесь, в Ленинграде. Нас она прекрасно помнит, несмотря на долгие годы. Она сказала, что Петр Георгиевич Болдырев уже восемь лет как трагически погиб под колесами электрички. Неисповедимы пути наши, Господи. Мир праху твоему, хороший человек…
Я написал «лежу», потому что это моя основная стойка в этом краю. Да и заглавие изменил: было «По лермонтовским местам». Поскольку эти места для меня были недосягаемы, то более правдоподобно выглядит предлог «на».
Коротать лечебное время мне помогает маленький транзистор «Россия». Это, кажется, первый приемник заводского изготовления. Десятилетие после появления триодов на рынке наполнено только «мыльницами» радиолюбителей. «Россию» выпускает новый завод в Челябинске, приемник получился удачным: маленьким, экономичным и чувствительным. Особенно меня радовали коротковолновые диапазоны с точной подстройкой. Можно было даже слегка отстроиться от ревущих глушителей, затыкающих уши и берегущих наши нежные марксистско-ленинские души от коварных песен сладкоголосых сирен из-за бугра.
Я усердно сканировал все диапазоны почти круглосуточно. Однажды на средних волнах я поймал сильный сигнал. Два радиолюбителя вели неторопливую беседу за жизнь. Как лучше настроить обычный ламповый приемник в качестве передатчика, какие лампы кто ставит на выходе, что из этого получается. Вскоре в разговор вступили еще два радиста, разговор, впрочем, – довольно приличный, перешел на девушек. Через пару дней я знал уже всех радистов по голосам и кличкам, а также их Джульетт. Особенно я переживал за Колю по кличке Адмирал: у него барахлила выходная лампа ГУ, он периодически пропадал, волновался, что его не слышат, просил передать Нине, что все у него в порядке. Девушки, очевидно, слушали, потому что многие обращения были направлены им, но ни одна в эфир не выходила.
Я слушал и знал всех, отвлекаясь от своих болячек. А технически так подковался, что сам смог бы выйти в эфир через день работы над старым приемником. Спасибо вам, друзья радио!
Относительно безболезненная лежка прерывалась 3–4 раза в день неотложными мероприятиями. Целых три раза в день надо было подниматься, чтобы проковылять в роскошную столовую в главном корпусе. Из необъятного зала столовой на несколько сотен мест через широкие окна открывался вид на горы и город в долине. Еще по одному подъему требовалось сделать для массажа и основных процедур лечения, ради которых я и приехал сюда.
Массаж делала сестричка Люба, туго сбитая молодая женщина. Массаж она делала настолько добросовестно, что я мог только мычать сквозь сжатые зубы в ответ на ее разговоры и вопросы. По закону контраста после массажа боль казалась уже несущественной, и я позволял себе перекур минут 10 в вертикальном положении при возвращении.
Но особенно донимала основная лечебная процедура – вытяжка в специальных ваннах. В салон престарелой пузатой «Волги» паковались через задний люк человек 6–7 не особенно гибких радикулитчиков моего типа. Поместиться такому количеству несгибаемого народа можно было, только приняв неестественные позы в низком и тесном пространстве. Загрузка сопровождалась охами и стонами и, если вблизи не было женщин, обильно сдабривалась народной лингвистикой.
Минут сорок перегруженный кузов вертел свое содержимое в трех измерениях – «по долинам и по взгорьям», да еще со всякими поворотами. В полном согласии с законами Ньютона, содержимое кузова (мы) уплотнялось в совершенно неожиданных направлениях: держаться-то можно было только друг за друга.
Достигнув цели, водитель открывал задний люк, и высокое общество по одному выползало «для дальнейшего прохождения». В зале предстояло быстренько (!!! – не вы одни хочете!) раздеться и пройти душ. Невыносимо долго снимались носки, на них уходило 90 % отпущенного времени. Еще больше времени забирало надевание носков: их надо было набросить как лассо на пальцы, затем как-то натянуть на мокрую ногу.
После омовения голое общество вползает в небольшой бассейн с непрозрачной сине-зеленой водой. В ней-то вся сила. На ногах каждого закреплены мешочки с грузом. Груз наращивается постепенно – от 1 кг на первой процедуре, до 10 – на последней. По моему опыту – величина груза подошла бы новорожденным, в крайнем случае – грудничкам. Надежда только на теплую сине-зеленую воду, которая должна размочить меня из состояния сухаря до уровня сырой ватрушки, которую растянет и такой груз. Висим, погрузившись по шею и держась за трубки на поверхности минут двадцать.
После команды «вылезай» мы выползаем и быстро-быстро прокручиваем кинофильм «доступ к лечению» в обратном направлении: душ, «быстрое» одевание, запрессовка в чрево медицинской «антилопы гну» с последующей получасовой болтанкой. Все понимают, что «тонко» растягивать спину перед этими деформациями – глубоко бесполезное, если – не вредное, дело. Страждущих надо бы аккуратно вынуть чем-нибудь из воды, да положить на пару часов горизонтально. Но такова суровая «се ля ви»: следующие тоже ждут исцеления, а отчетность учитывает только количество «пролеченных». Графа «вылеченные» там отсутствует. Впрочем, все будут выписаны «с улучшением». На том стоим.
«Улучшенного» меня доставляет к самолету сантранспорт санатория, сердобольные помощники помогают «вспорхнуть» по трапу.
В Ленинграде меня встречает санитарная машина части. Кто встречал, какими аплодисментами, как доставили домой, – из памяти эти события вычеркнуты полностью. Меня поглощает тотальная боль.
Доктор сказал: резать!
В действительности все не так, как на самом деле.
(из собств. опыта)По расшифрованным иероглифам медкнижки моя путевка в Пятигорск окончилась 7 декабря 1971 года. С 14 декабря я уже гордо возлежал в коридоре Железнодорожной (!) больницы.
Этим перемещениям предшествовали напряженные переговоры моих друзей между собой и с медициной разных рангов. Исходные параметры были такие: я дозрел уже до состояния, когда на все согласен. Леня Лившиц склонял меня к радикальной операции на позвоночнике, которую в СССР делал только доктор Цевьян (?) в Новосибирске. Доктор разрезал живот, разгребал требуху, вслепую выдалбливал дефектный диск между позвонками, вставлял вместо него кусок твоей же, заранее изъятой из ноги, кости. Чтобы все срослось надо было всего лишь полгода (!!!) полежать с загипсованным туловищем, после чего можно было начинать жизнь сначала совершенно здоровеньким. Была, кажется, еще возможность превратиться в беспозвоночное животное: если пересаженная кость не приживалась, то начинал разрушаться весь позвоночник…
Был также более простой способ «заднего доступа» к дефектному диску. Для этого выкусывалась дужка позвонка и отодвигался в сторону пучок нервов. Последствия таких перемещений пучка я уже видел в клинике на Лесном…
Волчков выдал сведения о военном нейрохирурге Шустине, который успешно сделал ему такую операцию еще в 1967 году. Попал он на операцию случайно в качестве «интересного больного». Волчков занимался подводным плаванием. К нему подошел незнакомый врач и сказал ему, что у него просматриваются признаки дискогенного радикулита, посоветовал беречься, не переохлаждаться. Когда Волчков лежал в госпитале, то его и узнал этот врач. Он там отбирал «интересных» больных для оперирования Шустиным. В эту категорию и попал Волчков.
Шустин Владимир Анатольевич 2 года проходил стажировку в США. Ходит легенда, что он успешно оперировал шахиню (королеву?) в одной из ближневосточных стран. Через несколько месяцев шахиня-королева участвовала с блеском в танцах, после чего монарх-муж снял с себя и надел на целителя орден «Алмазный крест» (правдоподобней – «полумесяц» или «звезда»). В общем, – что-то очень блестящее и драгоценное, что обычно дарят монархи. Покрасовался врач с подарком недолго: люди в штатском сняли с него подарок и спрятали в надежный сейф как достояние всего СССР. А Шустину выдали талоны в «Альбатрос», какие выдавали тогда морякам загранплавания.
…Я не знаю сейчас достоверно, кто вышел на Шустина: Волчков, Дина или Леня Лившиц, – непосредственно, или через высокопоставленного посредника. По-видимому, все прямые переговоры легли на плечи Лени, Волчков и Дина работали «наводчиками». Леня, осознав, что Цевьян мне не совсем подходит, а капитальное лечение трудно реализуемо в военной жизни, закатал рукава. Шустин в принципе был согласен сделать операцию, но сказал, что он давно не оперировал и сейчас лучше него делает такие операции нейрохирург Панюшкин, его ученик, работающий в Железнодорожной больнице на проспекте Мечникова. Доктор Панюшкин согласился принять меня на лечение.
Лене Лившицу пришлось затратить массу усилий, чтобы получить разрешение на мое лечение в гражданском учреждении: военная медицина оказалась ревнивой: «не положено!».
Давно известно: тот, кто нам нужен, всегда очень занят. Занят был не только хирург. Все отделение заполнено до краев очередью жаждущих попасть под его нож. Палаты переполнены, часть кроватей установлена в коридорах. На одну из коек в коридоре укладывают и меня. Тем не менее – никто не чувствует себя изгоем: всем уделяется внимание, персонал «крутится» не покладая рук.
Центр этой вселенной – Александр Иванович Панюшкин. Молодой, красивый, энергичный, всех помнящий, всем помогающий. Прошедшие операцию в нем души не чают: им стало лучше, они выздоравливают. Ожидающие смотрят на него как на будущего спасителя, ловят каждую его шутку и взгляд. Два-три раза в день он делает обход палат и коридоров. Его приход для страждущих– что появление солнца для зимовщиков на Севере. Обход – быстрый, тем не менее – он успевает увидеть все, услышать каждого. После осмотра, разговора, часто – просто взгляда на страждущего, доктор принимает решения – четкие, короткие, тем не менее – наполненные юмором и улыбкой. Его команда – второй хирург, медсестры, санитарки работают также четко и слаженно: все предписания шефа ловятся на лету и «железно» выполняются.
Первый осмотр меня в коридоре Александр Иванович (дальше – АИ) проводит тщательно: я должен занять какую-то полочку в его собственной классификации пациентов. Кажется мне, что его интересует не только болезнь, но и нечто другое: устойчивость психики и моральное состояние. Мы ведем почти светскую беседу «за жизнь», одновременно врач делает свое дело. Почти нет обычного простукивания рефлексов и укалывания иглой для определения чувствительности. Легкие чувствительные пальцы хирурга пробегают по позвоночнику.
– Здесь больно?
– Больно.
– А здесь?
– Не очень. А тут – очень-очень больно!
– Ну, понятно. Где это вы так повредили себя?
Я коротко объясняю АИ, что поднял тяжелый настил, спасая своих матросов во время шторма. О том, что корабль следовал на атомный полигон, что мы – «кузнецы ядерного щита Родины», я тогда и намекнуть не имел права. А то, что внешнее и внутреннее – «проглоченное» – облучение повреждает в первую очередь все суставы «опорно-двигательного аппарата» я и сам тогда не знал и не мог даже предположить…
Следуют короткие указания сестре, что и когда надо проделать с моим организмом, к чему готовить, что глотать, что измерять, какие анализы сделать. Через неделю должен выписаться больной «Х», и АИ распоряжается поместить меня туда. Сестра напоминает шефу, что это место зарезервировано для больного «Y».
– «Y» немного подождет, мы его положим вместо «Z», так будет лучше.
Между делом спрашиваю у АИ о докторе Цевьяне в Новосибирске, говорю, что меня прочили туда на лечение. Корпоративная солидарность действует, и Александр Иванович мягко объясняет:
– Это вам не нужно. Они там все чистые ортопеды и решают другие проблемы. Нам же, чтобы освободить нерв, не требуется потрошить всего человека: можно это сделать проще. Кстати, если ваши друзья знакомы с Владимиром Анатольевичем Шустиным, – попросите у него американские инструменты для операции: они тоньше отечественных, меньше придется выкусывать дужку позвонка, быстрее все заживет.
При очередном осмотре выясняется, что мне придется опять делать пневмомиелографию. Я содрогнулся и взмолился:
– Александр Иванович, может не надо? Мне ведь делали ее в Академии не так давно!
– Надо, надо. Вы же не хотите, чтобы я разрезал весь позвоночник в поиске дефектного диска?
Я этого вряд ли очень хочу. Но память о десяти попытках добыть мой родной ликвор на Лесном 2 заставляет меня трепыхаться дальше:
– Там у меня какая-то патология. У вас будут трудности. Может быть, в Академии можно узнать об этом, чтобы не наступать на те же грабли?
Александр Иванович туманно обещает «поспрашивать» и «проверить».
В назначенный день меня, тщательно подготовленного накануне, отвозят и укладывают боком на рентгеновский стол. АИ в полном одиночестве что-то рисует на моей спине. В ожидании санитарок, которые будут сгибать меня в бараний рог, я успеваю рассказать АИ пару анекдотов. Он слегка посмеивается, продолжая разметку.
– Что не получается, Александр Иванович? Я же говорил: там патология!
– Старайтесь не поднимать головы, – отвечает АИ. Я чувствую, что в мой позвоночник уже поступает воздух! Пока я трепался, АИ единолично безболезненно проник в нужное место, откачал ликвор и вдувает уже воздух!!!
… За одного битого двух небитых дают. За меня, сильно битого, можно бы и троих потребовать. Вторую «…графию» я переношу совершенно спокойно. Отказ от твердой пищи – полный, на всю неделю. Чаи – вволю. Лежишь себе вниз головой, набираешься ума…
… Операция назначена на 23 декабря тяжелого 1971 года, когда мне исполнилось 40 лет. Почти два года я нахожусь в штопоре, в основном – падаю, с кратковременными задержками…
Когда на каталке меня везли на операцию, я закрыл глаза. Открыл – увидел лицо своей ненаглядной и распорядился:
– Иди домой, малыш! Мне будут делать операцию, нечего тебе тут торчать…
– Коленька, тебе уже сделали операцию! Все уже позади, все хорошо!
Я страшно удивился, можно сказать, – остолбенел лежа, соображая, как это такое важное событие произошло без меня. Прислушался к организму: боль была уже другая, даже кашлять надо было очень аккуратно…
Александр Иванович операций подобно моей делал две в день, после чего без каких-либо признаков усталости, как обычно, обходил еще и палаты. Немного позже мы увидели, какой это адский труд – работа нейрохирурга.
По коридору часто прогуливалась общительная, молодая и симпатичная женщина. Лежала она из-за сильных головных болей. Когда ей назначили операцию, за нее переживало все отделение.
… Операция на головном мозге состоит из двух этапов. На первом этапе вскрывается череп и вводится контрастное вещество, проясняющее суть заболевания. После анализов и удаления-лечения все собирается, соединяется снова… Первый этап после перерыва и анализов показал, что у женщины уже неоперабельная опухоль мозга, и последующая «сборка» производилась без лечения.
Я видел Александра Ивановича после первого этапа операции. Это был другой человек, внезапно постаревший на десятилетия. Черты лица заострились, появились морщины вокруг рта. Глаза провалились в орбиты и потеряли живой блеск. Даже осанка выдавала смертельную усталость.… Сколько же таких операций может выдержать хирург?
…После операции я лежал уже в палате как полноправный больной, точнее – выздоравливающий. Шевелиться и кашлять надо очень медленно и осторожно. А чтобы не залеживаться и не получить воспаление легких – медицина неуклонно применяет «всенародные» меры: горчичники, через день – банки. Горчичники ставили не бумажные – детские, а обильно намазывали вполне натуральной горчичной кашей, разве что – без уксуса. К этому запаху хотелось добавить буженинки, лучку, рюмочку, и можно было бы встречать Новый, 1972-й…
На седьмой день – подъем «на крыло», то бишь, – на костыли. Первое место, куда я двинулся, обретя движение, – в ванну, чтобы смыть с себя пот и горчицу. Эмма шла спереди, двигаясь «задним ходом», жалобно причитала и отговаривала меня не делать этой глупости. Но я был неумолим и летел к источнику омовения на костылях, как стрела, пущенная из лука.
К началу Нового года я уже возлежал в кровати чистенький и благодушный. Боль была, может быть, временами и сильнее, но это была уже боль заживающей раны выздоравливающего человека, полного надежды, что дальше будет «полная ламбада». Правда, АИ предупредил, что еще несколько дисков у меня на очереди…
Рядом находится кровать Миши Корогодского – племянника знаменитого режиссера ТЮЗа. Мише удалили целых два диска сразу. Мы с ним на правах старожилов стаем «руководящим ядром» палаты, разъясняем новобранцам неписанный устав нашего учреждения, отдаем советы, равноценные приказам. Однажды к нам помещают новенького, молодого и говорливого.
– Ну, чем тут у вас лечат радикулит? – развязно обращается он ко всей палате.
– Ножом, – любезно разъясняю я ситуацию новобранцу. Он поглядел на меня как на слабоумного, совершенно неправильно применяющего боцманские шуточки, и повторяет свой вопрос более умному больному:
– Так какие процедуры здесь применяют?
Неожиданно взрывается Миша Корогодский:
– Тебе Командор сказал, как лечат? Ножом лечат, большим и острым! Каких ты еще процедур хочешь? Сюда люди поступают и кричат: «Режьте меня, пилите меня хоть на части»! А ему процедуры, видите ли, нужны! Нечего тебе тут делать, здесь серьезные мужики лежат!
Новобранец шарахается. Утром Александр Иванович действительно переводит его в другое отделение: не созрел еще мужик.
Все больше времени я провожу в вертикальном положении, сначала с костылями, позже – без них. Надо разрабатывать одряхлевшие мышцы, учиться ходить и жить по-новому. После снятия швов на спине, по отзыву Эммы, остается еле заметный рубец, который можно носить и на лице после подтяжки. Провала от выкушенной дужки позвонка вообще не заметно.
Александр Иванович с горечью показывает мне отечественные клещи для выкусывания дисковой грыжи и сравнивает их с американскими, которые намного тоньше и точнее. Тем более что никто не может заточить края сближающихся чашечек, выкусывающих грыжу, хотя в Ленинграде и работает завод медоборудования, кажется «Красногвардеец». Работать нашим инструментом, что в валенках танцевать чечетку…
Я обещаю Александру Ивановичу сделать нужные инструменты. Тщательно снимаю эскизы с американских. Забегая вперед, скажу, что я выполнил свое обещание. Добыл нужную сталь. Отковали заготовки, кажется на заводе Свердлова, у себя в лаборатории мы сделали только предварительное фрезерование. Остальные тонкие операции, требующие уникальных станков и точной термообработки, делали друзья, друзья друзей и заинтересованные «левши» разных почтовых ящиков. После эпопеи с котлами и лифтами, когда наша маленькая лаборатория помогала всему Ленинграду, на десятках предприятий у нас остались друзья и очень хорошие знакомые… Их адреса и пароли в виде слезных просьб на неотложную помощь хранились в толстой-толстой папке. Эта папка выручала не раз, когда уже мы обращались к ним за помощью. Выручала папка не только лабораторию, но иногда и всю часть…
Недавно Володя Волчков вспомнил, что я сам ремонтировал какой-то инструмент для отделения нейрохирургии. Я этого совершенно не помнил, но Володя настаивал. Оказывается, что я отрезал часть его собственного коллекционного полтинника: для пайки нужно было серебро…
А. И. Панюшкин
Со спасателями (Л. Лившиц, В. Волчков)
30 января 1972 года меня выписывают «на волю», и я прощаюсь с Александром Ивановичем. С грустью узнаю, что он начинает работать главным врачом: там выше зарплата, надо думать о семье. В виде поощрения ему разрешается делать и операции… Я понимаю, что от личности и работы главврача очень многое зависит в клинике, что он не простой хозяйственник, что он должен грамотно и с перспективой руководить и учреждением, и коллективом врачей. Пусть главврачу и платят прилично: его труд разносторонний и непростой. Сейчас такие специалисты на аглицкий манер называются менеджерами, топ-менеджерами; заработки менеджеров весьма приличные: от качества их работы многое зависит.
И все-таки, и все-таки: разве труд нейрохирурга проще? Менее напряженный? Менее ответственный? А если это врач от Бога, а не серый ремесленник? Врач, который делает имя всему учреждению? В Ленинграде ведь были Институты и целые Академии, а болезный народ почему-то стремился попасть хотя бы в коридор Железнодорожной больницы…
Я не могу на эту тему даже шутить. Мои младшая сестра и мать, младший брат жены – погибли из-за низкой квалификации лечащих врачей, из-за их непробудной серости в избранной профессии. Возможно, эти «никакие» врачи могли бы стать отличными каменотесами или выдающимися кондукторами в троллейбусе. На худой конец – посредственными певцами, как своевременно «изменивший ориентацию» врач Розенбаум. Я понимаю, что таланты среди врачей так же редки, как и в любой профессии, что, как говаривал наш бог Карл Маркс, – «только тот достигает сияющих вершин, кто без устали карабкается вверх по каменистым тропам». Может быть, тот врач, который искалечил моряка, и доберется когда-нибудь к вершинам своей профессии. Пусть даже не до самых вершин, пусть станет всего лишь надежным профессионалом в своей специальности: в них тоже огромный дефицит. Но для этого надо, чтобы он все-таки «карабкался», хотя бы – до половины горы. И сочувствовал народу, пораженному камнями, осыпающимися вниз при его «карабкании»: у материалов для его учебы жизнь-то всего лишь одна… А если ты ленив, равнодушен и к тому же – врожденный мизантроп, – быстренько меняй профессию врача на любую другую, где больше денег, чинов, славы. Подайся в попсу, в депутаты или сантехники: там хорошо, там приятно.
Послесловие – привязка к быстротекущему времени. Сейчас январь уже 2007 года. Ровно 35 лет, целая жизнь, прошла с того времени. Усилиями друзей и настоящих врачей мое падение в штопоре не кончилось тогда «встречей с землей», а перешло в относительно пологое и равномерное снижение, продолжающееся уже 35 лет. За это время мне удалили еще один диск, опухоль и даже аппендикс, но я уже был закаленным и стойким бойцом. «Снижение» – старение, как и последующая «встреча с землей» увы, неизбежны… Однако – «ничто на земле не проходит бесследно»: все мы остаемся в Тонком Мире. Об этом говорит также эпитафия на могиле поэта Вадима Сергеевича Шефнера, которая находится недалеко от нашей семейной, где сейчас покоится мама. Недалеко также могила Марии Павловны, моей дорогой тёщи…
25. Сползание
Масштабность и значительность задач,
огромность затевающихся дел –
заметней по размаху неудач,
которые в итоге потерпел.
(И. Г.)Проект «СИРИУС»
Сириус – (α Большого Пса), самая яркая звезда неба, светимость в 22 раза больше солнечной, расстояние от Солнца 2,7 парсек.
Парсек – расстояние в 3,26 светового года, 30,857*1012 км
Световой год – расстояние, проходимое светом за 1 год.
(БСЭ, тт. 19 и 23)После нескольких длинных месяцев, потерянных на лечение недугов, я еду утром в часть. Мне категорически запрещено поднимать тяжести (больше ложки с супом!) и делать всякие резкие движения. На мне туго зашнурованный спереди и сзади полужесткий корсет; по периметру в него вшиты вертикальные «железяки», концы которых яростно впиваются в живую плоть при всяких недозволенных движениях. Впрочем, через короткое время они начинают донимать даже без всяких движений. Зажатые ребра не позволяют вдохнуть воздух Родины полной грудью… Зато осанка получается прямо как у кавалергардов (мне почему-то кажется, что именно у них должна быть роскошная осанка)…
Автобус приближается к нашему «крейсеру» на шоссе Революции. У передней двери тоже готовится к выходу молодая женщина. Одна рука у нее нагружена сумкой с продуктами для большой семьи, другая – любопытно рассматривающим весь мир малышом. Женщине для спуска нужна одна свободная рука, и она поступает чрезвычайно естественно: передает стоящему сзади могучему офицеру в морской форме своего малыша:
– Подержите, пожалуйста!
Я молча принимаю любопытное дитя и выхожу следом за женщиной. Не пересказывать же ей содержание главы «В штопоре», которую я напишу через 35 лет. Я бы взял на руки этого малыша, даже если бы мне грозила немедленная аннигиляция: нельзя позорить флот и офицерскую форму. К счастью, малыш оказался почти невесомым. Когда он потянулся к моему носу, мы расстались друзьями…
Встречают меня радостно не все. Солдаты у станков все новенькие и незнакомые, для них я – та новая метла, которая ничего хорошего не сулит. Обрадована только старая гвардия: всех прапорщиков лаборатории без меня потихоньку растаскивают по объектам, станки загружены изготовлением всякой железной лабуды, которой забиты даже все проходы. Лаборатория превратилась уже в заурядную мастерскую с авральной командой.
Учебная группа на заводе работает «на подхвате», инструкторы Толя Кащеев и Витя Чирков пашут где-то на сдаточных объектах как обычные сварщики. Мои «электрические силы» для прорыва в неизведанные тайны сварочной дуги тоже расформированы: Саша Клюшниченко стал писарем в штабе, а Гена Степанов в командировке на объекте… Одна Верочка Пурвина пытается как-то защитить лабораторию, но ее сил явно недостаточно…
Грозные предписания из Энергонадзора и в/ч, контролирующей радиационную безопасность, требуют «устранения отмеченных недостатков», сдачи очередных экзаменов, поверки приборов и т. д., и т. п. В случае «неустранения» – отключение энергии, запрещение использования радиоактивных изотопов для контроля сварки. Эти очень реальные угрозы просто подшиты в папки, на них никто и никак не отреагировал.
Ушел на повышение в Киев Боря Лысенко. Теперь главным инженером части и моим непосредственным начальником стал мой приятель – бывший офицер-подводник Олег Власов, до этого работавший начальником производственно-технического отдела.
Предварительная вставка-реквием о капитане 2 ранга Олеге Евгеньевиче Власове. С ним мы работали вместе много-много лет. Стали соседями по дому, вместе с нашими семьями строили и осваивали свои «фазенды». Уволился Олег раньше меня, затем мы уже в качестве работающих пенсионеров стали трудиться в родной части. По ходу дела я буду рассказывать о нем. Олег ушел в мир иной в начале 21 века…
После короткого доклада «на мостике» о своем прибытии и обхода собственных владений, усаживаюсь на свое рабочее место. Неотложной работы так много, что начисто забываю обо всех болячках. Появляется Леня Лившиц. Он приготовил для меня топчан в санчасти, на котором я должен отдыхать час-другой посреди рабочего дня. Это мне не подходит: просто некогда. Да и постоянные хождения в санчасть в другом здании не украшают боевого офицера. Володя Булаткин смахивает кислородные редукторы с рабочего стола в малой комнате: это и будет мое ложе на время обеда. Если подстелить чистое покрывало, а задние (в смысле – нижние) конечности уложить мимо тисков, вместо подушки положить несколько справочников, то получается очень мило. Корсет снимать все равно нельзя…
Такое ультраспартанское ложе хорошо уже тем, что на нем не разлимонишься в преступной неге. К концу обеда не столько перестает болеть спина, сколько начинают жечь места контакта с бездушной и твердой поверхностью верстака, властно заглушая оркестр остальных болячек и требуя возвращения к трудовому процессу.
А дальше – этот «процесс» наваливается с такой силой, что забываешь уже обо всем. Текучку стараюсь делать как можно быстрее: слава Богу, я уже многому научился хотя бы в своем деле. Основные усилия на работу для будущего. Задуманная технология должна осчастливить если не все человечество, то, по крайней мере, его «сварочную» часть. Но для изучения и реализации этой технологии нужно разработать и сделать небывалое оборудование, что само по себе требует, мало сказать большой, – огромной работы… Основные проблемы непрерывно разветвляются на мелкие, затем на мельчайшие. И каждая «мельчайшая» может сама собой разрастись до «огромной», или даже «непреодолимой». Воистину: чем дальше в лес, тем толще партизаны… Часы, показывающие конец рабочего дня, воспринимаются с изумлением: не может быть…
Мне явно не хватает мозгов в электронике и автоматическом управлении. Я жадно глотаю всевозможные брошюры и книги по тиристорным устройствам и теории автоматического управления.
Для прорыва в область неизведанного мне на первом этапе надо соорудить простой включатель-выключатель постоянного тока. А вот его характеристики совсем не простые: величина тока – 1000 ампер, скорость переключения – свыше 500 раз в секунду (500 герц). Время включения и выключения, то есть ширина каждого импульса тока и каждой паузы должны задаваться неким мозгом, который должен реагировать в реальном времени не только на заданные, но и на случайные колебания длины дуги. Длина дуги – это расстояние от 0 до 3 мм между сварочной ванной и подающейся в нее проволокой. Правда, совсем уж нулевого расстояния, то есть короткого замыкания, быть не должно по определению. Тогда сварка может проходить без всяких брызг, и выполнять ее с высоким качеством сможет любой новичок после получасового обучения…
Возможно, для реального полуавтомата, который я надеюсь соорудить, не потребуются такие токи и быстродействие. Все может быть скромнее и проще: токи до 500 ампер, частота – до 300 герц. Но, чтобы дойти до этой простоты, сейчас мне нужна исследовательская установка с широкими пределами параметров. Такие показатели могут обеспечить только управляемые полупроводниковые диоды – тиристоры, и то не всякие. Для включения и выключения силовых тиристоров нужно думающее устройство, выдающее управляющие импульсы в нужное время. И это время надо измерять единицами не более 0,001 секунды – миллисекундами.
Извинительные пояснения автора. Перечитывая написанное начинаю понимать, как разительно оно отличается от всем понятных детективов и дамских романов Лидии Чарской. Надо бы как-то все упростить, стать поближе к читательским массам… Увы: не всем дано. Автор обещает очень стараться, наступая на горло собственной песне. Впрочем – не песне, а грохоту разных железяк.
Конкретно по этому проекту. Автор с задором молодого щенка влезает в эту работу, совершенно не представляя, насколько чудище «обло, огромно, стозевно и лайяй»…
Грядущее умное детище я называю Системой Импульсного Регулирования И Управления Сваркой – СИРИУС. Немножко длинновато, зато относительно точно. А уж звучит – несомненно, лучше, чем например «ГИБДД», произношение которой напоминает перекатывание булыжников в пустом желудке во время утренней зарядки.
Кузен Володя Мельниченко, курсант ВВМУРЭ, наскоро знакомит меня с логикой двоичной Булевой алгебры, в которой вопреки здравому смыслу 1+1=1, а также есть функции «или», «и», «не» и куча их сочетаний. Узнаю, чем и как Буль может командовать моими управляющими импульсами, которые включают силовые тиристоры…
Боря Мокров, теперь – кандидат наук и преподаватель, знакомит меня со своим другом Натаном, который ведет в Дзержинке курс автоматики. Натан отрывает время от своего отдыха и по часу отвечает на мои детские вопросы. Вопросы постепенно усложняются, и Натан начинает убегать от меня: своих забот хватает по макушку…
Настольной книгой у меня становится «Теория автоматического управления» Е. И. Юревича. На более позднем этапе работы, когда я уже дошел до операторов Лапласа и передаточных функций, Элла Лившиц организовала мне встречу и консультацию с самим автором книги: оказывается, он работает преподавателем в Политехническом институте. Меня несколько удивило, что секретарь Юревича велела мне захватить допуск к секретным работам по форме 1 и назначила встречу с точностью до минуты, и не в институте, а в жилом доме недалеко от нашего «крейсера».
За входной дверью обычного дома в обширном вестибюле меня встретила вооруженная охрана и после тщательной проверки документов провела почти «под ручки» на второй этаж и усадила в кресло перед кабинетом Юревича. Разросшееся подобие школьной доски полностью занимает одну стенку большого холла. На ней мелом нарисована некая снижающаяся кривая, над ней – наспех написанные сложные формулы. От нечего делать рассматриваю их, пытаюсь понять. По ходу кривой нечто неуклонно возрастает, другое – уменьшается. Так хорошо тормозиться может только снаряд или спутник, прибывшие издалека.
До встречи оставалось несколько минут, когда в кабинет стремительно прошел чем-то очень встревоженный генерал-лейтенант в авиационной форме. Тут же вышла секретарша, миловидная дама, и произнесла:
– Евгений Иванович приносит свои извинения и просит вас немного подождать.
Вскоре в кабинет почти пробежал авиационный полковник…
Ждать мне пришлось больше получаса. Евгений Иванович, на вид – обыкновенный служащий средних лет в ширпотребовском костюме, выпроваживает своих высоких военных посетителей, успокаивающе похлопывая их по плечам: все, дескать, будет хорошо, ваши тревоги – напрасны. Он приветливо здоровается со мной, еще раз извиняется и приглашает в обширный кабинет, явно рассчитанный на длительные заседания 10–15 участников. Я чувствую, что Юревич еще в плену предыдущих разговоров. Мои проблемы сами по себе съеживаются, стают очень маленькими: нельзя отнимать драгоценное время у такого человека. Я скрепя сердце отсекаю 90 % своих вопросов и спрашиваю только о непонятной формуле в книге. Тем не менее, задав несколько вопросов, Евгений Иванович схватывает главную суть моих затруднений:
– Вы слишком большие надежды возлагаете на формулу передаточной функции: она в вашем случае может быть только весьма приблизительной и должна корректироваться реальными функциями происходящих процессов.
Спасибо, Евгений Иванович, вы сказали мне самое главное. Это значит, что мне пока не стоит упираться рогом в чистую математику, а действовать методом «научного тыка». В принципе я так и делал раньше, но так хотелось бы осветить фарой теории темную дорогу с заботливо открытыми люками колодцев…
После увольнения Саши Клюшниченко у меня создается полный кадровый вакуум. Тут уже не до белых воротничков, хотя бы они были не такие серые, как штаны пожарника. Толковые синие – тоже не так плохо.
Командир свято блюдет условия нашего джентльменского соглашения: в лабораторию приходят двое почти грамотных «блатных сынков». Толя Посмитный – сын нашего прапорщика, и Сергей Костюков – сын начальника какого-то питерского треста. Толя кончил техникум «по электричеству», Сергей – просто радиолюбитель, правда, – довольно амбициозный и наслышанный о разных «хай-теках». Толя – трудящийся и скромный паренек, застенчивый, как девушка, не потерявший способности краснеть. С его отцом – «вещевиком» Григорием Ивановичем, – мы служим (и дружим) вместе с первых моих дней, когда нашим общим командиром еще был незабвенный Афонин. Посмитный-отец – основательный и серьезный кубанский казак. Он принадлежит к военному поколению старых сверхсрочников, которые не только знали себе цену, но и понимали воинскую службу. Они всегда уважают офицерское звание, хотя могут и не очень уважать «про себя» его конкретного носителя. Они дисциплинированны и обязательны. Командир, завоевавший их доверие, всегда может на них положиться, как на самого себя.
Конечно, Григорий Иванович переживает за сына, поэтому и «пристроил» его в лабораторию. С одной стороны – поближе к родителям. Но главное – он знает, что здесь сын будет заниматься делом, а не просто «круглое катать, а плоское – таскать». (Именно так сейчас трудятся новобранцы в большинстве военно-строительных отрядов, которые сменили наших матросов из бывших монтажных отрядов ВМФ). Я его понимаю и твердо обещаю именно такую судьбу его сыну на ближайшие два года.
У очередного пульта (С. Костюков)
Серега Костюков, рослый и длинноволосый «брУнет» – слегка надменный представитель питерской золотой молодежи, не относящейся к труду упорному с особо пламенной любовью. Серега – типичный «блатной», сын начальника, имевшего знакомых в УМР. С учебой у Сергея не заладилось: слишком много он гулял, отчего приобрел много «хвостов» в своей «альма-матер» и был отчислен. Ему пришлось идти служить срочную службу в уже достаточно зрелом возрасте. Папа порадел родному человеку, имея цель, чтобы тот просто служил вблизи дома. Серега сначала снисходительно посматривал на наши технические потуги, но, по мере продвижения вперед и встречи с вещами неизвестными ему, начал загораться и тянуть по-настоящему: голова и руки у него были неплохие, несмотря на «блатное» происхождение. А когда несколько его предложений были испытаны и приняты, он начал думать и работать по-настоящему.
Но это было потом. Сначала же мои «научные кадры», конечно, были не ахти. Но, по крайней мере, ребята могут отличить осциллограф от кувалды, и знают, какой стороной включается паяльник. Будем учиться вместе.
«Даль моего свободного романа» мне прорисовывалась понемногу «сквозь магический кристалл» книг. Но этого мало: надо было все пробовать «на зуб». Мощные тиристоры, которые я добывал всякими правдами и неправдами, тогда в СССР выпускались только небольшими сериями, имели очень большой разброс параметров (это наша хроническая беда, ее вполне можно сравнить с остальными: дураками, дорогами и дураками, указывающими дорогу).
Надо было все испытать и увидеть на экране осциллографа; понять, «ху из ху». Для этого пришлось изобрести и построить генератор импульсов с широко изменяемыми параметрами. Очень скоро мы поняли, что нам требуется двухлучевой осциллограф. О таком приборе можно было только мечтать: его нельзя добыть без «фондов», которые никто и никогда не выделит военным строителям. Однако Серега притащил какую-то радиолюбительскую брошюру, и наш однолучевой вскоре стал трудиться как двухлучевик. Когда для записи и анализа нам понадобился многошлейфовый осциллограф, то я его взял «по блату» просто в аренду в НИИ-13. Там служили много наших ребят, в том числе мой бывший подшефный Саша Иванов, которого я собственноручно вытолкнул из монтажников в науку…
Несколько месяцев мы трудимся не покладая рук. Облизываем и испытываем каждый отдельный «кирпичик», из которых начинает вырисовываться что-то похожее на дом, в котором будет жить наш монстр. Я немного прибедняюсь: у нас уже была неплохая база и основное оборудование. Есть источник тока на 1000 ампер, есть и на 500. Ревущие агрегаты спрятаны в отдельной комнате, но все провода и управление выведены на большой щит в сварочном зале, к которому легко подключиться. Кстати: второй источник тока нужен, чтобы выключать тиристор. Эту громоздкую схему, напоминающую «кран» из 4-х тракторов на Новой Земле, я придумал для ускорения работы: выключение тиристоров, проводящих постоянный ток, очень непросто. Придуманная громоздкая схема работает четко и надежно, хотя мощный сварочный генератор и стонет от необычной импульсной нагрузки при заряде больших конденсаторов.
Для охлаждения тиристоров нужны большие радиаторы, обдуваемые вентилятором. Для экономии места изготовляем компактное водяное охлаждение: у нас есть для этого все станки и любая сварка. А эскизы деталей, практически – рабочие чертежи, я выдаю очень быстро. Мне не хватает времени на обдумывание дальнейших шагов, и я научаюсь работать с 3–4 часов утра, пребывая еще в постели.
К началу рабочего дня я уже все знаю. Удивляет перестройка собственного организма. Как далекий сон вспоминаются детские годы, когда бесконечно тяжело было ранним утром отрываться от сладкого сна для общественно-полезной добычи огня. Затем пришла тупая привычка раннего подъема по звонку и гудку: на работу. Постепенно привычка стала образом жизни: подниматься рано без всяких звонков и сигналов (период воспаленной бессонницы на Новой Земле стоит в стороне). И вот природа без всякого насилия, без ущерба для отдыха, выделяет мне такое ценное время для решения важных задач. Это не бессонница: когда задача была решена, я спал нормально. (Увы, все уже в прошлом: постепенно привычка к размышлениям с 3-4-х часов утра у меня закрепилась уже навсегда, что часто мешает спокойной пенсионной жизни и нужному отдыху с цветными сновидениями).
Позже я напишу об этом времени якобы стихи, в которых больше правды, чем поэзии…
И только очень ранним утром
Мне кажется, что время нам подвластно:
Природа спит, свернулась боль.
А мысль свободна, глубока и ясна.
Из хаоса событий прошлых
Вдруг вырастает стройный ряд,
И обнажаются пружины,
Что те события творят.
Мозг, раньше утомленный светом дня,
Становится клинком из стали прочной:
Решает неприступные задачи,
И суть вещей становится прозрачной…
Мерцают невесомые секунды,
Процессор их телами минуты наполняет.
Скачком сменился час. Пора на холод жизни.
И злоба дня опять за горло нас хватает.
… Наконец тело монстра, разбросанное по разным помещениям и опутанное проводами, приборами и трубочками, готово. У него нет еще самостоятельных мозгов, но его можно испытать, принудительно подбирая темп дыхания от внешнего генератора импульсов. Наш Сириус еще не сможет реагировать на микровозмущения (различные помехи) в сварке, но должен подтвердить или опровергнуть саму возможность задуманного процесса. И определиться с его параметрами, буде таковые появятся…
Вся лаборатория уже заразилась нашим ожиданием и нетерпением, все наблюдают только за нашей суетой, никто не работает. Держатель полуавтомата берет в руки Толя Кащеев – сварщик-ас. Гена Степанов включает, а если будет по его выражению «пыш-пыш», – отключает все генераторы. При очень большом «пыш-пыше» и последующем пожаре – ему следует отключить всю лабораторию. Толя Посмитный стоит у многошлейфового осциллографа: он должен все записать, чтобы потом можно было потрясать документом перед носом у потомков. Сережа Костюков должен настроить волшебное зеркало осциллографа перед моими глазами. Я буду плавно менять «руководящим» генератором частоту и ширину сварочных импульсов.
Короткие ЦУ и ЕБЦУ (Еще Более Ценные Указания). Запуск ревущих за стенкой источников тока. Настройка подачи углекваса (углекислого газа). Подача воды для охлаждения тиристоров. ПОЕХАЛИ!!!
Невообразимый треск дуги, сноп искр. На моем осциллографе – пляска святого Витта. Плавно повышаю частоту – стает лучше, но все равно плохо. Еще выше – и вдруг дуга ровно запела, никаких брызг нет! На моем экране останавливается чудовищно красивая кривая.
– Пиши!!! – это команда Толе Посмитному.
– Продолжай! – это уже Толе Кащееву.
Секунд тридцать мы слышим только победное басовитое пение дуги, заглушающее шум машин за стенкой.
– Стоп!
Все сбегаются к Кащееву. Перед нами – ровный, необыкновенно красивый шов. Такой получается только при автоматической сварке под слоем флюса. Это победа! Процесс, которым я уже давно только бредил, МОЖЕТ существовать!!!
В лаборатории – настоящий праздник. Мои электронщики горды произведенным эффектом: они занимаются настоящим делом, в чем многие уже начинали сомневаться. Только один человек – я – понимаю, что это только первый шажок новорожденного. Даже не шажок, а просто вдох…
Обедаем на десяток минут раньше, и весь обед посвящаем яростному морскому «козлу». Толя Посмитный не «забивает», и я прошу его проявить пленку осциллографа, в изучение которой сразу же углубляюсь вместе с ним, не ожидая конца козлиного побоища. Все чудненько: частота около 300 герц (музыкант определил бы это на слух). Ширина (время) импульса примерно равна времени паузы, но так было задано. Потом их соотношение станет объектом автоматического управления. А вот с напряжением дуги – картинка совершенно дикая. Напряжение на дуге пляшет, совершенно не желая подчиняться впитанным с молоком alma-mater канонам: быть пропорциональным длине дуги. А ведь по задумке мне постоянно надо знать мгновенную длину дуги: она-то и есть главный управляющий фактор, который должен повелевать всякими включениями-выключениями…
Отмахиваюсь от недобрых предчувствий: будем переживать неприятности по мере их непосредственного поступления. Главное: процесс имеет место быть, и надо с ним познакомиться поближе.
Следующие пару недель моя личная бригада занимается именно этим: мы определяем границы дозволенного. Кое-что записываем, страшно экономя сверхдефицитную фотобумагу в рулончиках для многошлейфового осциллографа.
Надо застолбить осваиваемую ниву. У меня уже есть некоторый опыт такого «столбления» – оформления заявки на изобретение. Изобрести формулу изобретения иногда гораздо труднее, чем изобрести самое изобретение.
Когда-то я по суровой необходимости укротил неравномерную подачу двух газов (аргона и азота) при плазменной резке. Первая заявка прошла удивительно легко: не прошло и года, как я получил красивую бумагу с навесной красной печатью на изобретение «Инжекторный смеситель газов». С тех пор мой энтузиазм значительно поубавился: десяток других заявок по родной сварочной тематике неизменно отвергались, а длительная переписка с ВНИИГПЭ (Институт патентной экспертизы) напоминала диалог глухих и требовала уймы нервов и времени. Сначала я их (нервы и время) с задором молодого щенка безумно расходовал, пытаясь что-то доказать кому-то невидимому. Поскольку обладание авторским свидетельством СССР нужно было только для собственного тщеславия, то я практически перестал «оформляться». «Задумки» отлиты в металл и реально трудятся, – ну и прекрасно.
Но здесь был иной случай. Во-первых, это не просто работающая железяка, а целая научная идея с выходом на будущее. Во-вторых, будущее идеи, может быть, и моим личным интересным будущим.
Не доверяя своим знаниям в патентных формулах, обращаюсь в некую фирму, помогающую изобретателям (кажется, это было что-то типа хозрасчетного кооператива). Там мне быстренько дают от ворот поворот: организация недавно переехала, только стает на ноги, а уже перегружена выше макушки принятыми к исполнению договорами.
Слегка убитый несбывшимися надеждами, я направляюсь к выходу из «фирменного» подвала дома возле Стрелки ВО. В коридоре меня догоняет молодой сотрудник фирмы с длинным именем «Георгий, можно просто Гоша». Гошу тронул мой военно-морской облик, не сочетающийся с убитым видом, и он согласен мне помочь за весьма умеренное вознаграждение, правда – в нерабочее время. Мне эти условия подходят, устный договор мы скрепляем с Гошей рукопожатием и договариваемся о следующей встрече. С «патентным поверенным» Гошей мы должны грамотно оформить «Заявку на предполагаемое изобретение» для ВНИИГПЭ.
Встречаемся мы дома на Краснопутиловской. Преодолев легкий ужин, выставленный Эммой, мы принимаемся за дело. Я кратенько описываю Гоше суть дела и знакомлю со своим вариантом формулы изобретения. Гоша недоумевает: а в чем преимущества изобретения? Ныряю вместе с Гошей в темные глубины сварки и теории автоматического управления. Отдельные внешние возмущения (помехи сварке, например – снижение питающего напряжения) обычные установки устраняют за время 0,5 и даже 1 секунду. Мы же сами «раскачиваем» ситуацию (ток) от нуля до максимума 200–500 раз в секунду, когда время измеряется миллисекундами. И время даже этого короткого импульса мы можем автоматически изменять, компенсируя этим действием все, даже кратковременные (1–2 миллисекунды), помехи сварке. Например, неравномерность подачи проволоки, низкую квалификацию сварщика, дрожание его руки после бодуна и т. п. Не говоря уже о том, что у нас в принципе нет потерь металла на брызги и искры.
Гоша – умный и открытый парень. Он постепенно начинает видеть концы в этом узелке, завязанном из сварки, электротехники, электроники и автоматики.
– Так это же пионерское изобретение! – восторженно прорывается Гоша. – И вообще: здесь не одно, а несколько изобретений. А основное – так просто революционное!
– Да-а, гдэ-то сэм, восэм, – скромно копирую грузинского учителя, решающего с учениками задачу, сколько будет дважды два. Моя маленькая работа по добыче звания кандидата тех (и этих) наук стала распухать до размеров просто эпохальных.
Но составление только формулы – меньше, чем половина дела. По новым правилам на изобретателя возложено бремя доказательств, что именно он является верблюдом, притом – единственным во всей вселенной! Надо провести поиск по 10 (!) индустриальным странам на глубину 50 (!!!) лет и доказать с фактами, что в этих странах за этот период отсутствуют именно такие патенты и изобретения! Этот архивный подвиг по трудозатратам может перевесить все, что требуется для самого изобретения и его реализации в металле.
Казалось бы: я, автор, отдаю родному государству плод своих озарений. У него (государства) есть целый НИИ патентной экспертизы с доцентами и кандидатами, с окладами и льготами. Посовещайтесь, умненькие и грамотные, и скажите автору свое веское слово. Если я изобрел велосипед, – пожурите; если что-то стоящее – скажите хоть спасибо от имени государства, которое вас «ест и пьет»…
То, что мы сейчас покупаем за бугром автомашины, компьютеры и многое другое, – прямой результат творческой работы этого «НИИ-чаво» с изобретателями. Об этом чуть дальше.
Гоша стает ярым сторонником изобретения. Он вникает во все детали, увлекается; его уже интересует не собственное вознаграждение, а успех дела, ставшего нашим общим. С этого часа мы начинаем с ним работать по-настоящему.
Гоша преподает мне простую истину: чем более неопределенна формула изобретения – тем шире права изобретателя. Любая конкретика и числа сужают его права или позволяют просто обойти их. Например, автор в формуле указал, что он изобрел круглое колесо диаметром 1000 мм. Тогда хитрецы, построившие такие же круглые колеса, но диаметром 999 или 1001 мм не нарушат ничьих прав и могут претендовать на собственные патенты.
Я же стремлюсь к технической точности и легко разрушаю его химерно широкие, хотя юридически и безукоризненные построения. На двадцатом варианте во время десятой встречи мы приходим к консенсусу. Договариваемся, что в первую очередь мы будем патентовать только главное, оставив на последующую закуску всякие аппетитные детали. Пока что мы патентуем только способ, отложив на потом заявку на устройство, тем более что с ним пока не все еще ясно.
Я отправляю заявку в Москву, а в Ленинграде мы с Гошей выпиваем за ее успех. Бумажная улита уехала, когда еще (и с чем?) прибудет обратно…
Работа продолжается, и я рогом упираюсь в отложенную проблему: откуда брать «руководящую переменную» – настоящую мгновенную длину дуги? Установлена вполне научная, возможно, – интересная теоретикам сварочной дуги истина: в закритических режимах сварочной дуги ее напряжение совсем не пропорционально ее длине, как раньше считалось.
Эта истина, простая как репа, наверное, уже достаточна для защиты кандидатской диссертации. Добавить соуса, нарисовать графики, процитировать непричастных знаменитостей. Еще лучше – засекретить всю эту мелочевку, добыть нужные (тоже секретные) благожелательные отзывы, – и диплом кандидата в кармане. И несть числа таким (и намного худшим!) кандидатам наук. Конечно, такие «достижения» мне недоступны «по умолчанию».
Найденное маленькое зерно истины тем временем разрослось до огромного валуна, перегородившего протоптанную узенькую тропинку. Почти все уже сделано: подтверждена физическая возможность процесса, создана и работает сложная машина. Но она пока – совершенно слепая. Машина может работать только по чужим, тупым и упрямым командам, никак не учитывающим реальное состояние дел. Стоит всего лишь добавить машине один-единственный сигнал – информацию о мгновенной длине дуги, и она сразу станет мыслящей, начнет сама определять: куда и как ей двигаться в любой обстановке…
Ищу выход по двум направлениям. Надо найти алгоритм, который бы вычислял длину дуги по косвенным признакам. Вычислять он должен в реальном времени, то есть – мгновенно. Для вычислений можно взять силу тока, напряжение и само время. По ним можно еще вычислить динамическое сопротивление дуги. Для этого надо непрерывно определять производную напряжения du/dt, которую сразу же следует делить на производную по току di/dt, тоже расчетную. А каким оно будет это динамическое сопротивление? Можно ли его использовать для расчета длины дуги? Как и на чем его вычислить, хотя бы предварительно, чтобы понять, как оно меняется?
Вера Пурвина выполняет титаническую работу: оцифровывает вручную часть осциллограммы. Увеличенные кривые разбиваются на мелкие (меньше 0,1 мсек) временнЫе участки. В каждой точке измеряется мгновенная величина тока и напряжения. Теперь из полученных таблиц можно примерно вычислить требуемое. Но дальнейшие вычисления – вообще неподъемная работа.
Помочь нам берется Жора Небольсин, бывший наш офицер, ставший преподавателем в ВИТКУ. У него аналоговая вычислительная машина, и он мучительно преобразует наши кривые по кусочкам (аппроксимация, кажется) в квадратные и кубические уравнения, съедобные для его машины. Такой же титанический труд завершается ничем, точнее – совершенно дикими кривыми с точками разрыва там, где сопрягались кусочки основной функции. По-русски: полный звездец.
Начинаю понимать: не по Сеньке шапка. Даже, если бы эта функция просчиталась и оказалась пригодной для определения длины дуги в реальном времени. Нужно ведь все эти теоретические химеры воплотить в реальное управляющее устройство. Мне не хватит ни мозгов, ни всей жизни, чтобы его построить и испытать. Целые НИИ, набитые очень умными докторами наук и кандидатами, решают годами и десятилетиями такие проблемы. А простые инженеры у них на побегушках: подай, припаяй…
Решаю подойти к этой козе с тыла: через оптику. Нужно знать длину дуги? Так давай и будем мерить непосредственно это ослепляющее и живое существо. Внутри – жарковато: 6000 градусов. Но можно ведь измерять только изображение, полученное через фотообъектив.
В ГОИ добываю пучок стекловолокна, вместе с Серегой Костюковым учимся его обрабатывать: делить, резать, полировать торцы. На объектив, защищенный стеклом, не пропускающим тепловые лучи, закрепляется бронзовый цилиндрик. В его окошке 5х5 мм, на которое проецируется дуга, размещается 10 слоев стекловолокна. Сережа проявляет адское терпение, монтируя и шлифуя 10 хрустальных подков на эту блоху. Каждый слой стекловолокна выходит на свой фотодиод и освещает его, генерируя ток. Теперь суммарный ток от прибора зависит от количества освещенных фотодиодов, которое пропорционально длине дуги. Все очень просто.
Но это в теории. Практически ток светодиодов зависит больше от яркости дуги, чем от ее длины, а яркость мерцает с частотой импульсов. Опять задача разветвляется: надо изобрести схему, которая бы считывала именно количество освещаемых диодов, независимо от величины тока каждого диода… Начинаем колдовать над схемой счета…
Бумажные же события развиваются параллельно с нашей работой. Не прошло и двух-трех месяцев, как я получаю отказное решение ВНИИГПЭ: дескать, ничего нового нет: измерение длины дуги по ее напряжению общеизвестно.
Я даже взвываю: в формуле заявки мы тщательно обошли этот вопрос, а сама формула вообще о другом. Опровергаем, протестуем, посылаем. Еще два-три месяца и полное повторение отказа, опять не по теме формулы… Снова пишу возражения и доказательства. А вот и отказ с кое-чем конкретным: аналогичный способ патентуется Институтом электросварки им. Патона, но заявка закрытая, и ее суть нам не может быть раскрыта… Приехали.
Через своих ребят в ИЭС в Киеве добываю копию противопоставляемой заявки. Никакая она не закрытая, и речь в ней идет вообще о другом. Пишу яростное опровержение, не раскрывая особенно свое точное знание противопоставленных материалов. Через два месяца повторяются возражения, которые были в самом первом письме. Свихнуться можно с непривычки.
– Езжай в Москву, объясни им все, – настойчиво уговаривает меня Гоша. – Ну, не могут они не понять всю новизну и революционность наших решений!
В конце концов я сдаюсь, в смысле – наоборот: поддаюсь на уговоры своего «патентного поверенного» и собираюсь с силами для битвы в Москве. Мои моральные силы были в опасном избытке, а физические – в дефиците.
Неудобный поезд, на который удалось взять билет, пришел в Москву очень рано. Чтобы убить время, я пешком дошел от метро до Котельнической набережной, где размещается ВНИИГПЭ.
Еще было рано, предстояло ожидание около двух часов в вестибюле с колоннами, отделанными под что-то темно-зеленое, типа перезрелого малахита. Дом был построен во времена Хрущева, и, несмотря на это великолепие, низкие потолки давили на душу. Сесть было негде, и десятки приезжих людей в зимней одежде бесцельно тынялись по вестибюлю. Цвет нации – изобретателей – сразу «ставили на место» простым ожиданием внутри парадного подъезда. Прогресс все же был: ожидали теперь не «у подъезда». Цивилизация продвинулась еще дальше: к «своему» эксперту можно было дозвониться по телефону и договориться о встрече. А номер телефона справочного бюро ВНИИГПЭ, которое сообщало этот номер, был заботливо расположен прямо перед глазами звонившего. Особенный шик был в том, что это был не какой-нибудь местный телефон, а нормальный городской таксофон, к которому немедленно выстроилась очередь с началом рабочего дня в Важной Конторе, если хотите – даже в Святилище.
Подлый автомат глотал и не возвращал «двушки» (единственную валюту, которую он кушал), даже если было занято. Толпою «цвет и надёжа нации» бегала за монетами в довольно далекие магазины и киоски. Там их выдавали с трудом, всего по несколько штук «в одни руки».
Часа через 3 и я смог дозвониться. Эксперт (она) сказала, что может выйти только после обеда. Ждал еще полтора часа. Сесть было негде. Тяжелая шинель дополнительно сжимала жесткий корсет, который я не снимал уже больше суток. Подташнивало от голода: все буфеты и столовые были надежно скрыты в недоступном чреве Святилища.
Наконец дама-эксперт – Г. Д. Т. (это имя я буду лепетать на смертном одре) явила свой Образ и повела меня в тесную прихожую Святилища. Здесь, в невыносимой духоте и жаре, не снимая верхней одежды, за маленькими столиками спорили с Верховными Жрецами и шелестели бумагами из портфелей на коленях десятка два несчастных изобретателей со всего Великого и Могучего СССР. Я влился в их нестройные ряды, примостившись на одном из стульев. На втором разместилась моя личная Жрица. Столик был маленький, тем не менее, – за ним спорил со своим экспертом еще один несчастный, доказывающий что-то из области гидравлики.
– Ну, – произнесла Жрица вместо приветствия, бегло оглядев меня сонными после обильного обеда глазами. Я сосредоточился и сжато доложил суть изобретения и абсурдность отказных возражений ВНИИГПЭ. Дама внимательно подремывала, не прерывая меня. Кончив свои обоснования, я затих, ожидая возражений или вопросов по отдельным темам. Дама приоткрыла глаза и задала вопрос. Всего один вопрос, но какой!!!
– Ну и что? – спросила она, добавив в первоначальное приветствие целых 2 (два) слова! Я остолбенел от такой расточительной щедрости и глубоко задумался. Собравшись с силами, я еще понятнее повторил свои тезисы, обратив особое внимание Жрицы на предельное быстродействие согласно теореме Лапласа двухпозиционной системы автоматического широтно-импульсного регулирования, впервые примененного для сварочной дуги, и что противопоставленные материалы вообще из другой оперы.
– Ну и что из этого? – совсем расщедрилась на слова моя жрица.
И тут я заскучал. Я вспомнил, что мои предки гонялись за мамонтами, валили лес, мололи зерно. Если они что-то изобретали, – то, во всяком случае, не просили об этом справки у сонной дурынды. Еще я вспомнил книгу Дудинцева «Не хлебом единым», в которой изобретатель гробит начисто всю свою жизнь, продвигая единственное, на мой взгляд – не очень сложное, изобретение.
Развеселившись, что я не такой, я запихнул ворох бумаг в портфель и с наслаждением попрощался со своей Жрицей простыми, но сказанными очень душевно словами:
– В гробу в белых тапочках я видел вашу контору.
Что «ноги моей больше здесь не будет», я не стал добавлять: это подразумевалось само собой. Свободный и счастливый, я двинулся в обратный путь.
В лаборатории я приказал разобрать установку и выбросил все материалы, чтобы не было возврата. Надо было заниматься настоящими делами, которых в лаборатории и на объектах невпроворот…
Отступление с сожалениями о собственной глупости и неверии в технический прогресс. Недавно рассчитывая на компьютере сложную развертку и строя графики в программе EXCEL, я понял, что сам смог бы рассчитать так волновавшее меня раньше динамическое сопротивление дуги и удовлетворить, в конце концов, свое нездоровое любопытство. Нужны были только исходные осциллограммы или хотя бы таблицы для ввода данных в компьютер. Но ни осциллограмм, ни записей в оставшейся рабочей тетради, ни самой тетради – я не нашел. Утешает то, что мой преемник, некий задумчивый майор, превратил мои рабочие тетради и вообще всю скучную техническую библиотеку, сначала в макулатуру, затем – в «Королеву Марго» Дюма. Возможно, сейчас кто-нибудь наслаждается описанием подвигов доблестных мушкетеров…
Еще более мрачное отступление. В начале долбаной перестройки, будучи возвращенным уже в высокое звание Рабочего, я забрел по какой-то необходимости в полуразоренный ВНИИЭСО на Новолитовской улице. В больших пустынных цехах несколько группок колдовали у осциллографов. Нашел группу, работающую с полуавтоматической сваркой. Я рассказал им об идее импульсного регулирования дуги. Слушали меня внимательно, вникали.
– Берите, ребята, идею, – дарю безвозмездно. Вам по силам довести ее до практического использования. А уж сколько диссертаций можно написать по этой теме, – голова даже кружится!
И всё… Никаких видимых последствий. Наверное, мои лозунги падали уже на бесплодную почву разваливающегося учреждения. Сейчас обширные помещения и цеха ВНИИЭСО арендуют многочисленные торговые фирмы. Кто-то на этом деле имеет очень неплохие бабки…
Отступление очень светлое, но с иностранным акцентом. Сын купил мне в Москве для личного пользования инверторный источник тока итальянской фирмы TELWIN. В изделии весом всего 12,5 кг воплощено столько идей и возможностей сварки, что остается только позавидовать фирме, выращивающей такие плоды. Правда, ее же полуавтоматы трещат и разбрызгивают металл, как и прежде. Может быть, спецы за бугром еще дойдут до моей идеи?
В объятиях СПРУТа и других
Аффтар! Убей сибя апстену!
В Бабруйск, жывотнае!
(из WWW)Всё. Хватит быть кустарем с мотором и пытаться строить воздушные замки в одиночку. Хватит маяться высоконаучной дурью: «земли творенье – землей живу я». Даже текущих забот хватит для полной загрузки двух-трех нормальных людей. А если кое-кто не может не вытворять сверх программы, то ему надо слиться с массами в творческом экстазе и клепать: а) что сможет; б) что нужно дядям. И пусть вышестоящие дяди подставляют свои натруженные плечи по-настоящему. А нуждаются дяди в плазменной резке…
Готовлю проект приказа по УМР, который появляется через неделю. После преамбулы «лаборатории в/ч поручается…» следует ряд пунктов для других действующих лиц и отделов УМР, КМТС и 122 завода: «обеспечить…», «выдать…», «выделить…» и даже – «финансировать за счет…». Воистину: «дело прочно, когда под ним струится кровь». Ну, кровь пока побережем, а дефициты и финансирование – необходимы в серьезном деле.
Для начала в лаборатории появляются два настоящих немецких кульмана вместе с двумя инженерами. Это серьезные ребята, инженеры-механики. В их вузе не было военной кафедры, и их «забрили» на срочную службу после института. Мы начинаем работать по правилам. Разрабатываем и чертим наиболее сложные узлы, необходимые для деталировки. К сожалению, ребята работали в лаборатории недолго: большая часть срока их годичной службы уже была израсходована на канцелярскую работу в УМР…
И заводы, и монтажники не могут обойтись без фасонной резки труб, которые и кромсают от души кислородной резкой. Но нержавеющая сталь, как и алюминий, не поддаются кислородной резке. Уйма ухищренных технологий по резке НЖ сталей – медлительны и не приводят к «чувству глубокого удовлетворения». И тут появляется плазменная резка. Струя ионизированного газа с температурой около 50000 °C (слепящая сварочная дуга нагрета всего до 6000 °C) режет любой металл, как горячий нож масло.
Плазменной резкой лаборатория занимается уже давно, еще с «подвальных» времен, когда спец из ВНИИЭСО безуспешно пытался продать мне чертежи плазмотрона за 500 рублей. Если бы тогда я выложил эти деньги, то мы так и остались бы темными туземцами, получившими дорогое ружье с несколькими патронами. Этого не случилось из-за моей жадности: деньги надо было отдавать кровные. Зато потом мы стали богатыми: ружья и боеприпасы клепаем сами и раздаем их безвозмездно всему племени. А когда Заводу 122 поручили резать нержавеющие фланцы, то лаборатория вообще на пару месяцев стала его отделом, пока не поставила завод на ноги. Начали с полного нуля, кончили обучением человека, которому и передали на полном ходу технику, технологию и все секреты. А этих секретов, бывших шишек и болячек, набирается изрядно: техника усложняется. Разгладил шишку, вылечил болячку – стаешь обладателем опыта и знаний, иным путем почти недостижимых.
Однако наука тоже не дремала. Поначалу в плазмотронах (резаках) применяли вольфрамовый катод. Чтобы он не сгорал, сквозь резак прогоняли аргон, азот и водород, причем, аргон выполнял роль мелких сухих щепок для «растопки» азотной или водородной плазменной дуги. (Именно тонкую регулировку «щепок» и «дров» обеспечивало мое первое оформленное изобретение «Инжекторный смеситель газов». Истинно первым своим изобретением я считаю телегу в Казахстане). Так вот, наука открыла металлы, не боящиеся кислорода в горячем состоянии, – гафний и цирконий. Металлы т. н. термохимического катода – дорогие, зато теперь в плазмотронах стало возможным использование обычного воздуха. Плазменная резка стала экономней кислородной и начала применяться даже для обычных сталей. Дуга стала жестче и еще мощней.
Я подчеркиваю мощность дуги плазмотрона, поскольку многие наши барахтанья связаны именно с этим. Скорости резки возросли настолько, что уже невозможно резку проводить вручную. Малейшая задержка плазмотрона превращает узкий рез в обширную дыру (по научному – отверстие, но образующееся отверстие напоминает именно дыру). Кроме того, значительная часть удаляемого металла превращается в пар – в большое облако ядовитого бурого дыма. Находиться внутри облака – совсем неуютно.
Основная наша трудность – резка труб. И если с прямыми резами мы еще кое-как справлялись, то с косыми (для сегментных сварных колен – отводов) была просто беда. Это сейчас есть тонкие, армированные стекловолокном, абразивные круги для резки. А наши круги были на резиновой связке (вулканитовые) с низкой прочностью. При малейшем перекосе или превышении оборотов круг с грохотом разлетался на мелкие кусочки, норовя наказать виновника за упущения. Короче: проблема резки труб была у нас очень болезненной.
Косой рез трубы можно представить, если палку колбасы разрезать под углом широким ножом. А если развернуть колбасную оболочку, то всегда получим кривую – чистую синусоиду.
Построить синусный механизм, в котором перемещение резака H = Rsinα очень просто: это обычный кривошип с радиусом R. Изменяя только его величину и вращая трубу на угол α от 0 до 3600, можно резать трубу любого диаметра под любым углом.
Конечно, такие машины для медленной кислородной резки уже построены давно. Но их неторопливая механика просто развалится, если ее вращать со скоростями, нужными плазменной резке.
У нас уже был небольшой опыт. Наскоро собранная на площадке возле лаборатории машина с небывалой скоростью и «фасонно» отрезала кусок трубы, одновременно снимая фаску для сварки. Точная и красивая заготовка падает на землю, туча бурого дыма уходит в небеса…
Машина обогащает нас бесценным, в том числе – отрицательным, опытом: сегменты, состыкованные после сборки, не образуют расчетного угла!
Почему??? Я тщательно рассчитал и точно установил радиус синусного механизма. Не доверяя себе, проверил все по таблицам из книг. И вот такая неудача!
Блестящие после резки кромки приходится подгонять шлифмашинками вручную. И еще: с одной стороны фаски под сварку образуют слишком большой угол, с другой – слишком маленький!
Причину я прочувствовал и понял не сразу. Мы рассчитываем радиус R и режем по наружной поверхности трубы, а стыкуем отрезанные сегменты – по внутренней, которая искажается при резке с постоянно заданным углом фаски! И чем толще стенка трубы, тем больше искажения угла собираемого косого стыка.
Наша машина при работе уже решает два тригонометрических уравнения. Надо, чтобы она решала и третье: угол фаски под сварку должен быть переменным! Известны только минимум и максимум этого угла. Неясно: а) по какому закону угол должен меняться; б) как выявленный закон движения воплотить в практическое устройство?
Я опять погружаюсь в математику и механику. Есть же счастливые люди, забывшие все науки после получения диплома и прекрасно себя чувствующие. А тут приходится даже вспоминать тригонометрию за 9-й класс…
Расчеты прерываются неожиданным образом: Леня Лившиц добыл две путевки в хостинскую «Аврору» и мощным пинком отправляет туда меня и Олега Власова. Лето, благодать. Эмма уедет к Сереже в Брацлав, надо бы подумать о своем здоровье.
… Все хорошо, можно лечиться, загорать, купаться. После первых двух дней загорания приходится расходовать почти поллитровку водки на лечение: увы – не внутрь, а снаружи, чтобы не слезла обожженная кожа. Кстати, в санатории при соблюдении всего предписанного остается не так уж много свободного времени. Все процедуры я покорно исполняю, но как-то механически. Никак не могу выйти из прежних забот: как менять этот проклятый угол? Много времени занимает пляж до обеда: «лежу на пляжУ я и млею». Жаль ценного времени, – ведь украинцы соображают только до обеда… Вот и «лежу на пляжУ» и соображаю.
Без бумаги размышлять тяжело, и я прихватываю на следующий пляжный день небольшую тетрадь и карандаш. Олег старательно вникает в мои проблемы, но очевидно, что тригонометрия и теория машин и механизмов раньше были не самыми любимыми его предметами. Ему становится скучно со мной, и он отваливает в веселые компании преферансистов.
– Я за вами наблюдаю третий день: вы неправильно отдыхаете! – это обращается ко мне дама в цветастом купальнике. Я с трудом отрываюсь от своих построений, бормочу что-то о дефиците времени, и дама, возмущенно пофыркивая, удаляется.
К отъезду из «Авроры» у меня есть рабочие эскизы трех разных устройств, изменяющих угол наклона плазмотрона и формула поправки, учитывающая толщину стенки трубы и ее диаметр. Одно устройство меняет угол по закону тангенса, два – синуса. Какое из устройств точнее – можно будет определить либо на большом кульмане, либо вырезав сегмент практически. Забегая вперед, скажу, что победил синус, а устройство стало вообще другим – простым и точным. Отпуск удался, если после него рвешься к работе…
Наша машина должна очень быстро резать трубы диаметром от 50 до 700 мм. Плавное изменение оборотов для такого большого диапазона могут обеспечить только двигатели постоянного тока. Нахожу их в аэропорту Пулково: это списанные бортовые генераторы на 27 вольт. Хорошо, что знаю обратимость этих машин: они могут быть и двигателями.
Тяжеленную трубу длиной до 12 метров в зону резки должна подавать самоходная тележка. Логично, чтобы на этой телеге и был механизм вращения трубы. Угол ее поворота является «руководящим» для решения двух остальных уравнений – перемещения и наклона плазмотрона. Вывод: приводов должно быть два – один на подвижной тележке, другой – в зоне резки на синусных механизмах. Тогда отключая синусный привод, мы получим прямой рез, реверсируя его, – получим зеркально отображенную плоскость реза. Но оба привода должны работать совершенно синхронно. Эта задачка мне не по плечу; иду в НИИ Электропривода к яйцеголовым ребятам.
– Да, мы можем спроектировать и сделать для вас такое устройство. Надо сделать два выпрямителя на тиристорах. На каждом приводе будет стоять тахогенератор, напряжение которого зависит от оборотов. Узел сравнения сравнит два напряжения, и, в случае их неравенства, «подстегнет» выпрямитель отстающего привода.
– И какая будет погрешность при совместной работе приводов?
– Ну, если для вас очень-очень постараемся, то всего ± 2 %.
– По углу поворота?
Яйцеголовые электрики дружно хохочут от моей наивности: измерять привод постоянного тока в градусах поворота! Это же надо придумать. Отсмеявшись, поучают:
– Погрешность таких приводов можно измерять только в оборотах!
– А какую погрешность вы можете допустить по углу поворота? – спрашиваю я. Самый совестливый потянулся к калькулятору, чтобы перевести 2 % скорости в угол.
– Мне нужна практически нулевая погрешность по углу поворота, причем, не только во время вращения, но и при остановке, – убитым голосом заявляю я.
Подозреваю, что после моего ухода веселые ребята долго и дружно крутили пальцами у висков…
Но я знаю, что дистанционно передавать угол поворота могут сельсины – специальные машинки, питающиеся в основном током частотой 400 герц. Вскоре на наших стеллажах лежат десятки различных сельсинов разных типов, напряжений и принципов действия. Собираем парами, испытываем. Действительно, поворот одного сельсина точно отражается вторым. Только его силы еле хватает на поворот небольшой стрелки… Нет, такой хоккей нам «маловато будеть». В книге нахожу нужный пример: чтобы синхронизировать приводы створок шлюзовых ворот, на Беломорканале использовали два специально изготовленных огромных сельсина. Боюсь, и эта дорога для меня закрыта. Вспоминаю о самосинхронизации генераторов переменного тока. Надо испытать.
Два жигулевских генератора опутываются проводами, один – вращается от токарного станка. Второй не хочет втягиваться в эти игры и гордо стоит как вкопанный. Вот если его раскрутить с такими же оборотами, то он будет проявлять желанный эффект. Но очень-очень слабо.
Листая всякие разные книжки, натыкаюсь на слова «электрический вал». Оказывается, есть двигатели переменного тока, в которых вместо обычного «беличьего колеса» стоит фазный ротор. И если соединить роторы двух таких двигателей, то они будут вращаться синхронно. Такие двигатели ставят на каждую ногу длинных мостовых (кабельных) кранов, чтобы при движении одна нога не обгоняла другую. Что-то в этом есть мистическое, надо бы пощупать поближе.
Вскоре два двигателя по 4,5 квт (!) стоят в лаборатории. Соединяем кабелем роторы, включаем. Исправно и одинаково вертятся. Ну и что? А главное: как им плавно менять обороты? И сколько выдержит их синхронизация? Даю команду Гене Степанову притормозить один двигатель. Он берет доску и нажимает на вал одного двигателя. Ноль внимания: слишком мощные, блин, движки. Берет доску покрепче, нажимает посильней: обороты снижаются. Я ожидаю, что снижаться они будут и у второго двигателя. Однако он не оправдывает моих светлых надежд и упрямо крутится. После полной остановки одного двигателя, второй вдруг взвывает и начинает вращаться с огромной скоростью!
Гена Степанов смотрит на меня квадратными вопрошающими глазами, но я тоже ничего не понимаю. Хороша же синхронизация будет у нашей машины!
Рушится последняя надежда, надо что-то придумывать другое. Но почему-то мысли все время возвращаются к непокорным двигателям. Так чабанский пес Разбой в Казахстане не уходил, а крутился и прыгал вокруг гадюки, которая угрожающе шипела и норовила ужалить его.
Вскоре во время утренних размышлений я прозреваю и начинаю понимать, отчего беснуется второй двигатель. Но это знание, кажется, никак не решает мои проблемы: движок-то вертится!
Наступает следующее утро, и я лечу в лабораторию, чтобы проверить одну идейку. Не простую, а очень простую: оборвать одну фазу из трех на сети, питающей оба двигателя, чтобы лишить их собственного вращения. На обычных трехфазных двигателях такое насилие просто сожжет их, но, возможно, мои двигатели с соединенными роторами устоят…
Не ожидая Степанова, отсоединяю по одной фазе на каждом двигателе, включаю питание, ожидая возмущенного рева двигателей, лишенных одной фазы. Однако – все тихо. Нет даже броска тока, возникающего при пуске двигателя: он ведь не вертится. Я все это отчетливо вижу и понимаю на слух, без всяких приборов. С опаской, ожидая всяких неожиданностей, начинаю проворачивать рукой вал одного двигателя. Вращается легко, как будто он отключен от сети. Вал второго двигателя точно и без усилий повторяет мои движения на первом!
Появившиеся Степанов и Костюков, не успевшие переодеться, как зачарованные следят за моими манипуляциями.
– Затормози второй движок, – говорю Степанову. Он хватает доску. – Да нет, просто руками.
Начинаю крутить вал своего двигателя в одну и другую сторону. Вал упруго сопротивляется моим усилиям в любую сторону, допуская люфт градусов на 10. Это практически – желанный ноль на выходном валу редуктора!
– Теперь ты крути туды-сюды, а я буду держать, – говорю Степанову. Он пытается преодолеть мое сопротивление, но не может, и от души радуется этому: синхронизация есть!!!
Пусть крутятся два отдельных двигателя постоянного тока. Мы можем менять их обороты приблизительно одинаково, изменяя питающее их напряжение. А чтобы они не баловались разнобоем оборотов, – с каждым будет жестко соединен двигатель с фазным ротором и оборванной фазой! Попутно получаем еще несколько очень важных подарков. Если одному приводу тяжело и он пытается снизить обороты, – второй без всяких понуканий немедленно приходит ему на помощь. Точная синхронизация сохраняется при выключенных приводах: значит, можно резать десятки резов на одной трубе без всякой промежуточной подстройки. Синхронизация остается также при реверсировании одного из приводов для зеркальных резов. И еще: отключить такую жесткую синхронизацию, например, – для настройки или для прямых резов, – очень легко: надо отключить электрический вал. Просто сказочная удача!!!
Теперь можно работать. В основном зале лаборатории расчищается место. Здесь собираем тележку с приводами, которые будут вращать трубу и подавать тележку с длинной и тяжеленной трубой в зону резки. Отдельно собирается суппорт, управляющий всеми движениями плазмотрона. Мозг всей машины – пульт дистанционного управления (ПДУ) собирается рядом с моим рабочим столом. Специальные переключатели для ПДУ изготовляет завод «Электропульт» по нашему техзаданию. Все надписи и хромирование рукояток выполняются на заводе «Эра», где работает мой старый друг Валера Араховский.
Идея и пульт управления
Почти каждый день в лаборатории бывает командир части – Е. Е. Булкин. Он внимательно следит, как изготовляются и наращиваются детали на наши узлы, вникает во все тонкости. Все тяжелое оборудование мы монтируем на подвижной тележке: ее надо утяжелить. Булкин дает ценный совет: закрыть тележку так, чтобы ее нельзя было повредить даже случайно. К концу монтажа наша тележка напоминает небольшую платформу бронепоезда с угрожающей оранжево-черной расцветкой.
После решения главного затруднения – синхронизации – все остальные, довольно сложные, кажутся незначительными и преодолеваются походя. Наша задача: создать в металле небывало производительную и точную машину, которая бы полностью управлялась только одним человеком с одного пульта. Теперь мы значительно увеличиваем возможности машины: кроме резки сегментов мы можем вырезать врезки трубы в трубу под любым углом, патрубки двойной кривизны и даже отверстия в трубах. Для этого на пульте монтируем большой циферблат, где стрелка сельсина показывает угол поворота трубы. Приклеенный к стрелке крошечный магнитик может бесконтактно включать и выключать резку в заранее заданных точках.
Изобретается прицел для точной установки нашего усовершенствованного плазмотрона маленьким сервоприводом, который «до тогО» шевелил закрылками самолета. Отечественные трубы не всегда бывают круглые, – придумывается устройство для автоматической подстройки суппорта под несовершенства мироздания.
При пуске двигателей постоянного тока напряжение надо наращивать постепенно, что требует значительного усложнения схемы. Находится простейший выход: двигатели заранее подключены к генератору, который запускается от обычного двигателя переменного тока. Заодно решилась и проблема регулирования скорости прямо с пульта: ток возбуждения у генератора небольшой.
Теперь надо думать об изготовлении. У нас нет плоскошлифовального станка, чтобы изготовить точные узлы, которые должны работать без люфтов. Поэтому проектируем все детали для изготовления только на токарном и фрезерном станках, но с сохранением высокой точности работы всего узла. По круглым штангам без всяких люфтов перекатываются ролики на шарикоподшипниках. Регулируемые кривошипы – тоже круглые, их можно передвигать по точно расточенным отверстиям. Такой узел фрезеруется уже в сборе, и на плоскости закрепляются шкалы с нониусом точностью до 0,01 мм. Особое внимание к точности шестеренок: их у нас довольно много, и все строго расчетные. «Выбиваю» из УМР новую делительную головку.
По нашим чертежам завод 122 у себя изготовляет и монтирует 15-ти метровый рельсовый путь для тележки, подвески кабелей, щиты питания, а главное – могучую вентиляцию. Ни один «стакан» ядовитого бурого дыма не должен вырваться в цех. А дым перед выбросом в атмосферу должен очиститься от паров металла и окислов азота. Приемный патрубок вентиляции поэтому – сложная подвижная конструкция с водяной ванной из нержавеющей стали: наш «дымок» с водой образует азотную кислоту. На приемнике вентиляции установлена также штанга с термостойким желобом, вдвигаемым внутрь трубы, чтобы струя раскаленного металла не прилипала внутри трубы.
Перечислять все прибамбасы, внедренные в эту машину можно долго. По старой дружбе заглядывает мой «патентный поверенный» Гоша. Он очень ругал меня за срыв патентования и прекращение работ по проекту СИРИУС. Перед Гошей, вложившим немало сил и времени в тот проект, я чувствовал себя виноватым. Но связываться опять с ВНИИГПЭ, уже по СПРУТу, я категорически отказываюсь. Гоша бегло знакомится с нашей машиной, и заявляет:
– Да здесь сидит десяток изобретений!
Может и так, но мне теперь хватит лишь одного «чувства глубокого удовлетворения». Гоша взывает к патриотизму: вся страна от моего нежелания потеряет приоритет.
В Питере в это время проходит какой-то форум по новой технике. Там шведы показывают огромную машину для фасонной резки труб. Она прекрасно выглядит, здорово раскрашена. Если нашу машину представить как неокрашенный Мерседес последней модели, то шведская – громоздкая раскрашенная карета: скорости малы, диапазон диаметров труб – узкий. А главное: она не решает третье уравнение, угол фаски – постоянный. Цена же это чуда техники – заоблачная. Я доволен своим передовым детищем и поддаюсь Гоше, который быстренько оформляет заявку во ВНИИГПЭ.
На удивление быстро, не проходит и трех (!) лет вялой переписки, как я получаю авторское свидетельство № 659306 на «Установку для фасонной резки труб». Заявка зарегистрирована 1 августа 1976 года, а свидетельство выдано 8 января 1979 года. Формула изобретения закручена так юридически грамотно, что я, его папа, с удивлением разглядываю незнакомое личико своего дитяти… Держись, длинноногая Америка и всякие разные шведы: идем на обгон! Теперича можно заявлять остальные 9 идей, обнаруженных въедливым Гошей! Хватило бы жизни…
Все заботы по второй заявке я передаю Сереже Иванову, инженеру-сварщику, приданному мне на помощь. Наше с ним авторское свидетельство с зубодробительным названием «Механизм перемещения резака устройства для термической резки труб» оформляется только 14 октября 1982 года, когда я уже не был в лаборатории… Изюминку моей машины – полную синхронизацию двух приводов с двигателями постоянного тока – я так и не оформил никогда…
…Изготовление машины окончено, и почти вся лаборатория переселяется в Металлострой на завод 122. Месяца два мы монтируем СПРУТ-700, который даже в большом цеху кажется большим: мы будем резать заготовки из труб диаметром от 57 до 700 мм и длиной до 12 метров. Значит, на такое расстояние должна бегать и тележка с приводами. А к телеге от пульта и суппорта подходит связка довольно жестких кабелей, которые не должны мешать ходу тележки и загрузке трубы. На ближайшей стене натягиваем трос, по нему на роликах вслед за тележкой должен передвигаться толстый пучок кабелей. Приятные ожидания быстро разрушаются при испытаниях: пучок угрожающе горбатится и недопустимо перегибается в самых неожиданных местах. Что еще можно придумать? Неужели такая несущественная малость остановит наше движение по пути технического прогресса? Я задумался.
Гена Степанов решительно берет власть в свои руки. Он молча отсоединяет все кабели от тележки, затем решительно начинает скручивать пучок по часовой стрелке. Один поворот – одна скрученная петля диаметром около метра, – один ролик подвески. Мы с Сережей Костюковым «врубаемся» в замысел и в работу. Спустя часа два пучок кабелей напоминает гигантский шнур от телефонной трубки, подвешенный к роликам, катающимися по натянутому тросу. Теперь он растягивается и сокращается очень красиво и надежно. Я с чувством пожимаю руку старому соратнику.
Следующая запинка – опора трубы перед суппортом. Она должна точно «держать ось» тяжелой трубы при вращении и позволять ей перемещаться вдоль при настройке. Два блестящих шара размером с добрый кулак я искал по всему Ленинграду и очень гордился содеянным узлом. Труба опирается на две огромные «шариковые ручки» и может вертеться и двигаться в любом направлении!
Гладко было на бумаге… После первого же включения плазмотрона на поверхности шаров образуются глубокие каверны и шары вообще перестают вращаться: через контакты проходит большой ток! Приходится все переделывать. Шары заменяем овальными роликами из кадмиевой меди. Заодно упрощается настройка опоры для разных диаметров труб.
Обнаруживается еще несколько «суффиксов», по выражению морского писателя Соболева. Например: при резке легких труб с большой скоростью приводы не могут остановиться мгновенно. Надо бы ставить специальные двигатели с электротормозами, но их у нас нет. Задачка решается небольшим изменением схемы: после выключения двигатель какие-то доли секунды работает как генератор, нагруженный на резистор – обыкновенный электрод из нержавеющей стали. Торможение – изумительное, снятие тормоза – автоматическое!
СПРУТ-700 на заводе
Наконец все готово. Начинаем наладку, безжалостно кромсая заводские некондиционные трубы. Учится работать машина, учимся и мы, устраняя на ходу все «суффиксы». Скорости резки точного фасонного сегмента длятся считанные секунды и просто завораживают зрителей. Быстрота настройки – потрясающая: несколько переключений на пульте и только одна красная кнопка «ПУСК». Ослепительная работа плазмотрона (около 8 секунд для трубы 219 мм), автоматическая остановка, падение отрезанного сегмента. Чтобы снять фаску следующего сегмента, надо повернуть плазмотрон на 600. На рукоятках поворота – кнопка, отключающая электромагнитную муфту, поэтому вся операция занимает 1–2 секунды. Опять «пуск» – снята фаска следующего сегмента. Подача трубы тележкой; длина сегмента отсчитывается на лимбе токарного станка с точностью до 0,1 мм. Реверс одного привода (или его отключение для прямого реза), переброс угла наклона, пуск, свист и свет плазмотрона. Отрезанный сегмент падает в лоток…
Дом Техники в Ленинграде – с нашей фатальной склонностью к труднопроизносимым аббревиатурам именуемый ЛДНТП (Ленинградский Дом научно-технической пропаганды), – был в то время очень живым и нужным заведением. Здесь встречались и обменивались информацией, идеями, материалами и приборами люди, по-настоящему занимающиеся техникой – от профессора до рабочего. Не хочу обидеть клубы по интересам: собаководов, филателистов и любителей георгинов,– но наш клуб мне тоже казался интересным. В нем я делаю доклад о фасонной резке труб воздушной плазмой. Оказывается, эта проблема волнует многих. «По многочисленным просьбам трудящихся» секция сварки ЛДНТП назначает «смотрины» СПРУТа непосредственно в действии.
Возле СПРУТа собирается десятка два «представителей» и еще столько же заводских и УМРовских зевак. Раздаю темные стекла «представителям» и начальству, остальным – кусочки жести с маленьким отверстием, предупреждаю об яркости плазмы и жгучести расплавленного металла. Занимаем места: Гена у тележки, Серега – на подхвате у электрических щитов. Стажер от завода должен следить, чтобы растущая гора заготовок не раскатывалась по цеху и не мешала зрителям. За пульт стаю сам, превращаясь в некий придаток своего дитятка…
Толстая труба длиной около 10 метров превращается в два десятка комплектов точных сегментов для сварных отводов (колен) всего за несколько минут. Зрители просто потрясены: такой скорости и точности фасонной резки труб они никогда не видели…
Часа полтора прижатый толпой к машине, я отвечаю на вопросы. Да, мы можем резать трубы из любого металла, нержавейку – еще быстрее. Да, любые врезки: вот мы заготовили образцы. Угол фаски переменный, не только чтобы обеспечить сварку, главное – для точности стыка. Нет, фаски зачищать после резки не надо. Плазмотрон – наш собственный, без всяких резиновых колец и с настройкой расстояния катод – сопло. Отверстия в трубах вырезать можно будет любые, вот у нас оставлено место для такого механизма, но мы пока его не делали. И т. д. и т. п…
Затем начинаются вопросы, от которых я сникаю. У меня нет на них ответов.
– Когда вы можете сделать для нас такую машину? Сколько скажете – столько заплатим!
– Как заказать комплект документации? Оплату гарантируем.
– Вы можете сделать такую машину для труб диаметром от 800 до 1600 мм?
Дорогие коллеги, ребята, начальники! Я ничего не могу для вас сделать. Эта машина единственная и уникальная. Да еще формально и денежно принадлежит Заводу 122. Ее основные детали я находил всеми правдами и неправдами, или производил на разболтанных допотопных станках. И чертежей нормальных у меня нет: есть только пара общих видов и неполный комплект замасленных эскизов и набросков. Я простой кустарь-одиночка с найденным на свалке электромотором, а моя родная фирма таких веников не вяжет…
Такая машина жизненно, просто дозарезу, необходима трем организациям: Ленинжстрою, Выборгскому судостроительному заводу и Механическому заводу в Электростали. Именно они плотно «садятся» на меня.
Главк Ленинжстрой делает нулевой цикл для жилого и промышленного строительства всего Ленинграда и области. Это ему надо резать трубы диаметром 800 – 1200 мм. Для такой махины подвижная тележка уже не годится: слишком циклопическая она будет. Я прикидываю вариант, когда трубу будут вращать опорные ролики, связанными с суппортом. Тогда синхронизацию придется решать для каждого диаметра отдельно. Главк выделяет женщину-конструктора, которая занимает один кульман в лаборатории. За несколько месяцев мы с ней делаем проект новой машины на стадии КМ. Рабочие чертежи будет делать их КБ у себя дома.
Выборгский судостроительный завод начинает строительство морских буровых вышек. У них основной профиль – толстостенные трубы до 700 мм, и моя машина им подходит идеально. Вот только авиационных двигателей-генераторов им не найти, надо менять все двигатели и редукторы, что влечет кучу других изменений. Завод тоже выделяет конструктора, который «слизывает» все с натуры на 122 заводе. Им я выдаю электросхему, плазмотрон, формулы расчета углов и поправок на толщину стенки, благословение и обещание помощи в наладке.
Все мольбы и просьбы завода в далековатой Электростали остаются «без сатисфакции», ему обещан только комплект чертежей, если их сделает для себя Выборгский завод и даст мне…
На нашем заводе машина работает от случая к случаю – только с нержавеющими трубами, когда без нее просто не обойтись. Все обычные трубы «пилят» газорезкой вручную по привычной старине. Начальство завода и выделенный стажер-ученик машины побаиваются: уж слишком быстро и непонятно она работает. Мои инструкции стажеру, обычному газорезчику, входят в широко открытые глаза и уши, но, как оказалось, нигде не задерживаются. «Лабораторные» ребята – Гена и Сергей – в основном «секут» по электричеству, а ослепительной плазмы и тонких настроек «по тригонометрии» тоже побаиваются. Так что мне довольно часто приходится ездить к своему быстрому дитятку.
Но впереди машину ожидает большая работа. Рядом сооружаются печи и пресса для горячего изготовления отводов по заморской технологии. Несколько кусков толстостенной трубы нанизываются как бусы на жаростойкую оправку и помещаются в печь для нагрева. Периодически гидропресс, нажимая на холодные куски труб, выталкивает раскалившийся отрезок через изогнутый рог оправки. Рог этот растягивает мягкую заготовку и придает ей форму колена. Конечно, это только грубая заготовка, с которой еще предстоит повозиться…
Моя машина должна нарезать прямые заготовки толстостенных труб – для нее это плевая работа, детское развлечение, которым может заниматься даже наш стажер. За полчаса можно нарезать заготовок на два дня работы двух печей. Огромный станок для механической резки труб обычными резцами, входящий в комплект поставки вместе с печами, – вообще не нужен. Работает он медленно, да и резцов для него не напасешься…
Стажер накромсал гору заготовок, но горячее производство колен, как водится, сначала не пошло. Рог оправки был не отполирован, и возникали большие усилия при продавливании нагретой заготовки. Кроме последнего отрезка в печке успевали нагреться и следующие за ним. Мощный пресс просто напяливал одну трубу на другую вместо сталкивания с рога первой. Нужна была более тщательная наладка нагрева и полирование рога. Да и стажер на СПРУТе накромсал заготовок, не особенно заботясь о точности торцов труб, отрезанных быстрой плазмой. Я обещал все наладить, это было пустяковым делом.
Руководил отладкой технологии горячего изготовления отводов сам главный инженер УМР Корякин В. И., инженер-сантехник, недавно прибывший к нам из Дальнего Востока. Все делалось в великой спешке: московский главк давно уже расписал по фирмам всего Советского Союза многие тысячи отводов, которые Завод 122 должен был выдать еще полгода назад. Слишком долго раскачивались с постройкой печек. Вечно чего-нибудь не доставало: проектов, материалов, времени, нужных спецов, желания. А теперь для начальства УМР сильно запахло жареным, что, естественно, перетекает в героическую работу «на местах».
Для начала Корякин «нашел крайнего» в неточных торцах заготовок после «стажерской» плазмы. Технология была изменена на обычную механическую резку труб: монтаж станка оканчивали даже ночью, резцы добывали по всему Ленинграду. Стало чуть-чуть лучше, но заготовки продолжали налезать друг на друга, особенно в отводах большего диаметра. Пришлось все же по-настоящему полировать рога всех оправок (для каждого диаметра была своя, наибольший диаметр был всего около 150 мм).
Однако годные отводы «пошли» только тогда, когда научились точно регулировать температуру и зону нагрева в печи. Вот только годность изделий была еще нулевой: их рваные края с обеих сторон надо было отрезать точно под углом 900 со снятием фаски под сварку. Теперь только быстрая плазма могла справиться с такими объемами резки.
Приходится отключать СПРУТ от источника питания плазмы и ставить его на станок для резки фасок. Да и действующий плазмотрон я временно снимаю: сделаем сюда позже другой. Все усилия – для плана! Там нужна простая и тупая резка: пуск – стоп, пуск – стоп. Замри, дорогой мой СПРУТик, до лучших времен…
…Через месяц один из моих заводских болельщиков звонит в лабораторию:
– Корякин выбросил твою машину на улицу!!!
Несемся вместе с моими ребятами в Металлострой. От увиденной картины у нас «в зобу дыхание сперло». Все узлы, пульт управления с тонкими приборами, скрученные кабели и точные механизмы нашего СПРУТа разбросаны среди железного хлама и вмерзли в лед и снег. Только тележка, защищенная броней, сохраняет видимость целого изделия, хотя ее полосатая окраска и повреждена крановыми стропами.
Что бы там ни говорили лучшие представители интеллигенции, а русский мат является мощным средством предотвращения инфаркта миокарда. Только после обильной профилактики, мы начинаем выдалбливать изо льда дорогие останки и собирать их в одно место…
… Набрасываюсь на Корякина чуть ли не с кулаками:
– Зачем же крушить машину и выбрасывать на свалку, если даже она не нужна заводу? Другим бы отдали, если сами, импотенты херовы, пользоваться не можете!!! Вон сколько желающих было!
– Да ты что, Коля? Я этому зас. цу Ч…ову велел все разобрать аккуратно и сложить в отдельное место, чтобы потом можно было собрать в новом цеху!
«Зас…ц Ч. ов» – главный инженер завода, личность надменная, грубая и амбициозная. Он работает на заводе меньше года, и мы с первых дней терпеть не можем друг друга. Я его – за невежественность и высокомерие. Он меня – за то, что распоряжаюсь на его заводе, как у себя дома, не давая себе труда обращаться к нему, Главному. Да я на его заводе уже много лет что-нибудь налаживаю, запускаю, знаю всех мастеров и старых рабочих. А они знают меня, всегда помогают. И нет у меня времени и нужды спотыкаться об амбиции этого спесивого амбала…
…Через месяц все собранное нами забирает завод из Электростали. Вскоре я выезжаю туда для наладки восстановленного из праха СПРУТа. Увы, до настоящей наладки в действии еще далеко: машина только строится. Однако я плотно работаю пару дней с мастером цеха. Оказывается, этот невысокий и молчаливый человек средних лет присутствовал на моем «плазменном шоу» на 122 заводе и просто мечтал о такой машине. Он тормошил свое начальство, просил начать изготовление машины хотя бы по снятым эскизам… И тут вдруг так повезло: все прибыло на завод, только собери и работай! Вместе мы проверяем узлы, кабели и приборы: все загрузки-погрузки и переезды не прошли для них бесследно. Мастер соображает отлично, все ловит на лету и просто впитывает в себя мои пояснения.
Господи! Владельцы кошек и собак сильно переживают, чтобы приплод их питомцев попал в хорошие руки. А тут дитятко, которое не давало спать несколько лет, попадает именно в такие любящие руки! Я просто счастлив.
Расстаемся мы ненадолго: я твердо обещаю приехать, хоть за счет своего отпуска, для настоящей наладки и пуска машины.
Вызова из Электростали долго не было, и я позвонил директору завода сам. Он нехотя сообщил мне, что планы завода изменились. Детали машины – растащили; мастер, с которым я работал – уволился. С его уходом умерла и моя машина, теперь – навсегда…
Ленинжстрой, кажется, так и не смог построить настоящую машину для резки больших диаметров и обошелся неким упрощенным стендом для ручной резки.
Прометей без совести. Сварка на целине
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?
(К. П. № 133)И саго, употребленное не в меру, может причинить вред.
(К. П. № 140)Недавно, просматривая материалы для этой главы, с удивлением обнаружил запись на авторском свидетельстве № 659306 «Установка для фасонной резки труб» (с приоритетом от 1 августа 1976 года). Некое Предприятие п/я А–1105 (кажется это Выборгский судостроительный завод) по Приказу № 265-П от 25.06.1986 г. выплатило мне «авторское вознаграждение за использование изобретения» аж целых 210 рублей! С ума сдуреть, как быстро все вертится в нашем мире: даже 10 лет не прошло! Действительно: ничто на земле не проходит бесследно, хотя почему-то и не запомнилось автору это фантастическое вознаграждение.
Забавно то, что звание «Изобретатель СССР» и редкий красивый значок к нему я получил совершенно по другой записи. П/я В-8669 из Магадана осчастливил каждого (!) из 4 авторов суммой 5 (пять) рублей 59 копеек. У нас было коллективное изобретение по теплоизоляции (!) резервуаров. Один из авторов – Е. Е. Булкин чуть не сорвал нам процесс обогащения:
– Я не могу рисковать такой красивой бумагой, даже ради таких больших денег! (для получения записи и денег требовалась пересылка подлинников авторских свидетельств в Магадан). Еле уломали командира корыстолюбивые остальные авторы: Олег Власов, Коля Самойлов и я.
Чего только не выходило из лаборатории на уровне неоформленных изобретений! Вот инвертор для сварки алюминия. Он отлично работал, и Толя Орлов уговорил меня изготовить его в «выставочном» исполнении. От имени ВИТКУ Орлов везет его на всесоюзный бардак – ВДНХ и только чудом спасает экспонат от похищения. Изготовлены: двухэлектродная горелка, напольное устройство для резки нержавеющих фланцев, электрод-карандаш с циркониевым или гафниевым «грифелем» для воздушной плазмы и много другого. Не считая серийных горелок, рабочих контейнеров для радиоактивных изотопов, держателей, передвижных сварочных машин и всякой разной оснастки и монтажных заготовок…
Особенно интересен был полуплазмотрон-горелка «Альфа», который мы доводили вместе с Сергеем Алексеевичем Ивановым. Миниатюрная, но сложная горелка с очень эффективным охлаждением, могла варить алюминий толщиной от фольги до 50 мм – без всякой очистки и от любого источника тока. Заявку на изобретение, которую все же подал Сергей, как водится, отвергли. Но после моего доклада в ЛДНТП, горелкой заинтересовалась могучая «Электросила», у которой были проблемы со сваркой толстых алюминиевых шин. Делегация завода доставила в лабораторию метровые куски алюминиевой шины сечением 30х300 мм, скептически поглядывая на малюсенькую горелочку. Вооружились стеклами, чтобы смотреть на мое крушение.
Не очищая заготовку, я быстро заварил стык, еле успевая подавать присадку. Наплавленный шов блестел как полированный, это первое свидетельство качества сварки. Вольфрамовый электрод не повредился, горелка оставалась холодной. Делегация просто не верила глазам своим. Поскольку присадочный материал кончился, то мне предложили просто греть огромную шину. Я еще добавил ток, дуга просто ревела. Траектория дуги выявлялась на грязном фоне блестящей полосой переплавленного и очищенного металла. Горелка и электрод спокойно держались, а вот шина нагрелась так, что начала отваливаться по кускам. После такой убедительной наглядности с «Электросилой» я заключил договор: они делают по моим чертежам 10 горелок, 8 из которых испытываются в цехах, 2 – у нас. Один инженер заводского БРИЗа просто увлекается горелкой, обещает изготовить опытные горелки относительно быстро. Большое предприятие имеет очень громоздкое управление, и «пробить» внеплановую тонкую работу чрезвычайно сложно.
Месяца через два я получил известие: инженер, занимавшийся горелкой, случайным выстрелом убит на охоте. Получилось как обычно: история оканчивается вместе со смертью творца этой истории… Впрочем, горелка была настолько полезна и хороша, что ее, наверное, все же сделали на заводе, только уже без упоминания авторов.
Аналогично «кинула» меня могучая фирма «Прометей». Флотские топливные склады в особо важных районах строились в толще скал, в штольнях, облицованных металлом. На плотность надо было проверять десятки километров (!) сварных швов при доступе только с одной стороны. Проверяли мы т. н. вакуумрамками. На небольшой участок шва наносилась мыльная эмульсия, затем накладывалась рамка из оргстекла с высокими бортами из мягкой резины. Воздух отсасывался компрессором, и, если рамка «держала», то на шве можно было увидеть мыльные пузыри в местах течи, которые следовало отметить для исправления. Все наглядно и просто, но только для небольших швов и в комнатных условиях.
В суровой действительности борта рамки изнашивались и переставали держать вакуум очень быстро, а оргстекло – забрызгивалось эмульсией. Вакуумрамки разных конфигураций приходилось непрерывно изготовлять или ремонтировать. Работать надо было очень тщательно: на слуху был случай, когда через пропущенный дефект ушел в песок полный резервуар авиационного бензина. Короче: работа была очень ответственной, трудной, медленной и нудной. Даже мой лучший радиограф – бывший мичман Василий Федорович Андреев воспринимал ее как божье наказание.
Как-то незаметно у нас с ним созрела мысль использовать для контроля метод цветной дефектоскопии, который мы применяли для выявления микротрещин в образцах из нержавеющей стали. Попробовали, кое-что изменили, потренировались – все получилось, хоть и не сразу. Проблема была в том, что количество дефектов возросло в 2 раза: метод обнаруживал даже несквозные поры. Потом осознали, что это и хорошо: мы выявляли будущие дефекты, которые сейчас сварщику исправить можно за секунды. Надо только перестать бояться лишней (пока!) браковки. Работа пошла весело и быстро. Когда таким способом было испытано уже несколько километров сварки, грамотный надзор заказчика спохватился:
– А что это у вас за быстрое колдовство? Почему не испытываете сварку вакуумрамкой, как велят технические условия???
Пришлось легализоваться под видом рационализаторского предложения, тем более что наш метод контроля давал большую экономию времени (которую, правда, никто так и не смог подсчитать, поскольку время было наше). Написали «рацию», как на метод контроля, улучшающий условия труда, подали. Родное Бюро (БРИЗ) потребовало заключение специалистов. Таковые были в «Прометее», могучем «ящике» судостроения, куда я и направил Андреева с письмом. Вернулся он убитый.
– Там, Николай Трофимович, сидят пять кандидатов наук по цветной дефектоскопии, они в один голос заявили, что это все чушь, посмеялись надо мной и отказались дать бумагу! Так что, теперь нам опять переходить на вакуумрамку? – истинный труженик, он боялся только этой ненавистной работы, зримой уже в ближайшем времени.
– Ладно, Вася, оставь бумаги, я освобожусь и сам схожу к ним, поговорю по– птичьи.
…Несколько человек «ланчевались» – гоняли чаи-кофеи, уютно расположившись за вывеской «Секция капиллярных методов контроля» в украшенном лепниной Митрополичьем Доме Александро-Невской лавры. Их покой надежно охраняли: Первый (секретный) отдел, бюро пропусков и несколько барьеров вооруженной охраны. Встретили они меня весело:
– А опять эта бумага! Хотите микроскопом гвозди забивать?
– Приходится, если вы не придумали ничего лучшего для нас, серых. Даже дохлую вакуумрамку наш товарищ изобрел, – беру быка за рога: мне некогда, и не хочется разводить с ними церемонии после безобразий с Андреевым.
– Как это? Откуда вы взяли? – аж приподнялись кандидаты. – Это, кажется, французы придумали!
– И этот француз называется майором Советской Армии Федченей, военным строителем! Притихшей «науке» рассказываю о недостатках рамки и преимуществах необычного – использование цветной дефектоскопии для контроля плотности, особенно – если с другой стороны к сварному шву не подобраться. При словах «цветная» все кандидаты напрягаются: это их территория, их хлеб с маслом, о тайных глубинах которых я, конечно, понятия не имею. Они надменно засыпают меня научными терминами: «пенетранты», «экстракция», «чувствительность метода», «капилляры»… Убедившись, что в «цветных словах» я разбираюсь не хуже их, ученые ребята успокаиваются. Продолжаем разговор уже вполне профессионально о занимательных мелочах контроля, по которым у нас имеется уже большой опыт. А кандидаты, оказывается, не совсем «в курсе» этих загогулин, которые мы уже успешно преодолели.
– Так это же изобретение! – не выдерживает самый Непосредственный работник передовой науки. Я скромно соглашаюсь с предыдущим оратором, добавляя, что сейчас мне нужна всего лишь справка о пригодности к использованию рацпредложения.
– Так давайте оформим вместе заявку на изобретение! – внезапно предлагает самый Дальновидный. – Трое наших – и вы, – смело очерчивает он круг доступа к грядущему пирогу. Мне очень не хочется опять наступать на грабли патентования, но если ученые товарищи желают, и сами оформят заявку…
– Наших – двое: Андреев и я, – поправляю «науку».
– Ну… рабочего… в заявку нового метода… – кисло тянут любители авторских свидетельств. Но я твердо стою на своем, и они скрепя сердце соглашаются подать заявку от имени пятерых.
Уношу из «Прометея» кроме вожделенной справки также толстый том патентов Германии по капиллярным методам контроля. В течение двух недель я должен дать заключение, что хитроумные немцы за истекшие 50 лет ничего подобного нашему методу не придумали. Поиск по остальным девяти странам и составление заявки любезные соавторы принимают на свои натруженные плечи. Через две недели мы должны встретиться снова для подписания заявки.
Верный «союзническому долгу», я урываю время от плотного графика, чтобы разобраться с немцами и составить «бумагу» к условленному сроку. Успеваю. Звоню кандидатам, чтобы они заказали пропуск в свою уютную обитель.
– Вы знаете… вам можно не приезжать… мы уже подали заявку… нет, вас мы не включали…мы подумали, что… – заикается «соавтор» на другом конце провода.
Я кладу трубку, даже не выругавшись по-настоящему. Мне уже ясно, что именно подумало «жулье от науки», как его метко окрестил незабвенный дед Трочун. Ни мне, ни Васе Андрееву, не нужна волокита с авторским свидетельством. А лично мне, простому Заслуженному рационализатору РСФСР, даже лестно, что целых три кандидата наук могут сытно питаться крошками с моего стола. И времени, затраченного на чтение чужих патентов, совсем не жалко: я узнал от немецких «геноссен» много интересного о капиллярах, правда – в других областях…
И еще одна история о контроле сварки. Мы строим в Казахстане, Сибири и других местах старты для огромных межконтинентальных ракет. Она, родимая, высотой около 50 метров, прячется в «ямку», набитую прибамбасами и кабелями по самую завязку. «Ямку» глубиной 50 и диаметром около 10 метров от остальной планеты отделяет кольцо кладки из мощных ж/б тюбингов. Сверху на ямку по рельсам накатывается холмик, на котором могут расти деревья, если они растут вокруг.
Понятно, что при такой глубине ямы встреча с водой неизбежна, и мощный железобетонный стакан должен быть облицован изнутри водонепроницаемой металлической облицовкой (раньше мы собирали там резервуар из рулонных заготовок, который и служил опалубкой при бетонировании). Конструкторы «ямки» не были отягощены знаниями сварки, поэтому они сделали «как лучше и быстрее»: внутреннюю стенку каждого сегмента еще на заводе облицевали металлом. На монтаже следовало на щели между сегментами наложить внахлест горизонтальные и вертикальные стальные полосы и приварить их к металлу облицовки. Все очень просто и наглядно.
Вскоре в часть из «верхов» пришел сигнал: «сварщики тире плохие зпт сварка не держит тчк примите срочные меры по замене зпт усилению личного состава».
«На ковре» у начальника УМР я твердо заявляю, что менять никого не нужно: туда мы послали лучших из лучших. Например – Витю Кибалко, одного из моих первых матросов, – не только аса-сварщика, но и толкового инструктора. Но, когда у верхов шатается трон и чешется шея, все возражения кажутся им жалким лепетом, недостойным внимания. Следует грозный окрик Булкину: «Выполнить немедленно без разговоров!!!» За дверью начальствующий рык Булкин трансформирует в задумчивую фразу-приказ:
– Надо вам ехать, Николай Трофимович: больше никто не разберется…
В тот же день вечером я отбыл на прямом поезде в Целиноград (бывший Актюбинск, ныне – Астана, столица Казахстана). Для «поддержки штанов» мне добавили моего приятеля Васю Марусенева, которому на тот момент просто нечего было делать. Впрочем, своей персоной он выполнял важную часть приказа: «усилить».
Все было бы очень мило, но меня подвела собственная температура: она была около 38 градусов. Если бы не приказ, то я бы просто валялся в постели. За «прямизну» поезда тоже пришлось платить: до Целинограда он полз семь(!) суток, надолго замирая на забытых богом полустанках. В стареньком вагоне окна были со щелями, и я то дрожал от холода, то купался в липком поту от внутренней и внешней жары. Но все эти мелочи еще больше съежились, после первого «откушивания» Василь Василича.
Бодрые песнопения «Не все Шапиро подчиняются моря!» в моей комнате, где командир части А. М. Шапиро был не только начальником, но и соседом, – теперь уже выглядели милой шалостью.
В. В. Марусенев – нормальный немногословный мужик, теперь озверел надолго – на всю неделю: у проводника «было с собой», а у Васи – был полученный аванс.
Я уже удивлялся необычайно длительному подъему энергии у некоторых «малопьющих» (сколько ни пьют – все мало). Вася плотно прессинговал меня по всему пустому купе, не давая ни секунды передышки. Ему крайне важно было выяснить у меня тысячу вопросов, причем – сейчас и немедленно. Самый главный вопрос «Ты меня уважаешь???» дробился на множество доказательств, что я делаю это недостаточно эффективно. Высказываются и вероятные причины этого: а) зазнался; б) имею более высокое звание; в) забыл, как бывало раньше… в) брезгую. Последнее подозрение было самым грозным и применялось совместно с физическим воздействием – насильственным поворотом, когда я пытался отмолчаться или отвернуться. Поскольку разговоры продолжались семь суток, то отсутствие трупа в нашем купе можно объяснить только моей личной заботой об офицерских кадрах СА и ВМФ.
(Вася уже давно ушел в мир иной, а у его вдовы Зины, с которой недавно созвонился, – голос живой и бодрый… Неужели от этого?)
В Целинограде нас встречают два офицера на военном «козле». Слегка опережая собственное пыльное облако, мы несемся в палаточно-балочный городок километров за 10 от небольшого города – к майору Чуйко. Из разговоров начинаю понимать, что этот майор здесь главный, более того, – все говорят о нем с большим уважением, что бывает не так часто.
…Среди нескольких подполковников и других офицеров какой-то спокойной властностью при невысоком воинском звании выделялся их командир. Майор – человек лет 35 в сухопутной запыленной форме с загорелым до черноты лицом, на котором выделялись серые, слегка насмешливые глаза, которые быстро, но внимательно, «просканировали» наши военно-морские личности. Наверное, он уже знал и ждал нас, потому что все вопросы нашей дальнейшие жизни были решены в течение считанных секунд: размещение, питание, выделение машины и водителя. Каждое решение Чуйко двумя словами, как бы мимоходом, произносил тому офицеру, который его выполнял. У того молчаливый полупоклон головы заменял громоздкий ответ по уставу (и по кино):
– Так точно, товарищ майор. Все ваши указания понял, всё будет выполнено.
Поскольку все действительно выполнялось немедленно и в полном объеме, сразу начинаешь понимать, какая слаженная команда здесь работает и как здесь ценят время – свое и чужое. И в центре порядка, не слишком частого на наших стройках, стояла фигура загадочного майора. Я давно уже осознал истину: «каков поп, таков и приход» и с интересом присматриваюсь к редкой разновидности строительного «попа». По стилю работы Чуйко очень напоминал Д. И. Френкеля, но тот был гораздо старше и отягощен полковничьими погонами…
– Сегодня устраивайтесь, отдыхайте. Завтрак у нас в 6:30, в семь я заеду за вами. Не рано вам будет? Будить не надо? – глаза майора с веселинкой глядят на морских подполковника и майора. Но я уже усвоил стиль этих ребят и улыбаюсь:
– И ложиться не будем, – я отвечаю и за Марусенева как старший по званию…
Все офицеры питаются вместе с солдатами из общего котла. Никаких разносолов, даже каша, и та в виде родной «шрапнели». Я еще болен и слаб, и ее скользкие шарики просто не проталкиваются в мое горло, несмотря на предыдущее семидневное питание одним чаем. Есть вода, она привозная, заботливо охлаждена для питья. Неожиданно финское сухое молоко, которым меня снабдила в дорогу Эмма, легко растворяется в холодной воде, и я наслаждаюсь молоком «с погреба» в давно известной мне жарище казахстанской степи… Только это эрзац-молоко меня и спасло в грядущие жаркие две недели…
Больше часа несется наш козлик по еле заметному пыльному следу на высохшей траве выжженной солнцем степи. Стена пыли долго стоит за нами…
На объекте жарко в прямом и переносном смысле. Полыхает сварка, ревут агрегаты и компрессоры… Спускаемся в котлован, осматриваюсь. Размеры шахты после прибалтийских, конечно, впечатляют. А вот ее конструкция… Могучий Кибалко облегченно приникает к моей груди:
– Николай Трофимович, задолбали…
Подошедший офицер ракетчиков показывает Чуйко и мне отмеченные швы, которые треснули. Их подварили вновь, «покрепче», они опять начали трещать…
– Может быть, еще побольше шов наложить? – вопросительно смотрит на меня военпред.
Случай просто классический: именно так самыми лучшими намерениями мостится дорога в ад.
– Сварка и трещит оттого, что вы слишком хорошо варите.
Военпред недоверчиво смотрит на меня. Отнимаю у него мелок и, рисуя схему на стене шахты, выдаю всем собравшимся короткую лекцию. Огромные внутренние усилия неизбежно возникают при сварке от усадки наплавляемого металла. Они суммируются из-за множества параллельных швов на неудачной, очень жесткой конструкции. Тюбинги жестко связаны и не могут спасительно подвинуться или деформироваться, что уменьшило бы напряжения. Поэтому швы просто разрываются от собственных внутренних напряжений. Наглядные пособия окружают нас. Все слушатели, в том числе Чуйко, просто впитывают в себя азы сварочной науки. Теперь им стает понятным мой первый вывод: чем больше наплавленного металла, тем выше внутренние напряжения, тем легче разрушится эта конструкция. При начальстве (и для него!) запрещаю всем сварщикам варить усиленные швы. Можно еще немного уменьшить напряжения за счет правильной последовательности сварки вертикальных и горизонтальных накладок, отсутствия прихваток и другими тонкостями.
Несколько дней мы вместе со сварщиками завариваем десяток ярусов тюбингов. Трещин не появляется. Военпред уже начал молиться на меня, когда отчетливый щелчок и появление трещинки на одной накладке, показали, что проблема остается, хотя и немного уменьшилась в размере.
На нескольких стволах я провожу такую же работу, затем пишу подробную технологию. Оставляю «просветленных» Марусенева и Кибалко и улетаю из знакомого Казахстана самолетом: я сделал все, что мог на этапе «расхлебывания» совершенной другими глупости.
Через неделю мне передают на рецензирование проект новых ТУ по контролю сварки на пусковых шахтах. Проектировщики наконец-то поняли, что вляпались по самые уши, и позвали на помощь науку из самого ИЭС им. Патона. Наука отреагировала адекватно как наука, но совершенно по-идиотски с точки зрения реальной жизни, знанием которой всегда славились патоновцы. Я до сих пор не знаю, как в недрах ИЭС родился этот перл. Вот его философия: раз есть нежелательное явление, то его надо сначала измерить, чтобы знать, как с ним бороться. При строительстве и сварке в облицовку должны были внедряться специальные тензометры и маячки, информация с них считываться специальным устройством, которое бы показывало бы, что напряжения велики, и возможно появление трещин. Стоимость контроля сварки стала приближаться к затратам на все строительство…
Так и хотелось спросить на манер моей патентной дамы: «ну и что»? Никаких мер по уменьшению этих напряжений и даже по заделке трещин применить-то уже нельзя!
Я написал резко отрицательный отзыв по этим бесполезным ТУ контроля. Конструкция в целом – ошибочная, огромные внутренние напряжения в ней – неизбежны. Напряженная конструкция, даже совершенно целая, могла треснуть в любой момент – например, от случайного удара молотком, не говоря уже о землетрясениях и взрывах…
Проектируемые ТУ благополучно похоронили, скорее всего – из-за дороговизны и очевидной бесполезности такого контроля. А поскольку стратегические шахты продолжали трещать, а вода – поступать, то в низшей точке шахты просто соорудили приямок и насос, который периодически откачивал воду. Для этого пришлось еще соорудить автоматику…
А вот история с обратным знаком, основанная на невежестве изготовителей. Впрочем, и конструкторы внесли достойную «лепту». Мне пришлось разбираться с нарушениями геометрии торпедных стеллажей в одном из скальных арсеналов Севера. Заготовки стальных консолей изготовил 8-й Завод в Палдиски, принадлежащий УМР, мы же их только монтировали. После установки оказалось, что длинные консоли совершенно не параллельны, нежестки и никак не могут принять на свои плечи такой тяжелый и точный груз, как торпеды. Виноват был в первую очередь завод, не обеспечивший точности заготовок, варивший их не в жестких кондукторах, а буквально «на колене». Главный инженер завода, сантехник по специальности, обнаружил полную «темноту» по сварке металлоконструкций и вынужден был подписать убийственный для завода акт. Вина конструкторов тоже была очевидной. Они, «нарисовав» длинные недостаточно жесткие консоли, «навешали» на них очень много сварки. А очень напряженные конструкции могут «разгружаться» потом, меняя свою геометрию с течением времени…
Сравнительно простой объект пришлось переделывать. Конечно, заниматься этим пришлось мне самому: что возьмешь с «малограмотного завода», как сказало наше общее Управление, ликвидируя «нехороший» для завода акт…
Взгляды из будущего. Майор Чуйко вскоре стал Героем Социалистического труда, генералом и начальником главка ГУСС (специального строительства). Все, кто работал с ним, отмечают удивительную человечность и работоспособность этого незаурядного человека, с которым мне довелось «пересечься» на очень короткое время.
Те пусковые шахты МБР, о которых шла речь, сейчас оказались в другой стране и наверняка демонтированы. Вряд ли они теперь стоят где-либо на боевом дежурстве: слишком заметны они из космоса и слишком уязвимы. Даже с надвинутым холмом, даже зимой можно определить, что ракета живет: для некоторых ее частей нужна постоянная температура, и это пятнышко отличающейся от фона температуры считывается спутниками за несколько витков. Огромные силы и средства вкладывала страна в эту гонку вооружений, подрывая свою экономику. Все было напрасно? Или, может быть, действительно хрупкий мир на планете Земля держится на острие ракет с ядерными зарядами? Да и мира в нашем мире, собственно нет: просто используемые заряды и участники войн пока не самые большие…
Надо рассказать о других проектах с судьбой более веселой, тем более – проросшей в будущее. Я уже писал, что одним из главных наших развлечений было строительство монтажно-сварочных машин для объектов. Тут мы давно «набили лапы» и наши машины на базе автоприцепов ставали все совершенней. Последний писк моды – передвижная сварочная мастерская ПСМ – надцатой модели. Небольшой фургон на автоприцепе нес в себе все необходимое (в том числе – инструменты и материалы) для работы четырех сварщиков и бригады слесарей. Нужно было только подключить питающий и размотать сварочные кабели.
Я знал, что через пару месяцев эксплуатации машина будет похожа на выжившую после Хиросимы, но сохранит свою работоспособность. Поэтому при постройке мы действовали соответственно: все прочно, надежно, «кувалдоустойчиво» (по-современному – «вандалоустойчиво»), основное оборудование не должно поддаваться отвинчиванию и краже – «утаскиванию». Отделка – минимальная, никаких изысков, особенно с применением красивого пластика, который просто выдирается с корнями для солдатских поделок. Вместо гравированных на пластике табличек и надписей – надписи краской по трафарету. Короче: рабочая, простая и надежная машина.
Неожиданно в лаборатории появляется делегация из УМР. Корякин приводит с собой еще каких-то высоких чинов из московского главка. Нашу машину осматривают долго, тщательно и с пристрастием – как молодой врач девушку, которая нравится.
– Все хорошо, все удобно, все продумано. Вот только отделка никуда не годится!
Пытаюсь доказать, что это мы делаем осознанно, что так надо. Но мне в ответ приоткрывают сверкающие дали: наша скромная рабочая лошадка будет показана на всеармейской выставке. Более того: наш главк наметил техническое перевооружение всех организаций с использованием различных передвижных средств, а мы и наша машина – лидеры в этих вопросах… Поэтому нам предлагается из нашего выносливого, но неуклюжего, верблюда вырастить грациозную и привлекательную зебру с разноцветными лентами, вплетенными в гриву. Собственный паспорт зебра должна держать в красивых зубах. И сроку нам на все метаморфозы – меньше месяца…
«Проникаюсь» сам, провожу собрание, чтобы вдохновить вверенный личный состав. Он тоже осознает и проникается. Времени маловато, начинаем без раскачки. Начало, как всегда, – заявка на недостающее оборудование, материалы, инструмент и все такое – с указанием срочности.
«Красивую зебру» проще было бы сделать «с нуля», но нет свободного фургона. Приходится все демонтировать, заменять оборудование на новое, кабели – на блестящие, линолеум на полу и верстаках – на красивый. Несколько десятков больших и малых шильдиков (лейблов) нам гравирует «ЭРА» по спецсоглашению («вы нам – мы вам»). Оцинковку кожухов делает 122 завод, хромирование всяких ручек – Гидромех. Для окраски используем автоэмали, которые тогда были только горячей сушки. И т. д., и т. п. Последние дни перед отправкой работаем уже часов по 12: никогда бы не подумал, что выставочный блеск требует столько труда…
В Москве к нашей машине, которая теперь называется «нормокомплект», пристегивают меня и прапора Сережу Савельева от главмеха. На территории учебного комбината разворачивается огромная выставка всяких строительно-монтажных «штучек-дрючек», среди которых наша выглядит как лебедь белая в стае ворон. Мы едва не превращаем ее опять в закопченного «трудолюбиМого» лебедя: машина всем оказывается нужна. Без нее – как без рук, Только у нас все подключено и все действует: труборез, кислородная резка, шлифмашинка, компрессор, дрель, слесарные тиски, различные ключи и, главное, – сварка. Мы с Серегой с утра напяливаем комбинезоны и вкалываем для общего дела по-черному, еле доползая к вечеру в гостиницу ЦДСА.
Туда ко мне в гости приходит С. С. Демченко, который теперь пенсионер и московский житель. Сергей Семенович выглядит глубоким стариком, но сохранил весь одесский шарм. Собираем походный стол, как бывало. От наших красочных воспоминаний, когда Демченко в лицах изображал Байдакова, Циглера, а я – самого Демченка и одессита-майора, бедный Серега Савельев уже и смеяться не мог – только тихонько повизгивал…
На конференции с участием маршала Соколова и двух десятков генералов я не был: находился при своем еле отмытом «лебеде». Маршал и генералы шумным стадом пробежали возле машины. Один дотошный поднялся внутрь и потрогал рукой что-то блестящее.
Идеи, овладевшие умами широких генеральских слоев, станут материальной силой, непосредственно повлиявшей на мою судьбу спустя несколько лет…
А вот пустячок, который имел широчайший выход в жизнь. В. И. Корякин, человек, удавивший СПРУТа, строит домик в садоводстве. Конечно, используя передовую технику и электроинструмент со «своего» склада КМТС. А там почти весь инструмент был промышленный, рассчитанный на заводское применение, где электрические сети – трехфазные. Правда, завод 122 выпускал некую приставку, позволявшую раскрутить трехфазный инструмент от однофазной сети, но именно с ней и горели у Корякина двигатели каждую неделю.
– Коля, разберись, что с ним, – по-свойски скидывал мне ВИ очередное устройство, которое за версту кричало, что оно безнадежно и окончательно «сжечено». После нескольких случаев мне стало жалко безответных инструментов, и я начал «вникать», затребовав еще не «сжеченные» устройства и легендарную приставку. Приставка имела два положения: «большой» и «малый» двигатели. Насколько они «большие» и «малые» – информации не было. Боря Мокров передал мне формулы для расчета конденсаторов в зависимости от тока двигателя и устройства его обмоток: звездой или треугольником. Формулы плохо стыковались с суровой действительностью…
Почти месяц я пытался изобрести устройство, которое автоматически бы включало и выключало требующиеся конденсаторы. Вскоре понял, что для этого придется сооружать шкаф, набитый электроникой. И еще уразумел, что каждый трехфазный двигатель – сугубо «индивидуальная личность», и к нему нужен такой же подход. И что для пуска и работы движка избыток емкости так же вреден, как и ее недостаток. А вот их «достаточность» я научился определять по необычно подключенному обычному вольтметру. Осталось разработать схему, когда 400 мкф емкости могли бы «квантоваться» всего через 5 мкф. Это уже чистая арифметика из средней школы: всего-то нужны несколько включателей. Еще пара пустяков, например, – разряд случайного заряда на больших конденсаторах и устройство реверса. Полученное устройство стало называться «универсальный расщепитель фаз УРФ 3-220». Расщепитель позволял любым трехфазным двигателям мощностью от 0,05 до 3 квт длительно работать от однофазной сети 220 вольт практически без потери мощности. В этот диапазон входит весь ручной электроинструмент и различные деревообрабатывающие станки.
И расщепителей и станков я собственными руками изготовил по несколько десятков штук – для себя, друзей и разных заказчиков. Но это было уже позже, когда из класса начальников я выпал в исходное состояние – в класс рабочих…
Обрастаем недвижимостью…
Ничего, я им создам уют –
Живо он квартиру обменяет.
У них денег куры не клюют,
А у нас – на водку не хватает.
(В. В.)Жаркие битвы за собственную крышу над головой горячей осенью 1956 года ушли в историю.
Получения законного ордера на две комнаты на Краснопутиловской укрепили мое сознание в том, что все наши жилищные проблемы уже решены навсегда: мы на троих имели около 40 «квадратов» в очень приличной «сталинской» трехкомнатной коммуналке – предел мечтаний многих в тогдашнем Ленинграде. Вот только соседи Уткины, которые тоже на трех человек получили в этой же квартире меньше 20 м, не могли спокойно перенести чужое жилищное счастье. Наша коммуналка немедленно превратилась в поле боя…
Возвращение домой перестало быть синонимом отдыха и расслабления: надо же выходить из жилья в места общего пользования – поле непрекращающегося боя.
Мы начали искать отдельную квартиру по обмену. Объявления, черные маклеры, доверенные лица и прочие законные и полузаконные методы были нами испытаны в различных вариантах. Однажды нам даже предложили отдельную 4-комнатную квартиру, но в «хрущобе». Там, чтобы зашнуровать ботинки, надо было выставить «корму» на лестницу, а «отдельные комнаты» представляли собой пеналы, в которые с трудом помещалась солдатская койка. Самая большая шестнадцатиметровая комната состояла из окна и дверей для продвижения в остальные малогабаритные отсеки.
В другой раз очень приличная квартира на углу Зайцева и Краснопутиловской нам очень понравилась. Мы с Эммой уже почти согласились на обмен. Разметала наши желания запоздалая «Татра»: при ее трогании на перекрестке в квартире задребезжали не только окна и двери, но и посуда в серванте. А звук был такой, как будто мы сидели прямо под капотом ревущего грузовика. Стало понятно, почему для всех переговоров нас приглашали поздно вечером: днем, когда грузовики останавливались и трогались с четырех сторон светофора, мы просто не услышали бы друг друга…
Наконец и к нам пришла большая радость: враги Уткины получили отдельную квартиру. Их комнату заняла Клара Александровна Пантелеева, с которой мы дружны уже почти полвека. Я посчитал, что все наши телодвижения теперь теряют смысл, и мы можем спокойно проживать на завоеванных с таким трудом квадратах. Конечно, неплохо бы иметь отдельную квартиру, но я знал обстановку в части и УМР: многие офицеры с детьми уже десятилетиями жили в условиях гораздо худших. У нас же на троих было около 40 метров жилой площади, плюс половина просторных «общественных угодий» сталинской квартиры. И еще два немаловажных обстоятельства. Сережа учился в 397 школе с усиленным английским, где у него была любимая учительница и, следовательно, – успехи в освоении вражеского языка, что так и не удалось сделать его родителям. Кроме этого – на Броневой у нас уже был построен кирпичный гараж, что по тем временам было роскошью почти сказочной.
Надо было прописать и взять к себе маму: она оставалась одна. Первый поход в Большой дом для разрешения прописки в Ленинграде закончился чрезвычайно быстрым, но совершенно полным «отлупом». Чиновник в назначенном подъезде взял мои бумаги и вперил в меня вопрошающий взгляд.
– Прошу разрешить прописку матери. Жилплощадь позволяет. Мать уже старая и жить одна не может.
– Вот езжайте к ней и поддерживайте ее там, – решительно заявил чиновник, рисуя поперек заявления крупными буквами одно слово «ОТКАЗАТЬ».
– Как я могу поехать туда с этими погонами? – пытаюсь доказать очевидное.
– Следующий! – чиновник уже смотрит сквозь меня на входную дверь. И так визит уже занял более 10 секунд…
Наша жизнь зависит от неизвестных нам бумаг с грифами «ДСП», «Секретно», «Совершенно секретно», а может быть, и устных распоряжений, переданных по закрытой связи ЗАС. Что было тогда, возможно, станет известно историкам лет через 50, когда снимутся грифы с документов. Но через несколько месяцев у меня относительно благосклонно приняли заявление на прописку матери в обычном отделении милиции на Автовской. По «своим каналам» МВД проверило, что в Деребчине у нас отсутствовало родовое поместье (довоенную «казенную» хату у одинокой вдовы давно уже отобрала Советская власть). Маму прописали к нам на Краснопутиловской. После смерти С. М. Крепостняка мама переехала к нам уже на новый адрес – на набережную Черной речки. Кстати, ее переезд вызвал немалое удивление замполита УМР: сам-то он прописывал всех родственников с единственной целью – получения дополнительных квадратных метров…
То, что мы получили отдельную квартиру в новом доме-вставке, который строился для начальства УМР, – целиком заслуга Эммы. Она, не слушая моих унылых увещеваний, пошла на прием к начальнику УМР Ю. И. Горбаневу, которому и доказала, что только один я, такой умный и ценный подполковник, еще живу со своей семьей в коммуналке. Юрий Иванович, человек добрый и интеллигентный, не только дал себя убедить в этом, но и убедил еще и своего зама по политической – Трофимова. Нашему везенью, наверное, помогло и то, что в освобождаемые наши комнаты можно было поселить сразу двух жаждущих из вечной очереди на жилье…
Милость начальства была так велика, что нам даже разрешили выбор квартиры: на засыпанном строительным мусором первом этаже, или на залитом солнцем шестом без лифта. Конечно, мы хотели к свету, к солнцу. Образумил нас Олег Власов:
– Что вы делаете? Как будут взбираться на шестой этаж ваши старенькие бабули?
Скрепя сердце вспомнив учение Иосифа Виссарионовича о действии постоянных и временных факторов, мы согласились на первый. Солнце было временным фактором, а преодоление пешего пути на шестой этаж – постоянным… На шестом этаже поселился с семьей Гена Корзюков.
Олег и бабули спасли и нас: сейчас мы с огромным трудом преодолеваем несколько ступенек на наш первый. А что касается качества жизни, то неизвестно что лучше: бесконечные протечки потолка и черные стены на шестом этаже, или прогнившие полы от испарений подвала на первом… Однако: «дело сделано, его ничем не исправить, и это единственное утешение, как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следует»…
Следующим этапом «обуржуазивания», накапливания недвижимости, – надо считать полукриминальную постройку гаража в Межпутье, которую я уже живописал в главе 21 «Автомобили, автомобили…».
Домик окнами в сад
Збудуй хату з лободи,
До чужої не веди…
Но все это были семечки по сравнению со следующим проектом: постройка дачи. Конечно, это никакая не дача в классическом понимании, которой в кино владели обычно большие академики с многочисленной родней и друзьями. Там академики предавались умным разговорам, ловили рыбу на ближней речке и слегка музицировали от нечего делать.
«Дача» же в нашем современном садоводстве – это участок болота размером 6 соток (600 м2), на котором счастливый владелец обязательно должен выращивать что-нибудь общественно-полезное: картошку, брюкву, огурцы или бананы. Для души – можешь выращивать также цветы, но не для рынка, а только для личного обнюхивания. Как и на «удаленном огороде», нарезанном от профсоюза на ближайших Соловках. Правда, «садоводство» от «огородничества» еще отличается тем, что на участке разрешалось сажать деревья и построить: а) домик типа «не выше, не шире, не более», б) туалет; в) душ с подогревом воды от звезды Солнце – вершину буржуйского комфорта. Огородники же имели право только на воздвижение будки для хранения лопат.
Тем не менее, и на огороды, тем более – на садоводства, во всех «дающих органах» стояли огромные безнадежные очереди: городской народ жаждал надрывать собственные пупки, чтобы превратить комариные рассадники в участки с цветущим картофелем. «Оформленные» счастливчики с небывалым энтузиазмом добирались в выделенные болотистые Тьмутаракани на паровозах, автомобилях, левых колхозных тракторах. Последние километры обычно преодолевались по узким тропинкам в пешем строю с рюкзаками, загруженными инструментами и провиантом. Именно так осваивалось далекое Радофиниково, участки которого распределяли среди заслуживших профком 122 завода и политотдел УМР.
Раньше эти заботы меня совершенно не трогали: хватало других. Кроме того, я считал, что у нас, автомобилистов, – любой куст за городом является прекрасной дачей, не требующей никаких усилий и оформлений. Повернула наши мозги Леля Мартыненко родительским домиком в Шапках. Мы приехали туда веселой компанией, погоняли чаи-кофеи, затем двинулись в ближний лес за грибами. К нашему возвращению уже был готов сытный обед, откушав который мы предались загоранию и всяким развлечениям на пленэре. Добрейшие родители Лели и Наташи ходили за нами, как за маленькими. А мы нежились, наслаждались и отдыхали: чем же еще можно заниматься на даче??? Спустя годик на собственной «даче» я краснел от одних воспоминаний об этом отдыхе: пожилым людям так нужна была наша реальная помощь в их повседневном тяжелом труде…
Мы, наверное, уже несколько состарились, судя по эволюции взглядов. Постепенно созревала мысль, что неплохо бы иметь собственное поместье, где хорошо было бы отдыхать самим и принимать друзей: не все требуемое для отдыха помещалось в машину, да и возвращаться надо было к вечеру в город. А в своем вигваме – отдыхай-не хочу…
У наших друзей Мещеряковых, которые были в то время на Кубе, возникла необходимость купить домик поближе к Питеру для матери, которая после смерти отца осталась одна в Тамбове.
Мы с Эммой объездили всю Ленинградскую область по все возрастающему радиусу: ничего походящего не нашли, но набрались впечатлений по сельским домикам. Тут Олег Власов, мой непосредственный начальник, предложил вступить в садоводство «ЛОТОС» – «Ленинградское окружное товарищество садоводов». Садоводство ласкало слух своим египетским именем, а главное – оно было всего за 40 км от нашего нового жилища. И самое главное: председателем там был Иван Абрамович Кривошеев, бывший замполит УМР, «Ошечка». (Так он, заядлый охотник, произносил слово «осечка», и все знали его по этой партийной кличке. Иван Абрамович знал об этом, и сам подсмеивался над своей дикцией).
Кривошеев когда-то помог нам (не помешал, хотя и мог!) получить вторую комнату на Краснопутиловской. Наше вступление в ряды садоводов было почти гарантировано: Кривошеев сам нуждался в нашей помощи. В садоводстве надо было прокладывать и сваривать трубопроводы, сооружать ворота и разную железную и электрическую лабуду, что могли сделать только мы, монтажники. В наши ряды естественно включился Лева Мещеряков, который скоро должен был расстаться с Фиделем и Раулем Кастро. Заодно почти решалась его задача с домиком для матери…
Осенью 1976 года мы с Олегом облюбовали свободный участок на троих. Там, правда, были глубокие залежи торфа, далеко от дороги и совсем близко к болоту, но там «было на троих». И еще: рядом стояли два новеньких оранжевых домика, ласкавшие взгляд…
Кривошеев разрушил наши мечты: этот участок где-то еще «оформлялся», и его получение могло состояться не раньше, чем через год. А принятие в «садоводы» Мещерякова вообще могло сорваться по каким-то формальным причинам. Но мы уже начали разбег и «стремлялись» как стрела, пущенная из лука. Тогда «Ошечка» предложил нам такие варианты, на которые мы скрепя сердце согласились. Олегу Кривошеев отдал участок офицера Ермолаева, который служил где-то в Чехословакии. Участок был оформлен несколько лет назад, но «не освоен», т. е. до сих пор на нем колосились не злаки, а молодые сосны, а вместо домика в болоте торчала будка с замком. По правилам садоводства такой участок подлежал изъятию и передаче новому садоводу для «освоения». Мне был предложен рядом участок «зеленой зоны»: «кривое место» у дороги, на котором росли сосны и располагались помойки и сараи окружающих плантаторов. Наши с Олегом участки объединял в одно целое большой болотистый ров. Леве Мещерякову предложено было купить готовый дом на возделанном участке, что его очень устроило.
Садоводство ЛОТОС-1 (были еще 2 и 3) с первого взгляда казалось весьма живописным, то есть – беспорядочным и безалаберным, с косыми и кривыми улочками и участками среди таких же канав, болот и водоемов, носящих гордое наименование «противопожарных». Большинство домиков и разномастных сараев при них были такими же кривыми и невзрачными. Казалось, что все творцы этого ландшафта органически не терпели прямых линий. Только история давала ключ к пониманию этого геометрического явления.
Раньше рощицы, поляны и болота этого места с редкими избушками егерей являлись обширными охотничьими угодьями ЛенВО. Изредка сюда приезжали банды высокопоставленных охотников, которые после обильных возлияний кого-то стреляли. Однако вокруг начали возникать гражданские садоводства: «Политехник», несколько «Дружных» и другие. В военной среде число потенциальных «садоводов» значительно превысило число «охотников». Под давлением первых вторые отступили. В «верхах» было принято решение: угодья реорганизовать в садоводство для всего округа.
За дело взялись основательно. Проект садоводства поручили делать Проектному институту. Сначала составили и согласовали предварительную смету. Затем несколько лет делали геодезическую съемку, проект мелиорации, дорог, нарезку участков. Вся эта масса бумаг требовала многочисленных согласований, утрясок и переделок, на что ушло еще несколько лет.
Тем временем нетерпеливые владельцы грядущих участков начали их осваивать полулегально, захватывая ломти получше и посуше, ведя дороги к ним тоже по местам посуше. Бурно строились по такому же принципу егеря, жившие на угодьях раньше.
Когда проект садоводства с красиво расчерченными дорогами и прямоугольниками участков был наконец готов, то возможность его выполнения стала не просто нулевой, – она стала величиной виртуальной, как квадратный корень с минус единицы.
Проект так и остался голубой мечтой на бумаге; участки стали раздавать «по факту» и статусу просителей. Хлынувшие очередники второй очереди тоже действовали по принципу: кто раньше встал – того и тапки. Мы уже были совсем внеплановыми – выбирали то, что осталось случайно. Следует учесть, что каждый садовод лепил свои строения из имеющихся подручных элементов: списанных фургонов, автобусов, утильных домиков и различного хлама. Большой популярностью пользовались полусгнившие, пропитанные ядовитым креозотом, железнодорожные шпалы. В ход шли даже подвешиваемые к самолетам топливные баки. Болота на подъездных путях изобретательно заполнялись автопокрышками самого разного калибра и дверями со свалок. В ожидании лучших времен на каждом участке «по-быстрому» сооружалась времянка: надо же было где-то жить и хранить лопаты до воздвижения мечты – домика типа «не выше, не шире, не более». Давно известно, что нет более постоянных строений, чем временные, поэтому времянки, похожие на метастазы собачьих будок, оставались навсегда, даже если рядом вырастал домик. Картина будет неполной, если не упомянуть о перекошенных столбах ЛЭП, стоящих с обвисшими проводами в самых неожиданных местах (но и это счастье: в Радофиникове были только керосиновые лампы). И последний штрих – целиком «фантазийные» ограды участков: уж на них-то вообще не полагалось расходовать драгоценные материалы…
Так и создалась «в натуре» неописуемая живописность нашего садоводства.
Исторический экскурс. Кажется, в журнале «Наука и жизнь», весьма популярном в те годы, я прочел о садоводствах вокруг Таллина и Риги (компьютер требует, чтобы я написал «Таллинн», но я принципиально не хочу мычать по-эстонски на русском языке). Так вот, обстоятельные прибалты выдавали желающим участки вокруг городов гораздо больше 6 соток по тщательно разработанному генплану с заранее созданной инфраструктурой: дорогами, энергоснабжением, водопроводом и канализацией. Садовод на участке должен был построить дом согласно общему плану. Дом мог быть любой, но не меньше и не хуже, чем по некоему, довольно высокому, стандарту. В результате спустя несколько лет вокруг столиц был создан красивый зеленый пояс, пригодный для постоянного проживания…
Сейчас мы, шагнув одной ногой в капитализм, проскочили заодно разумную организацию пространства. Нувориши стали лепить подобие средневековых замков на берегах рек и озер, загрязняя их отходами своей жизнедеятельности, перекрывая доступы к местам бывшего массового отдыха. А уж ограды вокруг замков по высоте и стоимости стали приближаться к уровню Кремлевской стены…
Тем временем дороги и леса Карельского перешейка стали напоминать гигантскую свалку. Невзирая на грозные щиты: «Выбрасывать мусор возле дороги категорически запрещается!» После чтения этих предупреждений у меня на языке вертится два вопроса: «А в лес, уже загаженный до предела, – можно?» И еще один: «Когда появятся щиты с надписями: «Пункт сбора и приема мусора – через … метров»? Нет ответа, не тот у нас менталитет. Мы продолжаем бороться за чистоту. Пора бы начать и просто подметать.
Ну, это к слову: наболело. У Олега проблемы. Почуяв, что запахло жареным, теща Ермолаева бросается грудью на амбразуру. За одну ночь она вырубает чудесную сосновую рощу на участке, что должно демонстрировать его бурное освоение. Увидев пустырь, я ахнул: очень эмоциональная Лера Власова может получить инфаркт. Однако она прореагировала удивительно спокойно:
– Вот и хорошо, не надо будет нам корячиться!
(На своем участке я решил сохранить все до единой сосны: очень люблю это дерево. Как показали последующие годы, – сосны благодарно осушили наш участок и даже балуют нас белыми грибами).
В ответ на происки чужой тещи Олег наносит разящий удар – вывозит ее будку на границу садоводства. Попытка удалась только со второго раза с применением гусеничного трактора: будка, оказывается, была наполнена кирпичами.
После оформления участков перед нами во весь рост стали вопросы: как построить дом? из чего? какими силами?
Был уже протоптанный и малозатратный путь, по которому прошли Булкин и Пономаренко. В Горелове ликвидировался военный городок авиаторов. Деревянный щитовой домик по выбору можно было за бесценок выкупить у округа. Затем его надо было разобрать и перевезти. Отрезать сгнившую нижнюю часть и собрать домик вновь на новом фундаменте. Все очень просто. Любезный Анатолий Иванович Пономаренко, друг нашей семьи, бывший подполковник-связист, работавший в УМР, составил для нас подробную технологию всей операции, в которой даже указал количество и тип требующихся гвоздодеров и ломиков. Я зашел к командиру, чтобы узнать тонкости покупки домика в Горелове. Ефим Ефимович поморщился:
– Зачем вам это нужно, Николай Трофимович? Дышать чужими запахами, латать ветхие стены и столярку? И кормить чужих клопов? Я бы посоветовал вам собраться с силами и построить что-нибудь новое, чтобы потом не жалеть, как мы…
Я «проникся» и всю оставшуюся жизнь благодарен командиру за этот совет. Ему самому домик перевезли и собрали, конечно, силами «вверенного личного состава». Но он этот дом не любил и никогда в нем не жил, возможно, – из-за «чужих запахов».
…Через месяц мы с Олегом предварительно заключаем с Леноблремстроем на 6-й Советской договоры на постройку двух типовых сборно-щитовых домиков в садоводстве ЛОТОС-1. Мы облюбовали типовой проект с продольной верандой и наносим его размеры на разрешительный план участка. Кривошеев не без удовольствия перечеркивает их крест-накрест: площадь веранды составляет около 12 м2, что на целых два (!) квадратных метра превышает разрешенную площадь! Нам ничего не остается, как выбрать единственный оставшийся проект, в котором все было не выше нормы: две комнатушки и кухня в сумме имели площадь 25 метров и веранда – 10 метров. Этот проект С-330 «Рыжий Иван» (вторая партийная кличка И. А. Кривошеева) и утверждает к воздвижению на обоих участках.
Боже милостивый, какой это был проект, что это было за сооружение! Даже собачью будку можно было сделать уютнее и совершеннее, не говоря уже о красоте. Подслеповатые окошки обеих комнат выходили на фронтон. Поскольку к одной комнате еще примыкала кухонька, то эта половина дома (и его крыша тоже) была длиннее на ширину двери. Зато к ущербной половинке сиротливо притулилась веранда с отдельной двускатной (!) крышей, которая почему-то была ниже остальной крыши. Попасть на наши чердаки можно было разве только голубям через микроскопические окошки на фронтонах «виллы» (слово «фазенда» появилось позже, после «Рабыни Изауры»).
Мы уже давно приняли решение ставить домики на высокий фундамент, чтобы в цоколе (высотой не более 1,8 м, иначе это считалось этажом!) иметь еще какие-то полезные пространства. Я мечтал о гараже и мастерской, да и различные материалы где-то надо было хранить. Мы ездили по садоводствам, изучали редкие тогда «высокие» домики. Обычно это был просто приподнятый дом, что нам не подходило. Но цоколь зависел от того, что будет наверху, а с ним мы никак не могли определиться. Индивидуальные изменения проекта (в пределах плана) разрешались за отдельную плату, но передвинуть что-либо было трудно: стены набирались из готовых модулей шириной 800 или 600 мм.
Каждый вечер мы заседали с Власовыми у нас на кухне, пытаясь как-то улучшить наши уродливые будки, перебирая десятки вариантов изменений – в пределах «дозволенного». Один проект вызывает бешеный восторг, и Лера Власова восторженно пишет поперек эскиза: «Согласны УСЕ!!!». По задумке половина крыши над верандой и крыльцом делается плоской: это будет наш летний солярий и площадка для входа на чердак-мансарду. На следующий вечер, по зрелому размышлению, все отвергается: а куда будет уходить дождевая вода? кто будет чистить здесь снег зимой? как обеспечить плотность и прочность соединений?
Постепенно вырисовывается проект, с которым действительно «согласны усе»: надо надеть общую двухскатную крышу на весь домик, включая ущербную веранду и виртуальное крыльцо рядом с верандой. Веранду и крыльцо остеклить по всему периметру так, чтобы можно было убрать окна из крыльца на случай тревоги по поводу лишней площади. Убирается перегородка между комнатой и кухней, образуется бОльшая комната с плитой-печкой. В каждую комнату еще добавляется по одному окну. Вверху на фронтонах вместо голубиной дырки ставить по два больших окна, чтобы мансарда была светлой (окна в крыше мансард обычно протекают).
Мы получаем простую прямоугольную форму дома. И очень нужные мансарду и подвал, которые юридически и площадями-то не считаются.
Стройфирма наши изменения принимает и пересчитывает ведомость материалов и смету. Вот фундамент они могут делать только ленточный, но будут строить на нашем «самодельном». Бьем по рукам, выплачиваем аванс. Фирма завозит зимой на участок все материалы, чтобы ранней весной, когда будут закрыты дороги, начать стройку без раскачки. Все настолько хорошо, что даже не верится…
Мы с Олегом готовимся к строительству фундаментов. Решаем делать свайный фундамент с ж/б ростверком. Для свай нам нужны стальные трубы 219 мм. У нас их навалом с демонтированных трубопроводов, всякая некондиция и т. п. Наученный горьким опытом с правдоискателем Базловым, я придерживаю Олега, который просто хочет вывезти из свалки все нужное. Идем вдвоем к Булкину:
– Ефим Ефимович, нам нужен разный металл и трубы из металлолома. Продайте нам несколько тонн, чтобы не чирикаться по мелочам…
– Нет, дорогие друзья, я не сделаю этого. Стоит нам оформить один-единственный ордер на продажу, как нас замучают проверки и расследования. Вы знаете сами, как подчищают даже годный металл замполиты, когда надо выполнять план по металлолому. Упредите их, возьмите ненужное. Только не просите оформления: это чревато большими неприятностями…
Да, трудно быть честным в нашем мире. Олег организует вывоз труб и металла, оформив липовые накладные. Из свалки он привозит выброшенную бетономешалку, которую я лично превращаю в действующую в течение недели. Из списанных машин восстанавливаю сварочный преобразователь: сети слабые, и только он позволит работать с пиковыми нагрузками от сварки. Кривошеев скрепя сердце дает разрешение на подключение сварки в обмен на объявление, что на Лесной 30 А производится бесплатно сварка для всех садоводов Лотоса.
Все украденные сваи мы прячем глубоко в землю за одно воскресенье. Кроме нас двоих в бригаду вошли Жора Бельский, Гена Степанов и Коля Карпов – инженер-строитель, свояк Олега. Точную разметку мы сделали заранее. Бурилка-столбостав быстренько делала дырку в матушке земле. Туда мы опускали сваю, вставляли внутрь арматурный каркас и заполняли бетоном.
К концу дня на наших участках не было ни одной трубы. Из земли торчали только выпуски арматуры, которую теперь не спеша надо было приваривать к арматуре ростверка. Позже я, возможно, расскажу о злой шутке, проделанной этими сваями…
За недельку вся арматура ростверка была сварена. Теперь устройство ростверка было даже проще, чем устройство ленточного фундамента: все на поверхности. На него надо по расчетам два самосвала бетона. Мой дом идет первым, и я договариваюсь с прорабом стройконторы, что его люди сделают опалубку. Приезжаю через пару дней. Часть опалубки сделана, хотя бригада и навеселе. Я уже знал, что они как алхимики превращают доски для домов непосредственно в алкоголь. Нас это не очень трогает: материалы принадлежат строительной фирме, а мы у них будем принимать готовые дома. Что растранжирили – придется восполнять их фирме. Твердо договариваюсь со всей бригадой: в четверг утром я приведу два самосвала с бетоном. Опалубка к этому времени должна быть безусловно готова.
– Конечно, конечно! Тут и работы не так много… Разве мы не понимаем, что такое жидкий бетон в самосвале, – говорит бригадир.
Утром встречаюсь с Колей Карповым, заезжаем на Северную ТЭЦ. Плачу наличными немаленькие деньги. При нас загружают два самосвала свежеприготовленным бетоном, которые мы ведем в Лотос.
…Открывшаяся картина не для слабонервных: половины опалубки нет вообще. «Понимающие труженики» блистательно отсутствуют в полном составе.
С тоской оглядываю окружающий ландшафт: куда слить из двух самосвалов высокопрочный, готовый схватиться, бетон? На дорогу и огород – нельзя, в лес – не подъехать из-за канавы…
И тут Коля Карпов, оптимист потрясающей силы, глядит на меня голубыми невинными глазами:
– Давай сейчас сделаем опалубку сами!
Ошалело смотрю на него. Нет, он не шутит, да и другого выхода нет. Через мгновение мы начинаем работать, на ходу стаскивая с себя одежду…
Таких сумасшедших темпов не было даже на Новой Земле. Мы хватали любые мало-мальски пригодные доски, рубероид, щиты и превращали их в стенки опалубки. Стенки скрепляли кольями, проволокой, веревками или чем-нибудь подпирали… Недовольные водители самосвалов сначала скептически покуривали, затем не выдержали и тоже начали помогать. Время остановилось…
… Глядя на безобразно волнистые стенки ростверка нашего дома, любой человек подумает: как неаккуратно работали! И только мы с Колей Карповым думаем: неужели мы за час сделали то, что целая бригада не могла сделать за неделю? Ростверк, кстати, оказался очень прочным. Когда одна свая начала выпирать из земли, ростверк наклонил весь дом, но не разрушился.
Бетонирование дома Власовых тоже не обошлось без ЧП: самосвал с бетоном застрял в болоте за 10 метров от дома…
Прораб нашей стройки – человек еще не потерявший совесть. У него десяток таких строек по всей области. А вот бригада наших «тружеников» уходит в загул, дело стоит. Прораб меняет бригаду – через неделю ситуация повторяется. Пробую применить методы грядущего капитализма:
– Ребята, если вы к следующей субботе сделаете это и это, – я вам выплачиваю премию из собственного кармана! Кроме премии ставлю и бутылку!
Трудящиеся радостно соглашаются: внезапная премия и бутылка – хорошо! Утром в субботу приезжаю вместе с Эммой. Ничего не сделано вообще, никого нет. Впрочем, один есть, спит голый на сыром болоте. Эмма волнуется:
– Он же простудится! Разбуди его!
Пытаюсь растолкать здоровенного амбала. Даже не мычит. Пробую перекантовать его, чтобы подложить какую-нибудь подстилку, – не могу перевернуть такого кабана. Чертыхаюсь в адрес всех алкашей Советского Союза, и начинаем работать. Все выходные и вечера мы трудимся на своей стройке: исправляем содеянное, конопатим, улучшаем то, что можно. От производственного шума амбал все же просыпается и, пошатываясь, подходит к нам:
– А где наша премия? Где бутылка???
… Вместо обещанного июня конец строительства не виден и в сентябре. К счастью последняя бригада из двух мужиков – вполне нормальная. Они покрывают крышу, обшивают снаружи вагонкой дом и веранду, вставляют окна-двери и настилают полы, конечно – при нашей активной помощи. На носу уже зима, и нам срочно нужна печка. Две недели я по утрам лечу в Купчино, хватаю там рекомендованного деда, который лепит нам с Олегом печки. Воду и замерзшую глину приходится греть уже на костре. Сооруженные печки отчаянно дымят, несмотря на успокоительные басни деда. Тем не менее, у нас уже есть приют, где можно работать. Станок для дерева, который я соорудил уже давно, вытаскиваем на веранду. С нетерпением ждем 9 часов утра, когда можно будет начать строгать-пилить…
На следующее лето мы занимаемся отделкой дома. Построенное нравится многим, особенно подвальный этаж и мансарда. К нам зачастили делегации для получения наших ноу-хау. Больше других нас донимал один полковник. Сначала он часа два дотошно разбирался сам, затем привез жену, потом проектировщиков. Эмма возмутилась:
– Вы, конечно, все себе построите как надо. Вот только нам не дадите окончить стройку!
– Понимаете, у меня очень сложное положение, – отвечает полковник. – Вокруг строятся одни генералы, и мне надо построить так, чтобы было лучше, но не настолько, чтобы они могли это заметить!
Мы посмеялись и простили его настырность: действительно, трудно человеку. Кстати о генералах. Перенимает наш опыт также недалекий сосед, генерал Стасюк, бывший начальник финансов ЛенВО – шишка большая, но очень приличный человек. Генерал, отталкиваясь от наших решений, пошел дальше и сделал лучше: на мансарде вместо проектного подслеповатого окошка на дорогу смотрел большой и красивый витраж из разноцветных стекол. Нагрянула комиссия из округа, проверявшая, чтобы домики были «не выше, не шире, не более». Пришли к нам с проверкой. Я сунул в нос высокой комиссии целую папку: вот типовой проект с указанием дозволенных метров, вот смета, вот чек на оплату работ и материалов, а вот куча чеков на оплату всяких прибамбасов. Комиссия уныло удалилась не солоно хлебавши. Спасибо тебе за своевременную науку, бдительный коммунист товарищ Базлов!!!
А вот бедного генерала уличили в архитектурных излишествах и предписали: полкрыши с красивым витражом – снести, дабы не расшатывать социалистическую законность. Генерал выполнил предписание, после чего искалеченный дом стал даже хуже окружавших его собачьих будок. Эта передовая архитектура так потрясла человека, что он вскоре умер. Потом наследники как-то прилепили недостающий кусок крыши: дожди-то поливают! Только вместо радостного витража смотрит теперь на дорогу запыленное окошко вполне законных размеров…
Наша стройка, плавно переходящая в ремонт, длится уже более 30 лет. Сосны уже выросли выше дома. Зимой мы раньше приезжали на свою фазенду, пробиваясь сквозь сугробы. Ставали на лыжи или просто бродили под сияющими звездами. Снег очаровательно скрипел под валенками… Сейчас мы там живем только летом, возможно – потому и живем…
Среди сосен Дом нас хранит сейчас:
Мы с любовью его раньше строили…
Согревает нас, терпеливо ждет —
Когда медленно одеваемся…
Полвека кануло куда-то…
Живя с азартом и упорством
Среди друзей, вина и смеха,
Блажен, кто брезгует проворством,
Необходимым для успеха
(И. Г.)В 1981 году прямо в лаборатории отмечается мой полувековой юбилей. На дворе стоят «годы застоя чудесные, с выпивкой, шуткою, песнею», – как позже об этом времени ностальгически споют барды. Коллективные «вечера отдыха», призванные «сплотить трудовой коллектив» везде широко практикуются. Для удобства трудового коллектива наше мероприятие проводится в большой комнате лаборатории, основательно освобожденной от излишних приборов и кульманов. За добавленными столами и стульями неплохо разместились более 30 человек. Вино лилось рекой, о юбиляре говорили так хорошо, как можно говорить только на его похоронах. Тон задал командир: он вспоминал о таких моих подвигах, о которых я и сам уже забыл. Кстати, я уже отмечал это редкое свойство у Е. Е. Булкина – помнить о достижениях и победах своих подчиненных; у большинства людей, увы, память сохраняет только плохое о человеке…
Ну, что же: полвека жизни – неплохой повод, чтобы подбить итоги: из громких побед вычесть унылые поражения и рассмотреть, что осталось в сухом остатке…
Классические три задачи мужика: родить сына, построить дом, посадить дерево, – кажется, выполнены (если деревьев сажал и мало, то не срубил уже выросшие). Есть дружная семья: любимые жена и сын. Забрал к себе маму. Обуржуазился, оброс уже недвижимостью: квартира, дача, гараж, машина (как, и она тоже недвижимость?). Есть всякие титулы (заслужОнный!) и приличное воинское звание. Где только и что только не строил, укрепляя Родину со всех сил. Многие бывшие пацаны «от сохи» считают, что я их воспитывал. «Народ и начальники» считают меня специалистом уж очень широкого профиля: даже не видно его. Продолжаю работать. По советским меркам – вполне приличное положение. Это плюсы.
Минусы: ничего из задуманного в науке не удалось сделать. И уже не удастся. Чуть не сыграл в ящик, потерял частично здоровье. Приобрел кучу врагов из-за нетерпимого характера. Перестал расти вверх по служебной лестнице.
По последнему пункту начинаю себя малодушно оправдывать: ну не рвался я к высоким должностям и званиям, никого не расталкивал локтями. Просто делал свое дело, которое люблю. «Самым большим начальником в маленьком домике» я уже с 1966 года, то есть 15 лет. А если прибавить «подвальный период», – то все 20. Но это не было застоем: просто я рос не вверх, а «вглубь и вширь», постоянно решая всякие трудные задачки, которые сваливались на фирму и меня лично. Когда в 1977 году оформляли «Заслуженного рационализатора РСФСР», то только перечень решенных «штучек-дрючек» занял несколько больших листов…
По электрической теории генератор отдает наибольшую мощность, если… попроще: если нагрузка на него оптимальна. И перегруз, как и недогруз – снижают его эффективность, а могут и вообще сломать. Если я на своем месте и не ломаюсь, – значит все в порядке… Служба моя уже длится более 26 лет, я могу уже уволиться в запас и спокойно работать на гражданке без особого «напряга». Но жалко мне бросать свою фирму, на развитие которой затратил почти всю жизнь: очень в ней мало инженеров, хотя все как будто что-то «кончали» по инженерной специальности…
К сожалению, и в фирме уже нет никакого движения вперед. Прославленная и динамичная монтажная организация начинает медленно загнивать, прекратила развитие и рост. По мысли Макаренко – любая остановка в развитии коллектива – начало его гибели…
Началось это тогда, когда нашу часть забрали из ВМФ и передали Главвоенстрою. Вместо матросов у нас появились «рядовые – военные строители». Дело не только в цвете формы, хотя для молодых ребят это совсем не мелочь. Дело в сроке службы. Она стала на год короче, и мы не успевали готовить настоящих специалистов. Отпали сложные и уникальные флотские объекты, только на некоторых мы продолжали работы по традиции. Затем «…в целях повышения…и улучшения…» часть стала заниматься только монтажом котельных. Монтируемые в гарнизонах котлы-живопырки в своем развитии отстали лет на 50 от мирового уровня. Допотопный котел Бабкок Вилькокс, трубы которого я чистил от накипи еще в 1946 году на сахарном заводе, были более сложной и совершенной установкой для испарения воды.
Теперь же, на монтаже нашей котельной офицер (инженер) мог спокойно уйти, – грамотного слесаря было вполне достаточно. Вот характерный пример. Наша лаборатория разработала собственные правила сварки и контроля этих котельных, выжав из имеющихся руководящих материалов все суесловие, воду и ссылки на другие документы. Снабдили документ понятными таблицами, схемами и эскизами. Так вот эта небольшая брошюра стала настольной даже для инспекторов Котлонадзора, по крайней мере, – на последние четверть века.
В этих условиях лаборатория оставалась единственным техническим органом военно-бюрократической организации, в которую превращалась наша техническая фирма. Уровень работ понизился, но все равно кому-то надо светить сварку, исследовать шлифы, готовить людей и оборудование, решать технические вопросы…
Успокоив себя такими лукавыми оправданиями, продолжаю работать. Дел, как всегда – невпроворот, рефлектировать некогда…
В это время я получил от судьбы подарок – Пашу Быкова. Мне сразу понравился вихрастый мальчишка с живыми глазами, к тому же успевший окончить техникум. Он был из Киргизии, но – русский. На него успели «положить глаз» и другие отделы. Надо заметить, что теперь нас стали комплектовать как стройбаты, то есть призывниками, негодными для нормальной воинской службы. У наших «молодых надежд» обычно были проблемы с ростом и весом, со знанием русского языка и грамотностью, часто – вообще с количеством и размерами извилин. Даже на просто нормального призывника набрасывались все отделы. При распределении пополнения в комиссии обычно сидели главный инженер и начальники заинтересованных отделов. Я участвовал всегда, комплектуя группу учеников-сварщиков и лабораторию. За многие годы накопился большой опыт определения «кто есть кто» по результатам очень короткого знакомства. Все уже знали, что в группу сварщиков я беру только добровольцев, спокойно отдавая другим хороших ребят, не желающих заниматься сваркой. Все шло более-менее спокойно, но за Павла Быкова, который мне нужен был в лабораторию, разгорелась настоящая битва: он до зарезу был нужен всем, даже старшине группы в качестве помощника. Мне удалось победить в этой схватке, и вот Паша Быков оказался в лаборатории.
Дальше рассказывает современный – 21 века – Павел Геннадьевич Быков, инженер, глава компьютерной службы крупной фирмы.
Пришел я в лабораторию, осмотрелся. НТ усадил меня за кульман и дал задание. Я немного поработал, затем задумался, как это получше сделать. В это время из мастерской, где расположены станки и сварочные столы, зашел токарь Борис, кажется, младший сержант, оканчивающий службу. Он воззрился на меня, очень удивленный тем, что он – «дед», да еще с лычками – подметает пол и убирает станки, а молодой «салага» сидит и ничего не делает. Эту несправедливость в природе он решил немедленно исправить и подал мне команду:
– А ну, бери швабру и пошли за мной!.
В это время пришел НТ и говорит Борису:
– Не трогай его, он работает.
– Как работает? – удивился Борис, – Он же просто сидит!
– Он думает, – пояснил ему НТ.
– И это называется – работает? – не унимается Борис.
– Мне очень тебя жалко, Боря, если ты за время службы в лаборатории еще не понял, что думать – это тоже работа, и вовсе не самая легкая, – разъяснил «деду» НТ и дал понять, что «дебаты» о разновидностях труда окончены и надо заниматься самим трудом непосредственно.
Теперь у меня появилась правая рука – Павел Быков. Мало того, что ему можно было поручить рутинную чертежную работу. Гораздо важнее, что он стал вдумчивым оппонентом. В обсуждении всех проблем мы, возражая друг другу, находили оптимальные решения. Чтобы избавить Павла от назойливой «опеки» всяких младших сержантов, мы взяли курс на переход в прапорщики. Но и этот статус был временным: Паша успешно учился в СЗПИ, и мы стали планировать следующие шаги.
Павел Быков вполне мог стать офицером. Я очень много для этого сделал, все уже было написано и согласовано. К сожалению, командиром «десятки», где официально числился Быков, стал полковник Рогацкин, который по стилю работы намного превосходил легендарного Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке». Рогацкин очень-очень твердо, с придыханиями и театральным заламыванием рук, обещал мне отправить документы на присвоение Павлу офицерского звания в Москву. Из-за своей разболтанности или плохой памяти он не сделал это вовремя. Павлу исполнилось 27 лет, и переход из прапорщиков в офицеры стал невозможен. Конечно, его судьба изменилась бы, но теперь уже нельзя сказать – в какую сторону. Тогда мы надеялись, что – в лучшую… И представить в кошмарном сне нельзя было, что скоро грядет глубокий бардак горбачевско-ельцинской «перестройки»…
Но это было позже. А пока мы напряженно и плодотворно работаем: проблем, требующих решения, набирается полно. И завод, и УМР, и объекты, и другие организации жаждут получить наши чертежи и консультации… Лаборатория может все, я тоже знаю и могу очень много…
Между тем в отношениях со штабом части начал назревать некий кризис. Работе лаборатории и мне лично некоторые «товарищи» начали, как будто невзначай, ставить палки в колеса. Помехи были мелкие, я их спокойно сшибал или обходил. Однако их ставало все больше, преодоление отнимало время и силы. Сначала все это мне казалось случайным или следствием моего нетерпеливого и довольно неотесанного характера.
Несколько позже я понял, что это кризис, системный, всеобщий и, главное, – неизбежный.
Когда часть набирала высоту, шла вперед с ускорением и перегрузками, а лаборатория была на острие, – все было нормально. Все время я и старался так двигаться, не заметив, что это уже никому не нужно.
Современная ситуация располагала штаб («второй этаж», как он обозначался в разговорах) к жизни спокойной, неторопливой и размеренной. В рабочее время обсуждались новости кино и моды, посещались магазины. В значительно продленный обед активно «работали» новенькие биллиардные столы, пинг-понг и еще какие-то развлечения…
Вечно озабоченная и занятая какими-то проектами лаборатория, по меньшей мере, раздражала. Конечно, не может нечто целое и его составная часть двигаться с разными скоростями. «Кризис жанра» был неизбежен.
Оппозицию лаборатории возглавила «серый кардинал части» – властолюбивая дама с простым русским именем Ремира (РЕволюция МИРА), в быту – Мира, мой старый «заклятый друг». Еще с давних времен она, как говаривал Зощенко, «затаила в душе некоторое хамство» на меня. Дама с обманутыми ожиданиями становится грозным оружием в руках Сатаны, даже невзирая на прошедшие с тех пор длинные годы.
Такую ситуацию очень сжато и точно описывает Игорь Губерман:
Из-под поверхностных течений
речей, обманчиво несложных,
текут ручьи иных значений
и смыслов противоположных.
Пакости лаборатории и лично мне участились и укрупнились после того, как Мира взяла себе в союзники (точнее – подчинила) зама командира по МТО (материально-технического обеспечения). Этот Зам был безликий, «никакой» подполковник. У меня сразу обострились вопросы снабжения. Например, больших трудов мне стоило убедить МТО, что моим ученикам-сварщикам надо давать отличные электроды малого диаметра, а не бракованные большого; что для учебы нужно большое количество труб и т. д. Всё это уже давно было решено, сказано, обкатано – теперь же я вынужден был снова давать бесконечные расчеты и обоснования по каждому пустяку. Зам своими придирками меня «достал», и я беру его за горло в темном углу:
– Какого … ты выпендриваешься? Сколько можно меня дергать?
– Так меня заставляют… – испуганно жалуется подполковник мне(!). Отпускаю его, бедного и слабенького: все ясно. Я даже знаю, кто именно его заставляет…
Неожиданно одним из скрытых моих врагов стает мой друг и начальник Олег Власов. Главный инженер на правах друга нагружает меня ненужными командировками, монтажными работами на второстепенных объектах, всякой другой чушью, по-дружески приговаривая:
– Не бойся, выдержишь!
Мой друг Олежка – неплохой мужик, широкой и щедрой души. Слово «друг» я пишу без всякой натяжки и иронии. Он поделится последним, всегда придет на помощь. Вот только его мучают комплексы и жена Лера. Комплексы развились еще во времена строительства наших фазенд: мои решения оказывались лучше, и волей-неволей ему приходилось переделывать собственные. Например, наружную обшивку дома вагонкой я напускаю на кирпичи цоколя, чтобы зрительно снизить высоту дома. Работа нудная, Олегу не хочется ее делать.
– Это только тебе нужно: дом стоит у дороги, все видно!
После окончания стройки «юбку» приходится делать и Олегу: его дом выглядит уродливо. Только теперь и дополнительная обшивка, сооруженная с большим трудом, смотрится как чужеродная «нашлепка».
– Ты ставишь слишком много окон, – говорит Олег и «экономит» два окна. Весной, после длительной «пилёжки» Леры, ему приходится самому выпиливать проем в готовой стене и вставлять окно: без него – темно, как в погребе…
Лера его пилит постоянно и злобно. Главный враг – командир Булкин. Разговор при мне:
– Тебя, идиота безмозглого, он гоняет по командировкам, а сам за твоей спиной хорошо живет дома!
Наверняка знаю, что точно то же она поет Олегу обо мне, после чего я убываю в очередную ненужную командировку, бросив неотложные дела. Женщина не понимает, что именно от нее вполне добровольно «отбывает» ее муж в командировку. Там – полная ламбада. Подчиненные знают слабость своего Главного и не скупятся на зеленого змия… Давно уже этот зверь забрал в мир иной моего друга, подводника, капитана второго ранга Власова Олега Евгеньевича…
Не в моих правилах жаловаться, и я борюсь в одиночку. Еще не осознав, что это системный кризис, я считал, что все неприятности – следствие недостатков моего характера, чему, увы, имелись довольно многочисленные примеры. Я уже имел выговор «за нетактичное поведение», когда я ограждал своих матросов от «сельхознавозработ». Чудом избежал наказания, когда в «высоком» звании старлея на многолюдной палубе «большого охотника» крыл площадным матом полковника Циглера. Меня дважды изгоняли из партбюро за восстание «против линии»; последний раз – против лазания с сапогами в душу моего прапора…
Теперь, во время затягивания петли на шее, мой характер вряд ли смягчился. Из-за каждого пустяка я мог «завестись» с полуоборота, нарушая нормальные отношения даже с вполне дружелюбными начальниками и товарищами.
В оправдание могу сказать, что свои «нервы» я никогда не показывал подчиненным: в лаборатории всегда была нормальная – рабочая и дружелюбная атмосфера. Конечно, это не касалось бездельников и всяких прощелыг, которые иногда выявлялись в лаборатории. С ними я просто расставался быстро и без колебаний.
Я призадумался: что делать дальше, как преодолеть очередной, хотя и несколько виртуальный, штопор? Однако дальнейшие события совершенно неожиданно пошли другим руслом.
Где-то в верхах провернулось некое колесико. В Управлении Монтажных работ (теперь оно называлось в/часть или открыто ССУ – Специальное строительное Управление) оказалось свыше 700 сварщиков, что по каким-то нормам (достаточно было 500 человек) требовало введение должности Главного сварщика. Стадо разрослось, и закон требовал появления «верховного пастуха», отягощенного знаниями и облеченного полномочиями, чтобы «направлять и пестовать» стадо. Сложность работ, которая тогда уже сильно понизилась, – не играла никакой роли. А зря: именно сложность работ, а не только количество людей, должна быть определяющей для появления должности Главного…
Фактически я уже давно исполнял функции главного сварщика, решая обширные вопросы сварки (оборудование, технология, «радиоактивный» контроль, учеба и другие) для всех организаций УМР, особенно – 122 завода.
Техническая иллюстрация предыдущих тезисов. Пару лет назад УМР предложили очень выгодные работы с титановыми конструкциями. Мне был задан вопрос: что для этого надо?
Я очень обрадовался, что мы сможем освоить новые, очень высокие технологии, которыми даже в Ленинграде владели немногие организации. Честно и подробно написал список мероприятий, необходимый для освоения титана, металла весьма тонкого и нетерпимого к любой грязи и обычному разгильдяйству. Нужны были отдельные «титановые» зоны на заводе, со своими гильотинами, токарными и фрезерными станками. Для сварки требовались: аргон высокой чистоты, специальные горелки, вакуумная обработка проволоки при высокой температуре. Даже удаление титановой стружки имело «нюансы». И, конечно, надо было учить людей. Короче: с титаном надо обращаться на «вы», культура производства должна быть значительно выше, чем даже при работах с нержавеющими сталями. Кстати, когда мы осваивали нержавейку и алюминий, то проблемы были такие же. Теперь же у фирмы был шанс подняться на более высокую ступень, войти в ряды «грандов». Реакция начальства на мой доклад была «специфической»: от работ с титаном отказаться вообще. Мы скатились на уровень чуть повыше сантехника дяди Васи…
Мне сообщил Корякин как о решенном факте, что меня переводят в УМР. Несомненно, что сам он к этому тоже приложил какие-то усилия. Повышение – знак доверия. Начальство, очевидно, нисколечко не сомневалось, что подполковник бегом побежит на новую должность, чтобы получить звание полковника. Я возмутился:
– А меня спрашивали, хочу ли я туда идти?
Это возмущение, увы, имело основание, и не одно. К тому времени мне исполнилось 50 лет. Я прослужил около 27 лет и мог уйти на пенсию. Почти все мои командиры были дельными инженерами и отличными людьми, с уважением относились к моему труду, что помогало жить и работать. УМР же для части в последние годы выступало ненужной бюрократической надстройкой, неким нахлебником, а часто – и тормозом. Примеров на эту тему было много, и часть из них касалась непосредственно меня.
И еще одно обстоятельство – человеческие качества руководителей УМР. Если его первые начальники Сурмач, Пейсахович, Большаков были гигантами, то последние не внушали мне ни доверия, ни уважения. Особенно тот, «под руку» которого мне предстояло пойти – Сергей Александрович Суровцев. Я был свидетелем возмутительного случая. При большом стечении народа на каком-то мероприятии, Суровцев, как на мальчишку, орал матом на другого полковника, обзывая его всякими непотребными словами. Тот что-то униженно и тихо лепетал в свое оправдание. Я представил себя в положении «облаиваемого» и понял, что в ответ не только прожег бы такого шефа русским глаголом, но и другими действиями цинично попрал бы все воинские уставы.
О замполите УМР, современном служителе культа, соединявшем в одном лице ласковую Алису и дальновидного Базилио, я уже немного писал…
Вот такие соображения о будущих отцах-командирах и бюрократической работе в такой же организации удерживали меня от перехода в УМР, несмотря на желанные каждому офицеру повышения звания и оклада. Правда, служить придется дольше…
Я колебался, оттягивая решение.
На личной встрече с Суровцевым он коротко мне сообщил:
– Вы приглашаетесь на должность Главного сварщика Управления. Должность – полковничья. Оклад, к сожалению, не очень высок. Работы и обязанностей – много: контроль технологии и качества сварки всех частей и лабораторий, связь с Гортехнадзором, особенно – газовиками, которые нас донимают. Впрочем, свои функциональные обязанности вы напишете сами. Ближайшие задачи – проектирование и постройка Учебно-сварочного центра, по которому вы писали докладные. Мы должны его построить для всего главка. На очереди – серийное производство сварочных передвижных машин на 122 заводе по типу ваших, количество и вид машин главком сейчас определяется. Вы принимаете предложение?
Меня сражает уважительное слово «приглашаетесь»: значит, я могу и не согласиться. О настоящем учебном центре я мечтал уже давно. В перечне других забот Главного сварщика почти нет ничего, чего бы я не делал раньше. Вот только объемы…
Набираюсь неслыханной наглости, и отвечаю Суровцеву, что смог бы решить эти задачи только при создании пусть небольшого, но весьма квалифицированного конструкторского бюро, целиком подчиненного Главному сварщику Управления. Для этого нужны соответствующие «штаты», заполненные грамотными людьми инженерами и техниками. Само собой – в их числе я хотел бы получить прапорщика Быкова Павла Геннадиевича, с которым я сейчас работаю. Кроме этого потребуются помещения, связь, кульманы, мебель, оргтехника и еще куча разных прибамбасов.
Суровцев предлагает использовать проектно-конструкторскую группу УМР, которую я хорошо знаю: это были осколки проектно-сметной группы нашей части. Там несколько девочек перерисовывали эскизы вентиляции и сантехники. Частично их можно было использовать для разработки деталей Учебного центра, но не более. Суровцев по всем вопросам согласился со мной и дал твердое обещание все, предварительно заявленное мной, – обеспечить. Разговор был конкретный и деловой. Разговаривал Суровцев спокойно и уважительно. Я по-новому взглянул на него: образ безбашенного солдафона, созданный в моем воображении, начал таять. Любого человека могут другие «человеки» довести до ручки…
И все же, и все же… Не хочется оставлять лабораторию, которую я так долго строил. Еще столько не доделано в металле. А там – почти бюрократическая организация… Кроме того, получив звание полковника, мне придется служить до 55 лет. Прошу у Суровцева несколько дней на раздумье. Он удивленно, но даже с уважением, смотрит на меня:
– Хорошо. В понедельник жду вашего решения и рапорта.
Но родная часть просто заставляет меня поторопиться. Последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, стал обычный текущий ремонт лаборатории.
У нас всегда бывало много людей из других организаций. Чтобы не стыдно было их принимать, а работать было приятно, я всегда стремился создать и поддерживать чистоту и порядок. Это было очень непросто: помещение было малым для размаха наших работ. Мы перерабатывали тонны металла, стены и потолки коптили сварка и резка на нескольких постах, много было стружки, пыли и других отходов. Все эти безобразия неизбежно загрязняли и главную комнату. А в ней были точные приборы (микроскоп, стилоскоп, осциллографы и др.), химический шкаф, библиотека, хранилище пленок и документов. Кроме меня и женщины-секретаря, здесь же работали ребята на двух кульманах, радиографы, монтажники электронных схем и другие люди. Окна – маленькие, высоко поднятые, света пропускали мало…
Поэтому потолки мы белили почти каждый год, а стены окрашивали очень светлой краской спокойных пастельных тонов. Здесь было хорошо работать и даже отдыхать… У нас всегда были как в родном доме приехавшие из командировок сварщики, прапорщики и офицеры…
Лаборатория уже изрядно закоптилась, и я затеял очередной ремонт. Его мы делали своими силами, нужны были только материалы, в первую очередь – краски. По опыту прошлых лет, основа всех красок – белила, в которые добавлялось очень немного других – только «для колеру».
Я написал заявку, точно такую же, как в предыдущие годы. Через некоторое время прибежал зам по МТО и сказал, что у него плановый отдел (все та же Ремира!) требует указать физические площади, куда должна наноситься белая краска. Ладно, если ей это нужно – укажем…
Паша Быков тщательно все замеряет и составляет сводную таблицу, в которой указаны раздельно: а) площадь окрашиваемых стен; б) окон; в) потолков; г) оборудования; д) нормы расхода краски. Объем и тщательность работы Паши вполне тянули на дипломный проект студента строительного техникума. Довольны, алчные бюрократы?
Ага, щас!!! От нас потребовали: по каждому окну показать развернутую формулу расчета поверхности переплетов. Паша добросовестно хотел выполнить и это требование. Но мне уже стало скучно, и я запретил ему это делать.
На последней встрече с «краскодателями» я совершенно озверел:
– Измеряйте окна и стены хоть микрометром, считайте, хоть до девятого знака после запятой. «Правильно рассчитанной» краской будете красить уже своими ручками. Я этим онанизмом больше заниматься не буду!
Окончательное решение об уходе-переходе было принято. Закрывалась страница моей биографии, очень большая страница – более 26 лет я служил в одной части. Практически – весь лучший активный период моей жизни, когда «уже знаешь» и «еще можешь».
Беснуясь от мерзостей снабженцев и плановиков, я не хлопал дверью и не сжигал мосты: я уходил на повышение. «Моя» лаборатория теперь – только одна из нескольких, которые мне предстояло опекать. Да и командование части теперь я смогу «прижать»: ЦУ и ЕБЦУ (еще более ценные указания) Главного специалиста Управления для него – почти приказ…
Может и хорошо, что мне не дали краску для ремонта…
26. На новой орбите
Борьба – не душевный каприз,
не прихоть пустого влечения:
плывут по течению – вниз,
а вверх – это против течения.
(И. Г.)Черная дыра
Чёрная дыра́ – область в пространстве-времени…
(Википедия)– Понаехали ТУТ!
(Приветствие)В сентябре 1982 года начинается отсчет моих витков на новой орбите в УМР на Тамбовской 93. На ближайшем партсобрании Управления, на котором сидят почти все офицеры и служащие, Суровцев представляет нового Главного сварщика. Полковник из планового отдела, похожий внешне и внутренне на похотливого фавна, хмыкает:
– Это что еще за должность? Может, теперь нам надо иметь и «главного слесаря»? Просвещаю его и остальных непонятливых с высокой трибуны:
– Должность «главный металлург» вам была бы понятна? А главные: «электрик, механик, электронщик» – понятны? Ну вот, а теперь смешайте всех вместе и получите «главного сварщика»! – А без сварки у вас и планировать нечего будет! – это уже отдельно «фавну».
Я люблю свою специальность именно за ее ширину и глубину, и меня достают суждения невежественных дилетантов, видевших только издали голубой огонь ручной сварки. Впрочем, «дилетант» – это диагноз многих, даже в той работе, в которой они считаются якобы специалистами – по «занимаемой должности». Не зря же мудрый Козьма Прутков считал, что такой специалист подобен флюсу: его полнота – односторонняя…
Вскоре об этой «непонятливости» все забудут, а у коменданта здания, подполковника в отставке Павла Владимировича Азбукина, начнется нервный тик при одном упоминании о главном сварщике или его конструкторском бюро.
Для нас освобождается большая комната на 3 этаже. Широкое окно смотрит на противоположный дом на Расстанной улице, внизу катятся трамваи и автомашины. Впрочем, этажи и потолки старинного здания очень высокие, и шум до нас почти не доходит. Раньше комната была обиталищем научного героя-одиночки, перешедшего в УМР из Главка (а возможно – из ВИТКУ). Он пытался практически внедрить электронный учет всего и вся во всем управлении.
Бедняга-мечтатель родился на полвека раньше. Безумное множество архаических заявок, ведомостей и накладных с косыми надписями «Выдать!» он пытался перевести на «железный» машинный язык. Громоздкая ЭВМ, которую он любил, старалась ему помочь изо всех сил. Увы, только они вдвоем понимали друг друга. Финал затеи, к сожалению, можно было вычислить без всякой ЭВМ… За свои мечты, никак не желающие воплощаться в жизнь, наивный офицер заплатил высокую цену: надорвал сердце и умер.
В его память и наследство, кроме предостережения, я получаю два больших шкафа. Один заполнен картонными прямоугольниками со множеством дырочек, которые умела считывать не только его ЭВМ, но и телетайп, находившийся рядом. Второй шкаф заполнен бобинами с широкой магнитной лентой. Я понимаю, что лента является большой ценностью, с которой неизвестно что делать из-за ее чрезмерной ширины. Позже умельцы научились разрезать ее вдоль и получать пленку для обычных магнитофонов – страшный дефицит нашего времени. Я потихоньку раздал пленку жаждущим: не пропадать же списанному добру…
На пару месяцев новоявленное «стойбище» Главного сварщика стает настоящей черной дырой: непрерывно втягивает в себя различные предметы и людей. Азбукину пришлось отдать все свои заначки с подвала – столов, стульев, вешалок, огромный печатающий «ундервуд»… Нам все было мало. Нужны были: бумага, карандаши, лента, клей, – и еще тысяча нужных вещей. Вскоре только за одну, но очень нужную, «мебелину» мне придется долго и упорно воевать с Азбукиным и Корякиным. Нам негде хранить сотни чертежей и калек. Обычные шкафы не подходили. Не сворачивать же чертежи в рулоны: их так не сохранить и не найти. Я облюбовал в проектном институте специальный шкаф со множеством плоских выдвижных ящиков, в каждый из которых плашмя укладывался десяток-другой листов формата А1. Это и был комплект чертежей – «белков», «синек» и калек – только по одному типу машин. Очень скоро у нас их уже было больше десятка, и с каждым работа продолжалась…
Чтобы сделать рагу из кролика, нужно иметь хотя бы кошку, – известно давно. А мне нужны были еще и «повара» для этих преобразований. Конечно, настоящие конструкторы были все «при деле» на иных местах, и срывать их оттуда для непонятного КБ никто не собирался. Да и вряд ли где-нибудь существовали «готовенькими» нужные мне кадры. Например, в нашем московском Главке МО был целый Институт «Оргстрой», в котором было уйма людей, призванных «улучшать» производство, создавая новую технику и всякие приспособления. На их работы я насмотрелся на выставке: это были раскрашенные ящики и будки с обычным ручным инструментом. Этот жалкий примитив создавался не для работы, а для демонстрации начальству. Кроме того, перевести конструкторов Оргстроя для работы в Питер – вообще невозможно: жилье, семья, дети…
Поэтому я сразу нацелился на ребят срочной службы: среди них можно было найти таких асов как Костюков, Посмитный и Паша Быков…
Машины мы должны были делать для всего Главка МО, поэтому людей для меня имелась возможность искать по всему свету. Ближайший для Главка «свет» находился в Москве, в школе сержантов, где их готовили для стройбатов всего СССР. Туда случайно попадали очень даже неплохие ребята – техники и изредка – инженеры. Некоторые из них вскоре оказались в «моем» конструкторском бюро: Решетников, Валерий Соловьев, Женя Коликов, Игорь Еремишко и другие. Суровцев выполнил свое обещание, и Паша Быков, естественно, стал моим заместителем по КБ. Затем к нам пришла Света Баженова, – миловидная и скромная девушка. Света окончила в Ленинграде институт, жила в снимаемом «углу» и мечтала о жилье и постоянной прописке в Ленинграде. Ее отец, врач-полковник в Североморске, ничем ей не мог помочь.
КБ Главного сварщика
Вставка о «кадре». Позже, примерно с 1986 года, недолго в нашем КБ работал талантливый инженер-электронщик и программист Володя Ковалев, старший лейтенант, призванный из гражданки на 2 года. В его судьбе я безуспешно пытался принять участие: УМР для развития очень нужен был настоящий инженер-электронщик. Я было договорился с новым начальником УМР о переводе Ковалева в кадровые офицеры и обеспечении его жильем. Но Володя уже начал «обратный отсчет» своей службы и мечтал только о возвращении в свой родной город – Душанбе. Он даже слово «Дюшанбе-е» произносил закатывая глаза от наслаждения. Очень скоро в Таджикистане, как и во всей советской Средней Азии, началось изгнание всех «русскоязычных». А кое-где и резня «состоялась». Следы инженера Владимира Ковалева затерялись…
В сравнении с прежним спартанским УМР конца 50-х годов, современное ВСУ просто поражало размахом расширения. В прежнем УМР был только один полковник – его начальник; даже главный инженер – всего лишь подполковник. Офицеров было немного, гражданские – только машинистки. Сейчас ВСУ имеет десяток отделов и подотделов, в которых почти все начальники – полковники, их замы и помощники – старшие офицеры, – все в морской форме. Младших офицеров, как и «сухопутных» в зеленой форме – практически не видно. Много гражданских служащих, в основном – женщин, в отделах. На входе в здание несут вахту солдаты взвода охраны, который одновременно является вспомогательной силой коменданта здания – Азбукина. Обитают дежурные солдаты на первом и подвальном этажах. А мои ребята из «отдела ГС» (именно так стали называть наше КБ) – по делам разгуливали по всем этажам.
Управление до этого жило спокойной и размеренной жизнью. Все у них было привычным и устоявшимся: обед на своих местах в обширном буфете-столовой, бильярд, шахматы и домино на первом этаже. Каждый знал свое место и время, вся стая была «одной крови»…
Нашествие новых людей нарушало устоявшийся порядок и вносило в жизнь «управы» беспокойство. Мои конструкторы были в зеленой форме! Несмотря на некоторые лычки на их погонах, каждому было понятно, что это молодые ребята срочной службы. Их свободное передвижение по этажам выше первого сразу навевало руководящим товарищам мысли о передвижении мебели, приборке и различных хозяйственных заботах, которыми, по их мнению, и должны заниматься «нижние чины» в рабочее время. А некоторые пытались убедить в этом и меня:
– Дай своих солдат на (для)…
Этих товарищей приходилось посылать «на» (почти вежливо, но – «однозначно»). Этому занятию я научился давным-давно. Один раз дай слабину, – и твой народ начнут беззастенчиво и постоянно эксплуатировать «товарищи волки». А у меня не просто солдаты, а инженеры-конструкторы, их привилегия и обязанность – думать над проблемами постоянно, без всяких перерывов. И я сам их такими проблемами загружаю очень основательно…
Вставка к слову. Очень красочно эти переговоры по телефону изображал Женя Коликов, когда в 2003 (?) году он с Павлом Быковым приезжали ко мне на фазенду. Женя обещал осветить эту сцену собственноручно, но сейчас (апрель 2008 года) он очень занят: у Главного Конструктора завода в Харькове – выставка его достижений в Киеве…
Очень скоро отдел ГС из поглощающей черной дыры превращается в некое подобие вулкана, извергающего свою продукцию – чертежи. Эти розовые простыни несут в себе массу информации, которая требует ответного «шевеления» почти все отделов Управления. По нашим чертежам работают сметный и плановый отделы; КМТС и зам по МТО – изыскивают материалы. Оборудование добывает отдел главного механика (правда, пытаясь спихнуть все на отдел ГС). На заводе уже с нетерпением ждут чертежей, и светокопия работает сверхурочно, с боем добыв у Азбукина светочувствительную бумагу. По моему требованию строевой отдел «отбивает» моих ребят от внутренних нарядов в ВСО, где они проживают, решает проблему их обедов… Значительная часть телеграмм касается нашей работы. Телетайп часто ломается; из любопытства я его однажды исправил, – теперь приходится это делать постоянно. Зато содержание касающихся меня телеграмм я знаю раньше появления на них руководящих надписей Суровцева или Корякина: «Главному сварщику»… А мой телефон раскаляется, одновременно мешая и помогая работе…
Конструкторы
Что нам стоит дом построить?
Нарисуем – будем жить!
На заводе строится учебно-сварочный центр, о необходимости которого я давно писал докладные. Его надо сделать как надо, и это мое прямое дело. А начало всему – проект, которым мы и занимаемся. Половину моего времени отнимает центр: он строится на Заводе 122 в Металлострое. К счастью, проектирование деталей вентиляции и сантехники для центра, удается сплавить соседям в проектную группу – тут они все знают и умеют, если им объяснить, что надо получить в итоге. Мы проектируем общий план, сварочные столы, оборудование и электросхему.
Но главная задача КБ – проектирование передвижных сварочных машин типа моих старых ПСМ, – теперь они называются «нормокомплекты». Оргстрой назвал их так, потому что его собственные «машины» являются будкой на колесах, с «нормативным» комплектом строительных инструментов. Оргстроевские машины похожи на наши, как лопата на экскаватор. Но название уже вошло во все приказы и планы… Да и какая нам разница? Свою машину мы называем «Нева», ну пусть будет – нормокомплект «Нева». Разновидностям сварочных машин «Нева» даем еще приставку «тип №…». Принципиальная разница – таких машин завод должен построить больше сотни, они уже «расписаны» по всему Союзу. Раньше в лаборатории я строил единицы, подгоняя индивидуально к наличным колесам, оборудованию и фургону. Теперь же постройка фургона – дело наше и завода. Как его нарисуем – так и будем жить.
«Концепт-кар», как говорят на автозаводах, уже решен. Наши фургоны, рассчитанные на работу как в Арктике, так и в жарких странах, будут изготовляться на 122 заводе и устанавливаться на автоприцепах. Теплоизоляция стенок – пенопласт 50 мм (в домашнем холодильнике меньше). Для раскаленных реостатов и печек надо нарисовать термоотсек. Конечно, – окна, двери, отопление и вентиляция. Но это всего лишь оболочка пирога. Его начинка – сложная и многоликая…
Поэтому мы не знаем пока, сколько будет весить наша «Нева» и какой прицеп нам подойдет. И тем не менее, совсем впереди паровоза: надо срочно дать годовую заявку на металл, тепло– и термоизоляцию для тех машин, которые мы еще не разработали. Считаем «на пальцах», – и даем. А как же – надо…
В ряду машин, разработанных нами, особое место занимала сварочная машина «Фиалка». Об этом – чуть дальше.
Забегая несколько вперед, скажу: КБ главного сварщика так «размахалось», что нам поручают проектирование еще почти десятка типов передвижных монтажных машин, ничего общего со сваркой не имеющих. По два типа для электриков и связистов – для разных видов работ, для сантехников и газовиков, даже для проколов кабелей и труб под действующими дорогами.
Для проектирования таких «непрофильных» машин у нас нет ни знаний, ни информации. Начинаем учиться – по книгам и путем расспросов бывалых монтажников. Главные вопросы: какое оборудование и инструмент нужны? Какие условия работы? Сколько времени длится работа на одном объекте? Какие расстояния между объектами? Сколько человек должна «приютить» создаваемая машина?
Конечно, при нормальном проектировании все эти вопросы должны быть уже решены в ТЗ – техническом задании на проектирование. Понимаю, что это нормальное и подробное ТЗ нам никто не составит и не выдаст, кроме нас самих…
Постепенно вырисовываются некоторые общие требования. Большинство «непрофильных» машин должны иметь высокую подвижность. То есть – их надо строить на шасси грузового автомобиля с фургоном КУНГ (до сих пор не знаю, как расшифровать это обозначение). Главк выделяет нам требуемые грузовики – ЗИЛы, пожирающие бензин большими бочками. Требуемые фургоны мы должны заказать самостоятельно по «спущенным» фондам.
В этом фургоне надо, кроме нужной техники и расходных материалов, перевозить также бригаду из нескольких человек. Значит – нужно освещение. А зимой – и фургон, и народ в нем надо обогревать, ставить автономную печку с «выхлопной» трубой. С этой печкой и газоходом к ней начинается целая «апопея», как обозначал длительную бодягу один мой матрос.
В магазинах продается миниатюрная и красивая «буржуечка», даже с конфорками. Но купить требующуюся партию печек за наличные нам не позволяют: низзя. Проектируем собственной конструкции – стальную, сварную. Первый блин – комом: печка беспощадно дымит, приходится ее переделывать. Не подходит и стандартный КУНГ: он может полыхнуть после первой протопки печки. Еду на небольшой заводик в Ярославской области, изготавливающий КУНГи, чтобы согласовать изменения в конструкции фургона. К счастью, на заводике – нормальные руководители: они сразу принимают все требуемые изменения. Правда, им сделать это не очень сложно: производство – почти кустарное.
Вставка не по теме. До этого городка я добирался на нескольких поездах, глазея в окна на открывающиеся картинки родных просторов. Господи, до чего же докатилась деревня «в глубинке» … Стоит десяток-другой серых покосившихся домиков, почти без сараев для скота, без садов и заборов. И обязательно рядом с каждой такой деревенькой – большая гора мусора, в котором особо выделяются разноцветные стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра…
* * *
Сейчас мощные компьютеры и программы могут быстро нарисовать что угодно в любых проекциях и даже выдать программы изготовления деталей прямо на станки. Мы же – дети своего времени – работали по обычной технологии. Изготовление рабочих чертежей тогда было таким. Самый умный конструктор изобретает и вычерчивает на кульмане черным карандашом проект, – обычно на уровне «сборка», «узел» или «КМ» (конструкция металлическая). На его гениальное творение набрасываются конструкторы помоложе (поглупее – пока). Они делают деталировку (стадия КМД), подсчитывают вес, материалы, составляют спецификацию с надписями гостовскими шрифтами вручную, все теми же карандашами, чтобы можно было стирать и исправлять. Все готовые чертежи (белки) передаются копировальщицам. На чертеж накладывается полупрозрачная калька, и весь чертеж точно и тщательно обводится тушью на кальке. (Я уже писал, как запятая, пропущенная при копировании, только чудом не убила моих матросов). Калька – это основа, почти незыблемый атрибут проекта. С кальки будет печататься нужное количество экземпляров «синек», которые я назвал «розовыми простынями» (синими они были раньше, а название осталось). Владелец проекта – это «калькодержатель»…
Снятие кальки – трудоемкое и длительное дело. Уже существовало подобие ксерокса – «Эра», но только небольшие листы можно было «отэрить» на белую бумагу. Однажды, будучи в ЦПИ ВВС, я увидел кальку большого формата, выполненную явно не ручным способом. Иван Игольников, служивший теперь в ЦПИ, объяснил мне, что у них есть иностранный ксерокс, который из белка большого формата быстро и точно изготовляет кальку, обещал помочь при надобности. Теперь этих надобностей было очень много…
Радостная вставка не по делу. Первого апреля 2008 года, когда я писал эту страницу, влез в БД жителей СПб на своем компьютере и нашел телефон Игольникова Ивана Петровича. Позвонил с опаской: человек уже разменял девятый десяток. Ответил бодрый голос Ивана. Полчаса мы радостно общались, вспоминая друзей и «битвы, где вместе рубились они». Иван сказал, что только благодаря моей рекомендации он смог перейти в ЦПИ ВВС, где получил звание капитана первого ранга, очень полезное перед выходом на пенсию. Этот факт мне был неизвестен или уже стерся в памяти. Ничто на земле не проходит бесследно…
Мы экономили время не только на снятии кальки. Наш «белок» стал похож на детскую игру «Вырежи и наклей». Все многочисленные надписи и спецификации, которые надо было писать от руки, – Света быстро печатала на машинке и приклеивала на лист. Также туда вклеивались используемые повторно фрагменты из синек: на качестве кальки это не отражалось.
И еще одно ухищрение экономило нам время и повышало качество. В тесном пространстве фургона нам надо было рационально разместить массу оборудования. В масштабе вычерчивалась развертка помещения – план, стены, потолок. В том же масштабе вырезались проекции размещаемого. Дальше начиналось то, что называется «мозговой штурм»: квадратики оборудования передвигались на чертеже и каждый мой конструктор мог найти уязвимые места компоновки: «тесно, не пройти», «нагрев Х будет влиять на У», «неудобно работать», «не добраться», «слишком длинные кабели», «очень низко приборы» и т. д. Можно было для устранения опасности предложить свой вариант, но главное было – найти недостаток! Вот, кажется, все учтено, с размещением все согласны. На другой день кто-нибудь из участников находит изъян в размещении, и все начинается сначала…
Часто нам приходится изобретать нечто оригинальное, чтобы решить проблему. Тогда я применяю «метод Моравского», который меня поразил еще в институте (кажется, я уже писал, как мы, технические «негры», проектировали машину конденсаторной сварки, которую потом организаторы представили на Сталинскую премию). Нам теперь не до премий, быть бы живу…
Но метод сам по себе – хорош. Обрисовав задачу в целом, поручаю решить ее 3–4 конструкторам одновременно, не заглядывая друг к другу через плечо. Спустя несколько часов каждый защищает свой вариант и подвергается жесткой перекрестной критике. Из сочетаний удачных частных решений и получается приемлемый гибрид. Этот теленочек еще только родился и слабо стоит на дрожащих ножках. Тогда мой народ начинает его улучшать, дорабатывать, – пока он не вырастет во взрослого свирепого быка…
Так были изобретены, например, барабаны для тяжелых кабелей: заземления, питающего и сварочного. На маленьком пространстве у нас разместилось около 400 (!) метров толстых кабелей, причем, они легко разматывались, сматывались и стопорились, обеспечивая надежные контакты на токи в сотни ампер. Чтобы выполнить противоречивые требования, мы изобретаем: металлоконструкции фургона, его «хитрые» двери и крепления к прицепу, электрические щиты, верстак, печи для сушки электродов и многое другое. Впервые для защиты сварщиков при работе в особо опасных местах мы на каждый из 4-х постов ставим электронные тиристорные автоматы собственной конструкции, снижающие напряжение холостого хода до безопасных 12 вольт. На серийных источниках сварочного тока таких автоматов еще нет…
Неожиданно проблема возникает на ровном месте. В машине есть все для питания любого электроинструмента и выносного освещения: напряжение 12 и 36 вольт, трехфазное – 220 вольт и 36 вольт 200 герц. Согласно ПУЭ – для каждого напряжения мы ставим на щиток по три розетки разной конструкции, чтобы даже пьяному нельзя было подключиться к «чужому» напряжению. Чтобы «вписать» щиток в нужное место, долго его «вылизываем» и «ужимаем». Иду к Корякину, чтобы подписать чертеж: заводу он срочно нужен для работы. Вдруг Корякин отодвигает чертеж.
– Зачем тебе так много розеток? У тебя дома, что в каждом углу по розетке?
В нашем с ним общем доме, стройкой которого руководил Корякин, действительно по одной розетке на комнату. Было по одной…
– Владимир Иванович, сейчас у меня в каждом углу каждой комнаты стоит по 4 розетки, и то мне не хватает иногда! А здесь сложные трехфазные розетки – их всегда мало!
– Хватит по одной, – упрямится Корякин и возвращает чертеж без подписи.
Спорить с ним – время терять. Возвращаюсь, подписываю чертеж сам и отдаю в работу. С тех пор все чертежи выходят только за подписями конструктора и моей. Никаких проблем: налаживать машину перед выпуском с завода, комплектовать и подписывать документацию – все равно мне…
Я люблю всех своих молодых конструкторов. Их мозги еще не скованы традициями. Ребята стремительно, прямо на глазах, растут. За очень короткое время они проходят путь от студентов, наспех списывающих домашнее задание, – до конструкторов, чьи идеи и решения скоро воплотятся в металле. Они заняты настоящим делом, и им интересно…
Абстрактные рассуждения, как всегда – неуместные. Сложная техническая идея, изложенная «на пальцах», останется абстракцией, нерожденным дитём, пока ее не превратят сначала в четкие и понятные чертежи, эскизы или схемы. Только по ним другие смогут выточить, отфрезеровать, собрать в металле эту самую идею. «Нарисовать» дитё-идею должен Конструктор, согласовав возможность ее изготовления с Технологом. Если для «изготовления» настоящих детей Бог придумал «стандартную», внешне – простую программу, то для создания «технических детей» Конструктор и Технолог должны эту программу создавать каждый раз заново. Именно от качества их работы зависит трудоемкость изготовления, работоспособность, внешний вид и характер рождающегося технического «дитяти». Их неудачные дети рождаются трудно, живут мало, никому не принося радости…
Побывав в разных «шкурах» – рабочего, инженера, конструктора и технолога, – хочу отдать пальму первенства Конструктору: он – всегда Главный у истоков новой техники. Если Конструктор сработает плохо, то, рожденное усилиями многих, дитя тоже будет плохим…
В работе конструктора, изобретателя, как мне кажется, есть три основные трудности. Первая – главная – это умственная «колея». Уже что-то придумано – тобой или другими. Оно не очень удачно и не совсем то, что надо. И вот ты начинаешь улучшать, подгонять что-то маленькими кусочками, не в силах вырваться из «колеи» основной идеи. К сожалению, именно в такую «колею» попадают очень хорошие специалисты. Им труднее всего вырваться из плена привычных, давно проверенных истин и догм. Известен такой анекдот с глубоким смыслом. Все грамотные знают, что Это сделать нельзя. Однако находится дилетант, который ничего не знает. Именно он приходит и делает то, что стает новым шагом. В жизни ценные и совершенно фантастические озарения приходят очень редко, – даже у матерых дилетантов. Поэтому для решения нормальных технических проблем, очень хорошо работать все-таки знающим хотя бы азы своего дела специалистам, но работать тандемом, триумвиратом, квартетом и т. д., когда один подвергает сомнению решения другого и предлагает свое. Впрочем, хорошему критику достаточно просто увидеть недостатки чужих решений и четко их сформулировать. Существует куча анекдотов и даже жестких решений руководства о курилках, где якобы убивают рабочее время конструкторы. Я всегда считал, что именно здесь рождаются те дрожжи, на которых всходит тесто конструкторских решений. Треп о бабах и футболе, конечно, должен играть вспомогательную роль приправы к гарниру, а не сам гарнир…
Второй опасностью конструктора я бы назвал «режим автоколебаний». Есть два (или более) решения. В каждом есть преимущества и недостатки. Каким путем пойти? Начинается период мучительных и бесплодных метаний. А быстротечное время не ждет… Бывало, Владимир Ильич говаривал: «Любая политика лучше политики колебаний». Известен такой факт. В КБ Королева проектировали луноход для первой высадки на Луну. Мнения конструкторов разделились: часть из них, начитавшись романов А. Кларка, считала, что Луна покрыта глубоким слоем пыли, другие, – что Луна каменистая. Высокая наука тоже увязла в теоретических спорах и не могла сказать ни «да», ни «нет». Движитель лунохода нельзя было проектировать. Время уходило. Тогда С. П. Королев взял «руль на себя» и на документах написал: «Луна – твердая» и подписался. После этого все завертелось… В условиях жестокого цейтнота, неполной информации и отсутствия других возможностей, приходится принимать решения – рискованные, но единственно возможные, чтобы выполнить задачу – в тех условиях.
К счастью, Королев оказался прав… Если бы он ошибся, да еще с жертвами, – нашлось бы большое число умников и прокуроров.
Хор умников потом доказал бы, что они все сделали бы по-другому, причем, – лучше, дешевле, «красивше». Вот пример из собственного опыта. На атомном полигоне «надо было носить с собой рентгенметр (они, не понимая разницы, говорят – дозиметр), чтобы не облучаться», – советуют они теперь. Хоть бы кино вспомнили, как ловили американских шпионов за пользование рентгенметрами даже на мирной земле, а не на сверхсекретном полигоне…
Прокурорами же, сидящими в тихих и уютных кабинетах, было бы «возбУждено» много «дел»(!) с перечнем номеров статей: о превышении полномочий, о преступной небрежности, о нецелевом использовании и растрате средств, – хорошо, если не «о вредительстве» или «контрреволюционной деятельности»…
В моей жизни приходилось принимать очень много рискованных решений. К счастью, обошлось без прямых жертв, да и прокуроров было не так уж много. Я подчеркиваю: прямых жертв. Ползание по атомным воронкам никому не добавляет здоровья. Как я ни берег своих матросов, – очень многие уже в мире ином. Простите, ребята, что еще живу: это – случайность, я шел впереди вас… Но я отвлекся от темы «конструктор». Продолжаю.
Третья трудность конструктора возникает, когда он начинает решать: из чего и как попроще все нарисованное сделать. Начинается раздвоение личности: конструктор выступает еще и в роли своих оппонентов – технолога и снабженца.
Увы, почти все конструкторские работы были выполнены мной именно в таких режимах: двойственном, или даже «тройственном». С одной стороны, такое расщепление очень сдерживает, как бы заземляет «полет творческой мысли». С другой стороны, позволяет реально создавать изделия и конструкции в металле. Конечно, речь не идет о создании лунохода или орбитальной станции, где требования конструктора могут потребовать создания совершенно новых, небывалых технологий и материалов.
Иногда технология сама помогает, или даже требует, создания новой конструкции «под себя». Классический пример – технология сварки в целом. Попытки просто использовать сварку на серьезных конструкциях, рассчитанных на клепку, часто кончались сокрушительными катастрофами: взрывались котлы, разрушались, казалось, – сами собой, огромные резервуары и корабли. Только со временем пришло понимание, что сварка не просто может заменить клепку. Сварка требует других конструкций и других подходов. Не могу без улыбки вспоминать сварную конструкцию, сконструированную плотником (я уже, кажется, писал об этом). В целом же извечный конфликт конструктор – технолог требует компромиссов от обеих сторон, чтобы дело двигалось.
… Основной комплект чертежей по «Неве» уже выдан. На заводе начинается изготовление первого, «головного» нормокомплекта. Мои «ведущие конструкторы» – Быков, Коликов, Решетников – частые гости на заводе: здесь идет настоящий экзамен конструкторам. Теперь наши чертежи подвергаются самой жесткой проверке. Казалось бы, что все продумано, проверено-перепроверено. Оказывается – не всё. Вот не стыкуются размеры. Нельзя заварить – нет доступа. На заводе нет указанного в чертежах профиля, а любая замена требует изменения соседних деталей… А вот полость, которую надо покрасить заранее: после сборки она станет недоступной. Завод ее «закроет» и так, но этого делать нельзя, и мы должны предостережение внести в чертежи… Таких мелочей набирается вагон и маленькая тележка…
Мои ребята начинают понимать, что такое ответственность за конструкторские решения. Но это еще не всё: главную оценку нашего труда нам поставит опыт эксплуатации. А вот и первая ласточка оттуда. Фургон к прицепу мы крепим обычными большими болтами, приваривая «уши» креплений «по месту». Когда понадобилось поменять шасси на одной «Неве», оказалось что этого сделать нельзя: отверстия под болты не совпадали. Кроме того, – головки болтов выходят за габариты, а установка и снятие с креплений – длительная и «муторная» операция. Переделываем весь узел креплений, после чего все «фурычит» как надо…
После изготовления первого экземпляра «Невы» конструктивных изменений (КИ) набирается много, и нам основательно приходится корректировать весь пакет чертежей. Такова се ля ви…
Но это только изготовление. Чтобы выпустить машину с завода и передать ее заказчикам, отдел ГС должен провести весь комплекс испытаний под нагрузкой. Испытания, возможно, обнаружат еще какие-нибудь недостатки, что также потребует корректировки чертежей или технологии.
На заводе всеми испытаниями машин под предельной нагрузкой командую я сам, не допуская никаких упрощений и послаблений. Полыхает сварка на максимальных режимах на всех 4-х постах. Нагружены по максимуму все источники низкого напряжения, освещение, вентиляция. Вот на двух тиристорных автоматах начинаются сбои: дуга иногда не зажигается с первого раза. Проверяем десятки версий – все не то. Только на второй день поисков находим причину: на заземление завод поставил кабель сечением 25 мм2, вместо проектных 50. Тут уже мой старый «друг» Чернов получает по полной программе: это тебе не чужие машины ломать! (Конечно, этот гусь немедленно облаивает начальника цеха, которому сам и давал легкомысленное распоряжение о замене кабеля).
Очень много набирается у нас чисто бумажной (писательской) работы. Инструкции по эксплуатации, комплект главных чертежей и акты испытаний мы ведь выдаем для каждой машины отдельно, а их уже сделано только по типам больше десяти. (Я везде пишу «машины». Язык не поворачивается обзывать своих детей чиновничьим корявым словом «нормокомплекты»).
Комплектует машины завод по нашим ведомостям. Уместно рассказать об «улыбках» планового хозяйства. Автоприцепы мы получаем с бортами, которые нам не нужны. Просим завод (кажется, в Ставрополе): отгружайте без бортов. Ага, щас! Прицепов без бортов в планах и расценках завода – нет. И у нас все завалено снятыми бортами, с которыми неизвестно, что делать. Точно такая же картина с балластными реостатами: нам нужно только 4, а в комплект к многопостовому выпрямителю их идет шесть. Настольный наждак мы, как изюм из булки, добываем из сложного станка для заточки пил и ножей при деревообработке; ненужная нам хитрая оснастка валяется в складе цеха. А деньги уже уплачены…
Кстати, о деньгах. В плановом хозяйстве четко разделяются «основные средства», «материалы» и «малоценка». Не углубляясь: каждая категория учета имеет свою судьбу. Раньше в лаборатории за каждой созданной машиной мы числили в отчетах только основные средства, а все израсходованные материалы и «мелочевку» сразу списывали по разным статьям. Здесь такую же систему мне пробить не удалось. Умники из плановых отделов УМР и Главка все затраченное (зарплату, краску, металл, болты, ключи – короче – всё) накручивали на цену машины. Так им было проще сейчас. Завод, «улучшая свои показатели», – не стеснялся тоже в разных накрутках: только накладные расходы составляли более 400 %. В результате стоимость созданного «основного средства» вырастала до заоблачных высот. И это несмотря на то, что проектирование машины нигде и никак не учитывалось! Но ведь машины не продавались, они в нашем плановом государстве потребителям просто передавались на баланс. Казалось бы: так бери и пользуйся, повышай у себя производительность труда за бесплатно.
Как бы не так! А для чего у нас пишутся законы и постановления? Резко увеличивались т. н. «амортизационные отчисления», которые зависят от расчетного срока службы оборудования. Оно для всей «Невы» – около 9 (?!) лет, – по сроку службы многопостового выпрямителя, который должен спокойно работать это время в цеху, а не колотиться по дорогам, как наш. Но главное: все остальное, «накрученное», тоже должно было безотказно служить те же 9 лет. Из состава «единого нормокомплекта» практически ничего нельзя было ни списать, ни добавить. Это создавало «на местах»: такую головную боль, что некоторые командиры позже стали отказываться от машин, очень нужных им для работы…
Конечно, эти вопросы можно было своевременно решить даже в нашем сугубо плановом хозяйстве. Если бы плановики думали о своем деле и видели чуть-чуть дальше. Они даже не хотели как лучше… Они хотели – как им легче. Но все равно: получилось – как всегда…
Кстати, о стоимости проектирования. Если бы наш главк заключил договор о разработке и проектировании целой линейки разнообразных машин с каким-нибудь НИИ или проектным институтом, то это обошлось бы им в астрономическую сумму, не говоря уже о времени. Годы нужны для составления ТЗ и ТУ (тех. заданий и условий на проектирование и экономическое обоснование), затем – на рабочее проектирование и всякие согласования и утряски.
Мое солдатское КБ сделало все быстро и бесплатно, на высоком инженерном уровне. Никто из участников этой работы не был как-нибудь отмечен и/или поощрен командованием Главка и УМР. Впрочем, возможно я неправ: награждение непричастных могло и состояться…
* * *
Географическая вставка из ближайшего будущего. В Калининграде-Кенигсберге, где проживает мой лепший друг Цезарий Шабан, – трудности с водоснабжением. Когда циклон вспучивает Балтику и нагоняет волну, – вода в реке Преголя течет в «обратный зад». Тогда городской водозабор оказывается после слива неочищенных стоков местного ЦБК – целлюлозно-бумажного комбината, а из кранов у жителей течет рыжая, дурно пахнущая жидкость, которую трудно назвать водой. Надо было перенести водозабор выше по течению километра на три. Проблему уже около 10 лет решали семь нянек; каждая что-то делала «приятное» общему дитятку: строила насосную, рыла каналы, вывезла и разложила на трассе трубы почти метрового диаметра… А дитя все оставалось неподвижным: некому было сварить трубопровод. Начала уже разваливаться недостроенная насосная, заиливаться накопительный бассейн. А зачем суетиться: трубы-то нет. И если даже ее начнут делать, то это работа надолго – всё успеют доделать остальные шесть нянек…
Жалобы населения достали, и где-то наверху стукнули кулаком. Поскольку в город перешел штаб Балтийского флота, то местная советская власть спихнула это неподъемное дело на военных моряков. Те – естественно, – на своих строителей, строители – на монтажников, на Суровцева. На кого же мог спихнуть это дело Суровцев, кроме своего Главного сварщика? Тем более, выпускающего на заводе серийно машины «Нева»? Выпущенные машины давно уже расписаны, но заказчики перебьются какое-то время…
Беру в столицу Пруссии две новые машины. Питаться на трассе они будут от двух дизельных электростанций. Количество сварочных постов – штатных – 8, но мощи хватит еще на столько же. Если работать в 2 смены, то в два-три месяца можно уложиться. Собираю асов со всех частей, правая моя рука – Сережа Иванов. Он великий организатор: людей надо кормить – поить – возить – спать – умывать. Я занимаюсь в основном производством.
Главная наша трудность обнаруживается на месте – коррозия. За годы ожидания кромки труб покрылись толстым слоем твердой ржавчины, варить по которой нельзя. Ржавчину можно «ободрать» только шлифмашинками, которых у нас всего по одной на «Неву». Срочно собираем машинки и абразивы везде, где можно. Слава Богу – у нас есть куда их подключать.
…Спустя всего один месяц остальные субподрядчики по водоснабжению Калининграда с ужасом видят, что почти трехкилометровый водовод большого диаметра – уже готов! Теперь они – «крайние»! Им надо немедленно возобновлять работы на почти забытых объектах…
Две машины «Нева» после боя слегка чистятся, снабжаются документацией и уходят к плановым покупателям. Я получаю личную благодарность от горсовета бывшей фашистской цитадели. Мой друг ЦВ пьет чистую воду…
Досужие размышления о начальстве
Когда мы кого-то ругаем,
и что-то за что-то клянем,
мы желчный пузырь напрягаем,
и камни заводятся в нем.
(И. Г.)Я начинал новую работу с командиром, который мне активно не нравился. Расскажу о нем, о Сергее Александровиче Суровцеве. Это был невысокий крепыш с резкими чертами гладко выбритого красноватого лица и светлыми глазами, глядящими жестко и прямо. Его порывистые движения и «командирский» голос позволяли легко представить этого человека во гневе, что и приходилось мне наблюдать. Многословия и болтливости у подчиненных он терпеть не мог, их беспомощность, лень и нерасторопность легко приводили его в ярость, иногда – с уничтожающей язвительностью. Надо сказать, что за несколько месяцев работы с Суровцевым я значительно изменил свое мнение о нем в лучшую сторону. Лично у меня все служебные вопросы с ним решались легко и просто, выполнить обещанное он никогда не забывал. Суть проблемы он схватывал на лету, нормальных людей понимал с полуслова. О каком-либо повышении голоса при наших деловых встречах и намека не было.
Беспощадно и грубо Суровцев разносил только двух человек: своего главного инженера, о котором я еще скажу, и полковника Петра Ильича Гранщикова, которого я когда-то пожалел. Этот полковник был таким вежливым, воспитанным и ласковым «хорошим парнем», который никогда никому не возражал, со всеми соглашался, не принимая никаких самостоятельных решений. Возможно, у него не было и знаний для этого. Очевидно, что высшее офицерское звание он получил в каких-то других, благословенных Богом, войсках, где такие качества ценятся. В нашей монтажной жизни они просто не позволяли ему работать. Старший офицер технического отдела неизменно сочувствовал всем проверяемым и «входил в их положение». Наши «тертые калачи» «на местах» обычно эффективно вешали ему «лапшу на уши». Только по причине своей исключительной вежливости, Петя Гранщиков не мог вести дела, где требовался хоть малейший нажим на других людей. Суровцев ему это не прощал и превратил его в мальчика для битья. Петр Ильич также вежливо, к сожалению, принял эту роль. В других условиях он, несомненно, был бы другим…
Кстати, хочу рассказать о другом человеке такого же типа, которому мне удалось помочь. Давным-давно, еще в разгар монтажно-сварочных работ в Прибалтике, мне дали подкрепление – лейтенанта Сашу Иванова, электрика, только что выпущенного из военного училища. Саша был рафинированный интеллигент старого Ленинграда, вежливый и застенчивый, как девушка. Грубый быт и суровое воинское воспитание училища, казалось, его совершенно не коснулись и не изменили. Все свои распоряжения по работам, которые я ему поручал, он отдавал таким просящим тоном и с такими извинениями за причиненные неудобства, что скоро им начали помыкать не только старшины, но и матросы. Саша тяжело переносил не столько трудности, сколько – я бы сказал – грубости нашей работы и жизни. При всей его внешней инфантильности у него была светлая голова и глубокое понимание технических проблем. Ломать его и перевоспитывать я был не способен, да и не хотел. Понимая, что в наших частях Иванова ничего хорошего не ждет, в очередной аттестации я характеризовал его положительно, отметил его особенности и сделал вывод о целесообразности его перевода на научную работу. Отцы-командиры и замполиты плотно на меня навалились: потребовали изменить выводы аттестации. Я упрямо стоял на своем, и они, в конце концов, подписали аттестацию. Вскоре Иванова перевели в НИИ 13. Через пару лет он защитил кандидатскую диссертацию, начал работу над докторской. Темы были очень актуальные, командование его ценило. К сожалению, не знаю, как сложилась судьба Саши Иванова при перестройке и развале, но даже его жизнь «до того» позволяет мне испытывать шестое(?) «чувство глубокого удовлетворения».
* * *
Поразил меня Суровцев и заставил значительно изменить мнение о нем еще дважды. Я уже служил в УМР несколько месяцев, когда к нам нагрянула московская комиссия в составе нескольких генералов с целью тотальной проверки. Генералы порознь и вместе беседовали с начальниками отделов и главными специалистами, в том числе со мной, о всяких разностях, что-то записывая в свои гроссбухи. Один из генералов явно благоволил к нам, военным монтажникам. Мне довелось услышать его беседу с Суровцевым. К сожалению, кинокамеры не было, попытаюсь передать картину словами.
Генерал. Скажите, вы можете начинать монтажные работы только после того, как строители вам сделают необходимую подготовку?
Суровцев. Так точно.
Г. Значит, если по каким то причинам строители срывают сроки, то и вы вынужденно можете сорвать сроки?
С. Никак нет.
Г. Ну, как же. Ведь чтобы выполнить определенные объемы монтажных работ вам нужно время?
С. Так точно.
Г. Но если начало работ сдвигается не по вашей вине, то вы, срывая сроки, можете заявить командованию, что они сорваны не по вашей вине?
С. Так точно. Никак нет.
(Разговор происходил сидя, но при каждом ответе Суровцев как бы принимал стойку «смирно» и щелкал каблуками. «Ты же целый полковник, руководитель многотысячной организации! – размышлял я. – Ну нельзя же до такой степени бояться генерал-лейтенанта, даже если он проверяющий!»
…Генерал делает попытку зайти с другого конца:
– Некоторые объекты по технологии требуют строительной отделки после окончания монтажных работ?
С. Так точно!
Г. Ну вот, строители жалуются, что они не могут выполнить отделку объекта, потому что не закончены монтажные работы. Но ведь они не закончены, потому что те же строители опоздали со сдачей объекта под монтаж?
С. Никак нет.
(В таком духе беседа продолжается еще минут пять. Суровцев чеканит только ефрейторские «Никак нет», «Так точно», иногда – и то и другое).
Генерал. (откидываясь в изнеможении на спинку стула) Я вас не понимаю. Вы хотите что-нибудь добавить?
Суровцев. Никак нет, товарищ генерал! Разрешите быть свободным?
В приемной, хмуро оглядев начальников отделов, стоящих в очереди на собеседование с генералом, он тихо, спокойно и четко произносит:
– Предупреждаю. Если кто-нибудь из вас захочет поссорить меня со строителями, – голову оторву.
При полном параде
Второй раз Суровцев удивил меня на «обмывании» моего высшего офицерского звания. В гостиничном уютном ресторане был снят отдельный кабинет и накрыт хороший стол человек на 15, из которых 2 человека были мои старые друзья Гена Солин и Боря Мокров. Все были полковники (некоторые – кап «разы»), все при эполетах. После традиционных ритуалов «омовения», Сергей Александрович без всякой натуги стал веселым, неистощимым на выдумки заводилой. Смеялись так, что к нам стали заглядывать из соседних залов: что за фестиваль смеха у моряков? (в парадной авиационной форме был только Гена Солин). Смех легко нейтрализовал некий «перепив», связанный с количеством и качеством тостов настоящего тамады…(Закуски мало не бывает. Бывает мало водки).
Погубили Суровцева, как водится на Руси, если не водка, – то «бабы». Его жена начала кампанию террора – личного и через политорганы, проведав о любовнице СА – милой женщине из отдела. Так УМР потеряло неплохого руководителя. Не знаю, вернула ли эта акция мужа обиженной женщине. (Некрасивых женщин не бывает. Бывает мало водки).
Второго «ругаемого» человека – своего главного инженера Владимира Ивановича Корякина, Суровцев беспощадно обрывал и зло высмеивал на всех планерках и совещаниях с участием множества людей. ВИ – главный инженер, мой непосредственный начальник – добродушный дядька, бывший сантехнический прораб с Дальнего Востока, которого перетащил за собой прежний начальник УМР Юрий Иванович Горбанев. Сам ЮИ был мягкий и добрый человек. Вскоре, к глубокому сожалению, Юрий Иванович заболел раком и умер. Корякин остался без друга и начальника, а новый, Суровцев, его не жаловал, как мне сначала казалось, – по каким-то личным причинам.
У меня к непосредственному начальнику – Владимиру Ивановичу Корякину– отношение даже не двойственное: оно, как теперь говорят, – многовекторное. В повседневных (бытовых) условиях – он добряк, последнюю рубашку отдаст. Хлеба горбушку – и ту пополам. Он мой начальник – никаких проблем: просто – папа родной. Я для него – «Коля» везде: и на даче, и при эполетах.
Его персональная служебная «Волга» по утрам и вечерам напоминает лодку деда Мазая: шеф подбирает всех. Днем она носится по Питеру: это катаются по срочным делам офицеры из отделов, и ВИ сам иногда ожидает свою машину для поездки. Кстати, о служебных машинах. Они есть только у командира, трех его замов и главного инженера. Машины начПО (замполита) и зама по МТО (снабжение) – особо неприкасаемые: а вдруг война? А они – без колес будут, что ли!?
Я раскатываю на машине всегда, но только на собственной. Только однажды, согбенный после операции, я вышел в карман проспекта Смирнова (был такой ворюга, мэр Питера, разбившийся по пьяни; теперь это Ланское шоссе), чтобы доехать к части на машине соседа – зама по МТО. Вместо него вышла жена и сказала, что сейчас она не поедет, пусть шофер едет на Тамбовскую один. Я изобразил позу просителя.
– Возьми этого полковника, – милостиво разрешила жена зама. Спасибо Вам, Екатерина Михайловна, что Вы вспомнили, что я лично укреплял и ставил двери в Вашу квартиру, и разрешили мне, недостойному, прокатиться на Вашей с мужем служебной машине…
Однако продолжаю о своем непосредственном шефе. Часто я его люблю. Но когда дело доходит до технических решений – «врезать» просто хочется этому добродушному, но страшно упрямому «практическому дядьке». Хотя и очень жалко…
Они там, на Дальнем своем Востоке, все делали сами, все постигли, – не отрываясь от бытового уровня, на котором и остановились навсегда. Книжек всяких ученых и журналов они не читают, поскольку им и так все понятно. «Неприятности по мере их поступления» мой шеф преодолевает «домашними средствами», просто и скоропалительно. Потом, к якобы решенной таким способом проблеме, налипают новые, как мокрый снег на заготовку для «бабы».
За несколько лет командования мой шеф смог нанести Управлению, и особенно Заводу 122, ущерба больше, чем десяток вражеских диверсантов. Лишь бы быстренько все «порешить»… «Выдыхать» потом приходится долго-долго…
В нашем доме, стройку которого курировал он – Главный инженер супер– электриков, сантехников и монтажников, – сооружена такая система отопления, которую с трудом запускают каждый год уже 30 лет. Допотопные чугунные монстры, – краны для регулирования батареи, при любом повороте перекрывают весь стояк, отключая от тепла все этажи. Это происходит ежегодно, т. к. люди меняются квартирами, и неофиты начинают с регулировки отопления. Любой, тронувший такой кран будет месяц подкладывать посуду под течь из сальника. После запуска отопления в квартире моего друга на верхнем шестом этаже можно начинать ремонт: только там можно стравить из системы воздух. Ржавая эмульсия со страшным свистом вырывается из краника, окропляя жилище и весь быт несчастных.
Самое холодное место в квартирах нашего дома – ванная: обогревающие помещение полотенцесушители подключены последовательно к стояку, обогревающему кухни на шести этажах, то есть практически к уже холодной воде (это персональное рацпредложение ВИ).
С таким же блеском выполнено электроснабжение дома. Тонкие алюминиевые провода рассчитаны по довоенным нормам: одна комната – одна лампочка Ильича – одна розетка. Желающие установить, например, стиральную машину должны прокладывать в квартиру отдельную проводку от щитка на лестничной клетке. Это при том, что медные провода любых сечений и видов изоляции для нас никогда не были проблемой. Проводка в квартирах проложена по стенам немыслимыми диагоналями под слоем штукатурки. Забивая гвоздь для картины, можно устроить всеобщее короткое замыкание и пожар: в шкафах стоят древние тепловые автоматы АБ, которые или горят сами по себе или намертво сваривают контакты. Счетчики у нас украли из открытых всем ветрам шкафов на лестнице еще в первые годы перестройки, но это к счастью: весь кабельный канал, вместе со щитами и верхним этажом, заливается водой, поступающей с худой кровли.
На этом фоне отсутствие в окнах всех квартир каких-либо форточек воспринимается как должное: дескать, на Дальнем Востоке мы всемерно берегли тепло и вас научим.
Этюды по дому можно множить, например, – описанием «шуток» подвала, из-за которого у нас погнили лаги пола…
Вот за что можно похвалить отцов-основателей нашего дома, так это за выбор места. Дом распложен в зеленой северной части города. Рядом метро и ж/д станция Новая Деревня, троллейбусы и автобусы. Но главное – мы находимся во дворе, и шум, мягко говоря, оживленного Ланского шоссе к нам почти не доходит. Чтобы не ходили под нашими окнами, мы с Эммой вдвоем соорудили из плиток обходную дорожку, сделали невысокую оградку. Разрослись кусты, посаженные под окнами; народ привык к новым путям…
Кстати, до переезда мы так были привязаны к родному Кировскому району, что планировали возвращение туда через обмен. Через пару месяцев мы забыли об этих мечтах: воздух в зеленом районе слегка отличается от выдоха мартенов на Кировском заводе. Кроме того, с ужасом представляю, что ездить на любимую фазенду нам бы пришлось, преодолевая пробки всего города…
Возвращаюсь к деятельности своего шефа. Недостатки нашего дома, в конце концов, испытывают всего несколько десятков человек. На 122 заводе созидательная деятельность Главного была еще эффектнее. Вот несколько примеров из богатой коллекции.
Для классов учебно-сварочного центра мы переоборудуем и оснащаем большую казарму на территории завода. Здесь изучают теорию несколько групп сварщиков-учеников, сдают экзамены при переаттестации по сварке и по газовым работам рабочие, короче – народа много. Через пару месяцев в здании перестает работать канализация. Срочно, по старым схемам, начинаем раскопки. Канализации там не находим, зато натыкаемся и едва не повреждаем кабель под напряжением, идущий неизвестно куда и откуда. Собираю старожилов, которые с трудом вспоминают: это по распоряжению Главного изменена трасса канализации. Он же распорядился проложить временный кабель. Неизвестный кабель под напряжением – как действующая электрическая мина. И никто не знает, где его можно отключить: никаких документов и схем нигде нет.
Вместо учебы десятки моих учеников вручную долбят шурфы на обширной территории, пока не находим излом злосчастной канализации. Оказывается, что та труба, куда подключили стоки из нашей казармы, находится выше. Два месяца стоки из нашего здания уходили просто в грунт через трещину… А теперь целый месяц десятки людей заняты исправлением «волевых» решений Главного.
Заводу поручено делать детали газовых систем, и три лаборатории не успевают их просвечивать радиоактивными изотопами. Нахожу на КМТС потерянный промышленный рентгеновский аппарат РУП-120. Это мощная машина, которая шутя справится с работой. Но ей нужно специальное помещение, которое быстро проектируем и сооружаем в одном из цехов завода. Стены помещения расчетные: они заливаются специальным бариевым бетоном, чтобы защитить людей от излучения. При проверке готовых стен, оказывается, что одна область стены «не держит» гамма-излучение. Расследую причины: временно кончился барий, и Главный приказал класть обычный бетон. Дефектную стену приходится «латать» свинцовыми листами и смещать аппарат в противоположный угол, что затрудняет доставку к нему деталей навсегда…
Владимир Иванович распрямился и ожил позже, только после ухода Суровцева, когда начальником ВСУ стал Фаддей Федорович Капура. В это время на заводе сооружается огромный цех из пенометаллических панелей из ГДР (кто забыл – Демократической Германии). Там должны изготовляться готовые блоки малых котельных, насосных и т. п. КБ главного сварщика представляет четкую схему размещения оборудования и грузопотоков типа конвейера. Мы также проектируем необходимую оснастку: низкие платформы большой грузоподъемности. Платформы могут перемещаться по рельсам вдоль цеха. На каждой и собирается блок, постепенно обрастая деталями, монтируемыми легким мостовым краном, который мог бегать по всему цеху. В конце пути – испытательный участок, окраска и погрузка блоков на трейлеры большим мостовым краном. Такая схема по сборке тяжелых арматурных каркасов отлично показала себя в Котово, не считая даже изобретенных еще Генри Фордом конвейеров автозаводов. Корякин против: цех достаточно большой, чтобы выделить в нем участки для нескольких монтажных частей. Пусть они самостоятельно собирают блоки для себя. Спорили до хрипоты, пока я не махнул рукой: делайте, как хотите. Через пару месяцев случилось то, что должно было случиться. На выделенные участки каждая часть натащила свое оборудование, трубы и материалы, перекрыв рельсовые пути, а заодно и конвейерную технологию. Большой цех превратился в захламленное сборище мелких участочков, где каждый в дыму «клепал» нечто небольшое, чтобы его можно было вытащить малым краном. Большие блоки, ради которых и строился цех, можно было собирать только в одном месте, где раньше планировалось только их испытание, окраска и погрузка…
Обязан сказать о своем шефе и хорошее. При проектировании и строительстве Учебно-сварочного центра Главный мне только помогал, не вмешиваясь в мою область, подгонял строителей и снабженцев. Очень хорошо он помог решить проблему вентиляции. По расчетам при одновременной работе всех 30 постов требовался очень мощный вентилятор. Этот вентилятор должен был бы работать постоянно, независимо от реальной потребности, что превратило бы центр в подобие трубы ЦАГИ для продувки самолетов. Это было опасно, особенно – зимой. По совету ВИ мы поставили гибкую систему: шесть наружных небольших вентиляторов, каждый для своей группы постов, что заодно решило проблему шума. Необходимые вентиляторы для наружной установки добыл именно ВИ. Он же «выбил» из главка большой калорифер для подогрева приточного воздуха. Я уже не говорю об «изыскании» нужных центру людей…
Почти хвастливая ностальгическая вставка-реквием из будущего. Создание Центра, пожалуй, – моя личная вершина профессиональной деятельности, к которой я долго шел. В нем удалось связать вместе технику, организацию, мой опыт и психологию учеников. Учебно-сварочный центр сразу заработал на полную мощь, выдавая драгоценную «продукцию». Всего за несколько лет работы Учебный центр из ребят «от сохи» за короткие сроки подготовил около тысячи настоящих высококвалифицированных сварщиков для УМР и других организаций МО, даже – для пограничников. Здесь проводились также тренировки и переаттестация действующих сварщиков для особо сложных работ. Думаю, даже сейчас эти люди на вес золота: такие сварщики нужны везде.
Душой Центра был сварщик и педагог божьей милостью Виктор Иванович Чирков, беззаветный труженик, добрый скромный человек. Его счастливую семью начал преследовать злой рок: сначала без вести пропала жена, затем погиб младший сын – мой способный ученик «по электричеству». Старший сын после армии – спившийся алкаш, сидевший на шее отца. В 2003(?) году Виктор Иванович умер в больнице от черепно-мозговой травмы неизвестного происхождения… Пусть земля тебе будет пухом, дорогой человек!
Специально построенный и оборудованный Центр сейчас разграблен и превращен в склад какой-то торговой фирмы. Стране нужны менеджеры по продажам, а не сварщики…
Также разграблена и превращена в помойку первоклассная сварочная лаборатория, которую я строил и оснащал много лет… Конечно, это – семечки: страна распалась!
Господи, дай силы спокойно смотреть на то, что мы не можем изменить!
А еще я жалею своего шефа за его собственное дачное строительство. Дом в ЛОТОСе он соорудил по технологии Пономаренко, от которой меня успел отвернуть Булкин. Но какое неудобное, на мой взгляд, жилище построил для себя мой Главный!
Дом поставил не высоко, но входная лестница настолько крутая, что ноги можно поломать. Есть крытое крыльцо, но очень узкое и темное. Основная комната – проходная. Вход на мансарду из спальни по деревянному подобию винтовой лестницы, которая занимает половину темной комнаты. Чтобы «взойти» по ней на мансарду, надо быть ужом и изгибаться во всех трех плоскостях. В главной комнате ВИ установил огромный гибрид камина и плиты. Чтоб была теплая водичка, в плиту намертво «вмазан» чугунный котел с краником. Хорошо! Только если топить печку, – вода закипает, и комната превращается в парную. А без воды топить нельзя: котел треснет… И т. д., и т. п.!
Зато парники, помидоры и огурцы у шефа – прелесть! Растит их с толком, удовольствием и любовью… Может быть, не своим делом человек занимался всю жизнь?
Замучил себя воспоминаниями. Звоню ВИ – давно не общались. У него, бедняги, на руках уже давно неподвижная жена, у которой случился страшный инсульт. Она только может кричать от боли – уже несколько лет. Владимир Иванович как ребенок радуется моему звонку. Обмениваемся сообщениями о наших общих знакомых. Недавно ушел Лимонов, еще раньше – Стрельников и Кордюков. Суровцев жив, с женой тогда еще разошелся и живет с Таисией из сметного отдела, помнишь?… Рассказываю ему об Игольникове, но он его не знает.
– Как с дачей? – спрашиваю я. – Планируете выезд?
– Да я бы давно уже был там… Сам понимаешь…, – говорит с тоской.
Понимаю, конечно. Прощаемся.
– Звони, пожалуйста, Коля, – просит бывший шеф. На календаре – 7 апреля 2008 года.
Еще вставка, совсем последняя… В сентябре 2008, когда мы с Эммой еще жили в садоводстве, позвонил Боря Григорьев и сообщил печальную весть: Владимир Иванович умер…
Я не смог проводить его в последний путь: похороны были на Южном кладбище, до которого надо добираться через пробки не только всего города. А беспомощную жену я не мог оставить так надолго. Прости, дорогой шеф и товарищ…
* * *
После ухода Суровцева в 1984 году командиром в/части, или теперь уже – ССУ, стает полковник Капура Фаддей Федорович, очень деловой и спокойный мужик. У нас с ним сразу устанавливаются просто теплые отношения, все вопросы решаются без промедления. Кстати, когда на планерках кто-нибудь из начальников отделов ставит вопрос об отсутствии материалов, оборудования, – у ФФ один, но вполне универсальный рецепт:
– Бери рыбу и езжай, договаривайся!
В натуре «рыба» чаще всего была облечена в плоть красивой бутылки хорошо согревающего напитка для умягчения владельца искомых ценностей. Конечно, – этот «вынужденный подарочек», как говаривал пан Возный в «Наталке-Полтавке», – можно назвать и взяткой. Сейчас, в эпоху «откатов» в больших процентах от суммы содеянного, такая «рыба» выглядит просто детской забавой. Прогресс, однако: берущие романтики стали прагматиками…
ФФ поражен размахом технической деятельности отдела главного сварщика. Многое в сварке ему в диковинку, и он не стесняется об этом спрашивать. Особенно он заинтересовался измерениями излучения. Вскоре я понял почему. Его родина, куда он ездит в отпуск для рыбалки – Белоруссия в зоне Чернобыля. По просьбе ФФ я сооружаю ему портативный рентгенметр: пусть не кушает дорогой начальник радиоактивную рыбку.
В 1986 году мне исполняется 55 лет, когда полковникам положено уходить в запас. Я пишу рапорт на эту тему. ФФ машет на меня обеими руками:
– Ты что, сдурел? Работай, служи! – и продляет мне срок службы еще на два года.
В начале 1987 году меня кладут в госпиталь, чтобы подлечить от обострения радикулита. Разные процедуры, на которые я ползаю в соседний корпус, только увеличивают боль. На меня врачи смотрят уже косо: уж не симулянт ли этот полковник? Я попадаю в руки замечательного человека – главного нейрохирурга ЛенВО полковника Головащенко Николая Васильевича. После просвечивания вверх ногами (пневмомиелография, однако) он укладывает меня на каталку: вылетел очередной диск, ходить пешком – вообще низзя.
Через несколько дней НВ, начальник нейрохирургического отделения, сам делает мне операцию. Инструменты уже более совершенные: не надо так много вырезать наружную дужку позвонка. Да и я уже закаленный больной, можно сказать, – крутой профессионал. Через неделю – поднимаюсь, затем часами «накручиваю мили на костыли» по коридорам госпиталя. Спустя два месяца, включая отпуск, – опять в строю. Ну, это к слову, чтобы понять, что мой «дембель» – не за горами…
* * *
Вставка о замечательном человеке. Николай Васильевич родом из кубанских казаков. Он старше меня на 5 лет, поэтому уже воевал. Вызывает уважение его работоспособность, заботливое, прямо-таки – отеческое отношение к своим пациентам. Вскоре мы подружились семьями. НВ скоро тоже надо увольняться в запас. У родного госпиталя, которому отдал столько лет жизни, он просит всего лишь «Запорожец», который ему так и не дадут (может – к счастью: НВ – весьма крупнокалиберный мужик, ему больше бы подошел «Кадиллак»).
Каким-то образом НВ получает участок всего 4 сотки в садоводстве ЛОТОС-3, совсем недалеко от нас. Я помогаю Николаю Васильевичу «огнем и колесами», дом он строит по нашему проекту. Рядом отрывает колодец с прекрасной водой. Жена и две дочери просто счастливы: они обожают свою дачу.
Первый удар судьбы – случайный и страшный: на Московском проспекте пьяный сопляк автомобилем сбивает НВ. Сломана бедренная кость. Нейрохирургическое отделение госпиталя выделяет для своего начальника отдельную палату. Жена Нина Александровна заботливо выхаживает мужа долгие шесть месяцев… Он опять на ходу и продолжает трудиться в госпитале в качестве рядового врача, помогая своим молодым коллегам с погонами…
… Держа одной рукой внучку, другой – палку, НВ посещает нашу фазенду. На обратном пути, как узнали мы позже, нога у него подворачивается, крепление титановой пластины разрушаются… Новые операции. Опять жена выхаживает Николая Васильевича, и, как и раньше, он стает в строй.
Третий удар судьбы можно считать предупреждением – почти мистическим. Во время грозы в дом попадает молния. Сгорает только проводка, проложенная по деревянным легко горючим стенам.
Последний удар – неотразимый: дом загорается и сгорает дотла. К счастью, спасаются дочь и ребенок, которые топили печку…
Мои призывы о восстановлении дома (остался почти целым цокольный этаж) Николай Васильевич отклоняет: для этого оставшихся у него сил уже недостаточно. Но продолжает работать, разменяв девятый десяток лет. Каждый день он на гортранспорте с пересадками преодолевает путь от Пулковского шоссе до госпиталя на Суворовском проспекте. Он все такой же: внимательный к людям, спокойный и уравновешенный. Можно только восхищаться и учиться жизненной стойкости у этого замечательного человека…
* * *
Фаддей Федорович походя решает важнейшую для нашей семьи проблему – жилье. У нас патовая ситуация. Сваты уезжают в Чехию, но квартиру оставить Сереже и Милене не могут: они прописаны у нас. Задача «волк – капуста – коза» решилась так: ФФ «выбивает» для нас комнату на 8 линии ВО; мы с Эммой прописываемся туда. Затем эту комнату и квартиру сватов меняем на четырехкомнатную квартиру для детей и сватов, которые вскоре уедут. Мы опять «переселяемся» в свою квартиру.
Вставка: «Повесть о выбивании». Что-то получилось на бумаге все очень быстро: «выбил», дескать, и все. Как будто – взмахнул волшебной палочкой некто, и все устроилось. Нужны детали, чтобы осознать…
…Комната на 8 линии могла освободиться для нас, когда живущий там «товарищ А» отремонтирует ее, сдаст ЖЭКу, выпишется и переедет в жилье «товарища Б». «Товарищ Б» тоже должен проделать все эти процедуры, прежде чем получит ордер в построенный в Металлострое дом.
Чтобы начать выдачу ордеров, надо этот дом штатно подключить ко всем трубам и кабелям и сдать в эксплуатацию городу. Для этого надо: (смотри перечень недоделок и требований госкомиссии из 65 пунктов). Простая в целом цепочка событий состоит из множества действий сотен людей, обстоятельств и задержек, которые от меня, и даже от Капуры, – не зависят. Лопнула труба, не завезли цемент, в отпуске сантехник, очередь или неприемный день в паспортном столе – тысячи причин у сотни людей стоят на нашем пути в светлое будущее. Сроки без конца переносятся, и наше переселение всё откладывается. Оно, конечно, состоится почти наверняка…
– Когда? – прямо задает мне вопрос невестка на семейном совете.
Я бегло перечисляю всю цепочку грядущих событий: задержка может быть…
– Когда??? – голос наполнен уже металлом, глаза упираются в меня, не мигая.
Что-то бормочу о трудностях со сдачей дома, которые от меня не зависят…
– КОГДА???? – это уже звенящий звук «Мессершмитта», идущего на полной скорости в лобовую атаку. Одни зрачки смотрят на меня сквозь прицел пушки.
И я не выдерживаю, отклоняюсь от курса:
– 21 августа, в 15 часов 43 минуты 31 секунду.
– Хорошо.
Точная дата записывается на бумагу. Секунды, впрочем, отбрасываются как неуместная подробность, попахивающая глупостью. Забавно, что я почти угадал.
Блаженны мужи ведомые…
* * *
Перед увольнением все офицеры должны пройти медицинскую комиссию с «лежкой» в госпитале. Туда попасть трудно. Чтобы меня приняли, использует свои связи наш начальник политотдела полковник Примак. Назначен день и час на понедельник. Вечером в воскресенье звонок от дежурного:
– Фаддей Федорович велел вам прибыть в Управление, госпиталь отменяется. Нет, причину вызова командир не указал.
Еду вместо госпиталя в Управление, перебирая в уме возможные катастрофы в своем обширном заведовании. Где и что обрушилось, взорвалось? Не дай Бог, – опять радиационная авария? Скорее всего, что-нибудь по газу. Работы с газопроводами от Североморска до Калининграда у нас вели несколько организаций. Это постоянная головная боль главного сварщика: бесконечные учеба, сдачи экзаменов на допуск к газовым работам всеми ИТР и рабочими. Особый надзор за лабораториями, контролирующими сварку и изоляцию, проверка их приборов, качества контроля качества и т. д. А может быть, с выпущенными сварочными машинами что-то случилось? Пожар, гибель человека под напряжением?
…Мою руку начальник пожимает особенно долго.
– Николай Трофимович, у меня к тебе очень большая личная просьба: сделай мне лодку!
Мои глаза стают круглыми, затем квадратными и треугольными. ФФ объясняет подробнее:
– Понимаешь, у меня есть «казанка». Но она слишком маленькая, тяжелая и непрочная… Вот если бы ты сделал такую из алюминия, чтобы она была больше, легче и удобнее…
Лодки я никогда не строил. Последний раз плавал на деревянных «прокатных» в Виннице в 1951 году, когда катал Эмму с подругой. И смотрел тогда я по глупости на распрекрасные очи, совершенно не обращая внимания на конструкцию плавсредства. Теперь надо наверстывать упущенное. В смысле – учиться, учиться, учиться…
Во время прошлой «лежки» в госпитале у меня появился приятель-полковник, страстный рыболов с собственным плавсредством в гараже. Вытаскиваем его лодку на белый свет. Тщательно замеряю ее вдоль и поперек – это будет нулевая точка, как не надо делать. Изучаю еще несколько лодок: надо понять не только общие принципы, но и детали…
Еще до окончания моего судостроительного образования в учебно-сварочный центр уже доставлены листы, профили и трубки из алюминиево-магниевого сплава АМг 5, из которого корабелы делают надстройки боевых кораблей. Материалов столько, что их хватило бы для сооружения флота небольшого государства.
Только теперь начинаю проектирование. Совсем один, не привлекая свое КБ: задание-то почти секретное. В этом суденышке надо сплавить в целое сопромат, технологию сварки, закон Архимеда, здравый смысл и еще что-то неизвестное… Знаю хорошо, что «тело, впёрнутое в воду – выпирает на свободу, с силой выпертой воды, телом впёрнутой туды».
Варит всё Витя Чирков: он это делает хоть левой рукой, но лучше меня…
Корабль получается серьезный. Жесткость корпуса повышена специальным рифлением и обрамлением кромок листов трубками. Днище не боится посадки на рифы. Сиденья и рыбины – деревянные, съемные, есть багажник, весла и всякие швартовые и крепежные прибамбасы. Лодка должна легко выходить из крена, может поднять 3–4 человек, ходить под веслами и подвесным мотором. А если поставить в особое гнездо-мачту – то и под парусом. И главное: лодка не сможет утонуть, даже если опрокинется. Для такой плавучести в корме и носу закреплены легчайшие блоки из водонепроницаемого пенопласта…
Фаддей Федорович просто остолбенел, когда увидел свой готовый корабль: он мало походил на его прежнее плавучее корыто…
…После испытаний на воде ФФ радостно отгибает вверх сразу два больших пальца…
Я пишу о своих начальниках; это взгляд из моей колокольни. А вот как они видели меня самого? Вот журнал «На стройке» № 14 за 1999 год. Здесь к 60-летию УМР – ССУ 44 помещена статья Ф. Ф. Капуры «Перемены по плечу профессионалам». Читаем:
…За годы службы в 44-м ССУ познакомился со многими людьми, в которых старался видеть не только подчиненных, а прежде всего единомышленников, сподвижников в решении всех стоявших задач.
С самой лучшей стороны запомнился мне наш главный сварщик полковник Николай Трофимович Мельниченко. Мы его называли «Наш Кулибин»– он решал любые проблемы, вплоть до того, что создавал станки, работающие в автоматическом режиме. Те же котлы, которые мы создавали для отправки в Афганистан, это была на 90 % его заслуга – энергию и упорство он проявил недюжинные.
Потом эту должность сократили, и Мельниченко, уже на посту заместителя главного инженера, сменил Кузьменко Леонид Андреевич. Это люди, которые привыкли все время что-то создавать. Не просто рядовые исполнители, привыкшие от сих до сих работать в рамках проекта, а вносящие какие-то изменения, предложения по улучшению, пробующие вновь и вновь и добивающиеся-таки положительного результата.
Конечно, доброе слово и кошке приятно. Только здесь как в армянском анекдоте: да, все правильно. Только:
– не создавал я при Капуре станков, работающих в автоматическом режиме;
– не занимался я на 90 % котлами для Афганистана;
– не сокращалась должность «главный сварщик»;
– не был я замом главного инженера;
– не менял меня Л. А. Кузьменко – ни так, ни этак;
– не вносил я изменения в чужие проекты, я сам их делал.
Кстати, о должности. Известно, что незаменимых людей нет, но одних заменяют не так, а других заменяют не те. После моего ухода все сварочные и газовые вопросы решал майор Петр Синицын, инженер-сварщик, окончивший ЛПИ. Только его числили на майорской же должности в каком-то отделе, а через полковничью должность главного сварщика быстренько «прогнали» нескольких засидевшихся подполковников, которые и получили желанное высокое звание. Первым в списке стал, конечно, сам кадровик… Вот служит человек долго-долго на разных невзрачных должностях. И вдруг – чудо! Он, оказывается, успешно скрывал свои непомерные технические знания. Но шило в мешке не утаишь, всё открывается, и его сразу назначают Главным Сварщиком! И таких скромников оказывается очень много! Так что теперь в военкоматах числится пенсионеров, бывших Главными сварщиками, – хоть пруд пруди…
Ну, а все остальное в статье, особенно очень лестные слова обо мне, – оч-чень правильные, как и в любых мемуарах о собственных достижениях.
… Не могу не рассказать еще об одном колоритном руководителе – начальнике политотдела полковнике Примаке А. П. По слухам, он пришел к нам из ЦК КП Молдавии. Энергичный, невысокий крепыш, чернобровый с серыми красивыми глазами, был врожденным пламенным трибуном. Его выступлениями на различных собраниях я просто наслаждался. По страстности речи он бы запросто заткнул за пояс любого златоуста и Цицерона, а по афористичности – даже Черномырдина. Несколько раз я пытался его конспектировать, но не в силах был угнаться за потоком образов, непрерывно исторгаемым из его уст. В блокноте остались случайно только обрывки его роскошной речи на партсобрании 30.07.1987 года.
…Это механизация! Это завал! Все стоит – ничего не стоит. Никто за нас не будет работать!
…ответ один: надо думать!
… раз доверили – так работай, а не просто для почета!
…приписываем и считаем, что эти вопросы решаются.
…а не просто, что мы достигли 198,5 и тому подобное и так далее…
… мы можем смело гордиться кадрами, и это наша работа…
…были камни, стали камушки. Так будем кричать!..
…куда мы от них денемся, нам их дают, других нету. Надо переломить свое сознание…
…я служил с узбеками, татарами, но все решали и так далее…
…если ты хам, то немедленно пиши рапорт об увольнении…
…боритесь, уничтожайте этих людей! В глаза улыбается, а за глаза…
…где начальники? Не видно лиц…
…забыть это слово, в кавычках или как, занятия есть занятия…
…зарапортовались, товарищи секретари! Надо выполнять и так далее и тому подобное…
…не могут уволить, соблюдают первое августа, хотя он не нуждается в нем…
…вот вам перестройка. Начальника сняли, хорошо, но где ваша ответственность?…
…партгруппа руководит профсоюзами, но надо же сказать!
Пусть простит мне дорогой Анатолий Петрович цитаты в отрывках, но ведь его выступление полностью в печати еще не публиковалось.
… Последний раз мы встретились с ним на торжественном заседании по случаю 60-летия УМР-ССУ в 1999 году. В большом ДК железнодорожников на Тамбовской было вполне современное действо: в большом зале народ сразу сел за столы и начал выпивать и закусывать. Бывшая нудная «торжественная часть», которая обычно предшествовала чревоугодию, теперь происходила одновременно. Выступающие поднимались на небольшое возвышение в углу зала, что-то говорили и провозглашали здравицы и общие тосты, которые никто не слушал. Умный был человек, первым придумавший такое совмещение!
Столики и места были номерные; я сидел тет-а-тет с АП. Два других кадра за нашим столом были знакомыми, но не нашими, поэтому мы «пропускали» по собственным тостам вдвоем, не особенно прислушиваясь к речам с амвона. Выступали в основном бывшие командиры частей, уже немного хватившие, поэтому вскоре переходившие к невнятным ностальгическим воспоминаниям. Неожиданно на возвышение поднялся осанистый поп, в полном облачении – в рясе и с крестом. Все замерли от неожиданности. Выступление оратора было четким и необычным (правда, не помню о чем). Мой визави даже приподнялся, жадно впитывая речь священнослужителя. Я удивился этому вниманию:
– Что, замполит, перенимаешь опыт, как надо охмурять трудящихся?
– Не надо, не надо, – очень серьезно возражает мне АП. – Мы работали не хуже!!!
Конечно, конечно, дорогой Анатолий Петрович: ты, яркий и неравнодушный человек, работал не хуже. В отличие от большинства твоих коллег, у которых глаза оживали только тогда, когда речь шла об их личном благополучии…
Кажется, А. П. Примак уже ушел из жизни. Жаль. В память о нем привожу цитату, продиктованную другим полковником – моим другом Геннадием Михайловичем Солиным, тоже преждевременно ушедшим. Он разразился устно этим шедевром после ознакомления с моими цитатами «от Примака». Я попросил продиктовать медленнее еще раз, противостоя собственному склерозу. Поэтому их записи и оказались рядом в моем блокноте.
«Оно то и да, оно то и точно, что касательно относительно. Оно – и безусловно. А доведись такое – вот тебе и пожалуйста!»
Столичные штучки
Взирая на высоких людей и на высокие предметы, придерживай картуз свой за козырек.
(К. П. № 103)Наш Главк располагался тогда в Хрустальном переулке – совсем рядом с Красной площадью, Мавзолеем и Василием Блаженным. Мне теперь довольно часто приходится там бывать в основном по снабженческим вопросам. Кроме обычных представлений и «защиты» годовых заявок на оборудование и материалы для сварки, много визитов для «добычи» всяких необычных «эксклюзивов», как сказали бы теперь.
Здесь следует рассказать о якобы нормокомплекте – нашей машине «Фиалка». Это, по сути, моя старая машина для сварки на монтаже алюминия с измененной схемой стабилизации дуги. История у нее давняя. Когда-то в лаборатории у меня проходили практику несколько курсантов-электриков из ВИТКУ. Один из них – Дима Гуков – так пристрастился к проблемам сварки алюминия, что продолжал над ними работать, когда стал офицером, затем – кандидатом наук и преподавателем в училище. Наша с ним задача была – избавиться от старинного искрового генератора – осциллятора, обеспечить и поджигание, и устойчивую работу дуги только надежной электроникой, не создающей радиопомех.
Дима Гуков – скромный, чрезвычайно трудолюбивый и упорный мужик, в конце концов создал работоспособную схему (авторское свидетельство на нее, в котором Дима и меня сделал соавтором, было получено только в 1988 году). Но уже в 1983 году на нескольких постах в учебно-сварочном центре надежно работала эта схема. Поскольку у главка периодически возникала головная боль со сваркой алюминия на дальних объектах, то нам (ГС и заводу 122) и «забили» в план десяток машин «Фиалка». Проект мы сделали, завод по нему изготовил корпуса на одноосном шасси и установил основное оборудование. А дальше все застопорилось: родной Главвоенстрой «стал на уши» от нашей заявки на электронику. Нам нужны были специальные тиристоры, динисторы, конденсаторы и еще многое, которое не купишь в магАзине. «Хочете машину – давайте детали!», – с таким простеньким лозунгом я бродил по кабинетам строительного главка. Их обитатели глядели на меня как на инопланетянина. А я, добывая эксклюзивы, постигал методы московской военной бюрократии.
Однажды почти случайно я попал на совещание у одного из генералов. Он торопился, слушал доклады вполуха, совершенно не вникая в детали, имеющие важное значение. Решение по принципу «на городе бузина, а в Киеве дядько» было принято очень быстро, после чего генерал отбыл. Бедные люди, которым придется выполнять эти предначертания! С другой стороны я осваиваю простую истину: чем выше руководитель, тем большим верхоглядством он должен обладать, иначе можно просто утонуть в деталях…
В целом, по рассказам других, а не по собственным впечатлениям, – в высоких московских кабинетах властвует весьма наглый и грубый стиль обращения с «товарищами с мест». Даже весьма приличные на первый взгляд люди смотрят на твои руки: «А что ты принес, дорогой товарищ? А что я буду иметь лично, решая твой вопрос?»
Несколько знакомых офицеров Главка – из наших, из монтажников, ушедших в Центр на повышение. Они тоскуют по прошлой настоящей работе. Сейчас они служат «на подхвате»: мотаются по всему Союзу по горящим объектам, чтобы потом «доложить» о делах командирам повыше. В длинных паузах – составляют отчеты, травят анекдоты в курилках и бродят по комнатам. Они и стают моими гидами в лабиринтах власти.
Я уже прошел со своими заявками многие кабинеты. Высокие начальники внимательно выслушивают полковника из провинции и посылают… Нет, не туда: столичная обходительность не позволяет, – посылают в следующий кабинет. Циркулировал таким образом я довольно долго…
– Да ну их всех, – спохватывается один из моих гидов. – Сходи к Нинели!
Нинель Николаевна Хохлова, миловидная женщина средних лет – рядовой сотрудник одного из отделов. Где-то я уже слышал эту фамилию, кажется, она была замужем за одним из «китов» патоновского ИЭС… НН встречает меня как старого знакомого: она откуда-то знает меня. Быстро, но детально разбирается с моей заявкой, отмечает позиции, которые не могут быть заменены, разбивает заявку по поставщикам и отдает в работу. Часа через два я забираю оформленные наряды на получение желанных электронных железяк…
Нинель связывает меня с майором из отдела фондов всего Министерства Обороны, который обитает в здании рядом. Майор подстать Нинель: мы быстренько оформляем наряд на сварочные дефициты, о которых я даже не мог мечтать, составляя годовые заявки.
Через недели две Нинель проводит у нас совещание на 122 Заводе, в том числе – по моим машинам. Я испытываю истинно эстетическое наслаждение, слушая как высокохудожественно и грамотно она «прикладывает фейсом об стол» начальника завода и моего «друга» – главного инженера! Слова не запомнить, а диктофона не было. Вот такой должен быть столичный класс!
Нинель и майор как-то примиряют меня с московскими порядками. Но еще больше я познаю столичную жизнь только вечером, когда я приезжаю в Строгино к Ружицким. Тамара собирает на стол, на который я уже водрузил свой любимый тираспольский коньяк. Жан служит в аппарате МВД, видит и знает очень много. Мы до глубокой ночи обмениваемся информацией, которую только сейчас иногда приоткрывает Пиманов в передаче «Совершенно секретно»…
Из проделок, оргий, махинаций, безудержного воровства Щелокова, Чурбанова, Галины Брежневой и других «руководящих» и приближенных к ним лиц у нас вырисовывается безрадостная картина полного морального разложения и деградации верхушки, которая правит огромной страной.
Куда, к каким берегам она правит? К каким «зияющим вершинам», о которых нам неустанно врут газеты, радио и телевидение? Куда мы катимся? Что будет со страной?
Нет ответа… «Спасаемся» от злобы дня очень маленькими дозами, но – многократно, испытывая роскошь человеческого общения. Воистину:
От боли душевной, от болей телесных,
от мыслей, вселяющих боль, —
целительней нету на свете компресса,
чем залитый внутрь алкоголь. (И.Г.)
КОНЕЦ 2 ЧАСТИ






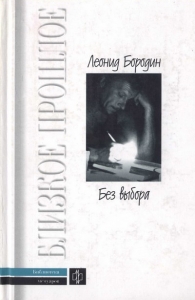
Комментарии к книге «Еще вчера. Часть вторая. В черной шинели», Николай Трофимович Мельниченко
Всего 0 комментариев