Лина Войтоловская МЕМУАРЫ И РАССКАЗЫ
ДВА ГОДА. О СОЗДАТЕЛЯХ КИНО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Лев Игнатьевич ВАРШАВСКИЙ (1904–1967) – историк-публицист, литературный и театральный критик, автор сценария «Алдар-Косе» (реж. Шакен Айманов), книги «Искусство Казахстана» (с А. Канапиным), «Памятные страницы» и др. Уроженец Санкт-Петербурга, окончил факультет общественных наук Ленинградского университета.
Лину Львовну Войтоловскую я знаю очень давно. Дочь известного писателя Льва Войтоловского, нашумевшая книга которого «По следам войны» была одним из первых разоблачительных антивоенных произведений в нашей художественной литературе;[1] жена одного из пионеров советского киноискусства, теоретика и историка кино профессора И. В. Вайсфельда. Одаренный человек, Лина Львовна прожила жизнь в мире искусства, в обществе людей, чьи имена являются славой советского кино, театра, литературы и живописи. Близкое, многолетнее знакомство с ними, естественно, не могло не отразиться на ее воспоминаниях, богатых интереснейшими фактами, красочными подробностями, тонкими наблюдениями. Добавьте – впервые сообщенными читателю.
Достоверность – одно из самых драгоценных качеств мемуаров Л. Л. Войтоловской. Я с уверенностью пишу об этом потому, что сам был очевидцем многих описываемых ею событий и знал людей, о которых она пишет. Алма-Ата первых лет Великой Отечественной войны еще не отражена ни в художественных произведениях, ни в мемуарах, ни в исследовательских трудах. Об этом нельзя не пожалеть, ибо роль в культурной жизни страны (не республики, а страны), которую играла Алма-Ата в это грозное время, переоценить невозможно. Достаточно сказать, что 80 процентов всех фильмов, выпускавшихся тогда по всему Советскому Союзу, были отсняты в Алма-Ате. А сколько здесь было ученых, писателей, представителей всех видов искусств! И как гостеприимно они были встречены алма-атинцами, партией и правительством Казахстана! Какой след оставило их пребывание! Всё это надо изучать, фиксировать как замечательную страницу живой истории дружбы народов Советской страны, пример их морально-политического единства перед лицом смертельной опасности.
Память людей зыбка и ненадежна. Ее выветривают буйные ветры истории. Она меркнет под наплывем калейдоскопа событий, – непрерывно, сменяющих друг друга. И с каждым годом уходят свидетели и очевидцы, унеся с собой то, что видели, слышали, пережили и не успели передать потомкам. Вот почему я горячо приветствую почин журнала «Простор», публикующего на своих страницах мемуарные материалы, включая такие, как воспоминания Л. Л. Войтоловской. Они очень скромны и отрывочны, составляя лишь малую часть того, о чем может рассказывать мемуаристка. Но при всем том они содержат драгоценные свидетельства, мимо которых отныне не пройдет ни один историк, и, в частности, историк кино. Я говорю о ее воспоминаниях о Сергее Михайловиче Эйзенштейне – великане мирового киноискусства.
Мне понятны волнения и трепет» с которыми она пишет о нем, почему она так скупо передает содержание своих бесед с ним, почти совершенно отказываясь от прямых цитат из высказываний Сергея Михайловича, справедливо опасаясь невольного искажения его слов, оценок, мыслей. Ведь речь идет о гении, и чувство высокой ответственности, присущее Лине Львовне, можно только приветствовать, ибо она пишет лишь о том, в чем абсолютно и твердо уверена. В этом и достоинство ее воспоминаний. Им можно верить. Отсебятины в них нет.
И другая характерная черта, на которую также хочется обратить внимание читателей. Об Эйзенштейне уже сегодня существует большая литература. Издаются его «Избранные произведения» в шести объемистых томах три из них уже вышли в свет, публикуются материалы из его обширного литературного наследия (Прим. редактора: опубликованы все 6 томов и все материалы). Творчеству Эйзенштейна посвящены солидные монографии и сотни статей чуть ли не на всех языках мира. Но есть одна область, которая и поныне остается «белым пятном». Это – Эйзенштейн как личность, как человек. По этому вопросу никакой литературы нет. Создание ее – дело будущих биографов и тех его друзей, соратников, учеников, которые близко знали его и общались с ним в различные периоды его сравнительно недолговременной жизни. В этом аспекте воспоминания Л. Л. Войтоловской имеют особую ценность, особенно ее рассказ о последних днях жизни Сергея Михайловича.
При всей своей внешней общительности Сергей Михайлович был человеком замкнутым и скрытным, отнюдь не склонным посвящать в свои личные дела окружающих. Он умел молчать, и знал цену молчанию. И недаром многие факты его жизни стали известны друзьям, только после его смерти. Такие, например, как отношений с Перой Аташевой или Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, чей архив был найден в его бумагах. С годами его сдержанность, чтобы не сказать недоверчивость, увеличилась настолько, что стала заметной знакомым. Он по-прежнему оставался любезным, вежливым, обаятельным собеседником, любившим пошутить и посмеяться, горячим спорщиком и изумительным рассказчиком, но где-то, а глубинах его существа, словно выросла невидимая стенка, отгораживающая его от людей. Я знал Сергея Михайловича в разные годы, неоднократно встречался с ним в Ленинграде в двадцатых и тридцатых годах. Но дальше шапочного знакомства дело до шло. И только в Алма-Ате, в силу сложившихся обстоятельств, мы сблизились с ним настолько, что я часто стал бывать у него дома, а летом и ранней осенью 1945 года-видеться с ним чуть ли не каждый день, долго, порой до поздней ночи, проводя время в беседах. Работа над первой серией «Ивана Грозного» была закончена, съемки второй серии временно заморожены, у Сергея Михайловича было много свободного времени, днем он писал, а вечера коротал с Михаилом Юрьевичем Блейманом, в его комнате, где присутствовал и я. Об этих незабываемых вечерах мне трудно писать, хотя бы потому, что многое выветрилось из памяти, а записей наиболее интересных бесед мне не удалось сохранить. Время было не то. Лучше, много интереснее и полнее это может сделать Михаил Юрьевич, близкий друг Сергея Михайловича, связанный с ним на протяжении десятилетий. Надеюсь, что когда-нибудь он это и «делает, и ценность его мемуаров будет огромна.
Мне хочется здесь отметить, что именно в эти долгие летние и осенние вечера Сергей Михайлович открылся мне с совсем иной неведомой стороны. Как очень страдающий, душевно одинокий человек, остро переживающий что, что большинство своих замыслов он не сумел осуществит! Тогда же я увидел, что он очень болен и сознает, что дни его сочтены. А это в свою очередь усиливало его мрачное настроение. В нем жила гложущая неудовлетворенность художника, которому всегда мало достигнутого, творческие мечты которого обгоняют его возможности. Он тосковал о незавершенном. Незаживающей раной был для него фильм «Вива Мексика!», который он вынужден был бросить на полпути, не просмотрев даже отснятый материал. Боссы Голливуда лишили его этой возможности (Прим. ред.: не боссы Голливуда, а Сталин).
О Мексике Сергей Михайлович мог говорить часами. Он был влюблён в эту удивительную страну, в ее смелый мужественный народ, в ее древнее самобытное искусство. Даже будучи в Алма-Ате, Занятый съёмками «Ивана Грозного», обременённый множеством дел, он продолжал интересоваться Мексикой, следить за литературой. Помню, как обрадовался он. Когда я принес ему статью об археологических находках в Лос-Вьехас, напечатанную в одном американском журнале. С каким восторгом и глубоким знанием дела говорил об орнаменте и скульптуре ацтеков и толтеков, а потом о фресковой живописи Диего Ривера и Давида Сикейроса.
Круг интересов Эйзенштейна был поистине необъятен. Это бросалось в глаза любому, входившему в его комнату, забитую книгами и журналами. Эвакуируясь из Москвы, люди брали с робой самое необходимое. Каждый килограмм был не счету. А Сергей Михайлович захватил с собой предметы такой первой необходимости, как два увесистых фолианта – «Уэбстер дикшенри» (Толковый словарь английского языка) и «Словарь парижского арго»[2], альбомы древнерусской живописи, философские работы и целую серию английских детективных романов.
Память причудлива. Из своих тайников она вытаскивает разрозненные, ничем не связанные сценки, обрывки фраз. Словно кадры из виденных некогда фильмов. Вот сидя на полу мы с Виктором Борисовичем Шкловским рассматриваем один за другим нарисованы Сергеем Михайловичем кадры «Ивана Грозного», и перед нами проходит весь фильм, еще задолго до того, как он был снят.[3] Сергей Михайлович достает эти рисунки-карточки из большого каталожного ящика, раскладывает их перед нами, объясняя что к чему.
Вот на вечере в Государственной публичной библиотеке имени А. С. Пушкина, посвященном памяти Велимира Хлебникова, он экспромтом произносит блестящую речь о жизни и творчестве этого замечательного поэта.
Вот он среди раненных бойцов в госпитале, размещенном тогда в здании школы напротив киностудии. Бойцы рассказывают фронтовые истории. Сергей Михайлович внимательно слушает, наклонив массивную голову, изредка задает вопросы и вдруг, к восторгу и удивлению бойцов и офицеров, выясняется, что он отлично разбирается в военном искусстве, знаком с боевой техникой и стратегией. А потом он страстно клеймит фашистских интервентов, говорит о том, какую смертельную угрозу несут гитлеровцы культуре, человечеству в целом, говорит о любви к родине, ее бессмертном величии.
Давно прошли все намеченные сроки, бойцам пора на покой, но даже врачи и медперсонал не замечают этого. Спохватывается сам Сергей Михайлович. Он просит извинения, прощается с ранеными и уходит сияющий, радостный, то и дело повторяя: «Какой народ! Какие люди! Нет, вы подумайте – какие люди!»
Я вижу его в неизменном, светло-бежевом костюме, с орденом Ленина, тяжелого, грузного, то на съемочной площадке, на прогулке, возле дома, то погруженного в беседу с композитором Сергеем Прокофьевым, суровым, неулыбчивым, точно вслушивающимся в ему одному слышную мелодию. Про таких говорят; не от мира сего…
Мелькают кадры, наплывают все новые и новые видения, но я не собираюсь писать свои воспоминания. Пусть сделают это те, кто дольше, ближе и лучше знал С. М. Эйзенштейна. Мне хочется только еще раз обратить внимание читателей на ценность воспоминаний Л. Л. Войтоловской, на их искренность и достоверность. Да, такой и был Эйзенштейн. И, если я позволил себе чуть-чуть дополнить ее, да простит меня читатель. Ведь каждый, кто знал Эйзенштейна, видел его по-своему, а мозаика образует картину.
ДВА ГОДА. О СОЗДАТЕЛЯХ КИНО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Есть люди с мемуарной памятью – они с легкостью восстанавливают события солидной давности.
Я им завидую. В моей памяти фиксируются только отдельные картины, лица, разговоры. Может быть, я была недостаточно внимательна в жизни и запомнила лишь то, что было живой потребностью каждого данного момента? Не знаю.
Но мне повезло – жизнь сталкивала меня со многими хорошими и интересными людьми. Конечно, и с плохими, подлыми тоже. Но бог с ними, с подлецами. Такова уж защитная реакция организма – плохих людей забываешь скорее, чем хороших.
…Осень 1941 года, московские бомбежки, эвакуация киностудия «Мосфильм», где в ту пору работал мой муж, Илья Вениаминович Вайсфельд. Он оставался в Москве, в Алма-Ату приехал в ноябре и вскоре отправился на Северный фронт, где и провоевал всю войну…
В Медео долго было общежитие «киножен» с детьми. Это очень высоко, тысяча с чем-то метров над уровнем моря. Мне и по сей день кажется, что нет на земле места величественнее и красивее, чем дорога в Медео. Горы, скалы, бурная, стремительная Алматинка, дорога, над шумящей пропастью и далекие сложные вершины хребта Алатау. А дальше – предгорья Тянь-Шаня в сиренево-серой дымке. И перламутровый воздух, передать прелесть которого не удалось еще ни одному художнику. И красные цветы на склонах. Я часто поднималась наверх, в Медео, пешком – первое время я жила одна в городе, а дети еще в общежитии, так как я не имела комнаты; иногда незаконно ютилась в гостинице Дома Советов, в общежитии бездетных «киножен», иногда проводила ночи просто на телеграфе, делая вид, что жду звонка из Москвы, и мирно работая там над сценарием об Амангельды. Часа в три ночи я выходила в горы, приходила в Медео утром, еще до жары. Был конец сентября, но солнце днем налило, как у нас я июле. Когда спадала жара, я снова на ночь возвращалась в город. Однажды, впервые в жизни, я оказалась выше облаков и шла, не видя своих ног, не зная, куда ступить: но это было так удивительно и так сказочно, что я совершенно не боялась оступиться в шумящую где-то далеко внизу Алматинку. Как-то раз, сокращая путь, я взобралась прямо в гору, по бездорожью, и попала на какой-то отгороженный участок, долго плутала меж изогнутых, колючих деревьев, продиралась сквозь какие-то совершенно черные, ночью кусты и когда, утром, наконец, добралась до Медео и вошла на территорию общежития откуда-то с черного двора, сторожиха, увидев, меня, в ужасе всплеснула руками и закричала, коверкая слова:
– Где ты прошла? Какой дорогой? По горе? Как тебя зверь не задрал?
– Какой зверь? – удивилась я.
– Зверь! – ответила сторожиха, не умея ничего толком объяснить. – Там – заповедник.
Раза два в лунные ночи меня провожал любопытный горный козлик; он прыгал где-то – высоко надо мною, легко постукивая своими изящными копытцами. Иногда я брала у местного агронома лошадь и спускалась в город верхом, подстелив вместо седла его рваный ватник.
В ту пору никто, кроме меня, не ходил еще в черных очках. Я же носила их не из кокетства, а потому, что когда-то, в бытность мою ассистентом оператора Л. Косматова по картине «Зори Парижа», по неопытности сожгла на съемке глаза, и на солнце они у меня болели и слезились. Так вот, одним таким счастливым утром, когда мне удалось уговорить агронома одолжить мне лошадь, я спустилась с гор, узким ущельем выехала прямо на улицу города и тут едва не попала под машину. Машина резко затормозила, а из нее выскочил… Сергей Михайлович Эйзенштейн, не только знаменитый и уважаемый режиссер, но и просто мой сосед по московскому студийному дому; он жил прямо над нами и, наверное, недавно видел моего мужа, говорил с ним!
Сергей Михайлович узнал меня тотчас же, хотя узнать было довольно трудно: верхом на облезлой лошаденке, в желтом шелковом платье, пожалуй, единственном летнем платье, которое у меня тогда было, в очках, и такую черную и худую, что я сама себя едва узнавала в зеркале! В это утро он приехал в Алма-Ату, где потом прожил несколько лет – был сперва художественным руководителем объединенной киностудии, а затем поставил первую серию «Ивана Грозного»; здесь он снова получил инфаркт и до конца дней не мог отделаться от болезни сердца.
Страшно браться рассказывать об Эйзенштейне: несоотносимы слова, которые я в состоянии написать, с тем ощущением могучего и подавляющего интеллекта, который он излучал, словно источник бесконечно взрывающейся энергии. Боюсь быть неправильно понятой, но все-таки скажу именно так, как скажу: когда бы ж где бы я ни видела Сергея Михайловича, во мне неизменно и тревожно возникало одно и то же желание – не поддаваться ему, не быть захваченной врасплох, проглоченной, уничтоженной его всепоглощающим мозгом, остаться тем, кто я есть. Конечно, это было глупо и неправильно. Именно – глупо с моей стороны, так как я смогла бы почерпнуть из этого кипящего источника много, много больше, чем почерпнула. Причем «человечески» я нисколько его не боялась, как боялись многие – остроты его суждений, непримиримости к глупости, к проявлению пошлости, даже к простой ординарности, Я его не боялась, так как знала – он был добр. Не подходит к нему это простое, домашнее слово? Пусть. Но я точно знаю – он был именно добрым человеком. Очень часто резкость его суждений объяснялась какой-то странной застенчивостью. Так именно застенчиво, робко он относился к детям – эти маленькие существа были ему непонятны, они жили своей, не поддающейся контролю его критического ума жизнью, и вызывали в нем чаще всего удивление. Считалось, что он не любит детей. Нет, просто он терялся перед ними. Я видела, с каким интересом смотрел он на моих ребят, особенно на младшую, в те дни, когда она была еще совсем малышкой; он даже не смотрел на нее, он ее рассматривал, с интересом прислушивался к ее лепету и часто задавал мне такие несуразные вопросы, которые вызывали только веселый смех. Как-то раз, не помню уже почему, я дала ему подержать десятимесячную дочку – мне надо было что-то сделать для него Jже, кажется, достать книгу. Пока я возилась, Сергей Михайлович держал голую девчушку, да легко отставив ее от себя и не отрываясь смотрел на то, как она превесело трепыхалась в его осторожных руках. Потом, отдавая ее мне, сказал серьезно:
– А это довольно интересно, знаете, совершенно по форме.
«Это!» Смешно, но в такой «постановке вопроса» не было ничего от «нелюбви к детям», а просто проявилось то робкое любопытство, которое мы испытываем всегда перед чем-то непонятным, но милым. А Сергей Михайлович, по-моему, вообще к людям относился с любопытством и был с ними вначале и прост, и добр, пока не обнаруживал в них что-нибудь либо неискреннее, либо пошлое. Тогда он или совсем переставал замечать человека, или становился беспощаден, особенно с пошляками. Он как бы мгновенно натягивал маску, сплошной грим, который накладывают на свое лицо клоуны и лицедеи – смеющуюся маску острослова, и разил-разил словом, репликой, улыбкой. Но когда его что-нибудь действительно затрагивало – интересный рассказ, острая мысль, – тогда можно было говорить с ним часами и ни разу не приходило в голову, что этого человека кто-нибудь может бояться.
Постепенно, словно слой за слоем, сходил с его лица, с его внутреннего «я» грим, и там, под снятой маской, оказывался поразительно умный, немного странный и очень грустный человек. Пусть мне поверят, – несмотря на свою неистощимую веселость, он был именно человеком грустным. Светло-голубые, холодноватые глаза под могучиминадбровьями и чудовищно-прекрасным лбом, казалось мне – видели все, замечали все и обо всем грустили. Я уверена в этом сейчас, как и всегда была уверена, – он знал много больше того, что может и в состоянии знать один человек. Не только в области точных и неточных наук. Это не так уж редко встречается в жизни. Нет, о самой жизни, о людях он знал много больше того, что сам о себе человек может помнить и знать – он знал, какой он там, внутри, сам с собою, а не только в деле или беседе.
Много ли пришлось мне в жизни говорить с ним? Много. Часто. Но по легкомыслию я никогда, ни разу не записала ни одного его слова. И теперь об этом очень жалею. Вспоминать, восстанавливать беседы с ним? Это мне кажется преступлением. О ком угодно можно говорить «приблизительно», но не об Эйзенштейне – он всегда ненавидел именно приблизительность, неточность. Может быть, если бы я знала, что «надо все записывать», я не могла бы так напряженно слушать его и все время внутренне бороться за свою «самостоятельность».
Единственное, что я всегда могла, – это рисовать его. Не при нем. Он настолько блистательно делал это сам, что при нем я просто никогда не решилась бы взять в руки карандаш. Нет, я рисовала только тогда, когда его не было рядом. После его смерти я уничтожила все мои рисунки, кроме одного, который и висит сейчас в моей комнате, в Москве. Мне кажется, что в этом рисунке есть что-то характерно-эйзенштейновское: могучий лоб, иронически улыбающиеся губы и грустные глаза, которые глядят так, словно в самой их глубине таятся слезы.
…Через несколько месяцев после приезда, Сергея Михайловича в Алма-Ату прибыла Пера Моисеевна Аташева, ныне тоже покойная. В ту пору они уже не были вместе. И она не работала с ним. Последняя их совместная работа – невышедший «Бежин луг». Как и на нескольких его предыдущих картинах, на «Бежином луге» Пера Моисеевна была ассистентом режиссера.
Со стороны их отношения казались отчужденными; словно распалась не только супружеская жизнь, но и внутренняя связь этих двух поразительно умных и очень независимых людей. Но, повторяю, – только со стороны. По существу же их дружба не нарушалась никогда.
Ученица Эйзенштейна по режиссерским курсам, Пера Моисеевна вначале относилась к Сергею Михайловичу как к мэтру. Позже, когда они сблизились, это чувство, это отношение выветрилось не сразу. Но, воспитанная Эйзенштейном, умная, удивительно тонко чувствующая, остро наблюдательная Пера Моисеевна, приученная им же к самостоятельному мышлению, как бы вышла из-под его влияния и начала жить обособленной, интенсивной интеллектуальной жизнью, а без ее помощи Сергей Михайлович обходиться уже не мог.
Не только потому, что она была великолепным ассистентом, и, прекрасно зная английский, следила за всей его обширнейшей заграничной перепиской, часто писала под его диктовку статьи, нередко выполняла обязанности литературного секретаря и уже в то время начала собирать его архив, литературу о нем и тому подобное. Это несомненно тоже играло какую-то роль.
Но самое главное заключалось в ток, что Пера Моисеевна была как бы оселком, на. котором он оттачивал свои мысли, свой юмор, суждения. Человек поразительно остроумный, в самом высоком смысле этого слова, Пера Моисеевна словно постоянно вела с ним полемический диалог, о чем бы в данную минуту ни шла речь. Когда они начинали спорить, у меня всегда, было такое ощущение, будто легонько ударяются друг о друга, сталкиваются и звенят, «чокаются» два бокала из чистейшего, оправленного серебром хрусталя.
В самые трудные времена «отливов» и «приливов» их взаимоотношений оба они никогда не опускались ниже раз навсегда принятого ими уровня «философского диалога» – острого, чуть иронического и бесконечно уважительного. Шутка, юмор, полемика, открытый спор… Была ли это маскировка? Безусловно нет! Просто – таковы были они оба, под стать друг другу, хотя один был мыслителем, режиссером, мэтром, другая – его ученицей, помощницей, женщиной, как и всякая другая, часто страдавшей от любви мужчины к одиночеству и свободе!
По взаимному уговору с самых первых дней их супружества они не жили вместе; они никогда, не говорили друг другу «ты»; редко появлялись рядом в общественных местах.
Квартира Сергея Михайловича на Потылихе, близ студии «Мосфильм», и тесная, полутемная квартирка Перы Моисеевны на Гоголевском: бульваре одинаково были домами Эйзенштейна, как и Перы Моисеевны. При его жизни, а особенно после его смерти, все в квартире Перы Моисеевны было пропитано Эйзенштейном, дышало им, он как бы постоянно там присутствовал. После его смерти сюда переехал его архив – рукописи, рисунки, письма; библиотека, мексиканские и китайские маски, куклы, домотканные мексиканские ковры; гравюры, портреты Эйзенштейна, писанные разнообразными художниками мира; фотографии с дарственными надписями – от Чаплина до юного торреро. Позднее все это переехало на новую квартиру Перы Моисеевны Аташевой, на Смоленскую улицу, ставшую настоящим научным штабом для старых и юных исследователей Эйзенштейна, для редколлегии по изданию шеститомника его произведений. Так длилось до самой смерти Перы Моисеевны, так осталось и сейчас; Государственный литературный архив и редакционная коллегия по завещанию владеют всем архивом Эйзенштейна и Аташевой, включая и мемориальные предметы искусства. А квартира Эйзенштейна на Потылихе, куда он переехал с Чистых Прудов, где жил вместе с Максимом Максимовичем Штраухом и Глизер в течение семнадцати дет, в полном соответствии с его вкусами и желаниями была любовно «построена» руками Перы Моисеевны.
Я часто бывала у Эйзенштейна Он жил как раз над нами, этажом выше. Я хорошо помню несколько экзотические краски, царившие в светлых комнатах с серыми полами. Легкая, на гнутых алюминиевых изножьях мебель с ярко-желтыми полотняными сиденьями и спинками рядом с высоким, старинным креслом, обтянутым красно-золотой парчой. Черный лак рояля отражает свет люстры – ярко-синий шар с белыми: свечами вокруг. Мексиканские маски рядом с Домье. Портрет, писанный Дието Ривера, рядом с плакатом к «Броненосцу «Потемкину». Вот другая комната – по углам старинные русские резные деревянные ангелы, раскрашенные золотом и киноварью, домотканный мексиканский ковер, еще ковер – плетенный из маисовой соломы, резной, прозрачный, поразительно изящный, с надпись» «Вива Мехико»…
И книги, книги, книги… По-моему, не был в Москве второго такого любителя, главное – знатока книг, как Сергей Михайлович. Он был не просто страстным собирателем, коллекционером, а именно знатоком.
Чуть ли не ежедневно, конечно, тогда, когда он не был занят съемками, он звонил и говорил примерно так:
– Что вы там делаете? Бросайте все и немедленно приходите – я принес новые книги!
Он не ждал ответа, так как знал – я действительно брошу все свои дела и прибегу к нему наверх. Признаюсь, вовсе не потому, что так уж прекрасно разбиралась во всяких и всяческих книгах, которые он приобретал, – он ведь читал все, абсолютно все и на всех европейских языках: от философии до хиромантии, от детектива до искусствоведения! Я прибегала потому, что, показывая мне книги, он смотрел на меня с таким детски-восторженны видом, таким явным, победительным торжеством сияли при этом, его глаза, что я почла бы себя преступницей, лишив его возможности торжествовать, в особенности, если книга была, какая-нибудь уж очень редкая и интересная!
Так вот и получилось, что я почти наперечет знала его библиотеку, не думая, что это знание очень пригодится после его смерти. Но об этом, я расскажу позже…
…Много лет спустя, уже после того, как официально расстались Эйзенштейн и Аташева, приходя к Сергею Михайловичу и видя на полке, столе, где-нибудь в углу новую безделушку, куклу, новую яркую тряпку или старинные часы, я понимала, что это приобретено либо вместе с Перой Моисеевной, либо ею самою и водворено именно на то самое место, какое надо…
Я говорила о поразительном разнообразии убранства эйзенштейновского дома. Разнообразии, но отнюдь не пестроте. Невероятная разветвленность его интересов, его знаний, его всеобъемлющая эрудиция как бы цементировали, соединяли в единое, абсолютное нерасторжимое целое такие, казалось бы несоединимые вещи, как скелет гомункулюса под стеклом, стоявший на его письменном столе, и висевший над дверью «Спектакль» Домье, или рисунок Пикассо. В яркости цветовых сочетаний несочетаемых тонов, в спокойствии серых полов и стен с распластанными на их произведениями народного творчества или театральными китайскими масками. Была своя гармония, свой особенный ритм.
Каждого входившего в этот дом поражало какое-то внутреннее свечение, исходившее от самой атмосферы просторных комнат. Но, приглядевшись, вошедший с удивлением замечал огромную массу предметов, цветовых пятен, ярких книжных обложек, черных кадров, фотографий, рисунков. И все это надо было рассматривать, ко всему приглядываться, все осваивать, во все вдумываться. И тогда, проступало лицо хозяина – сложное, необычное, задумчивое. Его поражающая способность интересоваться разнообразнейшими отраслями человеческого знания, интеллекта, искусства…
…У него была удивительная походка. Невысокий, полный, даже какой-то круглый, он странным образом казался стройным. По-видимому, – от того, что ходил он необыкновенно легко и бесшумно. Все движения – и когда ходил, и когда брал что-нибудь! в руки, поворачивался – все движения его, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, были точны, гармоничны, я сказала бы – музыкальны. Это ощущение музыкальности особенно ярко проступало, когда он куда-нибудь торопился. Тогда стремительность его неслышной походки напоминала танец. Ступни его были малы, он ставил их чуть носками внутрь, но ходил так, словно математически рассчитал каждый свой последующий шаг, и следующий, еще один, сотый. Никогда я не видела, чтобы Эйзенштейн ходил медленно, вразвалку. Даже смертельно больной, точно зная, что может умереть вот так, на ходу, он не замедлял своего плавно-стремительного шага.
И волосы, всегда торчавшие над гигантским лбом, усиливали это впечатление походки-полета. Глубоко посаженные голубые, чаще всего насмешливые глаза. Черты лица, как это ни покажется странным, – довольно мелкие и, если рассматривать отдельно нос, рот, подбородок, как будто и незначительные. Но над всем лицом, надо всем его обликом царствовал лоб такой поражающей мудрости и красоты, что и сам он всем без исключения казался поразительно красивым. А он острил, говоря о своей внешности: «Все люди произошли от обезьяны. Ну, а я, к сожалению, еще не произошел…»
Пера Моисеевна тоже была «округлой». Невысокая, с мягкими, чуть даже расплывчатыми чертами лица, с полными, очень женственными руками, А в ореховых глазах, смотревших из-под круглых бровей и выпуклых надбровий, светились одновременно и мудрость, и улыбка, и подлинная человеческая доброта. Вот уж в ком не было ни доли, ни соринки мещанства, зависти, нечистоты! Но так же – и ни доли наивности. В людях она разбиралась мгновенно, почти с первого взгляда, и суждения ее были всегда точны и совершенно безжалостны в отношении пошляков, карьеристов, глупцов. В старости, когда она стала как бы главою исследовательского центра, молодёжь тянулась к ней, как в свое время к Эйзенштейну.
…Школа Эйзенштейна… Пожалуй, нельзя сказать, что у Эйзенштейна была своя, особая, собственная школа, как мы, например, привыкли говорить – школа Станиславского. Но неоспоримо его влияние на всю мировую кинематографию и советскую в частности. Лучшие наши режиссеры и передовые мастера Запада с гордостью говорят о том, что они «учились у Эйзенштейна». Смотря на экран, мы часто ловим себя на том, что «узнаем» руку Эйзенштейна даже в тех произведениях, которые и по стилю и по духу чужды его творчеству; вот этот кадр, этот монтажным прием, этот ракурс – да ведь они невольно или сознательно повторяют ту или иную эйзенштейновскую «находку», ракурс и кадр попросту «заимствованы» у Эдуарда Тисе! Что уж говорить о тех мастерах, которые прониклись уважением не к внешним приемам, а к творчеству этого мастера в целом! Это и есть «школа Эйзенштейна».
Ну, а Пера Моисеевна сплотила, вокруг себя, вернее – вокруг Эйзенштейна и его памяти, тех, кто посвятил свое время изучению не только его творчества, но и теоретических его работ – молодых (да и старых!) киноведов, теоретиков, искусствоведов, даже лингвистов и психологов. Можно сказать с полной убежденностью, что она помогла созданию «школы исследователей Эйзенштейна»! Но мало этого – для молодых киноведов, художников, режиссеров, операторов она стала, как бы названной матерью, особенно для тех, чьи семьи были далеко. Ее квартира на Смоленской улице, где она жила последние годы, всегда была полна. Уже тяжело больная, даже тогда, когда, она месяцами не вставала с постели, почти совершенно ослепшая, она вникала во все самые сокровенные дела юных почитателей Эйзенштейна. Она стала верным пропагандистом его научных трудов, его искусства, она открыла миру Эйзенштейна – графика, рисовальщика, сатирика. А сколько еще осталось неизученного, неизданного! Конечно, наследие Эйзенштейна не ограничивается теми шестью томами собрания сочинений, которые сейчас издаются. В стадии обработки для публикации находятся три тома, его стенограмм – лекций во ВГИКе. Подготавливаются к печати пятый и шестой тома собрания. И я уверена – это только начало той огромной, неисчерпаемой работы, которая будет называться – «эйзенштейноведение»!
…Но вернусь к тому, о чем говорила выше, – о спорах Сергея Михайловича и Аташевой, которые длились, не прекращались и были все так же остры и одновременно уважительны. Особенно обострились они после выхода первой серии «Ивана Грозного». Как и большинство товарищей, в ту пору Пера Моисеевна, при всем своем преклонении перед мастерством и режиссерским талантом Сергея Михайловича, не смогла разглядеть в первой серии того, что он собирался сказать (и сказал) во второй. И главное, того, чего ему не удалось сказать в третьей…
Никогда никаких ссор – это просто было между ними невозможно; лишь принципиальные споры об исторической концепции «Ивана. Грозного», о выборе «фигуры». Что ж, Пера Моисеевна не была тогда одинока своих недоумениях.
«Иван», казалось, отдалил их еще больше. Но вскоре я убедилась, что это было не так.
Ровно за сутки до, смерти Сергей Михайлович поздно вечером вызвал нас с мужем к, себе наверх по телефону. Все, или почтя все, что он говорил в тот вечер, во время последней нашей беседы, на следующий же день было записано моим мужем и впоследствии вошло в его вступительную статью ко второму тому собрания сочинений Эйзенштейна. Так что, повторяться я не буду: мне хочется рассказать только о том впечатлении, которое произвел на меня этот вечер – о той несколько странной атмосфере, в которой протекала наша долгая беседа.
Обычно веселый и легко острящий, в этот вечер Сергей Михайлович был несколько напряжен и непривычно серьезен. Хотя он и старался о своих предчувствиях говорить небрежно и подчас иронически, видно было, что ему сейчас трудно придерживаться легкого тона. Под конец, уже около двух, он откровенно печально заговорил о том, что на успеет закончить того, что задумал, начал, что хотел еще изучить, узнать. Не успеет…
Под конец показал мужу все собранные в одном шкафу свои работы, мемуары, записи, наброски и планы. На дверце шкафа с внутренней стороны был прикреплен подробный перечень – полный список всего содержимого.
Мне же он предложил пройтись с ним по комнатам и просмотреть библиотеку. Тщательно проверил, запомнила ли я где какие книги стоят, где инкунабулы, где, самые любимые.
Потом подвел меня к бюро. Большое, тяжеловесное, из потемневшего красного дерева, оно было в тот момент раскрыто. На откинутой столешнице лежала рукопись незаконченной статьи. Как это часто бывало, несколько строк в ней было написано по-английски, несколько – по-русски, несколько по-французски и по-немецки. Впоследствии тем, кто расшифровывал его рукописи, немало пришлось положить труда, чтобы все привести к единому знаменателю. Обычно он делал это сам. Но когда начинал работать над статьей, ему легче было писать именно на том языке, на котором он в данную секунду думал… Многочисленные ящики бюро были заполнены личными бумагами и милыми и нужными ему одному мелочами. Вот из одного такого ящичка он достал небольшой серый бумажник из крокодиловой кожи. Что-то вынул из него и протянул мне клочок довольно стершейся бумаги. Это была записка. Я узнала почерк Перы Моисеевны.
Даты на ней не было, но почему-то мне сейчас помнится, что написана она была в середине сорок пятого года. Может быть, мне об этом сказал Сергей Михайлович.
Вот ее точный текст:
«С. М. Пора бы нам уже и разойтись».
На обороте – ответ Эйзенштейна:
«Ни за что и никогда!»
И его характерная подпись, похожая одновременно на японский иероглиф и автопортрет.
Он подождал, пока я прочитаю записку о обеих сторон, потом вложил ее в брачное свидетельство, на котором стояла дата «27 октября 1934 года». Когда увидел, что я уже прочла и усвоила, он вложил свидетельство в бумажник, а бумажник – в самый дальний ящичек бюро.
Говорить ничего не надо была – я все поняла… А ровно через сутки около дух часов ночи, когда мы уже спали, нам постучала в батарею его старая домоправительница, это был условный знак – значит, Эйзенштейну плохо.
Когда я оделась и прибежала наверх, Сергея Михайловича уже не было. Он еще не остыл, мне показалось, даже вздохнул раз или два, но врач Иванова, явившаяся через семь минут после вызова, сказала, что делать укол бессмысленно – он мертв.
Здесь уже был, ныне тоже покойный, оператор и долголетний его спутник Эдуард Тисэ, живший в том же Доме. Потом откуда-то появились еще люди, ныне покойный режиссер К. Юдин с женой, еще кто-то, я уже не помню. Через час приехала Пера Моисеевна – у ней тогда не было телефона и пришлось сообщить ей через кого-то.
Я выполнила то, о чем вчера молча просил меня Эйзенштейн. Я передала ей бумажник с брачным свидетельством. Он ведь знал, что после его смерти самым верным его памяти человеком на свете будет Пера Аташева.
| В 1964 году вышел первый том собрания его сочинений. Там, в статье, озаглавленной «Иван Грозный», Фильм о русском ренессансе XVI века, Сергей Михайлович перечисляет исторические источники, над которыми он работал непосредственно для написания сценария и съемок фильма. Эти источники столь разнообразны и многочисленны, что, изучив только их, вполне можно было написать не одну, а несколько докторских диссертации и с блеском защитить их.
Но научная, именно научная работа над историческими материалами была только «подготовкой к подготовке». Сама же «подготовительная» работа над сценарием и фильмом захватывала много более широкую область человеческого познания, чем собственно история.
Художественная литература об атом периоде и художественная литература того периода. Художественная литература, как будто бы не имевшая прямого отношения к России того времени, даже к тем связям с западным миром, которые устанавливались в то время. Живопись. Театр. И снова живопись. Графика. Все бралось на вооружение. Вплоть до научных трудов по психологии и психиатрии. Все поглощалось и мгновенно перерабатывалось гениальным мозгом этого человека. И с поразительной тщательностью воплощалось сперва в набросок, затем – в точный рисунок будущего кадра, а в дальнейшем в поразительные по своей острой выразительности и мизансценах кадры.
Почему его привлек образ именно Ивана Грозного? (Сценарий был в основном закончен еще в начале 1941 года).
Никто из окружавших его тогда людей не обладал таким потрясающим даром политического предвидения, как он, и поэтому многие недоумевали, что заставило его взяться за эту картину. Но масштаб его мыслей и планов был недоступен даже очень крупным и знающим людям.
И только после того, как наконец вышла вторая серия «Ивана», многие (но далеко не все) поняли, что побудило великого Эйзенштейна, потревожить тень Грозного царя!
В сентябре 1942 года (пятого числа) сценарий был утвержден главком и в середине месяца запущен в производство. Еще до этого – окончательного утверждения, в августе, Эйзенштейн встречался и беседовал со многими актерами, знакомил их со сценарием (пока не имевшим еще окончательных диалогов), показывал зарисовки будущих сцен.
Эйзенштейн работал всегда, даже когда бывал тяжко болен. Естественно, его могучий мозг не мог быть ни секунды праздным. Но неустанно работали и его глаза и руки – он рисовал, Не все нарисованное им для «Ивана» впоследствии было снято (например, серия рисунков к невошедшей сцене «Лобное место», датированных 41-м годом), как не все написанные сцены вошли в фильм. Но сотни рисунков, набросков, сцен, впоследствии забракованных самим художником, в какой-то мере все равно присутствуют в готовом фильме, как и впитанная им масса научных и жизненных сведений, без которых не было бы Эйзенштейна-режиссера. Ему пришлось работать с актерами, которые по своему амплуа, казалось, совсем не подходили для намеченных ролей7 Можно ли было предположить, что комедийный актер М. Жаров так ярко и выразительно сыграет Малюту Скуратова? Что героиня лабишевской «Соломенной шляпки» Целиковская создаст трагический я обаятельный образ Анастасии, впервые улыбнувшейся Ивану из гроба? А эксцентричная Серафима Бирман сыграет русскую боярыню, поражающую силой воли и коварством? Николай Черкасов начинал свою театральную жизнь ролью Дон Кихота в Ленинградском детском театре Брянцева. Правда и после этого он играл Максима Горького и академика Полежаева (Тимирязева). И у Эйзенштейна – Александра Невского. Но в «Иване» он открыл в нем такие трагические глубины, каких он сам в себе не чаял никогда открыть! Подумать только, что многие годы бытовало среди кинематографистов мнение, будто Эйзенштейн «не умеет и не любит работать с актером»! Что, мол, его специфика – работа с массой, с обобщенной социальной категорией», что «психологические тонкости» ему не сродни. Как блистательно он в «Иване» опроверг это некомпетентное, но довольно распространенное мнение!
Первая серия «Ивана Грозного», как мне кажется, была только разбегом, подготовкой к тому мудрому, трагическому и страшному, что Эйзенштейн сказал во второй: к тому, что он не мог сказать в третьей. Когда мы прочитаем, изучим все, что он написал, все, что он успел в своей жизни сделать, может быть только тогда мы постигнем масштаб его гениальности и поразительную силу его идейной устремленности.
Он умер, не дожив до пятидесяти.
Но он принадлежит будущему. И расскажет далеким поколениям о силе и величии не только искусства нашей эпохи. Он поможет им понять, какова она была. Баков о было то трудное и великое время, в которое мы живем!
Есть такие строки в его мемуарах: «Биологически мы смертны. И бессмертны только в социальных деяниях наших, в том маленьком вкладе, который вносит наш личный пробег с эстафетой социального прогресса от ушедшего поколения к поколению наступающему».
Он был, скромен, Эйзенштейн, он считал свой в клад «маленьким»…
… Через семнадцать лет после его смерти, на Ново-Девичьем кладбище, на открытии памятника С. М. Эйзенштейну официальные лица спокойно присоединили к его имени эпитеты, «великим мастер социалистического реализма», и «гениальный художник».
Через 17 лет!
Алма-Ата… Город встретил нас солнцем и ярко-желтыми такими высокими березами и тополями, которых я нигде раньше не видела. Могучие стволы, золотистые кроны на фоне ярко-голубого неба – это аллея-улица, поднимающаяся к вычурно-ампирному театру оперы и балета; но этот разрисованный ампир не в силах был испортить пейзажа: его колонны и островерхий портик рисовались на фоне сиреневых, почти прозрачных, по вершинам заснеженных гор, и все вместе было так прекрасно и так далеко от затемненной Москвы, от войны, от смерти и ран, что казалось несуществующим, нереальным, выдуманным.
Меня окружали в городе новые, люди, состоялись новые знакомства. Жила я в доме у Абдильды Тажибаева, и в этом же доме мне пришлось присутствовать на торжестве в честь рождения сына. Я знала уже почти всех приглашенных, с некоторыми дружила, как с Тажибаевыми, со многими вместе работала на студии. Был Мухтар Омарханович Ауэзов, очень похожий лицом на Михоэлса, только много больше, грузнее и веселее великого еврейского актера.
С Мухтаром Омархановичем впоследствии, мы встречались довольно часто, бывали, с мужем: у него дома, где нас радушно и ласково принимала его русская жена – Валентина Николаевна. После войны он выстроил себе обширный, пустоватый дом: в огромной столовой почти до потолка высилось лимонное дерево, отягощенное продолговатыми» бледно-желтыми плодами. Однажды в его кабинете, где стоял только низкий письменный стол, полочка с необходимыми для работы книгами, кресло и тахта, – я застала очень старого крестьянина-казаха.; он приехал, из аула, где когда-то бывал Абай – Мухтар Омарханович тогда работал над последним томом романа «Абай». Сад окружал невысокий его дом, было светло и очень тихо…
Из знакомых мне писателей на тое был Габит Мусрепов. Был поэт Абилев – пришли Вера Павловна Строева, Григорий Львович Рошаль, впоследствии поставивший картину «Абай», и еще очень много народу – я запомнила не всех. Но был там один человек, который произвел на, меня неизгладимое впечатление – Иса Байзаков.
Я не знаю казахского языка. Те несколько обиходных слов, которые мне удалось запомнить, конечно, не могли помочь мне понять то, что пел этот маленький человек. Переводить взялся Мухтар Ауэзов. Первые песни показались мне скучными, покатыми – это были обычные сказы акына; к тому времени я наслушалась их достаточно». Но вот он попросил заказать ему тему, Вера Павловна Строева предложила: «египетские ночи» Пушкина. На наших глазах происходило что-то необыкновенное и удивительное: Иса Байзаков пел своим несильным, немного хриплым голосом: пусть будет благословенна Клеопатра, доставлявшая счастье юношам! Да будет благословенна их смерть, так как во всей своей дальнейшей жизни они не испытали бы большего счастья и всю долгую жизнь изнывали бы от тоски, вспоминая единственную ночь истинной любви. Так пусть же они погибнут! Если мы любим юность и людей, мы тоже должны быть счастливы, что они не жили ни одного часа сверх этой ночи – с рассветом они становились бы несчастны!
Никогда в жизни я не слышала такого трепетного гимна любви, как из уст этого акына.
К зиме киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» почти полностью собрались в Алма-Ате (лишь небольшая часть режиссеров оказалась в Ташкенте), и началась нормальная работа. Стали регулярно выходить так называемые «Боевые киносборники» (они выходили и в Ташкенте), несколько режиссеров вступило в производство.
Ненадолго в Казахстан приехал и мой муж (вместе с основной частью «Мосфильма»). Полностью обосновалась здесь сценарная студия, приехали сценаристы Блейман, Большинцов, Исаев, Коварский, ненадолго – Каплер, приехали писатели, из Ленинграда замкнутый и грустный Михаил Зощенко. Изжелта-темная кожа лица. Коричневые круги под большими карими глазами. Усики. Седеющие виски. Необыкновенно изящные руки с резко выделяющимися светлыми, круглыми ногтями. Стройная, небольшая фигура. Негромкий голос. Все это вместе почему-то вызывало в моей памяти представление о героях пьес Булгакова или – «Хождения по мукам» Алексея Толстого. Мне казалось, что передо мною Рощин или кто-то разительно на него похожий. Он мало шутил, редко, очень редко острил. Грустный человек с благородным, немного старомодным обликом.
Из Москвы прибыли Виктор Шкловский. Константин Паустовский, Владимир Луговской. Владимир Александрович, так же, как и мой муж, в Алма-Ате пробыл недолго. Он часто бывал у нас, наполняя нашу небольшую комнату своим непомерным басом.
Когда муж уезжал на фронт, Луговской подарил ему талисман – несколько стеклянных мексиканских бусинок, нанизанных на суровую нитку.
– Это вас сохранит от пули, от раны, от смерти, от горя, – сказал он и улыбнулся из-под своих стремительных бровей. Муж привез, эти бусинки с войны домой.
А Луговского уже нет…
…Часть приехавших москвичей и ленинградцев разместилась в старой гостинице «Дом Советов» (там почему-то всегда было полутемно и очень шумно), часть – в так называемом «лауреатнике», где жили Пудовкин, Рошаль, Эйзенштейн, Козинцев, Трауберг, Магарилл, Блинов, игравший в «Чапаеве» Фурманова. Блинов и Софья Магарилл почти одновременно заболели брюшным тифом и умерли тоже почти одновременно. Погибли два великолепных актера и умных, замечательных человека… Годом позже, мобилизованный на лесозаготовки для студии и города, на станции Чу погиб, тоже от тифа, молодой, талантливый, тихий, голубоглазый режиссер Валентин Кадочников – ученик Эйзенштейна, успевший в жизни поставить только одну-единственную картину – сказку «Волшебное зерно».
…Тяжко больной астмой, Константин Георгиевич Паустовский жил отдельно, «в городе». Входить к нему надо было не через дверь, а просто приподняв занавеску, отделявшую его «комнату» от многослойной жизни хозяев квартиры. Он приехал с фронта, где был военным корреспондентом. Паустовский работал очень много, но как-то у него всегда хватало времени встречаться с людьми, думать об их нуждах, горестях, просто делах, обсуждать их – не свои – литературные планы. И еще – он великолепно рассказывал. Иногда он так увлекался, что мог говорить буквально несколько часов подряд. Друзья в шутку называли это – «занимать площадку». Часто события и люди, о которых говорил Константин Георгиевич, были уже известны собеседнику, но в устах Паустовского приобретали такую своеобразную окраску, что казались «новыми», только что открытыми.
Совершенно не помню, куда и зачем шли мы однажды с ним по степной дороге. Было жарко. Вдалеке, окутанные сухим маревом, колебались очертания заснеженных вершин. Внезапно из травы вынырнула большая, темная птица, стремительно пронеслась над нами и где-то впереди снова исчезла в траве. Паустовский прервал неспешный разговор и рассказал крохотную новеллу, которую я почему-то запомнила накрепко. Может быть, я повторю ее здесь неточно, даже наверняка не смогу рассказать ее теми же словами, но вот она такая, какою запомнилась мне… «Это было где-то на юге России. Жарким летним днем я долго шел по степи из одной: станицы в другую. Окаменевшая на солнце дорога проходила меж высоких, уже подсыхавших трав. Я не сразу заметил, что какая-то небольшая птица упорно вьется над моей головой. Она носилась надо мной так низко, что порою казалось вот-вот заденет меня крылом по лицу. Сперва я отнесся к этому не очень внимательно – было жарко, я устал, торопился скорее прийти на место. Но постепенно мне становилось все неприятнее от этого упорного, непонятного преследования. Я начал отмахиваться, пытаясь отогнать ее. Но она не обращала внимания на мои жесты и крики. И тогда я вдруг решил, что эта странная птица предвещает мне беду. Я был один и никак не защищен ни от палящего солнца, ни от этой предвестницы несчастья. Мне казалось, что дорога никогда не кончится. Как я ни ускорял шаги, впереди была только сухая, позванивающая трава, серая трещина дороги и бесконечное, бесцветное небо. И эта странная, упорная птица надо мной. Старику, хозяину хаты, куда я наконец пришел, я тут же, не выдержав, рассказал о страшной птице. Старик засмеялся. «Да она просто лакомилась, – сказал он. – Ты не заметил, что в жару в степи над человеком часто вьется целый столб мошкары? Вьется и вьется. Как облако. Вот птица и ловила ту мошкару, питалась, обедала». Страхи мои сразу улетучились, но все-таки я до сих пор помню эту птицу…»
Константин Георгиевич привез из Москвы собаку Фунтика – низконогую, коричневую таксу необыкновенно «благородных кровей». У нее была смешная особенность – она не терпела, когда да ей показывали локоть. Как бы высоко вы не сгибали над нею руку, она подпрыгивала и яростно впивалась зубами в локоть. Конечно, это был обыкновенный трюк, но ребятишки, которым Константин Георгиевич охотно его показывал, каждый раз восхищались необыкновенным умом длинной похожей на ящерицу собачонки. Такая же «дрессированная» собака была у Рувима Исаевича Фраермана. Но та оказалась знатоком хорошей поэзии: стоило при ней начать читать какое-нибудь сентиментальное стихотворение военных. лет (и таких было немало), как черный пудель молнией бросался на читавшего стихи и принимался бешено лаять. Но тогда Рувим Исаевич начинал:
Белеет парус одинокий В тумане моря голубом … —пес мгновенно успокаивался, довольно вилял хвостом и ластился к Фраерману. Тоже весьма примитивный интонационный фокус, но он производил еще большее впечатление, чем трюк с таксой.
Все это я увидела уже потом, в московской квартире Рувима Исаевича. А туда, в Алма-Ату, он прибыл поздней осенью из ополчения, откуда был отчислен по болезни. Он был невероятно оборван, утомлен и предельно голоден, но оставался таким же ласково-мягким, как всегда, – даже война не смогла сделать его жестче. Его круто курчавые волосы были совершенно серыми. Единственное, что ему тогда было необходимо, – кусок хлеба и кусок мыла. Рувим Исаевич недолго пробыл в Казахстане и вскоре уехал домой, в Москву.
Почти в это же время прибыл с Алма-Ату Сергей Александрович Ермолинский – автор многих сценариев и в частности «Машеньки», поставленной Ю. Райзманом. Евгений Габрилович был по этой вещи его соавтором, но имя Ермолинского не было включено в титры картины. И позже этот пробел не был исправлен. Таких «пробелов» в кинематографе было еще несколько, и исправление их – дело не административное, а лишь на совести соавторов и постановщиков… Через некоторое время Ермолинский тоже заболел брюшных тифом, но его удалось спасти. Немного раньше приехал Виктор Борисович Шкловский. Казалось, его война тоже мало изменила – как всегда он был оживлен, язвителен, остроумен у гиперболически трудоспособен. Он работал всегда, всюду, в любых условиях, при любом шуме, словно раз навсегда запущенный атомный реактор мысли, памяти, эрудиции; афоризмы Шкловского, его парадоксы передавались из уст в уста. Он также, как Паустовский, любил «занимать площадку» и был блистательным рассказчиком. Но его рассказы были окрашены в другой, менее, чем у Паустовского, жизненный цвет: большей частью они были расцвечены историческими примерами, короткими, точными, совершенными по форме литературными эссе, разящими, как хлыст, характеристиками. Рассказывая, он в самых неожиданных местах внезапно улыбался веселой, хитроватой улыбкой. Его глаза, словно вставленные в удивительно правильной формы продолговатый череп, в эти минуты приобретали какое-то озорное, мальчишеское выражение. Виктору Шкловскому все и всегда интересно. Приходя в дом, встречая человека, которого он видел совсем недавно, он неизменно и совершенно искренне-заинтересованно задает прежде всего один и тот же вопрос: «Ну, какие новости?» Вероятно, поэтому, глядя на его веселое и словно излучающее мысль лицо, невозможно поверить, что ему уже больше семидесяти лет. Да полноте! Он много моложе очень многих молодых! В Алма-Ате, кроме своих обычных литературоведческих работ, Виктор Борисович написал сценарий «Внимание! Танки!». К сожалению, он не был поставлен. По-видимому, для того времени была слишком сложна защищавшаяся в нем чисто военно-техническая концепция. И тому же, эта концепция, как и все у Шкловского, была плодом его самостоятельных размышлений и выходила из рамок господствовавшего тогда «осторожного» отношения к проблемам военной науки…
…Несмотря на то, что жизнь эвакуированных писателей, сценаристов, режиссеров никак не походила на «жизнь, вошедшую в обычную колею», большинство товарищей уже активно работали над сценариями, готовились к съемкам, часто выступали в печати.
А Гранберг заканчивал сценарий «Антоша Рыбкин», в 1942 году поставленный режиссером К. Юдиным. К. Симонов и А. Столпер работали над «Парнем из нашего города», И. Прут и И. Пырьев – над «Секретарем райкома», где ныне покойный Ванин замечательно сыграл заглавную роль.
Режиссер Н. Файнциммер кончал фильм «Котовский», по сценарию А. Каплера, который в это время: уже работал над сценарием «Она защищает Родину» (картина, поставленная режиссером Ф. Эрмлером, вышла на экраны уже в 1942 году). Всеволод Илларионович Пудовкин поставил картину «^Русские люди» по сценарию Константина Симонова; братья Васильевы – «Фронт».
Через год по сценарию того же Константина Симонова Александр Столпер поставил еще одну картину – «Жди меня».
Конечно, не все перечисленные фильмы снимались одновременно, но подготовка к съемкам шла активно – работа над сценариями, обсуждение режиссерских планов и предложений – все доказывало напряженность творческой жизни Объединенной студии.
Некоторое время после отъезда моего мужа на фронт я работала на киностудии. Потом перешла в радиокомитет.
…Прошло первое потрясение самым фактом войны, первая растерянность отступила, перед необходимостью как-то. стабилизовать тяжелый, бивуачный быт, и люди оказались перед постепенно осознаваемой перспективой длительности огромного всенародного несчастья, для многих уже обернувшимся непоправимым горем.
Стоило поглядеть на лица людей, мглистыми ранними утрами стоящих возле уличных репродукторов, пока возглашавших только одно: после длительных и упорных боев наши войска временно оставили город такой-то, такие-то населенные пункты…»
Многие из приехавших и тех, с кем мне довелось познакомиться уже в Алма-Ате, уезжали снова на фронт. Отправился в армию и мой муж. Поезд уходил поздно ночью. Провожая мужа, я все время судорожно улыбалась и шутила. А сердце славно попало в какое-то замкнутое, безвоздушное пространство и притаилось там, не двигаясь и не стуча, сжалось в чуждый: мне комок. С этим ощущением я прожила, всю войну, до самого того дня, когда муж демобилизовался и в конце 1945 года вернулся домой. Не плакать, не жаловаться, только ждать!
Поезд отошел, муж уже на ходу вскочил на площадку темного, ночного вагона; я осталась на длинной платформе совершенно одна.
Вот тогда я позволила себе заплакать. Прижалась к холодному, железному фонарному столбу лицом и плакала, плакала.
Внезапно услышала за спиною шаги. Почувствовала, как. чья-то тяжелая рука ласково похлопала меня по спине и кто-то произнес, немного коверкая слова;
– Не плачь, женщина! Все будет хорошо! Он вернется! Я тебе говорю – он вернется!
Повернула к говорившему зареванное лицо. Передо мной стоял пожилой казах-железнодорожник. Он смотрел на меня серьезно, седеющие висячие усы его чуть шевелились.
– Да, да, – повторил он, – вот увидишь – вернется…
И быстро пошел вдоль платформы.
Я никогда не забуду этого чужого человека.
Всю ночь я просидела на каком-то пыльном рундуке, ожидая утра, когда, можно будет пройти те девять километров, которые отделяли вокзал от города. Мне было тоскливо, одиноко и холодно. Конечно., я не суеверна. И когда– муж вернулся с ; войны, я просто снова с благодарностью вспомнила старика с широким, серьезным липом.
…Киностудия, – сценаристы, режиссеры, писатели, художники.
Пожалуй, ни одно время не вызвало такого потока, именно – потока интереснейших сценариев, которые в большей своей части были поставлены, и быстро распространились но экранам страны и во фронтовых частях.
В основном подготовка сценариев была сосредоточена в Сценарной студии. Там работали Блейнман, Большинцов, Каплер, Коварский, Юзовский, Зощенко, Исаев. Писали для этой студии сценарии Леонид Леонов, Константин Симонов, Виктор Шкловский, и, повторяю, большинство написанных сценариев превратилось в добротные картины. Ни один режиссер во время, войны ни дня не был в так называемом простое – все работали, снимали, либо активно готовились к съемкам. Регулярно выходили «Боевые киносборники» и далеко не на всех короткометражках этих сборников лежала печать торопливости. Конечно, многие вещи были только «времянками» и быстро забывались. Но есть такие, которые и сегодня представляют определенный интерес, как например, маленькая картина «Пир в Жермунке», поставленная Всеволодом Пудрвкиным по сценарию, написанного Леонидом Леоновым (первоначально сюжет был подсказан Н. Шпиковским).
Непревзойденным шедевром явился эйзенштейновский «Иван Грозный», поставленный там же, в Ала-Ате (1942–1944).
Конечно, время корректирует не только отношение к картине, но, как это ни печально, – и саму картину; и если мы сегодня вздумаем смотреть «Русские люди» или, скажем, «Парень из нашего города», они покажутся нам очень старомодными. Но «Секретарь райкома» или «Она защищает Родину» – живут по сей день. Нет, режиссеры, которые впоследствии ставили и более яркие и, будем честны, – более посредственные фильмы, тогда, в те военные годы, были не только моложе, но и искреннее, непосредственнее.
Чем же объясняется, что выходило так много картин, и картин неплохих? Только ли энтузиазмом их создателей?
Конечно, все советские люди были напряжены и внутренне мобилизованы – это было непосредственной, святой обязанностью каждого! Но всего этого было бы мало, если бы не было и кое-каких положительных организационных обстоятельств, вызванных. требованиями усложнившейся обстановки. А именно: резко сократилось количество «пропускающих» инстанций. Поясню: главк и его руководитель Михаил Ромм находился в Ташкенте; министр кинематографии Большаков осуществлял общее руководство всеми студиями и боевыми киногруппами, находясь в Москве; производство было сосредоточено в основном в Алма-Ате: – Объединенная студия («Мосфильм», «Ленфильм», «Казахфильм»). а также Сценарная студия, которая, как я уже говорила, поставляла в то время сценарии для производства. Правда, на Объединенной студии также существовал Сценарный отдел, но все же в большинстве своем картины, вышедшие в то время на экраны, были поставлены по сценариям, заказанным и осуществленным к недрах Сценарной студим. Причем, все без исключения сценарии обсуждались коллективно не только в момент их принятия или отклонения, но и в процессе работы, над ними (иногда уже написанные части), а бывало и так, что и планы того или иного ключевого эпизода, еще не написанного, а только лишь, задуманного.
Таким образом» в каждом законченном сценарии была хоть капля общей «творческой крови» и за каждый законченный сценарий все несли общую, коллективную ответственность!
Талант и профессиональный опыт режиссеров, писателей, сценаристов, операторов, художников еще до начала производства как бы сплавлялся в некий цельный сплав – основу будущей картины. Поэтому ответственный и нудный в наше время «процесс утверждения» из мучительной процедуры бесконечных «доделок и поправок» превращался в весьма деловой и кратковременный акт, помогавший рождению новых кинопроизведений…
… Время шло, война подступала все ближе даже к такой отдаленной точке страны, как столица Казахстана. Ее приближение чувствовалось не только по тревожным вестям с фронта, не только по увеличивающимся трудностям и недостаткам в быту, в жизни, в работе, но, главным образом, по настроению людей. Не было человека, у которого кто-нибудь из близких не был на фронте, близ фронта или, что еще страшнее, по-моему, – по ту сторону фронта. У вернувшегося без ноги молодого художника Ш. в Киеве осталась вся семья, одиннадцать человек – отец, мать, братья, жена и двое маленьких детей. Как выяснилось позже, все они погибли в один день в Бабьем Яру. У Марии Николаевны Смирновой восьмилетняя дочка «осталась под немцем». Сын Багрицкого, сын Шкловского, сын художника Бруни – эти юноши не вернулись с войны, не пришли домой, не дожили даже до своей возмужалости. Одно за другим приходили известия о погибших друзьях. Милые сердцу города пылали, уничтожаемые беспощадно и бессмысленно. Каждый час, каждую минуту думалось – если бы не дети, я была бы тоже там.!
Может быть, и тогда я инстинктивно понимала всю беспочвенность и наивность моих стремлений и поэтому никому о них не рассказывала.
А может быть, наш суровый век выработал в нас застенчивую боязнь «высоких слов», и, мы все старались быть как можно более немногословны, когда дело касалось наших самых сокровенных надежд. Во всяком случае, я старалась, очень старалась, чтобы никто не узнал, о чем я думаю, когда остаюсь одна. Но что уж теперь-то говорить об этом? Через четверть века!
Первая радостная весть за все время с начала войны – немцы в Москву не вошли и не войдут! Но можно ли было долго радоваться этому, когда сводки были так трагичны, когда, в них назывались города, бесконечно далеко отстоящие от границы?
И второе потрясшее всех известие – Сталинград стоит, Сталинград держится! Это было начало битвы за Сталинград – конец ее я переживала уже в Москве, дома. Победа под Сталинградом! А потом – тысячи пленных немцев, бредущих через Москву.
Какому гениальному режиссеру пришло в голову погнать по их следам моечные машины? Мы все, москвичи, молча стояли и смотрели на бредущих, казалось, в полусне пленных. Молча. Никто не торжествовал, громко, никто даже не произносил никаких слов – просто стояли и смотрели. Но вот они прошли – запыленные, оборванные, черные, униженные не только своим поражением, но и нашим всеобщим молчанием.
Прошли. И через минуту показались «дворники» – голубые машины, тщательно смывающие | с московских улиц следы, оставленные побежденными. И тут москвичи проявили свой истинный темперамент: вспыхнули такие овации, такие бурные крики радости, такой веселый торжествующий смех, что всем на секунду показа лось – вот сейчас – «решилась судьба всей войны, скоро ей конец, и она будет победной!..
Но это уже было позже, в Москве. А там, в Алма-Ате наступила, суровая зима – было необыкновенно холодно, особенно тем, кто, как и я, брал с собою в эвакуацию «по четыре килограмма на человека» – без теплой обуви, без теплого пальто, с вечно мокрыми ногами – высушить их было негде, отапливались только маленькой, контрабандной электрической плиткой.
…Я вернулась в Москву. Друзья мои – как старые, так и вновь обретенные – оставались еще в эвакуации. Мне было одиноко, но уже чувствовалось – война идет к концу, об отступлении уже не было и речи, фронт продвигался все ближе к немецкой границе. Это сознание поддерживало всех нас даже в самые тяжкие, грустные минуты.
Жизнь в Алма-Ате отдалялась, превращалась постепенно в короткий военный эпизод.
И только несколько лет спустя я снова начала вспоминать этот город, людей, которые помогали мне там жить, друзей.
С той поры прошло четверть века почти. Конечно, многих, очень многих я уже не увижу никогда – иные погибли, иные умерли от болезней, а иные… перестали быть друзьями. Время, время. Оно поглощает не только умерших, оно меняет, поглощает и живых.
Но мертвые остаются такими, какими были. Вот такими мы помним их. И любим.
Живые же старятся вместе с нами. Они тоже остаются для нас молодыми, какими мы узнали их когда-то.
И города – как люди; поэтому навсегда прекрасным, добрым и дружеским остался для меня город моей эвакуации – Алма-Ата.
ПИСЬМА МУЖУ И. В. ВАЙСФЕЛЬДУ НА ФРОНТ
1) 24.VIII.44
Мики мой, я очень волнуюсь – письмо было от 14-го и позже не было. Тезисы твои об Эйзене[4] я не получила. Неужели ты послал единственный экземпляр? Как жалко. Приехал С.М. – я ему показать хотела. Очень приятно было бы поговорить с тобой о будущем. Левин[5] говорил тебе о моем отношении к функционерству в кино? Научная работа, литературная, даже журналистика – но ни в коем случае не аппарат! А, в общем, возвращайся поскорее, любимый. Твоя Ph. Осторожно!
На полях: Обнимаю. Адда.[6]
2) 15.VII.44
Микки, мой родной, вот уже с первого нет от тебя писем, и я очень беспокоюсь. Мне кажется, что ты куда-то уехал в другое место и это меня тревожит. Но… жена солдата должна быть стойкой, не так ли? Только, ей-ей, мне надоело быть Жалмеркой.[7] Пора и честь знать. Скоро ли вы, друзья, окончите эту проклятую войну? Скорее бы, ох, скорее бы! Вчера слушала очень хорошую пьесу Штока,[8] действительно – хорошую, без скидок. Я очень счастлива за него. И благодарна ему, как и всякому, кто пишет хорошие вещи. На днях смотрела у Охлопкова[9] (он слился с театром Революции, это ты знаешь) «Пестрые рассказы» Чехова. В восторге от Штрауха,[10] который трагически читает «О вреде табака»! и Свердлина.[11] Спектакль хороший, но уж очень Мейерхольдовский.[12] Пиши. Волнуюсь.
3) 15.VII.44
Микуха, эта открытка специально посвящена приветам; т. к. я их тебе (как и ты мне, если помнишь) мягко говоря, не всегда передаю. Я и решила отписать сразу. Итак, тебе горячие приветы: от Ии, тети Кати, дяди Андрюши,[13] Ольги Обольник[14] (случайно встретила на Страстной), Новогрудского,[15] М. Долгополова,[16] Тихонова (б. директор студии), моей новой приятельницы – М. М. Шапаровой (славная, толстая, умная, веселая) Саши Ржешевского,[17] кот. случайно видела в столовой и письмо от которого лежит и дожидается конверта, Рошаля[18] – видела его на спектакле у Акимова.[19] Он едет в Алма-Ату снимать «Абай», оператором едет Галя Пышкова, Эйзена и еще от тысячи людей. Да, Ягдфельд,[20] с которым я дружу, – передавал самый теплый привет. Ну, места не хватило. Целую нежно…
4) 22.VII.44
Микки мой, у меня событие – приехала Аддочка![21] Вот чудеса: ведь 9 лет я ее не видела. Она очень изменилась, очень стала мягкая, но такая же упрямица, как была. Но что удивительнее всего, она внешне поразительно стала похожа на меня. И не чертами лица, а всем Войтоловским обликом. А ведь раньше мы никогда не были так разительно похожи – отдаленное семейное сходство превратилось в сходство двойника! Очень смешно. Но у нее ни одного седого волоса! Каково! Получила твое большое письмо и поражена тем, что мы думаем не только тождественно, но даже говорим одними и теми же словами о твоей будущей жизни. Микки, ты умный, а главное – по сути честный товарищ., не только по форме. И я тебя люблю. Может быть за это самое. Нет, не думаю, просто за то, что ты мой Мика. Очень соскучилась. Пиши мне чаще. Твой Ph. Осторожно.
5) 23.VII.44
Микки мой, сегодня утром началось наступление в Карелии. И, сам понимаешь, мне это известие доставило массу волнений. Теперь я буду с особенным трепетом ждать твоих писем. Микки мой, будь здоров и невредим, а уж то, что мы увидимся, я знаю твердо! Помни, где бы ты ни был, что бы ни делал, о чем бы ни думал – я всегда рядом. Это хорошо, что я далеко, по крайней мере, такое соседство необременительно! Шутки шутками, а я действительно день и ночь с тобою рядом. Иногда и наши поэты пишут правду – Ждимонов (в тексте так – Л.И.) и другие. Очень хочу, чтобы ты не беспокоился о нас нисколько – у нас все в порядке. Заботься о себе, будь осторожен, когда это возможно, мой любимый. А ей богу рядом, вот она я, только руку протяни. Целую тебя, целую и бесконечно люблю. Твоя Ph. Осторожно.
6) 23. VII.44
На днях встретила Аню – Боря[22] лучше себя чувствует, Роза[23] поуспокоилась. Я хочу ее перетянуть в один из театров. Скучаю я по литературной работе – очень хочется писать. И есть что. Но нет времени. И энергии нет достаточно. А это ведь самое главное. Я толстею, Микки, ей богу. Надо скорее начать писать – тогда сразу похудею от досады, что ничего не выходит. Лялюха моет пол, кряхтит как старушенция и гонит меня с моего места. Бегу на работу. Мне очень понравилось формула: на чей-то вопрос, почему Илюша ни разу не был в Москве, Рошаль[24] сказал: Надо быть Илюшей, чтобы быть Илюшей. Здорово, а? Целую. Твоя Ph. Осторожно.
7) 27.VII.44
Мика мой. Не удивляйся, сто пишу на машинке – нет под рукой пера, а хочется тебе написать пока хлещет дождик и я никуда не могу идти. А дождик у нас зарядил – уж третьи сутки льет. Настроение лирическое. Я ведь по ленинградской своей привычке в дождь всегда настраиваюсь лирически. А сейчас, когда ты так далеко, я ловлю себя на том, что становлюсь сентиментальной. Глупо? Нет ей-ей не очень. Но меня это немного расслабляет. Например, я сейчас мечтаю о том, что когда кончится война и ты вернешься ко мне, к нам, мы с тобой уедем в теплые края. И будем жить где-нибудь, где много солнца и много, много тишины, где будет и зимой тепло и не надо будет с тоскою думать о приближении холодов, о мокрых ногах, о том, что ребята и я голые и, главное, босые. Придет ли это? Не знаю.
Сегодня весь день бьюсь с билетом для Аддочки – никак не может она, бедняга, выехать из Москвы. А у нее уже пропуск кончился вчера. Скоро в Москву приезжает Леня – он будет учиться в институте Баумана. А Адда, вероятно, переедет в Ростов-на-Дону. Николай Игнатьевич уже там – преподает в институте Механизации Сельского Хозяйства. Валюша совсем большая, милуша, как и была.
Лялюху я пытаюсь через ЦК Союза устроить на площадку. Крикер, кажется, обещает устроить ее. Ляля у нас разумная и славная девочка. Она на днях прочла «Дон Кихота». На вопрос, «что хотел сказать Сервантес?» она сказала – «Он хотел, чтобы люди, прочитавшие эту книжку, поняли, что человек должен быть справедливым, добрым и всегда должен думать о других больше, чем о себе. А смеялся он над своим героем потому, что он был сумасбродным и только в самом конце своей жизни понял, что всю жизнь прожил химерами». Хорошо, правда? Девчонки вообще у нас ничего, хоть по утверждению Кота Исаева,[25] они родились от разговоров об искусстве. Хочу, чтобы поскорее…мы поговорили об искусстве. Целую нежно, крепко. Твоя Ph. Осторожно.
8) 31.VIII.44
Микки мой родной, до всей этой нелепой истории я все-таки верила в чудеса. Думалось, совершится чудо и я увижу тебя еще до окончания этой проклятой войны. Да видно, каждая неудача делает человека умнее и опытнее. Но, все-таки, как ты знаешь, я неистребимый оптимист. Еще где-то в глубине души теплится надежда, что это чудо вот же произойдет и мы вскоре увидимся. Эх, если бы знать, когда все это кончится? Можно было бы уж потерпеть, ежели это действительно скоро. Вся нелепость нашей «невстречи» выбила меня из колеи на некоторое время. Но опять же помог мой характер – я решила, что теперь уже нельзя не встретиться. Но быть такими дураками, чтобы рассчитывать на телеграф, ни я, ни ты, я надеюсь, не будем. Ведь ежели бы я в то время получила твою телеграмму из того места, где Фиш, которой, кстати, я и по сей день не получила, я бы увиделась с тобой! Как глупо, как до слез глупо и обидно, что как раз телеграмма о твоем выезде не дошла! Но я ведь не могла же ехать, не получив от тебя известия о твоем выезде – ты мог и не поехать же, ведь ты человек подневольный.
Ну ладно, не будем растравлять еще свежие раны.
Сейчас у меня Николой Игнатьевич[26] живет и «Гага» Ягдфельд.[27] Оба они сегодня уезжают. Ягдфельд обратно в Ленинград, Ник. Игн. в Вологду за семьей.[28] Он уже великолепно устроился под Ростовом, в Зернограде, а Аддочка будет преподавать в Пединституте в Ростове. Может быть, они все проедут через Москву! Вот будет здорово!
Микки, дорогой, ежели что-нибудь у тебя подвернется для нашей встречи, немедленно сообщай мне любым способом – я приеду, где бы ты ни был. Теперь все это облегчено, так как не надо специальных пропусков, а только командировка. Итак, уславливаемся точно – немедленно сообщай мне. Твоя Ph. Осторожно.
9) 27.X.44
Микки мой дорогой! Я видела Таню Смол., говорила с ней и получила твою посылку. Спасибо. Меня только удивили твои разговоры с нею о Ягдфельде. Глупо слушать ее сплетни, а еще глупее осведомляться у нее – серьезно ли это. В крайнем случае – можно было бы спросить у меня. Я чуть-чуть обиделась на тебя, но потом решила, что не стоит того, настолько это все далеко от истины и… прости меня – глупо. Ну ладно. Жду от тебя письма с хорошими вестями. Мама еще у нас. Целую нежно. Ребятки шлют привет. Ph. Осторожно.
10) 28.X.44
Микки мой дорогой! Я очень стала тосковать. Не хотела тебе жаловаться, да, видно, лучше пожаловаться и писать, чем не писать вовсе. Верно? Это верно потому, что поманила нас с тобой встреча. Поманила, да не состоялась. Жду я от тебя вестей добрых, да, видно еще не скоро дождусь. Грустно. Да еще огорчила меня Таня Смолянская. Ну, да ладно. Это все не страшно. Очень хочу тебя видеть – и это в жизни основное. Устала я без Вас, Мики, ох как устала! Но усталость – признак старости. Так будем скрывать это и терпеть, тем более, что терпеть, надеюсь, уже недолго. Целую. Ph.
На всех письмах адресат – поддевая почта 12545. На всех письмах помета «Просмотрено цензурой». Письма написаны из Москвы на Карельский фронт. К сожалению, сохранились только эти письма 1944 года.
…И ВСЮ ЖИЗНЬ…
Составитель выражает благодарность профессору В. А. Кувакину за поддержку при подготовке и публикации книги и Л. К. Браккеру за ценные советы и помощь при подготовке текстов.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Лина Львовна Войтоловская (1908–1984 гг.) – писатель, литературовед, публицист, переводчик. Родилась в Киеве, о чём в метрической книге синагоги города Киева выставлена запись о рождении Линны Шмулевны-Лейбовны Войтоловской 1 мая (13 ира) 1908 года. После Гражданской войны большая семья Войтоловских переехала в Ленинград. Однако Л.Л. окончила Московский государственный университет. По окончании МГУ писала статьи, рассказы, очерки в разные советские издания, работала на «Мосфильме», во время Второй мировой войны с 1941 по 1943 находилась вместе с двумя малолетними дочками в городе Алма-Ата, где работала на Центральной объединенной киностудии. Муж Л.Л. с 1942 по 1945 год был на Карельском фронте.
Л.Л., как и ее три сестры, поучила хорошее гуманитарное образование, пела, играла на рояле, сочиняла стихи, рисовала, говорила по-украински, немного по-польски.
Семья пережила в Киеве время Первой мировой и Гражданской войн. Киев в Гражданскую переходил из рук в руки. В 1924 году семья переехала в Петроград. Л.Л. училась в Ленинградской художественной академии на отделении монументальной живописи, однако в марте 1927 года переехала в Москву, поступила в 1-й Московский государственный университет на отделение теории и истории изобразительных искусств, который закончила досрочно в 1930 году. В том же году вышла замуж.
По окончании учебы Л.Л. занималась литературной работой, с 1932 года печаталась в газетах (например, «Пролетарское кино», «Кино»), журналах. Это были очерки о поездках по стране, рассказы, рецензии. Работала на киностудии «Мосфильм», участвовала в съёмках фильмов как художник-постановщик. Со студии вынуждена была уйти в 1937 году (об этом ниже).
Перед Второй мировой войной семья жила на Потылихе в доме для молодых специалистов киностудии «Мосфильм». В начале войны московская молодежь боролась с фугасными бомбами на крышах домов. Во время одного из таких дежурств Л.Л. сломала пальцы на обеих ногах. В конце сентября или в начале октября (не помню, но до московской паники 16 октября) Л.Л., будучи на костылях, с двумя детьми 4 и 8 лет на руках была эвакуирована в город Алма-Ата (Казахстан) вместе с «Мосфильмом». Порядки тогда были такие – каждому человеку можно было с собой увезти вещей и продуктов не более 4 килограмм вещей и продуктов (точно не помню). На вокзале пропускали через весы. Я по малости направилась с пустым жестяным чайником к этим весам. Мама едва перехватила меня. Однако не все эвакуированные следовали этим правилам. Некоторым удавалось даже люстры провезти. Обстоятельства эвакуации живо описаны мой мамой в книге «Холодный август». В Алма-Ата при жутких морозах одежды не хватало и зимы мама проходила в прорезиненном плаще, хотя город Алма-Ата был относительно благополучным. Мой отец с 1942 года до конца войны был на Карельском фронте.
Л.Л. относится к поколению интеллигенции сталинских времен – пуганному или битому. Ее сестры и их мужья сидели в советских лагерях или ссылках, потом те, кто выжил, и те, кто был расстрелян, были реабилитированы. Их мать и их дети голодали, скрывались от железной лапы властей, но дети выжили, получили образование и стали достойными людьми. Если бы власть «господина дьявола» не кончилась, наконец, то оба – Л.Л. и ее муж Вайсфельд И. В. (теоретик и педагог кино) тоже были бы арестованы – «органы» собирали так называемый компромат на них, о чем документально стало известно позже.
Для того чтобы современный читатель представил себе моральную атмосферу 30-х годов, предлагаю рассказ из пока еще неопубликованного сборника воспоминаний моего отца Вайсфельда Ильи Вениаминовича.
Решение Александра Медведкина
Уже забрали Бориса Яковлевича Бабицкого, дельного, пылкого директора «Мосфильма»; исчез бесследно его заместитель Сливкин – тучный, с астматической одышкой и вечно простуженным, сиплым голосом.
Из студийного жилого дома ночью увезли комсомольского секретаря, прекрасного работягу Свердлова. Черная смерть сметала лучших людей по какому-то сатанинскому выбору. А в это время в объединении, руководимом Даревским, снимался фильм, в котором звучали слова: «…я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…»
Все эти аресты были полной неожиданностью для студии. Но бывали аресты со своеобразной пристрелкой. На большом собрании предъявлялось какое-нибудь обвинение: слова для ответа не давалось ни под каким видом, чтобы не допускать «притупления бдительности», и человек – обречен… Так обрекли на гибель Сливкину. На собрании ее объявили женой врага народа и предложили немедленно покинуть зал. Слова ей – по неписанному канону – не дали. Молча она вышла. Многие не могли поднять головы. Оцепенение. Давящая глухая тишина.
…Очередное собрание в зловещей накатанности 37-го года.
Ведет собрание Александр Медведкин. Неужели и он, самобытный, смелый художник, герой гражданской войны, коммунист с незапятнанной репутацией, любимец студии, тоже опозорит себя? Мы не могли в это поверить.
Вне повестки дня первым попросил слово комсомолец Кузнецов. Высокий, рукастый, неизменно приветливый, – он вышел на трибуну сосредоточенно серьезный. Мы часто и приятельски с ним общались. Сейчас он не подарил взгляда ни мне, ни Лине Войтоловской. Громким, чужим голосом он объявил:
– У Войтоловской брат – враг народа, расстрелян.
И картинно сел на место.
Установилась такая же тишина, какая была при удалении Сливкиной… Что скажет Александр Иванович Медведкин, наш дорогой Саша?
А у Саши, у могучего Александра Медведкина, тошно было на душе. Он тоже не понимал, почему исчезают люди, с которыми мы бок о бок работали, почему так много «врагов народа» из числа тех, кого мы ценим и любим.
Незадолго до собрания арестовали Елену Кирилловну Соколовскую, заместителя директора киностудии, героиню одесского подполья 19 года, человека доброй души и подкупающего таланта. Ведь именно она отстаивала его сценарий «Окаянная сила», написанный по мотивам «Пятиречья», глубочайшего философского произведения русского фольклора. Понадобился приезд руководителя советской кинематографии Бориса Захаровича Шумяцкого, чтобы, вопреки студии, все же похоронить эту самую, окаянную, «Окаянную силу». В эти грозные годы Шумяцкий был грозен как никогда: он сам опасался ареста и не избежал его, несмотря на все свои заслуги в годы гражданской войны и мирного строительства. Медведкин тогда и предположить не мог, что через какие-нибудь 50 лет, уже в годы перестройки, «Окаянную силу» он возьмется ставить, но его смерть помешает осуществить этот замысел.
Размышлял ли об этом Медведкин, когда сидел за председательским столом и слушал смертный приговор, изреченный комсомольцем? А быть может, екнуло в сердце, когда вспоминал дорогие для него, для всей советской кинематографии его короткометражки «Полешка», «Фрукты-овощи», «Дурень ты, дурень», которые, несмотря на одобрение Луначарского, все же незаметно похоронили? Или думал о том, как зловеще разрываются дружественные связи в эти трагические дни? И как быть с Войтоловской, которую он всегда ценил и не хотел подвергать подлому удару?
Но предоставлять слово обреченному ведь не полагалось!
Решение пришло мгновенно. Медведкин встал и четко, громко произнес:
– Слово предоставляется Лине Войтоловской.
Мы сидели в последнем ряду. Лина с трудом поднялась, она была на седьмом месяце, спокойно, неторопливо направилась к председательскому столу, так же спокойно повернулась лицом к собранию и тихо сказала:
– У меня никогда не было и нет брата.
Облегченный вздох в зале. Она пошла к своему месту. Кто-то тихонько пожал ей руку. Кто-то бросил дружественный взгляд. Но никто не переговаривался. Она села на свое место.
С тех пор Кузнецов избегал встречи с нами. Его карта была бита. На этот раз.
А Медведкин до конца дней всегда оставался самим собой».
А в это время ее сестра Адда и ее муж Н. И. Карпов с 1934 года (по 1941 год. Это была первый арест) сидели в сталинских застенках. Мама после родов была вынуждена уйти со студии. Её муж продолжал работать на киностудии.
После смерти Сталина были опубликованы три книги Л.Л.: «Костры в степи» – 1955; «Холодный август» – 1974; «Трудная ночь» – 1980. Знание польского она восстановила в 60-е годы, когда взялась за учебники, читала польские детективы, в 70-е начале 80-х читала польские газеты «Культура», «Газета выборча» и удивлялась свободе, которой у нас тогда не пахло. В 1966 году был опубликован перевод с польского одного из первых заграничных детективных романов – Сбигнев Соафьян «Дневник инженера Геины» (журнал Октябрь, №№ 6–8). В это время уж начали публиковать в журналах «Знамя», «Нева» переводы польских писателей.
В книге «Холодный август» есть раздел «Острова» с воспоминаниями о родителях Л.Л. – подробно о матери и отце, о ныне известных людях, с которыми общались родители и семья. В доме бывали Горький, Луначарский, Бунин, Сейфулина, Демьян Бедный и еще многие известные деятели, Л.Л. училась у Федорова-Давыдова, Петрова-Водкина. Эти воспоминания можно назвать энциклопедией интеллектуальной жизни тех времён.
Во время эвакуации Л.Л. работала на Центральной объединенной киностудии в Алма-Ата. В 1967 году опубликованы её воспоминания об известных писателях, деятелях кино – Эйзенштейн, Пудовкин, Шкловский, Рошаль, казахские писатели, работавших во время эвакуации в Алма-Ата (журнал ЦК КП Казахстана «Простор» № 6), которые мы публикуем в данной книге.
Коротко о родителях Л.Л. Отец Войтоловский Лев Наумович родился в1876 году в Полтавской губернии. Учился в Киеве. Из Ки-евского университета был исключен за участие в студенческих вол-нениях. Доучивался в Харькове. Успешно окончил медицинский фа-культет Императорского Харьковского университета (1900 год). Во-енврач, прошёл русско-японскую, Первую мировую войны. В Граж-данскую войну служил в Красной армии. Погиб от голода в 1941 го-ду в блокадном Ленинграде, будучи уже слепым в результате воен-ных контузий. Писатель, журналист, литературный критик. С моло-дости интересовался коллективной психологией. Наиболее крупные работы: «Очерки коллективной психологии», «Психология коллек-тивного творчества». Его книга «По следам войны. Походные за-писки» о войне Первой мировой и Гражданской издана в 1925 году, в 1998 году переиздана Военным издательством под названием «Всходил кровавый Марс: по следам войны».
Подробнее о нём имеется информация в Интернет, например, Википедия и другие сайты.
Мать Войтоловская (Венгерова) Анна Ильинична (родилась в Украине) была музыкантом, преподавала музыку по классу рояля. Ею написано руководство по преподаванию музыки и несколько литературоведческих статей. Умерла в августе 1953 года в страданиях, не дожив до освобождения из лагерей или ссылки трех дочерей: Эллы (литературовед, специалист по наследию Аксакова и Гоголя), Адды (историк, писатель), Александры (историк, экономист), которые были репрессированы вместе с мужьями. Из мужей вернулся только Карпов Николай Игнатьевич вместе с Аддой. Все они после реабилитации активно работали по своим специальностям.
О жизни Войтоловских, круге общения, последующих репрессиях в отношении семьи и о развитии репрессивной системы в СССР можно прочесть также в книге воспоминаний Адды Львовны Войтоловской «По следам моего поколения», написанной ею по возвращении из ссылки «на вечно» (Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991), и в книге Генриха Константиновича Войтоловского – сына Александры («Взгляд на системное мореплавание: вхождение в маринистику». Москва: Крафт+. 2009. Глава 1).
* * *
Сборник «…И всю жизнь…» был опубликован в 2012 году издательством РГО. Здесь 25 рассказов. Часть рассказов – из книги «Трудная ночь», половина подготовлена к публикации самим автором, когда Л.Л. уже была прикована к постели, но после ее смерти издательство сняло сборник из плана. Вставленный рассказ Петка был опубликован в Издательстве «Сов. Писатель» в 1956 году.
Л.Л. обладала исключительной наблюдательностью. Лейтмотив ее рассказов – трудные судьбы не очень счастливых людей, любовь, семейные истории, взаимопонимание или непонимание в семьях, проблемы сиротства, одиночества, приближения старости. Война прошла по всем судьбам. Сейчас рассказы интересны тем, что отражают мир обычного, часто самоотверженного человека, выживающего в условиях советской действительности и не участвующего в очередном «победном марше» советской власти.
Автор сочувствует своим персонажам. Их судьбы отражают процесс самопознания автора. Автор как бы проживает несколько жизней, отражая в каждой другой жизни свое «Я». При чтении книги не создается ощущения безысходности, несмотря на описанные невзгоды персонажей. Рассказы написаны хорошим литературным языком, для них характерен индивидуальный стиль.
Желаю читателю найти в книге близкие сердцу слова, мысли и чувства.
Л. И. Вайсфельд
Благодарности.
Составитель книги «…И всю жизнь…» выражает благодарность профессору В. А. Кувакину за помощь при подготовке и публикации бумажного экземпляра книги и Л. К. Браккеру и А. В. Бухонину за участие в оцифровке текстов.
Моя сестра Наталия Небылицкая – ко дням рождения нашей мамы Л. Л. Войтоловской
* * *
Я помню светлый, громкий день, Пыль облаком летела. И мы с сестрой несли сирень — Лиловую и белую. Я помню двор и желтый дом, Овраг, за ним деревню, И слово странное «жилдом», Как заклинанье древнее. И церковь справа, на горе, Облупленную, грязную, Что нам, на жизненной заре, Казалася прекрасною. Руками тонкими – плетьми Не охватить букета. И мы с сестрой вдвоем несли Дар, сотканный из лета.15 мая 1978 г.
* * *
Память пятнами высвечивает прошлое — Голубой асфальт, лиловый снег, Край стола, пылинки хлебных крошек, Медный привкус голода во сне. Звон цикад, и горький запах горный — В Ала-Тау травы до небес, Плач соседский дикий и покорный, Грохот, в черном небе желтый крест… Мы вернулись в мерзлом сорок третьем. Плакали от пустоты и стужи. Ты мечтала о тепле и лете… Пятна детства, расплываясь, кружат. Нескончаемость московских темных улиц, Хруст стекла в опустошенном доме, Ноги в пимах стареньких танцуют, Смех твой, захлебнувшийся на сломе. Тонкий и дрожащий столбик свечки У лица мерцает маяком. Мы втроем молчим у жаркой печки, И читаем письма, и поем. Снова – тьма. Но вот шинель снимаешь, Помню, как нежна твоя ладонь. Мы одни, ты только приезжаешь, Чтобы отгореть, разжечь огонь. Сгусток лет туманит, закрывает Детства разноцветные осколки. Тот огонь поныне согревает, Он звезда моя над пропастью — у кромки.15 мая 1979 г.
НЮРА
Нюрочкой ее звали долго, почти до сорока, за несмываемый по самые глаза румянец на круглых щеках и вздернутый нос, разрисованный яркими веснушками.
На Трехгорку она попала случайно. И вовсе не думала, когда поступала ученицей, что так и останется здесь прядильщицей на целых двадцать лет. Но ровный гул цеха, бесконечное переплетение ползущих нитей словно тянули ее за собой. Ей милы стали работа, спокойный отдых, недлинный путь из дома на фабрику, и никуда ей больше не хотелось.
Когда она была ребенком, родители ее, беженцы из Белоруссии, обосновались в маленькой деревушке на Волге. Старшие ее братья погибли на войне – один в конце четырнадцатого где-то под Молодечно, другой в шестнадцатом на Карпатах. Она была последышем и оказалась единственным ребенком в семье. Родители жили трудно, как все в те годы. Трудно и одиноко, потому что говорили на непонятном волжанам западно-белорусском языке и так до самой смерти не научились говорить по-русски. Но, зная, что в Белоруссию они уже вернуться не смогут, отец заставлял Нюрочку учиться у ребятишек, а потом послал в школу. Три зимы бегала она по льду через протоку на тот берег в маленькую школу, но научилась только читать и считать. Больше всего любила Нюра слушать рассказы учительницы о дальних странах, о том, какие там живут люди и какие есть в этих странах города. Она не была мечтательницей, не думала о том, что вот вырастет и поедет путешествовать. Нет, ей просто было интересно, как и тогда, когда отец рассказывал ей сказки певучим своим чокающим говорком.
В начале двадцатых годов, во время голода на Волге, в одну неделю от тифа умерли отец и мать. Схоронив родителей, в короткой материнской кацавейке – свой тулупчик она отдала могильщику за рытье общей, на двоих, могилы – она ушла из деревни, не оставив там ни одного близкого человека, никого, о ком могла бы вспомнить и кто вспомнил бы о ней. Да мало ли тогда разбредалось детей по белому свету?
Она шла в своих разбитых валенках сперва по снегу, потом по лужам, побиралась, где могла, и наконец, добрела до железной дороги. Там, на крошечном полустанке, какая-то старуха взяла ее к себе в услужение «за харчи» – нянчить троих внучат, топить печь на полустанке и в сторожке, встречать по ночам редкие поезда, словом, делать все, что не могла или не хотела делать стрелочница, получившая эту должность в наследство от ушедшего на «гражданку» и не вернувшегося сына; сноха уехала мешочничать, да вот уже больше полугода не давала о себе знать.
Но как-то жаркой ночью вернулась сноха, да не одна, а с «чужим солдатом», и Нюрочку в ту же ночь «рассчитали», дали на дорогу полбуханки хлеба да горсть тыквенных семечек. Ушла она, в чем пришла – в кацавейке, ставшей ей короткой донельзя, и в разбитых валенках. Ее попросту выгнали, не дав переночевать. Ей минуло уже пятнадцать, и старая, заплатанная и застиранная кофточка, подаренная ей как-то в добрую минуту старухой, стала ей узка и вся разодралась под мышками.
Вот в таком виде добралась она к утру до следующей станции. Долго сидела на краю щербатой платформы, отдыхая и не решаясь идти к начальнику попроситься на работу – ведь она уже хорошо умела управляться с несложными обязанностями стрелочницы, спасибо бабке, научила.
Ее взяли охотно – девушка она была крепкая, здоровая, и в ту пору никто ни у кого паспортов не спрашивал. Выдали ей удостоверение: «Королькова Анна Егоровна, должность – стрелочница блока №…». Все.
Сменщика у нее не было. Два раза приезжал начальник, инструктировал ее, учил, как обращаться с межстанционным телефоном, как стрелку переводить, – словом, всей премудрости. Она все освоила быстро. Одно не давалось ей – писанина… Ну да начальник и сам больше любил принимать сводки «на голос», чем ковыряться в бумажках.
Два года прожила Нюрочка одна в крошечном домике на блоке, два года обрабатывала с удовольствием приблочный огород, два года встречала и провожала поезда и как будто бы вовсе не скучала.
Но с каждым днем все дольше глядела вслед уходящим составам, в какую бы сторону они ни шли, будь то пассажирский, маневровый или товарняк.
И вот однажды, поздней осенью, когда собрала капусту и картошку на огороде, вдруг позвонила начальнику и потребовала, чтобы он прислал сменщика.
– Да почему? – удивился начальник.
– Надо! – коротко ответила Нюрочка и повесила трубку. Покрутив ручку аппарата и услышав звонок отбоя, она снова сказала уверенно:
– Надо!
Не мог взять в толк начальник, что стало с этой всегда такой спокойной, работящей и послушной восемнадцатилетней девкой – заартачилась, и все тут!
– Отпусти. Уеду.
– Да куда, куда ты поедешь?
Нюра не была упряма, просто она все решила, а объяснения и долгие разговоры считала ненужными, скучными.
– Надо, – отвечала она на все уговоры и расспросы начальника.
– Ты как бронированная, тебя не прошибешь, – отступился он, наконец.
– Шинелю отдавать? – спросила Нюра.
– Зачем? Ты ее оплатила и сапоги. Носи.
– Спасибочка.
– И еще-бесплатный тебе проезд полагается. В один конец – ты своего права ни разу не использовала.
– Дзенкуемы.
– Чего?
– Благодарствую, значит.
– Через час пассажирский пройдет. У меня там одна проводница хорошая знакомая. К ней и подсажу.
Немолодая, приветливая, в такой же негнущейся шинели, как у Нюры, проводница Екатерина Ивановна кое-как устроила девушку в переполненном вагоне, потом позвала к себе попить чайку. Внимательно осмотрела ее, ласково улыбнулась, сказала:
– Ну и здорова же ты, девонька. Звать-то как?
– Нюра.
– Что ж, Нюрочка, расскажи, куда ехать-то собралась?
– В мир, – спокойно ответила Нюра.
– Куда?
– Да так, в мир.
– Это где же он, мир? – засмеялась Екатерина Ивановна.
– А не знаю. Просто так, в мир. А то все поезда мимо и мимо. Вот и я…
– Поезд-то до Москвы. Дальше не пойдет.
– Ну и что? Хоть и до Москвы.
– У тебя там кто есть?
– А у меня нигде никого нет. Одна я.
– А родители?
– Померли в двадцать первом.
– Сродственники?
– Не знаю. Мы были беженцы. С Белоруссии. Потом на Волге жили. Так. Ну, а где, к примеру, ты в Москве переночуешь? Вот приедем к ночи. Куда пойдешь?
Нюра задумалась.
– Ну, постучусь в каку избу. Пустят, я думаю. Чай я не воровка.
– В избу! – рассмеялась Екатерина Ивановна. – Да ведь это Москва. Пойми ты, Москва! Где ты там избу найдешь? Да там миллионы людей живут. И каждый – сам по себе! Дуреха!
Нюрочка надолго задумалась. Ей как-то раньше не приходило в голову, что там, куда, она, в конце концов, приедет, придется просто жить, где-то спать, работать, – словом, обосноваться. Смутно припомнились ей рассказы учительницы о громадных городах, и впервые она немного забеспокоилась.
– Ну, а как быть-то? – спросила она.
– Вот что, – решительно сказала Екатерина Ивановна. – Ко мне ты сперва. Я три дня отдыхать буду до нового рейса. Потом снова в дорогу – на неделю. Так вот я и живу пока. Тебя к себе пропишу. Соседка моя на Трехгорке работает. Говорила – им ученицы нужны. Даже меня звала. Но куда мне, я уже в годах. Да к тому же и замуж собралась.
Она смутилась, чуть покраснела и немного не к месту засмеялась.
– А за кого, знаешь?
– Да откуда же мне знать?
– За твоего начальника, Кондратьева, Сергея Степановича. Уж и сговор был. Два последних рейса отъезжу, и все, прощай Москва, на вашу станцию переезжаю. Вот.
– Он человек ничего, добрый, – рассудительно сказала Нюрочка. – Вот шинель мне оставил, сапоги, к вам встроил. И не строгий: учил – не ругал.
Так Нюрочка стала москвичкой.
В крошечной комнате после отъезда хозяйки она почти ничего не изменила: Екатерина Ивановна ничего с собой не увезла, даже ваза с пыльными бумажными цветами по-прежнему стояла на самодельном, похожем на верстак, столе. На Сухаревке Нюрочка прикупила еще несколько ярчких бумажных цветов да старое ватное одеяло – это был ее первый расход с первой ученической получки.
Сначала ей все казалось, что живет она здесь временно, что вот придет день, и она снова уедет отсюда «в мир». Но шли дни, месяцы, потом и годы, а Нюрочка все ходила на Трехгорку (она уже получила разряд), с работы – в столовку, из столовки – домой, и узкая темноватая комната стала казаться ей уютной, своей, обжитой.
От старой жилички, кроме мебели, остались здесь и два потрепанных песенника и неизвестно как попавший сюда старый-престарый «Чтец-декламатор». Переделав все свои несложные хозяйственные дела, Нюрочка садилась к шаткому столу, открывала толстенькую книжку «Декламатора» и принималась читать про себя, трудно шевеля губами. Больше всего нравились ей два стихотворения – она считала их песнями и иногда напевала их на свой, ей одной знакомый мотив. Одни стихи были трудные, грустные и действительно оказались потом песней. Она не понимала всех слов, но мрачная торжественность их действовала на нее так, словно она побывала в церкви.
Как дело измены, как совесть тирана, — читала она, – Осенняя ночка темна. Темней этой ночи встает из тумана Видением мрачным тюрьма…Но что бы она ни читала в этот вечер, перед сном она отыскивала свой самый любимый стих и прочитывала его до конца. Он не будил в ней никаких воспоминаний, просто он был как-то сродни ее спокойной бесхитростной натуре:
Колокольчики мои, Цветики степные! Что глядите на меня, Темно-голубые?…Нет, Нюрочка не грустила, она, кажется, вообще не умела грустить, просто от чтения стихов ей становилось как-то торжественно и еще более спокойно.
Работала она сноровисто – сперва на одном станке, потом на двух, а перед самой войной перешла на три. Ходила и ходила целую смену по цеху молчаливая, спокойная и будто бы всем довольная. Товарки относились к ней хорошо, но как-то не заинтересованно. Она сама не вникала в их жизнь, в их посторонние, нефабричные заботы. Мужчин на фабрике почти что и не было – старик наладчик, кое-кто из инженеров, к которым она не имела никакого отношения. Почти все ее сверстницы где-то там, в зафабричной жизни, знакомились, выходили замуж, у них рождались дети, были свои горести и радости, а Нюрочка все была одна, ни с кем не сближалась, на танцы не ходила: не умела танцевать, а учиться стеснялась. Да и Москвы она почти не знала – только дорогу к дому и на Сухаревку, куда ездила обновлять запылившиеся бумажные цветы. Однажды она со всеми вместе пошла в Камерный театр на «Жирофле-Жирофля». Вокруг смеялись, а она сидела равнодушная – ей было скучно. Наутро в цехе оживленно обсуждали спектакль, спросили и ее мнение. Она ответила серьезно:
– Не понравился мне театр ваш. Не пойду больше. Бесподлинное там все. Неинтересно.
Она сказала так веско, что с ней не стали спорить, и больше ее в театр никто с собой не звал.
Товарки приходили иногда в цех веселые, радостные, иногда заплаканные, раздраженные – ссорились и мирились с женихами, мужьями, волновались за детишек, а Нюрочка все ходила и ходила по цеху, правила и скрепляла нити, спокойно выслушивала замечания мастера, шутки товарок, прозвавших ее Нюрочка-пава.
Незаметно для себя и для других стала она вековухой – старой девушкой, хотя все еще звали ее Нюрочкой.
Началась война. Как-то задерганная бесконечными родами и волнениями за мужа-фронтовика ее сменщица Ольга Турукова зло бросила ей в лицо:
– И для кого ты себя, девка, бережешь, не пойму? Фон-барона ждешь? Истая пава!
Нюрочка только пожала в ответ плечами.
«Берегу? – подумала она. – А ни для кого не берегу. Может, если бы не война… Да нет, так как-то у меня получается – ни мне никто не по душе, ни я никому».
Мысль эта скользнула, не оставив горечи. Жизнью своей она, в общем, была довольна.
Только вот в последнее время стали болеть и пухнуть ноги. По вечерам она с трудом снимала ботинки, врезавшиеся в икры, и долго разминала их, чтобы утишить боль от бесконечного хождения по цеху. И работать ей стало труднее. Вот тогда и пришла к ней впервые мысль, что она уже пожилая женщина и что больше ее никто не зовет Нюрочкой, а называют Нюрой, а девчонки помоложе и тетей Нюшей.
Работать приходилось все напряженнее, иногда не выходя из цеха по две смены, – шла война, миллионы солдат надо было одеть, соткать миллионы плащ-палаток, снабдить бельем госпитали, детские дома. Бесконечно, безостановочно вились и вились нити, наматывались на бобины, шагали и шагали по цеху товарки, и Нюра не стала за ними поспевать.
Начальник цеха – кажется, единственный оставшийся на фабрике мужчина – велел ей сходить в поликлинику, выяснить, что у нее с ногами, почему двигается так медленно, тяжело, прихрамывает.
И тут впервые Нюра растерялась: врач велел ей немедленно бросить работу в цеху, найти какую-нибудь сидячую, спокойную службу, да и дотягивать до пенсии, у нее тромбофлебит, и, если она будет много ходить, даже стоять, может и совсем обезножеть, а то и оторвется какой тромб, попадет в сердце, тут ей и конец.
Все это он написал на большом листе, заклеил в конверт и велел идти к председателю фабкома.
Седая, поджарая председатель фабкома прочла письмо врача, подумала немного.
– Ну, что же с вами делать, Королькова? В контору куда-нибудь?
– Да как это – в контору? Я писать-то толком не умею. Три зимы только в школу бегала.
Предфабкома озадаченно глянула на нее.
– Как же это мы вас упустили, Королькова? – удивилась она. – И не знали, что вы малограмотная.
– Так незаметная я, – серьезно ответила Нюра.
– Н-н-да… Ну, вот что, попробую устроить вас в военизированную охрану. Проще говоря – вахтером. Мужчин всех подобрали, один Сергей Николаевич, ваш бывший наладчик – по старости да по заслугам в гражданскую его начальником охраны сделали. Пройдете инструктаж, научитесь с винтовкой обращаться и сидите себе в проходной, проверяйте пропуска. Чем недовольны?
– Да так как-то, – ответила Нюра. – Ничего. Я и всю-то жизнь на убоче была, вот она так и прошла, жизнь…
– Как это прошла?! – возмутилась предфабкома. – Мне шестьдесят третий, а я все не считаю, что жизнь моя уже прошла… А что это такое – на убоче?
– Стороной, что ли. Это у нас так говорят.
Ну, ладно, вот вам записка, идите оформляйтесь в отделе кадров. Две недели на учебу вам. Да, и вот еще что: есть у вас дома, конечно, лишнее одеяло, подушка? Принесите. Там за проходной комнатка маленькая есть для отдыха. Сергей Николаевич никогда там не остается, домой ходит в ночь-полночь, жена у него больная. А вы… вам ходить много врач не велит, переезжайте туда. Не насовсем, но, если придется или устанете очень, можете там и ночевать. Да и когда сменять вас будет Сергей Николаевич, отдохнете там. Ну, все. Можете идти…
Но, прежде чем идти оформляться, Нюра зашла в цех. Не то чтобы попрощаться с товарками – все были заняты работой. Просто ей захотелось в последний раз подойти к своим станкам, послушать гул цеха, посмотреть на товарок, словно бы запомнить навсегда их лица.
Вот сердитая ее сменщица Ольга Турукова. Только на той неделе она билась, билась в слезах прямо на полу в цехе – получила похоронную на мужа. А сегодня работает так же точно и ровно, как всегда, только вот почернела лицом, стала будто лет на двадцать старше. А работает. Ничего не поделаешь – дети.
А вот Танечка – веселая, напористая была, болтушка. Месяц замужем поцарствовала. Получил муж повестку, уже с полгода, как ушел, – и ни одного письма, ни весточки. Молчаливая стала и какая-то пугливая, все оглядывается, будто ждет – вот сейчас кто-нибудь скажет ей про Петра что-то самое страшное, горькое.
Вот Ирина Корзунова – красивая, как всегда аккуратно причесанная, подобранная, в чистеньком халате. И сынишка ее четырнадцати лет тут же в цехе в учениках у наладчика – такой всегда аккуратный, вежливый. Семилетку только окончил – и сейчас же на фабрику, матери помогать, двух младшеньких поднимать. Об отце их третий год ничего не было известно, но Ирина уверенно говорит, что он, наверное, в партизанах, а оттуда, из вражеского тыла, – какие же письма?
Кто-то во время перекура – теперь и бабы-то почти все курить начали – сказал ей полушутя:
– Красивая ты, Ирка, другая бы на твоем месте…
– Так то другая, – холодно перебила Ирина. – А я… кончится война, не придет – все равно ждать буду!
А вот стайка девушек возле мастера, слушают ее объяснения. Ну, что их ждет? Что им за радость? Ни посмеяться не с кем, ни пообниматься – все их сверстники воюют…
Не замеченная никем, долго стояла Нюра у входа в цех, разглядывая товарок. Вздохнула, тихонько произнесла:
– Ох, и жалко мне вас, бабоньки, ох, жалко… Повернулась и пошла в отдел кадров…
Из дома принесла Нюра старое, купленное еще на Сухаревке на первую свою получку одеяло, подушку, растрепанный «Чтец-декламатор» да старую железнодорожную шинель, которую она так и не решилась выбросить – уж больно вещь ноская. Выдали ей новую, жесткую, коробом торчащую на ее фигуре. Она вешала ее аккуратно на гвоздь, а прикрывалась старой, хоть та почти уж и не грела.
Винтовка, заряженная одним-единственным патроном, всегда стояла в углу наготове. Как и полагалось по инструкции, пропуская машины с грузом, она прежде всего вешала ее на плечо, закидывала за спину, и хоть было неудобно с нею открывать тяжелые ворота, заглядывать в кузов и кабину, проверять пропуска, она никогда не отступала от этого правила.
Многих, приходящих на фабрику, она знала в лицо, многие по-прежнему здоровались с нею: «Здравствуй, Нюрочка», – но она у всех требовала пропуск, прочитывала фамилию, сравнивала взглядом карточку и лицо подавшего и только тогда говорила серьезно и как всегда спокойно:
– Можете идти.
И только один раз она взбунтовалась: однажды вышел приказ обыскивать выходящих с фабрики женщин – не унесли ли они с собою лоскуток мануфактуры, моток ниток. Она сказала начальнику веско, как только она одна умела:
– Такого стыда на себя не возьму. Нет у нас воров.
Хотите, сами становитесь в ворота баб щупать, а мне не с руки.
И ничего с ней не смогли сделать ни начальник ее, ни отдел кадров, ни даже директор. Так сам собой и заглох этот приказ – работницы даже о нем и не узнали.
Раньше, работая в цехе, Нюра как-то не обращала особого внимания на лица своих товарок, вернее, не на лица, а на то, что можно было прочесть на этих лицах; ну, работают женщины и работают, одни новенькие, другие с нею рядом уже много лет, одна много смеется, другая часто хнычет, на жизнь жалуется, одна покрасивей, другая похуже, блондинка, брюнетка, а у той волосы уже седеть начали. И все.
Но теперь, сидя у окошечка проходной, Нюра как бы по-новому стала узнавать о женщинах многое.
Вот этой уж, видно, некого ждать – только усталость и горе стягивают сухую кожу лица. А эта ждет. Ждет и надеется – вот придет, вот кончится эта проклятая война и снова начнется настоящая жизнь, снова, может быть, придет счастье, покой в семью, довольство в дом.
И странно – если раньше Нюра относилась ко всем ровно и немного равнодушно, сейчас при виде этих озабоченных, похудевших лиц у нее начинало щемить сердце, как-то по-особенному щемить – и жалко было их всех, и странное беспокойство охватывало ее.
Все ближе был конец войны – вот уже наши под Берлином! А Нюре становилось все тоскливее. И страшнее – а что, если не дождутся эти женщины своих мужчин, вдруг убьет их под самый, самый конец, последним выстрелом убьет, последним взрывом?!
Как-то светлой апрельской ночью Нюра, не зажигая огня, стояла у окошка своей проходной, смотрела на светящиеся от невидимого еще солнца корпуса фабрики и томилась, сама не понимая почему. И вдруг облокотилась на высокую стойку, прижалась щекой к жесткому ворсу рукава и заплакала. Она плакала тихо, словно бы спокойно, как все делала в жизни, но слезы не только не приносили ей облегчения, – а наоборот, ей становилось все тоскливее и тоскливее.
Так и застал ее старый вахтер, придя утром сменить. Он удивился – ровная сдержанность Нюры была ему известна.
– Ты что, Королькова? – спросил. – Аль похоронную получила?
– Нет, – всхлипнула Нюра, даже не поглядев на него.
– Горше этого горя нет ничего. О другом и плакать незачем!
А Нюра все продолжала плакать. Даже самой себе не могла бы она объяснить словами, о чем она так долго и безутешно плачет. Но знала – плачет она о том, что некого ей ждать с войны, некого ждать, и никто не придет к ней, и не будет, никогда не будет она вспоминать о ком-то всю оставшуюся жизнь.
СТАРЫЙ СОН
Сегодня ей снова приснился тот же сон: обочина ледовой дороги, заполненные водой колеи, вереница вперевалку ползущих машин, сполохи разрывов на темном небе. И дед Василий. Он сидел, прислонясь к сугробу, и молчал. Она знала – он сидел так давно, с тех пор, как тетя Маруся помогла ему вылезти из грузовика, усадила в снег и бросилась обратно к машине. Потом взяла на руки ее, Олю, оставила рядом с дедом. Машина уехала, а они остались. Она это просто знала, помнила. А дальше был только сон: шли и шли мимо них машины, а она не могла закричать, могла плакать, не могла двинуться с места – валенки примерзли ко льду. Дед молчал, смотрел на клубящееся небо.
Задыхаясь, она просыпалась и больше уже не могла уснуть до утра.
Блокада почти не оставила следа в ее памяти. Только одну ночь она помнила ясно – ночь, когда мать перестала откликаться на ее зов. Она видела мать, но как-то без лица – только длинное тело на кровати в их ледяной комнате и руки, жесткие, окостеневшие. Она не могла вспомнить, как очутилась в теплой дворницкой. Кажется, дед Василий снес ее вниз, сказал тете Марусе:
– Она поедет с нами.
И вот она уже стоит рядом с молчащим дедом, а машины идут все мимо, мимо. Потом кто-то подхватил ее, она рвалась, плакала, не хотела уходить. Но ее затолкали в машину, а дед Василий остался сидеть на снегу…
Что могла она тогда сделать – шестилетняя, слабая, едва живая? Ничего. Но всю жизнь она помнила о том, что он там остался. Конечно, она не думала об этом постоянно. Но приходила такая минута, и сон возвращался – месиво изо льда, снега, воды, машины, машины и дед Василий на снегу…
Никогда никому она не рассказывала об этом – ведь, может быть, все было не так, может быть, это просто страшный сон, кошмар. Но нет. Она знала. Она помнила – он там остался. Еще живой…
Вот и сегодня она не смогла уснуть до утра.
А день начинался, как всегда, – надо было встать, приготовить завтрак, разбудить сына, чтобы не опоздал в школу, успеть принять душ, пока не проснется муж, не займет ванную и не начнет долго и тщательно мыться, бриться, неизменно ворча при этом, что лезвия никуда не годятся и что она могла бы, наконец, позаботиться и запастись настоящими бритвами, на худой конец если не «Жиллеттом», так хотя бы «Польсильвером», и что вот же поляки – тоже соцстрана, а научились делать замечательные лезвия, не то что мы…
Она привыкла к повседневному утреннему ритуалу, к словам мужа, к спешке и уже не обращала ни на что внимания, а только торопилась, торопилась.
Потом они выходили вместе с сыном, и оба радовались, что недлинную пятнадцатиминутную дорогу до института, где она работала, они проделывали только вдвоем. За эти утренние пятнадцать минут они успевали наговориться обо всем, о чем не переговорили вечером, когда собирались все вместе, потому что все их внимание занимал отец – его рассказы о редакционных делах, высказывания о виденных фильмах или спектаклях, его недовольство очередным начальником – так бывало постоянно, если вечер проводил дома. Ну, а когда его не было, ей надо было готовиться к завтрашней лекции или семинару, сыну готовить уроки, либо просто посидеть с книгой в тишине, помолчать.
Раньше, когда сын был еще мал, к ним часто приходи-гости, приходили иногда неожиданно, – как говорится – на огонек. И не было неудобно, что нечего поставить на стол, кроме «пустого» чая или кофе с ее любимым сухим крекером. Потом как-то незаметно приходы гостей прекратились в задуманные и спланированные мужем «приемы». Она не любила этих приемов, тяготилась ими, но как-то стеснялась говорить об этом мужу и старалась быть приветливой, оживленной, – провожая гостей, неизменно повторяла:
– Спасибо, что пришли. Было так приятно. Обязательно приходите еще.
А подросший сын с особым, немного нарочитым шиком подавал дамам пальто и иронически поглядывал на отца, когда он заходил на кухню, где они с матерью мыли посуду и говорил, покровительственно целуя ее в голову:
– Ну, спасибо тебе, ты здорово все устроила. Правда, ведь было очень мило?
А ей больше всего хотелось, чтобы он поскорее лег и уснул и она смогла бы, наконец, полежать в тишине и больше не слышать его голоса, его острот, его бурчания и недовольства, по существу, неизвестно чем. Но это свое бурчание он умел облекать в красивые, пышные слова, от которых, к сожалению, так и веяло вторичностью. Все или почти все, что он говорил, – а он, как сам шутил, почти всегда один «занимал площадку» на этих приемах, – звучало для нее просто знакомыми звукосочетаниями. Ее безмерно удивляло, что многие считали его интересным, прогрессивным человеком, не замечали, что, в общем-то, нет у него никаких принципов, нет и смелости взглядов, что это только способ сделать беседу занимательной.
Никто никогда на этих приемах не интересовался ее делами, никто из гостей не знал, что она уже защитила диссертацию и с этого года утверждена доцентом, – это была ее «скучная» жизнь, ее, по определению мужа, «синечулочные» интересы, которыми она делилась только с сыном.
Когда-то на третьем курсе биофака, где оба они учились в одной группе, она без памяти влюбилась в него. До того, как она стала думать о нем постоянно, училась она, в общем, средне, сдавала все экзамены и зачеты не потому, что ей было интересно, а просто потому, что полагалось. Он же, казалось ей, занимался с увлечение легко, словно бы не по обязанности, а для собственного удовольствия. Ей захотелось во что бы то ни стало быть похожей на него. Во всем. И в учебе.
И незаметно она заинтересовалась той наукой, которой посвятила себя почти случайно, по совету старших. Начав бессознательно соревноваться с ним, она сперва догнала его, а потом и обогнала – профессора уже доверяли ей самостоятельную постановку опытов, сложную микротехнику и еще до защиты диплома поручили вести практикум на втором курсе.
А он все так же легко и невнимательно сдавал экзамены и твердо решил остаться в университете в аспирантуре. Оба они защитили диплом. Она получила распределение |ассистентом на кафедру микробиологии, он – направление в аспирантуру. Все так, как он хотел. Но для поступления надо было представить вступительный реферат. И тут-то и постигла его первая неудача: реферат оказался не научным трудом, пусть хоть и маленьким, а просто популярной статьей. Ознакомившись с рефератом, профессор, у которого он предполагал проходить аспирантуру, довольно резко сказал ему, что хоть популяризация науки тоже вполне благородное дело, но прежде эту науку надо превратить в дело своей жизни. Его же работа – образец «не очень научной журналистики». Он постарается добиться для Павла только одного – получения свободного диплома: пусть попробует себя именно в области популяризации научных идей, если, конечно, станет достаточно образованным человеком, чтобы эти самые идеи воспринимать правильно.
К тому времени Павел сумел уже свой реферат, несколько подправленный и украшенный, пристроить в журнал «Наука и жизнь». Возможно, поэтому Ольга гораздо острее пережила его неудачу, чем он сам. На ее вопрос, очень ли он грустит, он ответил так весело и легко, что ей показалось, будто он просто играет, стараясь скрыть от всех свое огорчение.
– А я и не собираюсь ни о чем жалеть! Я считаю – мне по-настоящему повезло. Подумай, еще три года корпеть, сдавать экзамены, писать диссертацию! Да ну его к шуту! Я лучше подамся в «не очень научную журналистику». Есть ведь целая область: научно-популярная литература. Мне в журнале сказали, что у меня легкое перо. Вот увидишь, я еще буду книги писать!
Ольга ему ничего не ответила. А ночью ей снова приснился старый сон: сидит на обочине ледовой дороги дед Василий. Еще живой…
Проснувшись в темноте, она внезапно поняла, что в ее влюбленность в Павла вторглось что-то новое, что-то более весомое и, пожалуй, более трудное, чем ее первая восторженность. А может быть, это было первым предвестником зрелости, первым ощущением превосходства женщины над легкомыслием мужчины.
Во всяком случае, к утру она приняла решение, на которое пошла бы не всякая женщина: рано утром она вызвала его на свидание у метро и спокойно предложила ему на ней жениться. Странный это был разговор. И место, выбранное ею, не совсем подходило для такого разговора – люди спешили на работу, торопливо обходили загородившую двери пару; некоторые усмехались, видя озабоченное лицо молодого человека и упрямую складку меж нахмуренных бровей девушки – никому не могло прийти в голову, что вот сейчас она сделала ему формальное предложение!
Из общежития она перебралась в дом его родных и вначале была как будто совершенно счастлива – впервые в ее детдомовскую жизнь реально вошло понятие «домашний очаг». Но очень скоро она почувствовала ту несвободу, какую всегда ощущает женщина, вошедшая в семью мужа – единственного сына. И, поддавшись ее мягким, но настойчивым уговорам, они приобрели двухкомнатную кооперативную квартиру на гонорар действительно написанной Павлом небольшой популярной книги и стали жить самостоятельно.
Пока родители Павла не перешли на пенсию, материальных нехваток они не ощущали – почти ежедневно обедали у стариков, да Павел и не стеснялся по старой памяти перехватывать у отца, а чаще у матери сотню-другую «без отдачи»; писал он, в общем, не так уж много, да и печатали его нечасто. Но вот родился сын, старики перестали работать, и стало ясно, что жить на одну Ольгину зарплату трудно, а нерегулярные заработки Павла не могли заткнуть всех дыр разросшегося хозяйства. Тогда Ольга твердо заявила ему, что надо поступать на работу. На обыкновенную службу, чтобы иметь хоть и небольшой, но постоянный прожиточный минимум. Сперва Павла разговоры о службе просто приводили в бешенство.
– Ты не веришь в меня! – кричал он. – Не веришь! Ты считаешь меня последней бездарностью. Что ж, спасибо тебе! Наконец-то я узнал, как ты ко мне относишься!
В конце концов, впервые они по-настоящему поссорились.
Примирила их болезнь Володи – он подхватил в яслях корь, и Ольга засела дома по справке, – иными словами, перестала получать зарплату.
Вот тогда-то Павел сказал как-то утром:
– А знаешь, Оленька, ты права. Так жить больше нельзя. Надо мне идти на работу. Попытаюсь куда-нибудь устроиться в редакцию.
Ему и на этот раз повезло – в редакции газеты, где он чаще всего печатался, освободилось место ушедшего на пенсию заведующего отделом науки.
Павел взялся за дело рьяно. И первое, что он предпринял, – заказал статью тому самому профессору, который закрыл ему доступ в аспирантуру. Может быть, где-то в подсознании все эти годы таилась обида на старика. А может быть, ему просто хотелось блеснуть в редакции знакомством с «именем». Во всяком случае, он сам отправился профессору и уговорил выступить в газете по волновавшей его тогда проблеме. Статья ученого вызвала много споров. Через некоторое время Павел подвел итог дискуссии. Обзор понравился всем, даже скептически настроенному профессору. Расширив и, как он сам говорил, разбавив свою статью общими, необязательными рассуждениями, Павел опубликовал ее в толстом литературном журнале.
Он принес несколько оттисков домой и весь вечер сочинял дарственные надписи. Когда Ольга прочитала то, что он написал на экземпляре, предназначенном профессору, ее словно бы что-то царапнуло внутри.
– Как ты можешь писать ему – «дружески»? – удивилась она.
– Ничего ты не понимаешь, Оленька! – отмахнулся Павел. – Так надо! Съест он это «дружески», и еще с удовольствием!
Помолчав немного, Ольга сказала сухо:
– За что ты ему мстишь? Ведь ты доволен тем, как сложилась твоя жизнь. А в этом и его заслуга, не правда ли?
– Что за чепуху ты говоришь? «Мстишь»! Да я ему благодарен!
Ольга промолчала. И опять мимолетно, почти неощутимо, она пожалела мужа. Как тогда, еще до женитьбы, в дни его неудач с аспирантурой.
«Как ему объяснить? – с грустью подумала она. – Ведь в том, что он делает, как живет, есть что-то неправильное, неглавное. Нет, я не сумею. Чувствую вот, а словами… Да он и не поймет, не захочет понять…»
На взлете успеха Павел продержался недолго. Не прошло и года, как ему скучны стали и те вопросы, которыми он должен был заниматься в газете, и те серьезные люди – инженеры, ученые, исследователи, с которыми он вынужден был встречаться, а главное, делать вид, что он так же, как они, увлечен их проблемами, удачами и неудачами. Надоело помогать им формулировать свои мысли – и это тоже приходилось делать, иногда из-за крайней занятости людей, иногда просто потому, что они не умели кратко и популярно писать. Все меньше времени, да честно говоря, все меньше желания было у него писать самому; все проблемы, которыми он вынужден был заниматься в своем отделе, казались ему уже решенными, дискуссии – скучными.
И тогда дома, в их вечерних разговорах, – вернее, в его монологах, так как Ольга, занятая своими мыслями и заботами, уже привыкла без боя уступать ему «площадку», появилась новая нота. Он стал жаловаться на то, что, по существу, он не может говорить вслух о том, что его по-настоящему, кровно интересует, и вынужден приноравливаться к уровню читателей газеты. Но он продолжал работать, исправно ходить в контору, как он иронически окрестил свою газету.
– Сперва Ольгу это удивляло, потом начало немного раздражать – ей чудился какой-то привкус рисовки во всех его жалобах и сетованиях.
Сын подрастал и стал уже прислушиваться к ежевечерним высказываниям отца.
Однажды поздним вечером Ольга пришла с заседания биологического общества, где делала трудный и очень важный для ее будущей работы доклад. Впервые за долгое время ей захотелось по-дружески поделиться с мужем своими мыслями и своими успехами, наконец. Но Павел встретил ее брюзжанием:
– Где ты пропадала? Мне нужно рассказать тебе об очередном фортеле нашего главного. Ты знаешь, он снова зарубил мой отчет…
Ольге сразу расхотелось что-нибудь ему рассказывать. Чтобы не ответить резкостью, она обратилась к сыну:
– Ты почему до сих пор не спишь? – И осеклась, увидев в обращенных к ней мальчишеских глазах нескрываемое сочувствие. – Иди, малыш, – сказала она как можно ласковее. – Поздно. И я чертовски устала.
– Ну, как? – негромко спросил Володя.
– Все хорошо. Очень хорошо, маленький. Иди…
– Можно, я с вами чаю попью?
Она кивнула, молча стала собирать на стол к чаю и вдруг, держа на весу чашку, сказала недобро:
– Ты все жалуешься, Павел, что кто-то не дает тебе высказаться. Что же такое ты хочешь сказать и… не можешь?
Он открыл, было, рот, потом запнулся и неуверенно ответил:
– Ну, хотя бы высказать собственное мнение…
– А есть оно у тебя? По всем вопросам – собственное?
Павел подозрительно глянул на нее, но она отвернулась, делая вид, что занята сервировкой, – ей не хотелось сейчас встречаться с ним взглядом.
– Вот что, – после долгого молчания веско произнес Павел. – Я уже решил – с заведования ухожу, перехожу разъездным. Поезжу, мир повидаю. Да и денег больше – фикс почти тот же, что и зарплата заведующего, а за каждую статью – полноценный гонорар. Завтра подам заявление. Думаю, выйдет…
Вышло. Теперь Павел стал появляться дома редко – много ездил, много писал. Но писал уже обо всем – и о том, что в таком-то селе выстроили замечательный универмаг, что в Доме культуры Стасовского района Народный театр поставил интересный спектакль, и о том, что в Уральском заповеднике великолепно прижились длинношерстные северокавказские выдры. Словом, он стал настоящим разъездным корреспондентом.
Ольга видела – перо его стало действительно необыкновенно легким: ему ничего не стоило завернуть эдакий изящный пассаж, заимствованный у какого-нибудь большого ученого, писателя или просто остряка-сатирика. Но при этом он не часто сообщал читателям, что это не его собственные слова, не часто брал их в кавычки и уж никогда не ссылался на источник!
А сын взрослел. Ольга с беспокойством смотрела на его худое, по-мальчишески строгое лицо и все чаще внутренне сжималась, замечая ту внимательную настороженность, с которой сын прислушивался к затягивавшимся иногда до поздней ночи монологам отца. А тот словно бы и вообще не замечал сына. Иногда он мимоходом спрашивал:
– Ну, как дела в школе?
И, не дослушав ответа, продолжал прерванный за минуту до этого очередной рассказ о последней поездке.
Сын не обижался. Он просто перестал ему отвечать. Только отрывал на секунду взгляд от книги или новой модели приемника, которую в это время мастерил, и снова опускал глаза, будто не слышал вопроса.
С нею, с Ольгой, сын всегда был откровенен, как и она была открытой и искренней с ним. Но никогда, даже в самые откровенные минуты, они не обсуждали ни дел, ни поведения отца. И это неуговоренное заранее молчание как бы создавало два замкнутых, один в другом, круга: широкий официальный «круг семьи» и второй, внутренний, четко отделенный от большего, внешнего, – круг дружбы и взаимной выручки матери и сына.
Шло время, и Павел, несмотря на то, что много ездил, всегда куда-то торопился, стал заметно полнеть. Ольга как-то отметила про себя, что веселые ямочки на его щеках, которые когда-то ей так нравились, превратились просто в глубокие складки, а широкие плечи стали покатыми, потеряли юношескую угловатость.
«Что ж, – подумала она, – и я не молодею. Сорок два это ведь уже, в сущности, очень много. Но, кажется, и сделано немало… А главное – сын. Сын вырос!»
Как-то Павел пришел из редакции веселый, возбужденный, каким она давно уже его не видела. И принес ей цветы – маленький букетик первых белых подснежников.
«Все-таки он ничего, – улыбнулась Ольга. – Вот вспомнил же, что это мои любимые…»
Давно-давно, – ей казалось, в какой-то прошлой, доисторической жизни, в те первые годы, он всегда приносил ей подснежники и вообще почти никогда не приходил домой без цветов. Но как давно это было!
Может быть, и он вспомнил то время?
Но нет, это был уже не тот Павел: он возбужденно заговорил о том, что ему предложили быть консультантом по одной биологической научно-популярной картине.
– Вот вспомнили же, что я когда-то писал как раз по этой теме! – заговорил он громко, отставив недопитый стакан с чаем. – Значит, я на что-то еще гожусь, не только на то, чтобы вечно мотаться и писать обо всей этой газетной шелухе!
– Но позволь, ведь тебе нравилась твоя работа? – удивилась Ольга.
– Надоело! – оборвал он. – Пойми ты, не собираюсь я до ста лет метаться по стране и заниматься мелкими делишками проворовавшихся бюрократов! Скучно мне! А это – настоящее дело! К тому же я собираюсь приглядеться, как там все это делается, и сам начну писать научно-популярные сценарии. Сам!
– Но ты ведь не умеешь, папа, – негромко сказал Володя.
– «Не умеешь»! Да чепуха это! Тут и уметь ничего не нужно, любая тема их плана – я просматривал его – ничего архинаучного, сложного не представляет. Пойми, это ведь популярное кино. Популярное. А уж в этой области я кое-что понимаю!
– Но ничего не понимаешь в кинематографе, – уверенно сказал Володя.
– Да что тут понимать? Вот он, сценарий, по которому я буду консультировать. Смотри, надо только сообразить, где писать крупный план, где средний, – и все!
– Так зачем же существует целый вуз – Всесоюзный институт кинематографии, где люди учатся годы, как писать сценарии? Не понимаю!
– О, есть еще многое, друг Горацио, что неизвестно твоей учености! – засмеялся Павел.
– Шекспир. Гамлет, – откровенно иронически усмехнулся Володя. – И опять – без кавычек!
Ольга испуганно посмотрела на сына, потом перевела взгляд на Павла. Но тот будто ничего и не услышал.
– Подлей горяченького, – добродушно обратился он к Ольге. – И покрепче.
Ольга вся внутренне похолодела – впервые она четко, словами сформулировала для себя то, что чувствовала уже давно, но боялась признаться даже самой себе.
«Господи, да они совершенно не уважают друг друга! – подумала она. – И, пожалуй, и не любят… Во всяком случае, Володя… Нельзя так иронически, так беспощадно неуважительно относиться к человеку и любить его! Я что-то должна была сделать раньше, пока он был еще мал…»
Что такое должна была она сделать раньше? Что она упустила?
Все вдруг взметнулось в ней, затрепетало от сознания собственной вины перед сыном. Это она, она во всем виновата – надо было раньше что-то придумать.
«Просто надо было уйти от него. Взять сына и уйти! Пусть бы жил один со всеми своими брюзжаниями, недовольством неизвестно чем, метаниями… Это ведь преступление, если сын презирает отца! Но как я могу внушить Володе уважение? Ведь он уже почти взрослый, он все понимает и видит сам. Надо было, пока не поздно, бежать, бежать…»
Автоматически она налила Павлу чаю, пододвинула сахар, хлеб. Никто, даже сын, не заметил, какая тревога, какое горе сжимает ей горло, – она только старалась молчать, не отвечала на Володины реплики, старалась поскорее закончить томительную процедуру чаепития и уйти к себе, спрятаться, запереться хоть на несколько минут где-нибудь в кухне, в ванной, наконец. Она сидела, выпрямившись, с напряженной спиной, и казалось, что она никогда уже не сможет свободно вздохнуть, дать отдых затвердевшим мышцам.
И вдруг почувствовала, как легкая, худая Володина рука коснулась ее плеча.
– Ты устала, мама. Иди спать. Я сам помою посуду. Ей захотелось прижаться щекою к этой руке и, может быть, просто поплакать. И, наконец, в первый раз в жизни откровенно поговорить с сыном об отце. Но она сдержалась.
– Ничего, Володенька. Для разнообразия это сегодня сделает отец. Хорошо, Павел? А мы с Володей пойдем немного пройдемся. Хочешь?
Они долго гуляли по плохо освещенному переулку. Володя что-то рассказывал, но она слушала невнимательно. Она думала о том, что вот где-то вовне, снаружи, их семья считается вполне благополучной, даже счастливой, а по существу – это давно уже не семья. И что, пожалуй, и сейчас не поздно уйти, продолжать жизнь только вдвоем с сыном, а Павла предоставить его нескладной судьбе. Но как она может принять такое решение одна? Ведь это, прежде всего, касается его, Володи. А как заговорить с ним? Как объяснить ему причины такого шага? Сказать, что она разлюбила Павла? Но ведь, может быть, это вовсе и не так? Продолжает же она остро жалеть его, жалеть, как своего второго, не очень удавшегося сына. Нет, не сына, чепуха, наверно, это. Просто ей по-человечески жалко его. И перед ним она чувствует себя немного виноватой – ведь она не была с ним так же решительна, как тогда, когда предложила ему на себе жениться.
Тогда она подсознательно чувствовала, что берет на себя ответственность за него. Почему же потом, позже, это чувство ответственности она целиком, без остатка, перенесла на сына?
Ей снова стало зябко, неуютно. Захотелось ни о чем больше не думать, не принимать никаких решений, просто отдохнуть. Просто уснуть.
– Пойдем, Володенька, я озябла, – сказала она. – Да и поздно уже. Завтра у меня с девяти пятнадцати лекция. Четыре часа. А мне еще надо подготовиться.
Через месяц Павел ушел из редакции.
И снова ему повезло – один за другим он написал два сценария по заказу каких-то ведомств – Ольга так и не поняла толком, каких. Это были одночастевки: одна – борьба с полевыми вредителями, другая, уж вовсе неожиданная, – о подмосковной усадьбе Александра Блока. Правда, текст, произносимый диктором, писал кто-то другой, но все равно он считался автором сценария и был чрезвычайно этим горд.
Опять он устроил домашний прием, но на нем были совсем не знакомые Ольге люди – какие-то режиссеры, операторы, редакторы. И Павел «занимал площадку», хотя в новой компании это было труднее.
От шума, ненужных, не понятных ей споров об искусстве – она поняла, никто из гостей не имел прямого отношения именно к искусству, – у Ольги разболелась голова; она так устала, что, провожая гостей, забыла произнести свою обычную фразу: «Спасибо, что пришли. Было очень приятно. Обязательно приходите к нам еще…»
А потом снова настал период недовольства всем и всеми, нудного бурчания. Но в разглагольствованиях Павла появилось и новое: все чаще он стал говорить о том, что кто-то ему завидует, кто-то не дает по-настоящему работать, а руководители студии ни черта не понимают в своем деле, – а главное, в искусстве.
«Как я устала, – думала Ольга, слушая его ворчанье. – Неужели так до конца дней он не найдет дела, которое было бы ему по душе? А может быть, беда вовсе не в том? Просто он такой человек… без сердцевины. Какой печальный пример для Володи! Впрочем, Володя уже не нуждается в примерах. Вырос наш сын. И совсем не из-за дурного влияния на Володю я все чаще подумываю о разрыве. Я устала от него. От него и… от чувства вины перед ним…»
Вечером Павел снова завел старый разговор о непонимании, о том, что нельзя сказать то, что ты хочешь именно так, как ты хочешь, что большинство редакторов – взяточники и дают писать только своим дружкам, а настоящие люди ходят без дела, и прочее и прочее.
Володя смотрел телевизор, она пыталась читать. Минуты две в комнате было тихо.
Но вот Павел заговорил решительно:
– Нет, видно, надо искать что-то другое. А так – закиснешь на этой проклятой студии. Попробую написать художественный сценарий. Найду режиссера и вместе с ним… для начала… Надо только войти в обойму, как говорится.
Ольга сказала напряженно и сухо:
– Кажется, Роден ответил, когда его спросили, как он создает свои скульптуры: «Это очень просто, надо только отколоть все лишнее».
Павел отозвался тотчас же:
– Просто! Ишь ты, просто! Надо быть гением, чтобы знать, что лишнее. Гением! Иначе можно просчитаться!
Телевизор тихонько помурлыкивал. Володя целиком был занят тем, что мелькало на экране. Но, не оборачиваясь, он вдруг негромко произнес:
– Неправда! Это действительно просто. Надо только решить, что главное, и тогда… нет опасности просчитаться, как ты говоришь.
Павел удивленно посмотрел на чуть согнутую, узкую спину Володи.
– Умник! – резко сказал он. – А ты-то уже решил, что для тебя в жизни главное?
– Кажется, да, – спокойно ответил Володя.
– Что же это, если не секрет?
Володя поднялся, выключил телевизор, прошел к двери, чтобы зажечь верхний свет.
– Что же ты молчишь, доморощенный Сократ? – иронически бросил Павел.
Все так же стоя у двери, Володя сдержанно ответил:
– Я думаю, это и должно быть секретом, пока человек не сделает в жизни главного…
«Нет, – с гордостью подумала Ольга, глядя на сына, – такого уже ничто не сломит… и наш развод – тоже… Он уже давно понимает, что все эти метания ничуть не похожи на поиски главного… Он и меня поймет…»
А под утро ей опять приснился старый сон.
Она проснулась, когда солнце еще не встало, но в комнате уже было совсем светло.
Ольга выскользнула из постели. Надевая халат, она увидела лицо спящего мужа – оно было какое-то растерянное, помолодевшее. Сон разгладил складки на щеках и снова превратил их в мальчишеские ямочки. И вместе с тем было что-то в этом лице уже увядшее, немного жалкое. Первый луч солнца просветил редеющие волосы, блеснул на седых волосинках.
Ольга долго стояла, глядя на спящего мужа, и вдруг подумала четко и решительно:
«Нет. Не уйду я. Никуда я не уйду… Это было бы все равно, что бросить его одного на снегу… как тогда деда Василия…»
ПОДРУГИ
В этот большой дом они переехали в один день, лет за шесть до войны. Тогда он стоял почти на самой окраине Москвы и казался солидным и красивым. В узкий, заваленный строительным мусором двор только с одной стороны попадало солнце – с трех сторон его охватывала семиэтажная громада с прилепленными снаружи лифтами.
Квартиры обеих женщин были расположены друг против друга в широких частях буквы «П», но двор был настолько узок, что они могли свободно разговаривать, стоя в своих кухнях у окон.
Обе были на последних месяцах беременности.
Мария Никаноровна, маленькая, худенькая, носила широкие платья, куталась в оренбургский платок и старалась как можно тщательнее скрывать свою беременность. Мария Александровна, высокая, крепкая, широкая в бедрах и плечах, нисколько не стеснялась своего тяжелого живота. Да он ей и не мешал – она двигалась быстро, все делала споро, легко; в глубине ее небольших, черных глаз всегда как бы таилась готовность рассмеяться любой шутке, ответить улыбкой на любое доброе слово. Она органически не могла сидеть без дела. Уйдя в декрет со своего шинного завода, где работала уже три года, пройдя путь от чернорабочей до помощника бригадира, она растормошила управдома, заставила убрать и вывезти со двора мусор, жильцов уговорила вскопать грядки, собрала деньги, послала своего мужа шофера куда-то за город; он привез полную машину тоненьких тополиных хвостиков, сиреневых черенков и несколько ящиков никому не известной рассады. Он же сколотил скамейки и вкопал их неподалеку от подъездов.
Вот в этом, пока еще карликовом, саду в тихие, светлые весенние вечера сидели две женщины, ожидавшие рождения детей. Что их связало? Что сделало подругами? Может быть, как раз это ожидание? А может быть, их потянуло друг к другу потому, что одна подсознательно жалела другую за слабость, а та, другая, тоже подсознательно искала сильное плечо, на которое можно опереться. Возможно. Но вот так, с самых первых дней знакомства, они и стали подругами.
Однажды, когда Мария Никаноровна чувствовала себя особенно слабой, почти больной, она призналась:
– А мы ведь с Федей не хотели его. Да вот доктор сказал, что нельзя больше…
– Чего нельзя? – не поняла Мария Александровна.
– Ну… избавляться… Я ведь три года уже замужем.
– А ты говорила – года еще нет, и уже… А любовь? Не может мужчина, как раньше, любить такую уродину, вот как я сейчас…
– Смешная ты, Маша! – засмеялась Мария Александровна. – И глупая еще, как девочка-подросток. Это только в книжках да в кино бывает – любовь, любовь, а дети родятся! А я так понимаю – без детей и любви-то никакой нет!
– Философ! – усмехнулась Мария Никаноровна. – А я вот все время боюсь, что Федя мой меня любить меньше будет…
Мария Александровна легонько вздохнула.
– Бывает и так, – сказала она задумчиво. – Но нет, похоже. Он к тебе добрый… Вон какой занятой, государственный, можно сказать, человек, а все – Не простудись, не поднимай тяжелого, не утомляйся». Ты уж извини, а голос у него зычный, начальственный, мне в моей кухне каждое слово слышно…
Подолгу сидели они на скамейке и разговаривали. Вернее, говорила Мария Никаноровна, Мария Александровна больше слушала.
О своей юности Мария Никаноровна рассказывать не любила; ей казалось, что до встречи с Федей ничего интересного и хорошего в ее жизни не было: маленький белорусский городок, отец – портной, мать – домохозяйка, вечно озабоченная, всегда и всем недовольная; с двумя братьями и сестрой она никогда особенно не дружила, а старшего даже немного побаивалась; он переехал в Москву, стал инженером и после того, как она кончила девятилетку, выписал ее к себе для продолжения учебы. Но ни к чему она не чувствовала интереса и так и не смогла выбрать, куда пойти учиться. Да и не хотелось ей вовсе учиться, Москва увлекла ее шумом, многолюдьем, новыми знакомствами. Как-то у брата она увидела его бывшего однокурсника Федора Петровича Коротича, Федю и… и тут-то ее настоящая жизнь. Они поженились через две недели после первой встречи. И вот об этом, об этих первых днях, она могла говорить бесконечно, не замечая, что повторяет все те же подробности, все в тех же в тех же выражениях, все с той же интонацией.
Мария Александровна слушала ее внимательно сочувственно – ей казалось, что подруга говорит обо всем этом так часто не только потому, что ей приятно вспоминать первые дни своего знакомства с Федей, но и потому, что старается убедить себя, что муж и сейчас любит ее так же сильно, как и прежде. И, глядя на ее отекшее лицо, острые плечи, обтянутые пуховым платком, Мари Александровна жалела ее чуть-чуть снисходительной, бабьей жалостью.
– Да неужто ты ничего хорошего и вспомнить не можешь про молодость, кроме Феди своего? – как-то перебила Мария Александровна подругу.
– А что хорошего было? Жила в провинции… Всю жизнь помню, как мать делила еду – старшим братьям побольше, сестре и себе поменьше, а нам с отцом чуть ли не объедки… И сто раз перешитые на меня сестрины обноски! Да и у брата я жила не лучше… Нет, не люблю я об этом…
– А я вот – нет. Я свой поселок любила. Да и сейчас люблю. Речка у нас веселая. Утром еще туман, а мы с девчонками купаться бегали. А зимой по льду на ту сторону – там у нас на горушке школа была. И знаешь, я здорово любила грибы собирать. Уж и не девочкой была, девушкой взрослой, а не было для меня большего удовольствия, как в лес на целый день с самой зари забраться…
– А я лес не люблю. Одна ходить боюсь: как зайду, так и не знаю, как обратно пройти, – все деревья, все тропинки для меня одинаковые, боюсь заблудиться…
– Да какой у нас лес? Разве в таком лесу заблудишься? Это тебе не Сибирь – Подмосковье. А все равно – грибов! На всю зиму собирала. И знаешь, у меня такая, ну, вроде игра была: вот задумаю – там, за березками, да за большой елью стоит мой великий гриб, самый-самый великий гриб. Он спрятался, не дается, но я знаю – он там. А я к нему не пойду! Не буду его искать. Обману его! Ни за что не пойду! Он ведь тоже может меня обмануть, и его там не окажется. Но нет, я знаю, он, конечно же, – там! Да пусть стоит – все равно он мой самый большой за всю жизнь гриб… Смешно? А я вот так всегда любила играть… Понимаешь?
Мария Никаноровна безразлично пожала плечами.
– А еще я до Сергея своего вроде бы женихалась. Не то что все уже решено было, да как-то так у нас ладно получалось – он меня на три года старше был, сосед наш; учиться сперва помогал, а потом мы с ним и в клуб на танцы вместе, и по главной улице по вечерам гуляли. У нас поселок маленький, все нас видели, все так и думали – вот из армии придет, и мы поженимся. А я как-то об этом и не задумывалась – замуж так замуж. Ну, ушел он в армию, стал на летчика учиться. А тут в поселок Сергей приехал, с грузом. У нас остановился. Три дня прожил. Как-то так получилось, что стал он почти каждый выходной приезжать. Уговорил в Москву перебраться. На завод устроил, общежитие выхлопотал. А через год мы с ним поженились. Сосед мой, Геннадий, Гена, тот еще раньше женился, мальчишки у него уже родились, двое, близнецы. Пишет он мне иногда. Летную школу кончил, служит далеко, на Дальнем Востоке…
– Жалеешь? – впервые заинтересованно – спросила Мария Никаноровна.
– Чего жалеть? Нет, не жалею. Я теперь-то понимаю – замуж я за него если б пошла, – может, у нас и не сложилось бы. Просто молодые были, весело нам было друг с другом, дружили, это так, а замуж? – Нет. Это я тогда ничего не понимала, девчонкой была, да и слушала, что все вокруг говорили, а сама я… Вот же, когда женился, нисколечко мне не обидно было. Значит, и хорошо, что так получилось.
– А любит тебя твой Сергей? Ты уверена?
– Наверное, любит. А то зачем же ему было меня сюда тащить, жениться, ребеночка заводить?…
…Как это ни странно, Мария Никаноровна при всей своей хрупкости и внешней слабости родила легко – мальчишка оказался крепким, здоровым и на редкость горластым. Его басовитый рев заполнял узкий дворик и, отражаясь от стен противоположного корпуса, многим соседям не давал спать по ночам.
А Мария Александровна за несколько дней до родов оступилась, ребенок неудачно повернулся, и пришлось помогать ему выбираться на свет божий. И мать и мальчик долго не могли оправиться. Вынесла его Мария Александровна во двор погулять только к осени. Мария Никаноровна еще не вернулась с дачи. Когда поздней осенью увидела подругу – ахнула: из молоденькой и веселой она сразу превратилась во взрослую, озабоченную женщину. С работы ей пришлось временно уволиться – не на кого было оставить слабого малыша.
Ну, а Мария Никаноровна, которая вообще еще никогда не работала, оправилась довольно быстро и также быстро удобно устроила свою жизнь – выписала из деревни старшую сестру своего Феди вековуху-горбунью Настю, и постепенно все домашние дела и заботу об Алеше она переложила на нее и зажила свободно и легко: продолжала ездить с мужем в командировки, на курорты, почти каждый вечер отправлялась в театр или в кино, а то и просто поболтать с многочисленными приятельницами. Как видно, она уже не очень беспокоилась, что Федя будет ее меньше любить, – она похорошела, пополнела, перестала походить на испуганную девочку.
Но дружба двух Марий не прервалась. В те редкие минуты, когда Мария Никаноровна, которую по старой памяти все соседи продолжали называть Машей-маленькой, появлялась во дворе, она подсаживалась к медленно поправлявшейся Маше-большой и начинала рассказывать о своих поездках, о спектаклях, которые видела, о картинах – муж ее по положению своему получал билеты почти на все премьеры; часто, когда он бывал занят, а занят он бывал почти всегда, она ходила без него по этим билетам с подругами или теми молодыми людьми, которые пытались за нею ухаживать.
Мария Александровна слушала ее с интересом, внимательно, но иногда ей казалось, что Маша-маленькая немного рисуется перед ней. «А пусть, – думала она в такие минуты. – Пусть и прихвастнет немного, ведь она так и осталась девчонкой…»
Иногда, когда Настя бывала занята по хозяйству, Мария Никаноровна выходила во двор погулять с Алешей. Так было и в этот вечер.
Алешка бегал взад-вперед по узкой дорожке и пронзительно дудел в длинную, ярко разукрашенную дудку.
Прекрати! – внезапно резко сказала Маша-маленькая. – Голова раскалывается! И сколько раз я тебе говорила – не бегай, как сумасшедший! Вот Коленька спокойно копается в песочке, а ты…
Да пускай его бегает, – улыбнулась Маша-большая. – Здоровее будет. Я бы рада была, если б мой Коля вот так целый день носился. Слабенький он, – вздохнула она.
Зато послушный, – ответила Маша-маленькая. – Избаловала мне его Настя вконец!
Любит его, – ответила Маша-большая. – Она вообще детей любит. Добрая, несмотря что горбунья.
А что ей остается? – чуть пренебрежительно пожала плечами Маша-маленькая. – Ведь своих-то никогда не будет…
Алешка решительно вырвал у Коли пластмассовый автомобиль и, смеясь, помчался в другой конец двора.
– Отдай сейчас же! – крикнула Маша-маленькая. – Как тебе не стыдно, он же…
– Не трожь их, – строго перебила ее Маша-большая. – Сами разберутся…
Через минуту ребята уже мирно играли вместе, строили какое-то грандиозное сооружение из песка и прутиков.
– Вот что, Маша, – сказала Мария Никаноровна. – Я тебя очень прощу, приглядывай здесь за Алешкой. Мы на той неделе уезжаем. Надолго. Месяца на два, на три самое меньшее.
– Опять, – осуждающе покачала головой Мария Александровна. – Что же ты Алешку с собою не берешь?
– Что ты! Весь завод переводят. На голое место. Двадцать километров от города.
– Так, поди, директор-то в бараке жить не будет, квартиру дадут.
– Да, но… Значит, и Настю туда тащить нужно… А здесь? Бросить пустую квартиру, все…
Что-то в ее голосе заставило Марию Александровну пристально посмотреть на подругу. И снова тронула ее легкая жалость – лицо этой цветущей, ухоженной женины показалось ей таким же грустным, незащищенным, каким было оно в те давние дни ее тяжелой беременности.
«Что-то здесь не так, – подумала Маша-большая. – скучают они? А может, Федор-то Петрович и не скучает вовсе?»
Но подруга уже выглядела, как пять минут назад, – спокойное, довольное лицо, веселые глаза.
«Да нет, показалось мне. Все у нее хорошо. Ну и ладно. Пусть едет».
…Федора Петровича и Марии Никаноровны не было более полугода. Алеша и Настя словно бы и не замечали их отсутствия. Настя всегда была спокойна, заботлива, Алешка весел и здоров.
Коленька тоже окреп за это время, пошел в детский сад, и Мария Александровна вернулась на свой шинный завод.
Когда Коротичи вернулись в Москву, его назначили инспектором треста, и почти год, до самого начала войны, они больше уже никуда не ездили. Но в сентябре сорок первого завод, на котором он когда-то работал, эвакуировали из Белоруссии в Среднюю Азию и перевели на выпуск продукции, необходимой фронту; Федор Петрович снова стал его директором. В том же сентябре вся семья Коротичей эвакуировалась в Ташкент.
Подруги прощались так, как все в те дни, – не надеясь скоро увидеться. Обе плакали. Мария Александровна еще и потому, что неделю назад проводила мужа на фронт; завод ее оставался в Москве, и ей было страшно за Коленьку и тоскливо без него: детский сад перевели «на казарменное положение» – детишек домой не отпускали, а матери могли видеться с ними только один раз в неделю…
Мария Никаноровна эвакуировалась солидно, не так, как многие тогда – с одним рюкзаком за плечами и с детскими вещичками в узелке. Нет, она везла с собой в Ташкент даже хрустальную люстру, упакованную в несколько картонных коробок. В Ташкенте она обосновалась почти так же солидно, как всюду, куда ездила раньше с мужем. Казалось, откуда бралась у нее, хрупкой, с виду довольно болезненной, эта практическая сметка, это умение использовать все и вся для того, чтобы свою жизнь делать незатруднительной и удобной? Оказывается, был у нее талант, да и изрядный опыт, быстро превращать место, где она ненадолго оседала, в теплый, уютный дом. Когда Федор Петрович бывал с нею, она вела себя так, будто не было ни войны, ни голодных людей вокруг; из немудрящих продуктов, которые ей удавалось получать или выменивать на базаре на старые тряпки, захваченные из Москвы, она готовила вкусные блюда и, как и прежде, самые аппетитные куски клала на тарелку мужу. Но как только он уезжал – возил ли продукцию своего завода на фронт или выезжал по вызовам в Москву, – она словно бы отключалась, почти не разговаривала ни с Алешей, ни с Настей, вечера проводила с новыми друзьями – эвакуированными сюда кинематографистами, ленинградскими и московскими писателями. Она органически не умела бывать одна, а Настя и Алешка ее утомляли. Но как только появлялся Федор Петрович, она словно выздоравливала, однако совершенно не замечала, как мало времени она проводит с мужем: было достаточно сознания, что он здесь, при ней, дома, и хоть ночью она может видеть его и знать, что он в безопасности.
Так прошла война, в общем, почти ее не затронув.
В начале сорок пятого Коротича вызвали в Москву. Мария Никаноровна настояла, чтобы он и ей организовал вызов, и уехала с ним. Настю с Алешей они пока оставили в Ташкенте – мальчик перешел в третий класс, и не было смысла срывать его среди учебного года.
Подруги – Маша-большая и Маша-маленькая – встретились радостно, но обе заметили, как по-разному для них прошла война.
В жизни Марии Никаноровны почти ничего не изменилось – ее Коротич был здоров и невредим, как и прежде, занят большой работой; она же, как и прежде, не работала и все силы отдавала хлопотливому заполнению свободного времени: всегда была занята и всегда куда-то торопилась – то на встречу с приятельницей, то на очередную премьеру, то в чистку, то в магазин, то в парикмахерскую, то в прачечную. И ни разу ей не пришло в голову, что вся эта суета и спешка просто подсознательное желание заглушить внутреннюю неустроенность, неуверенность в себе, в своих силах. Она этого просто не понимала. Но это прекрасно видела Маша-большая. Может быть, она и не могла сформулировать все словами, но именно за эту шаткость и жалела она свою благополучную подругу. А у Марии Александровны жизнь после войны сложить трудно. Муж ее тоже вернулся как будто невредимым, вернулся совсем не таким, каким уходил на фронт в сорок первом. Он стал с нею груб, выпивал, ни за что поколачивал Коленьку, часто без особой причины менял место работы и однажды уехал, не сказав куда, да так и не и не вернулся. Она ждала его долго, никому ничего не рассказывая, ни у кого ни о чем не спрашивая. Через год она получила письмо из Петропавловска-на-Камчатке от своего старого деревенского друга Геннадия, прилетавшего туда в командировку. Он писал, что муж ее живет ругой женщиной, работает на консервной фабрике бригадиром разделочного цеха, много зарабатывает, так что стоит требовать с него алименты на Колю. Но она не послушалась этого совета, она просто начисто и навсегда выкинула его из своей жизни и из Колиной памяти. И с этой минуты ей стало как будто легче. Теперь она знала, надеяться может только на себя да на подраставшего Коленьку.
Мария Никаноровна не задавала ей никаких вопросов о Сергее. Может быть, не хотела расстраивать подругу, может, потому, что слишком была поглощена своими собственными делами, а отчасти и потому, что инстинктивно отталкивала от себя все неприятное и огорчительное. Осенью приехали Настя с Алешей, и с их приездом атмосфера в доме как-то странно напряглась. Настя ходила хмурая, чем-то озабоченная, Алеша был занят школой, ребятами, дружбой с Колей и по-прежнему всеми своими горестями и радостями делился только с Настей.
Федор Петрович почти не бывал дома – до ночи, а иногда и ночи напролет просиживал на работе, часто ездил в командировки в свою родную Белоруссию, но, несмотря на занятость, со всеми домашними бывал неизменно ласков, весел и ровен. Нет, ссор в доме не было. Даже небольших конфликтов никогда не бывало. Поэтому так однажды всех удивила Настя. Вечером, когда Федор Петрович сидел за столом вместе с Марией Никаноровной и Настей, – Алешка давно уже спал, – сестра вдруг сказала негромко, но очень твердо:
– Вот что, Федя. Решила я просить тебя выделить мне, как бы сказать, зарплату.
– Что? Что ты такое говоришь. Настя? Какую зарплату?
– А обыкновенно – зарплату. За мою работу. Ведь ежели бы меня не было, вы бы домработницу взяли, верно?
– Возможно, – неуверенно отозвалась Мария Никаноровна.
– Ну вот, – упрямо продолжала Настя. – Так считайте, что я у вас домработницей работаю.
– Я не понимаю, – растерянно произнес Федор Петрович. – Ты ведь у нас полная хозяйка, Настенька. Была ею. И будешь. Что же ты?
– Нет, – покачала головой Настя, поведя высокими плечами, отчего еще заметнее стал ее горб. – Хозяйка вот она, Мария Никаноровна.
– Да какая же она хозяйка!? – засмеялся Федор Петрович. – Она без тебя и шагу ступить не может.
– Пусть и не ступает. Я разве что против говорю? А зарплату все равно мне выдели. Немного. Ну, хоть рублей триста.
– Не понимаю, зачем это вам надо? – обиженно сказала Мария Никаноровна. – Вы ведь и деньгами распоряжаетесь, и покупаете себе все, что хотите, и шьете… Не понимаю! Разве я вас чем-нибудь обидела?
– Ничем ты меня, Маша, не обидела, я всем довольная.
– Так что же тебе надо? – возмутился Федор Петрович. – Объясни, я ровно ничего не понимаю.
– Ладно, скажу уж. Не хотела говорить, да вижу – Маша обижается, а у меня и в мыслях нет ее обижать! Ты Устю Колачич помнишь? – обратилась она к Федору Петровичу. – Устю, самую мою верную, самую старую подружку? Помнишь?
– Ну, помню.
– Знаешь, ведь у нее еще до войны четверо ребят было. Мал мала меньше. Погодки все. А в войну – пятый родился, в сорок первом, по дороге, как бежали из села. Выжил мальчонка. Ну, вернулись они в село, а там – ни хаты, ни сараюшки – все начисто немцы спалили. А мужа ее в самом конце войны убило, снарядом разорвало. Одна она с пятерыми. В землянке живет. Я письмо от нее получила. Болеют ребятишки, голодуют. Так вот, решила я ей часть своей зарплаты посылать, а на оставшиеся одежку какую, хоть старенькую, ребятам покупать да чего-нибудь из еды – здесь-то на рынке иногда кое-что достать можно. Понял теперь?
– Понял. Думаю, права ты, Настенька. Конечно, на твоей зарплате Устя не разбогатеет, а все-таки ты как настоящая подруга поступишь. Верно, Машенька?
– Верно.
– А не мало тебе – триста?
– Думаю, хватит. Больше-то с одной твоей зарплаты и не потянешь.
Настя сразу успокоилась, повеселела.
– Я Алешины обноски берегла, не бросала. Можно я их тоже Усте пошлю? Кому-нибудь из ребятишек сгодится…
– Поступайте, Настя, как знаете. Кстати, мои старые платья тоже можете послать Усте.
Федор Петрович весело рассмеялся:
– Да она тебя в два раза выше и в два раза шире!
– Ничего, – кивнула Настя. – Пошлю. Кому из ребятишек переделает, а то и соседкам раздаст. Спасибо тебе, Машенька.
В последний раз она назвала Марию Никаноровну по имени и на «ты». С этого дня она вообще к ней никак не обращалась и говорила ей только «вы».
Мария Никаноровна быстро привыкла к новым отношениям. Настолько быстро, что уже через месяц сказала Насте сухо:
– Советую вам завести тетрадь, куда вы будете записывать расходы по дому. Я, конечно, не буду ничего проверять, но так будет удобнее и вам… и мне.
Настя искоса глянула на Марию Никаноровну; ее веселый, курносый нос чуть сморщился, губы дрогнули в улыбке, но она промолчала, и с того времени на столе в столовой каждую субботу появлялась толстая общая тетрадь с аккуратными столбиками цифр. Настя добросовестно записывала все, вплоть до такого: «Алеша нищему инвалиду – 20 копеек». Само собою разумеется, что при появлении Федора Петровича тетрадь исчезала – которая-нибудь из женщин торопливо прятала ее в ящик кухонного стола. Проверяла ли Мария Никаноровна эти записи? Неизвестно. Во всяком случае, она никогда о них ничего не говорила Насте. Жизнь семьи по-прежнему шла спокойно и благоустроенно, нарушала это размеренное существование только всегда куда-то торопящаяся и опаздывающая Мария Никаноровна. Но к ее нервозности все в доме уже привыкли и просто не обращали на это внимания.
Один Алеша позволял себе слегка подтрунивать над матерью.
– Не торопись, мама, все равно опоздаешь, – говорил он, наблюдая за тем, как Мария Никаноровна ищет то сумочку, то перчатки, то завалившуюся куда-то книжку, которую надо обязательно сегодня отдать. – Лучше скажи, как тетя Маша: «Черт, черт, поиграй и отдай», – и все сразу найдется…
Что за болтовня, какой еще черт? – возмущалась Мария Никаноровна, продолжая свои лихорадочные поиски. – И не приставай, из-за тебя я действительно опоздаю…
– Вот-вот, из-за меня! – смеялся Алешка, нисколько не обижаясь на мать за резкий тон. – Все плохое всегда делается из-за меня…
Болел Алешка редко, учился превосходно, развлекал себя сам и ни от кого не требовал особого внимания, так что Мария Никаноровна не только привыкла не беспокоиться о нем, но почти его и не замечала. Только в такие минуты что-то в его свободном, насмешливом тоне заставляло ее настораживаться. Но она тут же успокаивала себя: «Просто умный, развитой ребенок. И умеет шутить. Это очень хорошо, когда такой маленький уже умеет шутить!»
В конце сорок седьмого года Коротич получил весьма почетное, но довольно странное назначение – неожиданно для себя он стал заместителем министра торговли в его родной республике. Его уверили, что это ненадолго, что года через два, когда он наладит эту сложную область народного хозяйства, он вернется к своей специальности, но сейчас в полуразрушенной и медленно восстанавливающийся республике нужны именно такие – талантливые, инициативные и безупречно честные коммунисты. Конечно, он подчинился. И верил, что и скоро-скоро вернется в Москву, в свое министерство и снова займется тем, что он знал и любил.
Даже Марию Никаноровну удивило это назначение. Но она, как всегда, безропотно согласилась ехать с ним в Минск. И, как прежде, не сговариваясь, они оба решили беречь московскую квартиру и прописку – каждые несколько месяцев Мария Никаноровна намеревалась приезжать домой, затем снова уезжать к мужу, прожив в Москве месяц-другой.
Естественно, Настя и Алеша остались на старом месте. Приезжая, Мария Никаноровна по-прежнему уделяла им мало внимания – все дома шло как надо, оба были здоровы, Алешка учился, рос, становился все серьезнее и одновременно все насмешливее и самостоятельнее. Летом вместе с Настей они ездили под Минск, на дачу, расположенную над огромным тихим озером, а осенью Алешка возвращался в свою школу, к своим товарищам, к своим увлечениям и недели через две совершенно переставал скучать по родителям; отца еще он изредка вспоминал, но мать отдалялась так быстро, что, когда она вскоре приезжала, он вынужден был как бы знакомиться с нею заново. Может быть, из чувства самосохранения, так развитого в одиноких детях, он просто боялся накрепко привязываться к ней, чтобы не так болезненно ощущать ее отсутствие. Он был с нею всегда вежлив, послушен, но как-то по-взрослому сдержан – никогда не ласкался к ней и, если бывал огорчен ссорой с товарищами или неважной отметкой, никогда ей об этом не рассказывал. На ее рассеянные вопросы отвечал рассудительно, равнодушно. В вечной своей спешке и предотъездной суете, которая охватывала ее уже в первый же день приезда, Мария Никаноровна ничего не замечала, а наоборот, радовалась разумности и спокойствию сына.
К подруге своей она в каждый свой приезд непременно забегала два или три раза, именно забегала на несколько минут, не вникая глубоко ни в ее жизнь, ни в ее горести и заботы, хотя неизменно привозила дорогие, но совершенно не нужные подарки, вроде хрустальных вазочек или изделий народного творчества. А Мария Александровна радовалась и этим подаркам и, главным образом, тому, что Маша-маленькая выглядит почти так же молодо, так же красиво причесана и оживлена, как в прежние годы. Единственное, что она осуждала в подруге, но никогда ей об этом не говорила, это ее отношение к сыну.
Алеша с Колей проводили почти все свободное время вдвоем – как в раннем детстве, – вместе занимались, вместе играли, вместе конструировали какие-то немыслимые звездолеты, бегали в кино на детские сеансы, в геологический музей, на каток. Мария Александровна понимала, что характер у Коли слабее, что сын попросту находится под влиянием более живого и здорового мальчишки, но, наблюдая за ними, видела, что Алеша никогда не проявляет своей власти, никогда ничего не приказывает, как это бывает среди мальчишек. Наоборот, Колина мягкость часто заставляла Алешу подчиняться более слабому. Словом, они по-прежнему дружили, и Мария Александровна радовалась не только за сына, но и тому, что Алеша растет хорошим и справедливым и что в свои двенадцать-тринадцать лет он был уже полностью сложившимся человеком, со своими жизненными принципами, с точным знанием, что хорошо, что плохо. Нет, конечно, он не был маленьким взрослым, он был самым настоящим озорным и живым мальчишкой, но он стойко переносил разлуку с родителями, презирал лгунов и лицемеров, ненавидел трусость и учился не ради хороших отметок, а потому, что ему было интересно… Мария Александровна жила все так же трудно, ни от кого не ожидая и не принимая помощи. Каждое лето она отсылала Колю в поселок к тетке, сама же, научившись малярничать, весь отпуск ходила «на халтуру» и заработанные деньги отсылала на Колино содержание. Ни ее фабричные подруги, ни тетка, ни соседи не знали об этом, и, возвращаясь после отпуска в цех, на вопрос, как она отдохнула, неизменно и коротко отвечала: «Отлично!»
Несмотря на замкнутость, ее любили на заводе. Она была из тех, кто умеет слушать. Поучать и советовать она стыдилась, но почему-то женщины ее бригады всегда со своими заботами и волнениями приходили к ней. Она выслушивала их доброжелательно и молча, но товаркам казалось, что, уходя после душевного разговора, они получали от нее именно тот, самый нужный совет, которого ждали.
И еще было у нее одно свойство, которое все уважали, а многие и побаивались его: она не терпела малейшей несправедливости, ловкачества. Встречаясь с проявлениями этих черт у любого – от ученицы до мастера, она становилась резкой, даже иногда грубой, и не останавливалась ни перед чем, пока не добивалась того, что считала правильным. Само собою так вышло, что сперва ее выбрали в цехком, потом и в завком, куда все обиженные или недовольные приходили к ней и не уходили до тех пор, пока она не принимала решения, не добивалась правды.
Кончая смену, она тщательно мылась, переодевалась во все «уличное», а дома снова мылась и снова переодевалась. И все же от нее всегда исходил едва уловимый запах лака, ацетона, словно сладковатый аромат нового, еще не стираного ситца.
В те редкие дни, когда Коротичи бывали в Москве и подругам удавалось посидеть часок на скамейке во дворе, Маша-маленькая прижималась на минуту к Маше-большой и как бы принюхивалась: ей нравился исходивший от нее запах; он напоминал ей спокойную, ленивую чистоту парикмахерской.
– Как от тебя вкусно пахнет, – говорила Маша-маленькая, по-детски морща нос.
Маша-большая улыбалась в ответ…
Спустя лет семь после исчезновения мужа Маша-большая неожиданно получила от него письмо. Он писал, что жизнь его с новой женой не сложилась и, если Маша его простит, он вернется, и заживут они снова вместе. Всю ночь Мария Александровна перечитывала письмо и горько плакала. Но наутро порвала вместе с конвертом и выбросила, чтобы забыть адрес и случайно не соблазниться и не ответить. Даже закадычной подруге своей Маше-маленькой она ни словом не обмолвилась, что Сергей захотел вернуться к ней. Было, отболело, прошло. Больше он не писал, видно, поняв, что не нужен ни ей, ни сыну…
Мальчики взрослели. Алеша давно перерос не только мать, что было нетрудно, но и отца; на подбородке у него уже появился пушок, и он втайне мечтал о том времени, когда начнет бриться. Оба кончили восьмой класс – Алешка на одни пятерки, Коля на тройки. С осени, так решили они с матерью, Коля должен был пойти в ремесленное училище. Алеша тоже было потянулся за ним, но родители решительно восстали. Пришлось покориться.
Этим же летом Коротичи вернулись в Москву – Федору Петровичу предложили перейти на другую работу, он ждал нового назначения.
А осенью неожиданно умерла тетя Настя. Она почти никогда не болела, только в последние месяцы начала сильно задыхаться, стали отекать ноги. Но она все относила за счет своего горба да еще за счет возраста – ей было уже под шестьдесят – и к врачам не обращалась. Умерла ночью, во сне, как потом определили врачи – от сердечной недостаточности. Это было первое настоящее горе в жизни Алеши. Несмотря на присутствие родителей, дом ему казался пустым и совершенно чужим.
Вскоре Федор Петрович выехал работать в одну из социалистических стран.
Получив броню на квартиру, Коротичи уехали, поместив сына в интернат для детей дипломатов.
Алеша по-прежнему учился хорошо. Он теперь редко виделся с Колей и Марией Александровной. Дружба их не прервалась, как и дружба обеих Маш, но просто ни у того, ни у другого не было времени на дальние поездки и веселые прогулки. Летом он ездил к родителям, привозил оттуда Коле и Марии Александровне подарки, и по тому, что он привозил, Мария Александровна понимала: выбирал он их сам – это были уже не вазочки и дорожки, а теплые кофты для нее и красивые, добротные куртки или джинсы для Коли.
Школу он закончил с золотой медалью. Летом к родителям не поехал – готовился к поступлению в геологический институт.
Коротичи вернулись через год, снова недолго пробыли в Москве и отбыли в одну из небольших, только что образовавшихся африканских республик.
За четыре года они приезжали один только раз – далека и трудна была дорога домой; Мария Никаноровна прихварывала, у нее открылась язва желудка. Да и Федор Петрович чувствовал себя не наилучшим образом. Не потому, что Африка – жаркая страна. Нет, как раз в этой маленькой республике климат был превосходным; правда, не было зимы, только период дождей, но летом жара нисколько не мучила – жили они на берегу океана, а в доме и на службе безотказно действовали кондиционеры.
Жизнь Марии Александровны тоже постепенно наладилась: она больше не тревожилась за сына – Коля работал на заводе имени Лихачева в сборочном цехе, зарабатывал неплохо, уже год, как женился, и сноха должна была вот-вот родить.
За три месяца, что Маша-маленькая пробыла в Союзе, подруги виделись всего два раза – в день ее приезда и в день отъезда. Они ни о чем толком не успели поговорить – супруги тут же отбыли в санаторий, а потом усиленно лечились перед новым назначением. Маша-маленькая, наверное, так и не узнала, как изменилась судьба подруги, а если и узнала, то просто не обратила на это внимания.
Ведь внешне все обстояло так же, как и раньше, – каждый день Маша-большая отправлялась на работу, приходила поздно, все такая же усталая, хотя из цеха она ушла. Химики на пенсию уходят рано, пришел и ее час; никто, да и сама Маша не могли себе представить, что она покинет завод. Как раз в это время перевелся на очное отделение института освобожденный секретарь завкома, и Маше-большой предложили занять его место. Она согласилась не сразу – ей казалось неудобным почти за ту же работу в завкоме, какой она занималась раньше, начать получать зарплату, служить. Ее уговорили товарки.
– Не упрямься, Мария! – подвела итог спорам лучшая ее заводская подруга Наталья из вулканического. – Сколько председателей сменилось, а тебя мы всегда в завком выбирали. Это только так считается, что ты туда для бухгалтерской отчетности идешь! Чепуха! Что раньше для нас делала, то и будешь. В зарплате против пенсии только четыре рубля потеряешь, а когда совсем бросишь работать – свою химическую получать будешь. Иди!
Уговорили. Пошла. Но первое же дело, с которым она столкнулась на новой работе, поначалу поставило ее в тупик.
К лучшему сборщику Ивану Митрофановичу Соколову, знаменитому не только на своем заводе, но и в Ленинграде и Кирове, куда он ездил делиться опытом, прикрепили трех молодых ребят, только что закончивших ремесленное. Двоим было уже лет по семнадцать, рослые, сильные парни, в меру модно подстриженные, с уже заметным пушком на тугих щеках. Они добросовестно перенимали движения и приемы работы наставника и вскоре стали выполнять задания ровно на столько, насколько это полагалось ученикам. В цеху, видно, за немного нарочитую солидность, к ним обращались по фамилии – Королев, Семенов. Третий же выглядел совсем мальчишкой – худенький недоросток, юркий, быстрый, с всегда смеющимися узкими глазами. Все объяснения и указания он схватывал на лету, был радушно-услужлив, и в первый же день все стали звать его ласково-уменьшительно – Сашок.
Вот из-за этого смышленого паренька и разыгрался конфликт, охвативший вскоре почти весь завод.
Однажды в завком к Марии Александровне прибежал Сашок и попросил ее уговорить мастера разрешить принести на завод любительский киноаппарат.
– Вы не думайте, он мой, собственный, меня в школе премировали за отличную учебу.
– Да я ничего такого и не думаю, – улыбнулась Мария Александровна. – А почему ко мне, в завком?
– Вы, я думаю, сможете его уговорить!
– Зачем тебе это надо?
– Нужно – и все! Вот увидите, не для баловства, для хорошего дела!
Мария Александровна не могла ему не поверить, столько было убежденности и восторженной заинтересованности на его чумазой мальчишеской физиономии.
– Ну, коли для хорошего дела, – попробую уговорить. Только ты меня не подведи, Сашок!
Но как раз ее-то на первых порах он и подвел. Много пришлось ей передумать, прежде чем она поняла, кто прав, – рабочие, встретившие паренька в штыки, или парень, серьезно и убежденно защищавший полезность и нужность своей затеи.
Все началось с того, что он снял своего наставника за работой. Да не просто для портрета, общим планом, а тщательнейшим образом объяснял весь процесс сборки, каждое движение Соколова: от накладывания на барабан первого слоя резины, затем дальнейших слоев, повороты барабана для избежания на готовой шине утолщений и зазоров, последовательную обрезку слоев, сокращение объема барабана, все, вплоть до навешивания полуготовой шины на проплывающий мимо крюк. То, как этот тяжелый, гладкий круг в виде трубчатого кольца попадает затем в вулканизацию и превращается в готовую узорчатую шину, Сашка уже не интересовало.
Никто из рабочих не понимал, для чего все это нужно, но Соколов делал таинственный вид и только посмеиваясь, говорил:
– Потерпите. Скоро узнаете.
Через несколько дней как-то после смены паренек попросил Соколова остаться и пройти с ним к Марии Александровне в завком, в ее комнату за лабораторией.
Там против двери был уже установлен маленький проекционный аппарат. Усадив Марию Александровну и Соколова, Сашок заговорил, чуть заикаясь от волнения:
– Сперва я покажу, как вы работаете в нормальном темпе, а потом…
– Не пойму, как это – в нормальном темпе?
– Ну, просто как мы со стороны обычно видим вашу работу. Ясно?
– Ну, скажем, ясно. А потом?
– А потом – увидите.
На двери, служившей экраном, начал спокойно, размеренно двигаться Соколов. Нельзя сказать, что все это было снято очень хорошо, – при наклонах и поворотах лицо сборщика часто выходило из фокуса, руки вдруг становились непомерно большими, причем фигура сборщика искажалась до неузнаваемости, а иногда медленно проплывавший неподалеку крюк с полуготовой шиной вообще заслонял Соколова. Наконец изображение и вовсе исчезло, а на двери появились какие-то непонятные кресты, круги.
Перемотав пленку, он снова зарядил проектор и опять на двери появился работающий Соколов. Но темп работы резко изменился, да и все, что делал теперь сборщик, было как бы разложено на отдельные, не очень плавные, короткие движения. Однако рывки не мешали вглядываться в то, что происходило на экране. Внезапно руки Ивана Митрофановича застыли в каком-то странном, незаконченном жесте. Потом снова медленно задвигались. И снова застили.
Опять – движение – остановка, движение – остановка. Несколько сменившихся кадров и опять – движение – остановка, движение – остановка.
Соколов минуту помолчал, потом сказал, немного смущенно:
– А ведь вот без этого… ну, без того движения, можно было бы и обойтись.
На экране рука с ножом прошлась по краю одного из слоев у самой кромки, почти у тела барабана. Две руки наложили новый слой и опять – рука, нож, обрез. И так подряд несколько раз.
– Думаешь по несколько слоев сразу срезать? – спросила Мария Александровна у Соколова.
– Да, по всем сразу можно! – выкрикнул паренек. Соколов продолжал молчать, задумавшись.
Нет, милок, это не всякому под силу. Особенно женщинам. Где ж такую толщину в один раз срежешь? – покачала головой Мария Александровна.
– Подумать надо, прикинуть, кое с кем посоветоваться, – сказал Соколов. – Можешь ты эту штуку прямо в цехе показать?
– Можно… Но я хотел…
– Вот и покажем в цехе. Пусть все сборщики поглядят. Вместе подумаем, как и что, – перебил Соколов и вышел, не попрощавшись.
– Да как это ты решился? – удивленно сказала Мария Александровна, как только за Соколовым закрылась! дверь. – Лучшему рабочему завода, своему учителю указываешь, что он, мол, медленно, не так свое дело делает. Эх, знала бы, что ты такой… шустрый, не позволила бы тебе эту твою штуковину на завод приносить! Ну, собирай поскорее свою музыку и… катись-ка ты отсюда. Мне домой пора!
Мария Александровна медленно шла к остановке автобуса.
Как и обычно, она должна была зайти за внучкой в ясли – сноха после работы отправлялась за покупками, потом готовила ужин и обед на завтра, стирала – так они распределили свои домашние обязанности. Когда кончился декретный отпуск, Катя и Николай хотели отдать девочку в ясли на пятидневку, но Мария Александровна запротестовала:
– Две бабы в доме и с одним ребенком не справятся?! Мне с завода как раз по дороге, буду ее каждый день забирать, а ты уж дома, по хозяйству.
Обычно Мария Александровна чуть ли не пробегала короткую дорогу до автобуса, проезжала две остановки, а оттуда, уже с внучкой на руках, снова садилась на тот же автобус, как раз поспевавший сделать круг, и доезжала до дома.
Сегодня она шла медленно – задумалась. Странное у нее было чувство – она как будто и сердилась на Сашу за его, как она определила, дерзость, и вместе с тем ей нравилось то, что он не побоялся заявить о своих сомнениях.
«В чем-то он и прав как будто. Ну, а в чем не прав?»
На этот вопрос она еще не могла ответить себе, но чувствовала, если все хорошенечко продумать, она сможет и себе и ему доказать, что затея его – неосуществима! Но почему? Разве и правда нельзя скорее работать и увеличить выпуск шин? А дальше что? Значит, и все цеха до сборочного, вулканизацию, все-все надо переводить на другой темп? А нужно ли? И возможно ли? Ну, так, может, и возможно. Ну, а людям какая от этого польза? Рабочим? Не таким вот передовикам, как Иван, а всем, рядовым? Вот если бы я…
Подошел автобус, она вошла, привычно стала протискиваться вперед, чтобы успеть выйти на нужной остановке, и мысли ее приняли свое ежевечернее течение – здорова ли Оленька, поскорее бы ее увидеть, ветер сегодня, как бы не застудить, вот не взяла теплого платочка, забыла, заторопилась, не дай бог…
Около месяца прошло с того дня, как Сашок показывал ей и Соколову свой фильм. За ежедневной суетой с домашними делами Мария Александровна позабыла о пареньке и о его фантастических затеях. Однажды к концу обеденного перерыва она по какому-то пустяковому делу заглянула в сборку и поразилась: толпа рабочих окружила кого-то, раздавались угрожающие выкрики:
– Щенок!
– Гнать с завода!
– Умнее всех хочешь быть!
– Он двадцать лет, лучший рабочий, а ты…
– Ишь, выставился! Умник нашелся!..
Мария Александровна подошла к безучастно сидевшему подле своего рабочего места Соколову:
– Кого это так, Митрофаныч?
– Да все того же, Сашку.
– Что он еще нового натворил? – испугалась Мария Александровна.
– А ничего нового – всё то же.
– Не пойму.
– За съемку его ту самую.
– Я и сама прикидывала, – задумчиво сказала Мария Александровна. – Ведь если всех заставить так быстро работать, так это…
– А всех как раз и нельзя!
– Почему?
– А вот приходи после смены в клуб на производственное, объясню.
– Приду.
Странно началось это производственное совещание. В клубный зал набилось столько народу, что многим пришлось пристраиваться на подоконниках, по двое на стульях, даже на полу возле сцены. Но народ все прибывал. Наконец председатель собрания – мастер сборочного – крикнул:
– Больше уже некуда, товарищи! Закройте двери. И начинай, Сашок, слышишь?
Погас свет, и в глубине сцены на настоящем экране замелькали кадры уже почти полузабытого Марией Александровной фильма. Потом – кресты, круги, неровный конец пленки, пустой квадрат.
Зажегся свет. В зале зашумели.
– Погодите, товарищи, это не конец, сейчас он перемотает пленку и будет продолжать показывать, – поднялся из первого ряда Иван Митрофанович Соколов. – Имейте терпение!
Свет погас, и все тот же Иван Соколов продолжал работать, но сейчас уже медленно, как бы рывками: движение – остановка, движение – остановка. Но и это кончилось.
Когда загорелся свет, все увидели, что на сцене, у самого края, стоит Соколов.
– Внимательно вы смотрели, товарищи? – спросил он громко.
– Как будто внимательно, – ответило сразу несколько зрителей.
– К чему нам это показывали? Мы за двадцать лет насмотрелись на твою работу, Митрофаныч.
– По картинке видно, что постарел ты как раз на эти двадцать лет! – весело крикнула работница помоложе.
– Да нет, в натуре еще ничего, сойдет! – засмеялись другие.
– Товарищи, товарищи! – взбираясь па сцену, одернул их мастер. – Нельзя ли посерьезнее?
– Можно и посерьезнее, – крикнул кто-то из зала. – Всем видно, что ты, Соколов, хорошо работаешь! Молодец!
– Молодец? – сказал Соколов. – Хорошо, говоришь, работаю? А вот по этой самой картинке видно, что можно и получше. Можно!
– Это как же – по картинке? – удивленно спросили из зала.
– А вот так. Видели вы, как я первый слой – резину – двумя руками кладу? Ну, это так, ее и надо – двумя. А второй слой? Двумя же кладу, потом двумя же и прихлопываю. Два-три раза. А зачем? Можно и одной. Только выработать в себе точность. Абсолютную точность. Тогда – клади одной, прихлопывай другой и в это же самое время тяни другой рукой к себе следующий слой. Понятно? Потом – обрезка. Я тут по одному слою под нож беру. А можно наложить четыре и сразу – по четырем. Только опять же – чтобы абсолютная точность.
– Ты раньше попробуй! – сердито крикнули из зала. – Языком-то все можно!
– А я и пробовал. Тренировался. Вышло!
Зал притих. И сразу взорвался шумом, выкриками.
– Это что же – всем гнать по двести процентов? А потом всему цеху, ого, какой план спустят! Ну, удружил, ничего не скажешь!
– А расценки? Расценки-то как?
– Что ж, всему заводу придется план пересматривать, а иначе мы без сырья останемся – полетят и план, и расценки!
– То-то и оно – всему заводу!
– Спокойно, товарищи! – поднял руку Соколов. – Не придется ни цеху, ни всему заводу планы перестраивать. И не придется никому в эти самые киноперегонки играться!
– Так вы же говорили, что достигли, смогли? – удивился мастер.
– А как же! Смог! Вышло у меня, верно, – усмехнулся Иван Митрофанович.
И на мгновение примолк.
– Так это я, я смог! – сказал Соколов уже вполне серьезно. – Со мной пока еще никто тягаться не может. Разве что вот Сашок вырастет, поднаучится – ну, тогда посмотрим. А сейчас…
Сашок был теперь занят по горло – после рабочего дня оставался на вторую смену и, рыская по заводу, выискивал объекты для новых «картинок».
Однажды, уже поздней зимою, он прибежал к ней в завком. Был взволнован, тороплив и неуловим еще больше, чем обычно.
– Ко мне? – спросила Мария Александровна.
– Ага!
– Случилось что?
– Ага. Случилось.
– Ну.
Чего это он со мной так строго, грубо даже?
– Да кто? Говори толком.
– Митин. Витька. Комсомольский секретарь. Пришел в цех и – как приказал: приходи непременно сегодня в шесть на комсомольское собрание. И чтоб, говорит, без выкрутасов. А не придешь – пожалеешь!
– Так иди.
Сашок помолчал, потом выпалил:
– А вы туда можете прийти?
– На комсомольское? – улыбнулась Мария Александровна.
– Да! Я… я боюсь… – Голос его как-то по-детски дрогнул. – Нет, вы не думайте, я не трус, но…
– Но – что?
– Понимаете, ребята со мной последнее время как-то не так… ну, будто я им что-то плохое сделал. Я им чего скажу, а они отворачиваются, будто не слышат… Ну, пожалуйста, тетя Маша, пойдемте со мной, а?
Она внимательно посмотрела на паренька.
– А я тебе вроде ширмы, что ли?
– Ширмы? Не знаю… Но я… я без вас не пойду.
– Вот ты как? – и, подумав немного, прибавила: – Что ж, попрошу твоего Митина Витьку, может, и разрешит, как думаешь?…
Собрание было многолюдным и долгим. Мария Александровна уже подумывала тихонько выбраться из зала и уйти, когда услышала голос комсомольского секретаря:
– А теперь приступим к разбору персонального дела Васильева Александра.
Сидевший рядом с нею Сашок удивленно вскинул голову, дернулся было, порываясь что-то сказать, но сдержался, промолчал.
Так вот, товарищи, – продолжал Митин, – в Америке, в Голливуде – это там, где все кино снимаются, – есть такие актеры, кинозвезды называются. Как станут знаменитыми – так кинозвезда. Ну и многие из них сразу нос задирают – мол, я самый талантливый, больше всех получаю, мне никакой ваш профсоюз не нужен. Это значит, они звездной болезнью заболели…
– А ты откуда про это знаешь? В Голливуде побывал? – со смехом спросил кто-то из ребят.
– Нет. Я в журнале одном читал…
– Ты это к чему нам рассказываешь? – удивился кто-то.
А к тому, что один из наших товарищей этой самой звездной болезнью заболел. Ему теперь законы не писаны. Зачем ему организация? Он и так теперь – знаменитость. Ему и так теперь – все в руки!
– Да о ком ты?
– Я же сказал – о Васильеве Александре. По всему его поведению видно, что ему на всех нас, да и на комсомольскую организацию просто наплевать! Сколько ни заставляли мы его ходить на собрания, как ни пытались вообще с ним работать…
И тут, не удержавшись, вскочил со своего места Сашок.
– Работали со мной, говоришь? – крикнул он.
– Конечно, работали! – уверенно ответил Митин.
– Плохо работали! Никуда не годная ваша работа! – звонко и как будто даже весело выкрикнул Сашок.
– Звезда! Так и есть – кинозвезда! – окончательно разозлился Митин. – Ему, видите, особый подход нужен!
И вдруг Сашок звонко расхохотался.
– Ты что это? – возмутился Митин. – Перестань сейчас же! Ты!
Сашок прищуренными глазами обвел зал и, еле удержавшись от смеха, крикнул:
– Плохо, плохо со мной работали! Очень плохо!
В зале закричали, кое-кто затопал, кто-то даже свистнул.
Но звонкий мальчишеский голос Сашка перекрыл шум.
– Конечно же, плохо. Потому что, если бы вы со мною работали лучше, я, может, уже комсомольцем был бы! А я – не комсомолец. Я еще не комсомолец! Мне только позавчера пятнадцать минуло! Вот! В ремесленном не приняли – рано было, а тут еще не успел!
Ребята на мгновение притихли и вдруг разразились таким заразительным, веселым смехом, что даже сконфуженный, насупленный Митин рассмеялся.
– Когда же ты в школу пошел? – удивленно спросила девочка, ведущая протокол собрания.
– С пяти.
Так ты что, вундеркинд? – огрызнулся Митин.
– Да нет, какое там! Просто – мама была учительницей в школе, в Воронежской области, мы при школе жили, я всегда с нею на уроки ходил – меня оставить было не с кем. А когда мама умерла, меня в первый класс записали. А я уже кое-что помнил. Вот так и вышло. Потом перескочил через класс. А потом приехали из Москвы набирать в ремесленное, я и пошел. Вот и все.
Тихо стало в зале. Никто больше не смеялся, никто не подавал реплик. Митин собрался было что-то сказать, но осекся и смущенно замолчал. Всем было почему-то неловко, никто не решался заговорить первым.
Тогда поднялась со своего места Мария Александровна. Ее полное, добродушное лицо показалось ребятам непривычно суровым.
Тогда поднялась со своего места Мария Александровна Ее полное, добродушное лицо показалось ребятам непривычно суровым.
– Вот что, Митин, – сказала она спокойно. – Очень я жалею, что затею Сашка нельзя применить к вашей, к твоей лично комсомольской работе.
И, внимательно оглядев обращенные к ней недоуменные лица ребят, продолжала негромко:
– Хорошо было бы вот так же снять фильм, а потом показать его медленно, чтобы вы все увидели, сколько в вашей, в твоей, Митин, работе есть лишних, ненужных движений, а сколько полезных, дельных. Да, к сожалению, невозможно это.
И, обернувшись к Сашку, прибавила:
– Разозлился Митин. Ему, видите, особый подход нужен. Пойдем, Сашок.
Провожая Марию Александровну до автобуса, Сашок возбужденно болтал, смеялся, раскатывался на ледяных полосках, вертелся, то убегал вперед, то снова возвращался, словом, вел себя так, как обычно ведут себя щенки, без поводка гуляющие с хозяином.
Но Мария Александровна почти не слушала его, не замечала его веселого возбуждения. Уже подходя к остановке, она вдруг сказала:
– Вот что, Сашок, переезжай ты к нам, ко мне домой. С нами будешь жить.
– Ой, нет, что вы, спасибо. Нет! – тотчас же отозвался Сашок. – У меня, знаете, в общежитии замечательное место, у самого окна. А за окном – сад. Большой. Почти как у нас, возле школы…
– Ты не бойся, не стеснишь нас, квартира большая.
– Нет-нет. Не надо… Я… я хочу сам… Мама ведь моя была детдомовская и тоже всю жизнь – сама… А потом меня растила… одна… Спасибо вам, тетя Маша, я вас очень люблю, почти как маму, но я… сам. Не обижайтесь, ладно?
Мария Александровна поняла: в словах его – не мальчишеское упрямство; нет, это было взрослое, окончательное решение. Его юношеская зрелость вызывала уважение. Такое же чувство всегда вызывал в ней Алеша, детство которого тоже прошло без родителей, хотя они и были живы. Может быть, поэтому он так рано научился принимать самостоятельные решения, а этот пятнадцатилетний паренек чем-то напомнил ей дружка сына. Ей стало грустно – Алеша теперь так далеко, один, где-то на Дальнем Севере, осваивает первые шаги своей будущей специальности – он решил стать мерзлотоведом.
Ни отец, ни мать, ни Маша-большая не могли понять, что в этой мало освоенной отрасли могло увлечь молодого человека, никогда раньше не бывавшего севернее Москвы. Но Алеша не привык советоваться с родителями и всегда поступал так, как считал нужным.
Это была его последняя преддипломная практика. Вместе с работниками Якутского института по изучению вечной мерзлоты он вел поисковые работы за Полярным кругом по наметке точек будущих строек, железнодорожных и грунтовых трасс. Он прилетел за день до отъезда родителей, обросший веселой рыжеватой бородой, широкоплечий, обветренный. Оба – и отец, и мать – показались ему сильно постаревшими, уставшими, несмотря на оживление, с которым обсуждали новое назначение отца – торгпредом в Норвегию.
На прощание отец сказал Алеше:
– Как только защитишь диплом, я немедленно вызову тебя к нам. Полетишь через Стокгольм в Осло – хоть одним глазком увидишь Европу, прежде чем осядешь в своей ледяной Азии!..
Но все вышло не так, как хотел отец. Сразу же после защиты диплома Алеша получил назначение в Якутский институт и, не использовав свой последний студенческий отпуск, вылетел на Север.
А через несколько месяцев он летел из Якутска через Москву, Стокгольм в Осло, вызванный тревожной телеграммой матери: «Отцу плохо. Нетранспортабелен. Вызов оформлен. Получи Министерстве».
Когда Алеша увидел отца, он подумал, что отец уже из больницы не выйдет, а по грустному его, но твердому взгляду понял, что отец об этом знает. Когда мать, которая безвыходно находилась с отцом в палате, вышла куда-то на минуту, отец сказал очень тихо, с трудом:
– Ты, Алексей, не оставляй мать. Она не умеет быть одна. Всю жизнь она обвивалась вокруг меня, как плющ. Теперь ты должен быть тем стволом, вокруг которого она обовьется.
Алеша молчал, боясь расплакаться, выдать свою слабость, свое горе. Но и утешать отца он не стал – оба они были мужчинами и знали, что эта ложь во спасение будет только оскорбительна для обоих…
…Через четыре дня Алеша, мать и гроб отца прибыли в Москву…
Едва живую мать Алеша прямо с кладбища отвез к Марии Александровне. Оба они с Машей-большой надеялись, что Мария Никаноровна хоть немного отвлечется, оживет при виде маленькой Колиной дочки.
Но окаменело и молча просидев полчаса, Мария Никаноровна вышла и, забыв надеть пальто, направилась через двор к своему подъезду… Алеша бросился за ней. Они вместе вошли в темную квартиру. Алеша хотел было зажечь всюду свет, но Мария Никаноровна тихо и твердо сказала:
– Не надо. Иди ложись. Ты устал. Я хочу побыть одна.
Всю ночь она просидела в темной кухне. Она не плакала. Алеша, который тоже не спал, а только изредка ненадолго задремывал в своей комнате на диване, слышал, как она закуривала; треск зажигаемой спички и легкое постукивание сигареты о край пепельницы слышны были во всех углах пустого, грустного дома…
А утром, когда Алеша вышел в кухню, стол был накрыт к завтраку, а на плите уютно попискивал кофейник. Мать была бледна, но причесана и одета аккуратно, словно собиралась куда-то уходить.
– Ты готов? – спросила она спокойно. – Садись завтракать.
– А ты?
– Я с тобой.
Они молча поели. Мать собрала со стола, помыла посуду и снова уселась за стол, вынула сигарету, закурила, протянула Алеше пачку.
– Хочешь?
– Я не курю, мама.
– Ах, да, я забыла.
Алеша подошел к окошку и некоторое время сосредоточенно смотрел на покрытый грязным пористым снегом двор. Потом тоже подсел к столу, несмело дотронулся до руки матери и сказал, как мог ласковей:
– Мамочка. Мне самое позднее завтра надо улетать. Мой… отпуск, что ли, кончился, в понедельник я должен быть на работе. Я помогу тебе собраться. Ребят я просил купить нам билеты.
Мария Никаноровна посмотрела на сына внимательно и пристально, словно видела его в первый раз в жизни. Что-то в этом взгляде, в ее осунувшемся, постаревшем лице поразило Алешу. Через секунду он понял, что его так удивило: впервые он увидел у матери выражение не растерянности, не упрямства, а решимости.
– Что ж, поезжай, – негромко сказала она.
– То есть как это– поезжай? Мы едем вместе!
– Нет. Я никуда не поеду.
– Не могу же я оставить тебя здесь… одну!
– Нет, Алеша, я никуда не поеду, я останусь здесь. Это мой дом, и теперь я никуда уже и никогда не буду ездить.
– Но, мама…
– Не надо спорить, Алеша. Я так решила.
– Но как же ты будешь жить?
– То есть в смысле материальном? Не беспокойся обо мне. Я получу за папу хорошую пенсию. И потом, у нас… у меня есть сбережения. И очень много ненужных вещей, от которых я свободно могу отказаться. Так что ты будь спокоен. Все будет в порядке.
– Да я не об этом! Как же ты будешь жить одна?
– Не знаю. Но буду. Наверное, недолго, но пока буду. И потом – я ненавижу холод. И ни за что не соглашусь даже в гости приехать за твой Полярный круг!
– Но, мама, я же не могу сюда переехать! Ведь это моя работа. Моя специальность – холод!
– Что ты! У меня и в мыслях не было, чтобы ты бросал свое дело! Я не хочу быть тебе обузой, ни в коем случае! Помни это!
– Почему обузой? Просто ты моя мама, и мы должны быть вместе!
– Нет, Алеша. Так уж получилось в нашей жизни. И не надо ничего менять…
– Но ты никогда не жила одна…
– Ты этого не поймешь, Алеша, – перебила Мария Никаноровна сына. – И не будем больше возвращаться к этому разговору…
Она поднялась, аккуратно поставила на место стул и вышла из кухни.
Ни уговоры, ни просьбы не помогли. Алеша уехал один…
Первые два-три месяца после отъезда сына Мария Никаноровна почти не выходила из дома – раза два в неделю в магазин за продуктами да изредка в поликлинику или в аптеку. Она ни с кем не виделась, сухо отвечала на редкие телефонные звонки. За долгие годы, что она жила далеко от Москвы, выветрились непрочные приятельские связи, а настоящих, ее собственных, личных друзей, как оказалось, у нее никогда и не было, никого, кроме Маши-большой. Но даже к ней она не заходила и к себе не звала. Так прошла зима.
Но в первый же теплый весенний день ее потянуло в их разросшийся сад, на ту скамейку, где часто сиживали они в молодости с подругой, глядя, как дружат и ссорятся их маленькие сыновья.
Теперь на этой скамейке долгие часы, возле коляски со спящей внучкой, просиживала Мария Александровна; привыкшие к работе руки ее неустанно двигались: она вязала, не глядя на спицы, только дойдя до конца рядка, близоруко отсчитывала петли и снова принималась быстро и уверенно набирать на спицы упругие шерстяные колечки. В ее позе, во всех ее движениях было столько спокойствия, что Марии Никаноровне, наблюдавшей за нею из окна, неудержимо захотелось снова посидеть с нею рядом, почувствовать ее доброжелательность и ту внутреннюю силу, которая всегда была для Маши-маленькой опорой и поддержкой в жизни, как бы редко они ни бывали вместе.
Мария Никаноровна торопливо оделась, вышла во двор и тихо присела рядом с подругой. А та, не поднимая головы от вязанья, сказала приветливо:
– Ну, здравствуй, подружка. Наконец и тебя солнышко на улицу вытащило.
– Соскучилась я по тебе, Маша, – тихо ответила Мария Никаноровна. – И вообще – тоскливо мне, жить не хочется.
– Одной – какая радость? Ехала бы к сыну. Зовет.
– А ты откуда знаешь, что зовет?
– Так ведь пишет он мне. И Коле пишет. Тоже ведь и ему тоскливо – родная мать, а помочь ей ничем не может!
– А мне никто уже помочь не может…
– Брось, Мария, брось, милая. Живешь ведь, так надо правильно жить.
– А я, по-твоему, неправильно живу?
– Не знаю.
– Нет, – упрямо тряхнула головой Мария Никаноровна. – Я живу правильно! Я все время, каждую секунду вспоминаю Федю. Не вспоминаю, нет, а перебираю в памяти все свои с ним дни, все часы, даже минуты. Его слова, его остроты, места, где мы с ним бывали. А ведь мы много по миру с ним поездили. Ты знаешь, в скольких мы странах бывали? Не перечесть! И всюду я с ним… Все время, день и ночь, день и ночь я вспоминаю все, все, что было…
Мария Александровна искоса глянула на подругу, и снова сердце ее дрогнуло от жалости. Мария Никаноровна была все такой же ухоженной, аккуратно одетой, волосы были тщательно выкрашены, на маленьких, все еще полных руках розовели покрытые лаком ногти. Она постарела, конечно, легкий слой пудры не мог скрыть морщин, а накрашенные ресницы только подчеркивали, как выцвели глаза и из ясно-голубых стали бледно-серыми… Но не это больно поразило Марию Александровну, а то, что лицо подруги, словно пылью, подернуто было тусклой, болезненной усталостью.
– Язва болит? – с тревогой спросила Мария Александровна.
– Да нет, сейчас не болит. Закрылась.
– Что ж ты… такая? Может, что другое болит?
– Нет. Я здорова, – равнодушно откликнулась Мария Никаноровна.
Обе надолго замолчали.
– Ты, Маша, говори чего-нибудь, – прервала, наконец, молчание Маша-большая. – Ты говори.
Мария Никаноровна не ответила, все так же тускло и скучно глядя перед собой.
– Помнишь, ты мне рассказывала, как вы с Федором Петровичем встретились да как поженились. Помнишь? Так вот расскажи, как ты жизнь-то прожила? Столько ездила, столько видела, а все ни о чем рассказать не хочешь.
Маша-маленькая продолжала молчать.
– Тихая ты больно стала, – с укором сказала Маша-большая. – Бывало, и не остановишь…
– Старость, – откликнулась Мария Никаноровна.
– Какая же старость? Мы ровесницы, а я себя в старухах еще не числю.
– Ты – другое дело. У тебя вот сын, внучка, хозяйство.
– Так и у тебя сын. Женится, и у тебя внуки будут.
– Внуки? Нет! Я не хочу внуков! То есть, – смутилась Маша-маленькая, – не то, что не хочу, а не буду с ними возиться…
– Да ты не больно-то и с Алешкой возилась, – сердито ответила Маша-большая.
– Конечно. Но я… я не могла без Феди. Ни минуты. Ни дня…
И словно бы прорвался какой-то мешавший ей заслон, она торопливо, возбужденно заговорила:
– Знаешь, я вспомнила сейчас нашу первую с ним дальнюю поездку. Алешке тогда уже два года минуло…
С этого теплого весеннего дня, как только Маша-большая выносила внучку гулять, Мария Никаноровна торопилась вниз, во двор, усаживалась на скамью и начинала говорить.
Как и в дни своей молодости, она не замечала, что по многу раз рассказывает одно и то же, описывает те же места, повторяет все те же шутки и остроты мужа. Но Мария Александровна не перебивала ее, не говорила, что она это уже много раз слышала, – она понимала, что только в этом, в этих воспоминаниях и заключается вся жизнь подруги. Иногда она старалась отвлечь ее, заставить рассказать поподробнее о тех странах, где они бывали. Ей интересно было, как там живут люди, какая там молодежь, какие песни поют, каково там живется женщинам. Но ничего этого Мария Никаноровна не знала – она всегда жила только в узком кругу советских колоний и, кроме магазинов, не бывала нигде, не замечала ничего.
Коротич в свое время изучал английский, неплохо объяснялся на французском, свободно говорил по-польски, правда, с заметным белорусским акцентом; Мария же Никаноровна знала только несколько слов, необходимых для объяснения с продавцами в магазинах. О городах, путешествиях, музеях она говорила бегло, словно повторяя стандартные фразы из путеводителей, увлеченно и подробно она рассказывала только о том, что и где говорил Федя, что он делал, какие он носил костюмы и какие дарил ей подарки.
А Мария Александровна жалела ее все больше. Не потому, что она потеряла мужа, отвернулась от сына. Нет. Она жалела ее за то, что подруга прожила такую, в сущности, ограниченную, узкую жизнь, наполненную суетой передвижений и ненужных встреч, легкостью пустого благополучия…
Пришло лето. Зелень в саду потускнела, покрылась пылью. Колина дочка, маленькая Катя, уже бегала по двору, играла с ребятишками, а подруги продолжали подолгу сидеть на той же скамейке, и Мария Никаноровна рассказывала о том же… Марии Александровне с каждым днем все острее хотелось вырвать подругу из этого заколдованного круга воспоминаний, который с каждым днем сужался, и казалось, вот-вот задушит маленькую, аккуратную и беззащитную женщину.
Однажды вечером, уложив Катю спать, Маша-большая вышла во двор и, став под Машино окошко, крикнула:
– Выходи, Мария Никаноровна, посидим, посумерничаем.
Мария Никаноровна вскоре вышла и села рядом с Машей-большой на скамью.
Было душно. Медленно собирались тяжелые тучи, но гроза все не разражалась, хотя где-то далеко за городом ходили по небу бесшумные зарницы.
– Я тебе чего хотела сказать, Машенька, – начала разговор Маша-большая. – Коля получил от Алеши письмо, у него, пишет, девушка появилась, хорошая девушка, может, они и поженятся…
– Да? – обиженно поджала губы Мария Никаноровна. – А мне – ни слова.
– Так ведь еще ничего не решено, зачем тебя заранее тревожить.
– А я и не тревожусь…
– Так вот, – продолжала Маша-большая, – поезжай ты к сыну. Может, понравится невеста, так там и останешься жить, а?
– Вот еще! Пусть сюда привозит ее показать!
– А пусть, – легко согласилась Мария Александровна. – Только я не о том… Не о том, подруга, я…
Она смущенно примолкла.
– Жарко, – сказала она, наконец. – Хоть бы уж дождичек пошел…
– Да.
Обе опять надолго замолчали.
Наконец Мария Александровна, словно рассердившись на себя за нерешительность, сказала громко и несколько суше, чем хотела:
– Ну, вот что, Маша, ты на меня не обижайся, я тебе по дружбе, любя.
– Что? – испуганно спросила Мария Никаноровна.
– Неправильно ты живешь! Неправильно! Нельзя только одними воспоминаниями жить. Не по-людски это!
– Что ж ты прикажешь – забыть? Все забыть? – со слезами в голосе тихо спросила Маша-маленькая.
– Зачем? Как это можно – забыть? Помнить всегда надо. Но так, как ты, одними воспоминаниями – это и не жизнь вовсе. Раз не померла – живи!
– Это и есть моя жизнь…
– Нет! Разве жизнь только в прошлом? Так не бывает! Не должно быть.
– А я не могу иначе… Меня все время тянет и тянет назад… Если бы можно было…
– А нельзя! Понимаешь, нельзя! То ли я в какой книжке прочитала, то ли умный человек мне сказал слово правильное такое: жизнь, мол, не овраг, обратно не перешагнешь! Хочешь не хочешь, а коли живешь, дальше идти надо…
Мария Никаноровна не ответила и продолжала молча глядеть куда-то в пространство. И опять, как в давние дни, Маше-большой захотелось защитить ее: не тормошить, не уговаривать, а просто оградить от горя и боли. Она обняла ее узкие плечи и крепко прижала к себе. И почувствовала, как та всем лицом прижалась к ее шее, потом отстранилась и посмотрела подруге в лицо. Маше-большой показалось, что в глазах Маши-маленькой мелькнула улыбка, и они снова на секунду стали ясно-голубыми.
Вот сколько лет, как ты из цеха ушла, – удивленно сказала Мария Никаноровна, – а от тебя все так же вкусно пахнет!
ЮЛЬКА
Хозяин привез ее из экспедиции в рюкзаке вместе с образцами трав, сухих цветов и мешочками с почвой. Она была еще мала и не знала, что в самолете нельзя скулить и шевелиться; но в рюкзаке было тесно и душно, а ей хотелось побегать, сильно хотелось есть. Она все время старалась высунуть в дырку свою узкую, лисью морду, но хозяин теплой ладонью не больно нажимал на нос и заталкивал ее обратно в темноту. От руки привычно пахло песком, травой, ветром, и она ненадолго успокаивалась.
История ее семьи была проста и печальна: мать ее, длинную, непомерно худую степную борзую, задрал одинокий весенний волк – она пыталась спасти своих спрятанных в норе щенят. Но волк оказался моложе и сильнее, и ему было наплевать, что она – потомок тех благородных, знаменитых степных борзых, которые участвовали когда-то в конной лисьей охоте в огромной Голодной степи и могли обогнать любого байского скакуна. Мать погибла, и волк целиком, без остатка, съел двух ее кутят. А третий спасся. Это была она, та, что сидела в рюкзаке. Ее спасло любопытство. Ей давно хотелось узнать, что это там торчит на горизонте и почему оттуда каждый вечер доносится запах огня, смешанный с запахом чего-то непонятного, но вкусного. Она была сильнее своих братьев, ноги у нее были крепче и длиннее, характер самостоятельнее. Однажды, несмотря на укусы и толчки матери, она все-таки удрала из норы и добралась до палатки. Вход был широкий, удобный, туда не надо было проползать, она просто вбежала внутрь. И не успокоилась до тех пор, пока не осмотрела, не обнюхала все. Для этого ей пришлось немало потрудиться – она перевернула несколько ящиков, сорвала со стены висевшие там тряпки, на всякий случай изорвала их и разметала по полу. Устав, она улеглась на мешке, набитом нежно пахнущим сеном, и мирно уснула, не ожидая и не предвидя ниоткуда опасности.
Проснулась от странных звуков – длинные двуногие существа шумели, двигались и как-то странно лаяли. Но почему-то ни шаги, ни человеческие голоса, которых до той минуты она никогда еще не слышала, не напугали ее – все было не страшно, а только крайне любопытно.
Черт возьми, смотрите – лиса! – крикнул один из вошедших, тот, кто пониже.
Какая лиса? Борзая? Их тут много по степи бродит. Но я никогда не видел, чтобы они подходили близко к людям, – одичали за столько-то лет.
Высокий присел на корточки, протянул руку, чтобы погладить щенка.
– Осторожно, укусит! – сказал низенький.
Но собака и не думала кусаться. Ей стало почему-то весело. Она соскочила с матраса, подняла голову и вдруг улыбнулась.
– Гляди, гляди, она смеется! Вот чудеса!
– Какие ж чудеса! Собаки даже очень умеют смеяться. У нас дома, на Валдае, их три было – отец почти до самой смерти егерем работал, – так он с ними если заговаривал, обязательно улыбались в ответ… – сказал высокий. – Ну, пойди, пойди ко мне, ласковая ты псина…
Он взял щенка на руки, потерся щекой об узкую мордочку, вынес из палатки, опустил на землю.
– Ну, беги, беги домой.
Но собака никуда не собиралась убегать – где-то здесь поблизости была пища. Она подняла морду, понюхала воздух и безошибочно направилась к вбитому в песок близ палатки столу, на котором уже были расставлены миски с ужином. С той легкостью, с которой владеет всеми мускулами своего длинного тела только степная, дикая борзая, она сжалась в комок и, словно выпущенная из катапульты, взлетела на стол и забегала, разбрасывая ложки, миски, хлеб, выискивая то, что можно схватить зубами.
– Эй, чертова Булька, ты куда?! – закричал, подбегая, низенький.
Высокий схватил ее и снова прижался лицом к ее пыльной шерсти.
– Какой же это Булька? – засмеялся он. – Булька – это мужчина, а она дама, Юлька!
…Так она спаслась от волка, так осталась жить в палатке, стала Юлькой, попала в Москву и навсегда признала своим другом того, кто первый ее приласкал.
С той поры Юлька жила вместе с Хозяином в небольшой двухкомнатной квартире.
Как только Хозяин вытащил ее из рюкзака, она мгновенно обследовала все, что можно было здесь обследовать; ворвалась в кухню, до белого молчания напугав полную, веселую сорокалетнюю соседку Хозяина тетю Настю, подпрыгнув, снизу вверх шершавым теплым языком от подбородка до бровей облизала ее сумрачного четырнадцатилетнего сына, которого все и всегда называли полным именем – Валентин, схватила поставленные под вешалкой в передней мягкие Настины тапочки и стала носиться взад и вперед по коридору, не обращая никакого внимания на строгие окрики Хозяина.
– Это что еще такое? – закричала оправившаяся от испуга Настя. – Гоните, гоните ее из дому! Она все тут перевернет!
– Да нет, Настасия Ивановна, она мирная, – смущенно пробормотал Хозяин.
– Мирная! А кто за ней убирать будет? Кто?! – унималась Настя.
– А я! – неожиданно сипловатым баском отозвался Валентин.
– От тебя дождешься! Все на меня, все я…
– А вот – буду!
Мать глянула на него и удивилась – на всегда насупленном, замкнутом лице паренька появилась робкая неумелая и нежная улыбка.
– Ее как зовут, дядя Коля? – спросил мальчик.
– Юлька…
– Господи твоя воля! – снова всполошилась Настя. – Такую, с позволения сказать, животную женским именем назвали! Веретено она, а не Юлька! Веретено!
Но оба – и Валентин, и дядя Коля – поняли, что гроза прошла, что женщина кричит попросту для порядка.
И, как бы в подтверждение этого, Настя вдруг превесело рассмеялась.
– Вы посмотрите, что она с моим тапком сделала! Отдай, чертенок! Отдай, тебе говорят!
Но Юлька только еще быстрее завертелась по прихожей, с притворной яростью трепля зубами злополучную тапочку.
– Голодная, что ли? – негромко спросила Настя.
– Голодная, – ответил дядя Коля – Хозяин. – Нельзя же было ее в самолете кормить, она зайцем ехала, без билета…
– А щи она будет есть?
– Да лучше бы кашу… овсяную… Я вот книгу привез – как ухаживать за борзыми…
– Это можно, – ответила Настя. – Овсянка есть. Каждое утро перед школой Валентина овсянкой кормлю… Сытно. И полезно; говорят…
– Там с утра в кастрюле осталось, – сказал Валентин. – А молоком можно разбавить?
– Можно…
Так и осталась Юлька жить в Москве, опекаемая всеми жильцами квартиры. Утром и после школы с нею гулял Валентин, вечером, после работы – Хозяин, ну, а Настя кормила, внимательно изучив по книге собачье меню, – она натирала в кашу морковку, яблоки, постепенно, по мере того, как Юлька росла, стала разбавлять овсянку мясным бульоном, словом, полностью и без протестов взяла на себя заботу о ее питании.
У дяди Коли в комнате был балкон, который он, уходя из дома, не закрывал до первого снега. Сначала Юлька боялась балкона и подолгу сидела на пороге открытой двери, глядя на противоположный дом, почти закрывший небо. Но, став старше, она спокойно выходила из комнаты, укладывалась на полу, просовывала узкую голову сквозь решетку перил и смотрела вниз, во двор. Там всегда было сумеречно, даже в дни, когда над Москвой светило солнце. Может быть, потому, что двор был где-то далеко внизу.
К вечеру Юлька возвращалась в комнату, садилась напротив двери в прихожую и нетерпеливо ждала той минуты, когда хлопнет лифт, Хозяин появится на пороге и, не раздеваясь, скажет одно только слово:
– Гулять!
Юлька бросалась к нему, радостно повизгивая, – она так и не научилась ни лаять, ни кусаться и вообще со всеми людьми – как знакомыми, так и незнакомыми – вела себя одинаково доброжелательно. Она кругами носилась по замкнутому, скучному двору, обнюхивала все подряд, несмотря на окрики Хозяина «отрыщ!», разгоняла стайки пасущихся голубей, заигрывала с солидными, привязанными к поводкам собаками, извиваясь своим узким, длинным телом, приставала к ребятишкам, словом, демонстрировала всем свою доброту и покладистость. Наконец наигравшись, она привычно выбегала на улицу направлялась в сторону Тимирязевского леса – надо было только перебежать железнодорожное полотно, там…
Она быстро привыкла к запаху высоких сосен, к терпкому аромату гниющего иглива, к шороху листьев, падавших с берез. Она бегала по лесу, выискивая мелкое зверье, накалывала нос на ежиные шарики, раскапывала брошенные муравейники, потом, усталая и запыхавшаяся укладывалась у ног Хозяина, высоко приподняв задние лапы и, уложив морду между вытянутыми передними, отдыхала.
А еще она любила среди дня гулять с Валентином, демонстрируя собиравшимся вокруг ребятам все те штучки, которым терпеливо обучал ее Валентин. Она мчалась на его негромкий, но какой-то особенный переливчаты свист, услышав короткое «гоп», с легкостью перепрыгивала палку, поднятую на двухметровую высоту, ловила подброшенную вверх шапку, беспрекословно исполнял приказы «к ноге!» и «рядом!», гордо обходя двор по кругу. И Валентин был не менее горд ее умом, послушанием, сноровкой. Прежде нелюдимый и замкнутый, он охотно болтал с товарищами, рассказывал правдивые и выдуманные истории о борзых, о скорости их стремительного бега, об их охотничьих талантах.
И вообще атмосфера в их маленькой квартире с появлением Юльки заметно изменилась. Словно все ее обитатели, прожившие уже немало лет вместе, впервые как следует познакомились друг с другом, а дядя Коля и Валентин даже подружились.
Почти каждую весну дядя Коля надолго, до самой осени, уезжал – он работал шофером в Институте ботаники Академии наук, а летом отправлялся в экспедиции, исполняя там обязанности не только шофера, но и рабочего, коллектора, повара, – словом, как его называл начальник, был незаменимой «медхен фюр аллес». И хот он изрядно уставал и возвращался в Москву каждый раз почерневшим и похудевшим, он ни за что не отказался бы от этих трудных, но увлекательных путешествий. Раньше, до появления в доме Юльки, он не рассказывал ни Насте, ни Валентину, где бывал, что делал, что видел. Теперь же он мог часами увлеченно говорить с Валентином то горах Тянь-Шаня, то о Голодной степи, то о Каракумах, о цветах и травах, об удивительной, скупой и прекрасной растительности этих трудных для всего живого мест. Его радовало, когда он замечал, как под влиянием его рассказов худое, большеротое, некрасивое лицо Валентина смягчалось, становилось наивно-мальчишеским и мечтательным.
Настя быстро смекнула, что ее одинокий сосед привязался к мальчику, и тут же использовала эту его привязанность с полной выгодой для себя: в те дни, когда она ждала своего постоянного ухажера – водителя трамвая, она заглядывала к соседу и елейным голосом просила:
– А можно, Николай Петрович, Валентин сегодня у вас уроки поделает? Ко мне подружка придет, хочется поболтать на свободе.
В такие минуты лицо Валентина снова становилось сумрачным и злым.
– Подружка! – иронически цедил он сквозь зубы, но послушно раскладывал на столе у соседа свои книги, тетради и делал вид, что усердно трудится, только изредка перешептываясь с лежащей у его ног Юлькой…
Зимой группа, что ездила в прошлом году в Голодную степь, занималась обработкой материалов, готовила публикации, высаживала в лабораторных ящиках привезенные корни, высевала семена. Весной они, наконец, получили опытный участок в Опалихе для посева вывезенных из пустыни однолетних и многолетних лекарственных растений. Каждое из них требовало особых условий – климатических, ветровых, солнечных. Весна была пасмурной, и над полуголым участком в полгектара выросли странные сооружения: пока еще неподвижные ветраки и длинные ряды ламп дневного света.
В группе их было всего четверо – начальник и его ассистент, рабочий Василий – тот самый, низенький, полный, который когда-то принял Юльку за лису, и все тот же «многостаночник» дядя Коля. Утром он привозил группу в Опалиху и там оставался со всеми до позднего вечера, выполняя любую работу – от пахаря до электрика – с одинаковым удовольствием и спокойствием.
А Юлька росла и хорошела. Шерсть ее потемнела, стала палево-золотистой, на втянутых боках и вогнутом животе – ярко-белой, на острых ушах выросли длинные, темные кисточки, а глаза, обрамленные длинными ресницами, – блестящие, карие, – похожими на глаза мечтательной девушки. Хвост опушился как уланский султан. Словом, она стала взрослой собакой с элегантной походкой и горбоносой, аристократической мордой.
Вся забота о ней перешла теперь целиком к Валентину. Хозяин приезжал поздно и такой усталый, что не в силах был ни погулять с нею, ни даже поиграть. Настя же почти не бывала дома – все свободное от магазина, где она работала кассиршей, время проводила со своей «подружкой» то за городом, то у него.
Это нисколько не огорчало ни Валентина, ни Юльку Конечно, Юлька по-прежнему хорошо относилась к Хозяину, беспрекословно слушалась его и даже немного побаивалась – Хозяин есть Хозяин! Но всю свою нежность, всю свою собачью преданность, все разнообразны и тончайшие чувства она отдавала Валентину. Его она любила. Преданно, нежно, самозабвенно. А этот когда-то сумрачный, неласковый мальчишка отвечал ей тем же. И хотя он много занимался – кончал восьмилетку – последнее время тоже мало бывал дома – задерживался в школе на дополнительных, сидел в библиотеке, – с ни на минуту не забывал о Юльке: гулял, варил ей еду ходил с нею купаться на Тимирязевский пруд. Куда бы он ни направлялся – в магазин ли за продуктами, по материным поручениям, заниматься к товарищу, Юлька всегда спокойно вышагивала без поводка «у ноги». Оба понимали друг друга с полужеста, оба счастливы были своей дружбой. Валентин жалел только об одном: нельзя приводить Юльку в школу; он свято верил, что она никому бы не помешала и все уроки тихо сидела бы под его партой, но в душе он немного осуждал себя за эти мысли, они казались ему уж очень «малышовыми», и все же… и все же ему этого очень хотелось. Но раз нельзя, – значит, нельзя…
Однажды ранней весной Валентин простудился и несколько дней пролежал с температурой в постели. В первую же ночь Юлька зубами притащила в их комнату свой не очень чистый матрасик и преспокойно улеглась возле его кровати. С той поры она так и осталась жить в Настиной комнате – ни угрозы, ни пинки не могли заставить ее переменить свое решение…
Наконец занятия в школе кончились, Валентин не очень блистательно, но вполне прилично перешел в девятый. И первое, о чем он подумал, получив переходное свидетельство, – теперь все долгое лето можно быть безраздельно с Юлькой!
В этот день мать никуда не пошла после работы, даже испекла пирог и, усевшись с Валентином за празднично накрытым столом, негромко и немного смущенно сказала:
– Ты ешь, ешь, Валентин, с яблоками пирог, твой любимый…
А Валентин торопился допить чай и пойти гулять с Юлькой.
– Еще не поздно, – сказал он, – мы с Юлькой на пруд сбегаем, искупаемся…
– Ты погоди, сынок, – непривычно ласково обратилась к нему Настя. – Не торопись, посиди с матерью-то…
Что-то в ее голосе, в смущенной улыбке, в неуверенных движениях заставило Валентина насторожиться.
Лицо его снова стало хмурым, взгляд недобрым.
– Что? – спросил он. – Ты что мне хочешь сказать. Говори.
– Да что ты так сразу?
– Именно – сразу, – сухо бросил Валентин.
– Ты, сынок, уже большой вырос. Вот восьмилетку кончил. Да и ростом вот какой – мужик, как есть – мужчина…
Юноша молчал, ждал, что будет дальше.
– Я тебе… я давно тебе хотела сказать – я замуж выхожу…
– За подружку? – иронически усмехнулся Валентин. Мать вспыхнула, хотела сказать что-то резкое, но сдержалась.
За Алексея Александровича. Да. Ты уже парень почти что взрослый, понимаешь – больше не к чему на ним прятаться… Да и он, знаешь, так вопрос ставит – хватит, мол, чего тянуть? Мы не молоденькие. А если, мол, я не согласная сейчас, то потом, может, и поздно быть… Понимаешь? А что мне свое счастье упускать? Мне ведь тоже, знаешь, не двадцать… Понимаешь ты меня, сынок?
– Понимаю, – сумрачно откликнулся Валентин.
– Ну вот… вот и хорошо… Значит, не против. А я, признаться, боялась…
– Меня?
– Да не тебя… того, что ты не согласишься…
– Так ведь не я замуж иду… Ты к нему, что ли, переедешь?
– Как можно! У него ведь комнатка всего семь метров. Семь. А у нас – двадцать четыре!
– А мы… а нам же куда?
– Кому это – нам?
– Ну, нам с Юлькой…
– А при чем тут Юлька? Она не твоя. У нее хозяин есть… А тебе мы угол выделим. Шкафом заставим, а как с деньгами соберемся, может, и перегородку какую поставим…
Валентин молчал. Что он мог сказать матери?
– Мы хорошо все придумали с Алексеем Александровичем. Будешь, как в отдельной комнате жить… Согласен?
Валентин промолчал, только пожал плечами и собрался, было, встать из-за стола.
– Нет, нет, – испуганно заговорила мать, – не все еще… не все…
– Что еще?
– Ты большой уже, взрослый почти, – заторопилась Настя, забыв, что уже только что это говорила. – Ты только не обижайся, не обижайся на Алексея Александровича… Ты пойми…
– Да что такое?
Он вот что говорит… Он говорит, что пора… что неплохо было бы тебе пойти куда-нибудь работать. Учеником сперва. А там, глядишь, и специальность приобретешь. А учиться, если захочешь, так сможешь потом, попозже, и в вечерней учиться… Многие даже вечерние институты кончают… Вот у них…
Валентин встал, резко оттолкнув стул так, что тот с размаху ударился о шкаф.
Секунду он сверху вниз смотрел на красную, возбужденную мать. Ее растерянность вызвала в нем мимолетную жалость, но обида и раздражение тут же начисто смыли это чувство. Он сказал резко, сухо:
– Скажи своему… Алексею Александровичу, что его хлеб я есть не буду. Пусть не волнуется!
И, свистнув Юльке, выбежал из комнаты…
… А наутро, после длинного ночного разговора с дядей Колей, они все втроем – дядя Коля, Валентин и Юлька – явились к начальнику.
– Вот, – решительно начал дядя Коля. – Подсобника привел, Виктор Николаевич.
– Как подсобника? А Василий?
– Жена Васина давно мечтает хоть один летний от пуск с ним вместе провести. Повезут ребятишек к матери, в деревню.
– Так ведь у нас со штатами знаете как, Николай Петрович… У нас одна единица – коллектор.
– Научится! Он парень смышленый. И образованный. Я вот научился, а у меня всего семь классов-то.
– Не могу, знаете ведь, без квалификации…
– Так мы же разовых берем! Пока так, а зимой он уже паспорт получает…
– Паспорт? А я думал, тебе уже, по крайней мере, восемнадцать – вот какой вымахал. Нет, решительно не могу… Разве что на лето… Да нет, у нас на разовых только тридцать рублей в месяц отпускают… А без зарплаты… Нет, решительно – не могу!
– А не надо, не надо ему зарплаты! – заторопился дядя Коля. – Мы его просто на свой кошт возьмем. Ну, вроде – сын полка, что ли…
Начальник засмеялся.
– И собаку его – тоже на свой кошт? Как дочь полка?
– Ну, это уже моя забота… А вы что, не узнали ее? Это же Юлька!
– Что вы говорите? Какая красавица! А была – облезлый лисенок! И только!
Юлька, тотчас поняв, что говорят о ней, и не просто говорят, а хвалят ее за что-то, оторвалась от колена юноши, подошла к начальнику и доверчиво подсунула голову под его руку.
Тот рассеянно потрепал ее по лбу и обратился к юноше:
– Школу ты ведь еще не кончил? В какой класс перешел?
– В девятый.
– Что ж, дальше учиться не хочешь?
– Да хочет, хочет, – не дал ему ответить дядя Коля. – Но вот… ну, скажем, по семейным… не может сейчас… Поработает у нас года два, ну и пойдет в вечернюю… А там…
– По семейным, значит, – задумчиво произнес начальник. – Ну, что ж, попробуем. Зовут тебя как?
– Валентин.
– Как торжественно! А мать тебя как называет, товарищи? Валя?
– Нет. Все так и зовут – Валентин.
– Ну, Валентин так Валентин. Что ж, говорю, попробуем. А собаку куда же? Неужто с собой?
– Так ведь это – Юлька! – уже уверенно и радостно сказал дядя Коля.
– Ладно. Когда приступишь? Только помни – зарплата у нас…
– Да ладно, договорились. О зарплате не поминайте больше, – деловито перебил начальника дядя Коля. – А приступать – сегодня же… сейчас в смысле… Пошли. Перетащим в машину все, что нужно, и поехали…
Юлька спокойно двинулась вслед за направляющимся к двери Валентином. У порога она обернулась, махнула хвостом и вежливо улыбнулась начальнику.
– Ишь, признала за своего, – рассмеялся дядя Коля. – Ну, иди, иди, я сейчас…
Во время обеда, который вся группа ела у вбитых неподалеку от опытного поля козлах, на широкой, необструганной доске вместо столешницы, Юлька сидела поодаль, чуть отвернувшись, словно хотела подчеркнуть, что она – собака воспитанная и не любит попрошайничать. Когда начальник, не удержавшись, хотел кинуть ей кусок намазанного маслом хлеба, Валентин строго сказал:
– Не надо. Она к этому не приучена. Мы со стола ей никогда ничего не даем… Она собака, не кошка…
– Извини, – смутился начальник. – Это действительно нехорошо…
Так началось первое трудовое лето Валентина. По вечерам, после окончания рабочего дня, пока дядя Коля готовил к отъезду свой старенький, вечно портившийся пикап, они с Юлькой уходили далеко в поле или забирались в негустой лесок, что окружал ближние дачные строения. Возвращались оба веселые, довольные, возбужденные. Юлька с удовольствием забиралась в машину – не сговариваясь, ей навсегда уступили место у окна слева. Она дружески клала лапы на спину дяде Коле и всю дорогу, не отрываясь, смотрела на мчавшееся навстречу ей шоссе.
Валентин удивительно быстро привык к своим несложным обязанностям. Вскоре ассистент начальника стал поручать ему более сложные и кропотливые работы. К осени он уже настолько освоился с делами группы, что свободно ориентировался в сортах и режимах, научился вести дневник, запомнил сложные названия и термины.
Когда урожай был собран и поле подготовлено к зиме, его вызвал начальник…
– Что ж, – сказал он, – теперь могу тебя зачислить к нам коллектором. Зарплата, правда, маленькая, восемьдесят, да все больше, чем ты до сих пор получал.
– Спасибо.
– Рад?
– Ага.
– Ну, а дальше-то что? Кем ты вообще хочешь стать? Не задумывался?
– Не знаю еще, – после короткого молчания ответил Валентин.
– Может, ботаником? Как мы?
– Не знаю.
И вдруг доверчиво улыбнулся. Начальника это удивило – паренек редко улыбался и веселым, открытым бывал только с Юлькой.
– Ну, все-таки? – снова задал он юноше тот же вопрос. – Неужели не думал никогда?
– Думал, – снова улыбнулся Валентин. – Я, знаете, ездить хочу. Много ездить. И ходить. Я люблю ходить. Далеко.
– Геологом, что ли?
– Да нет. Может, географом? И чтобы – новые места. Всегда новые… И если бы одному ходить… вот, с Юлькой…
– Лесником, что ли? Валентин задумался.
– Нет, – ответил он, наконец. – Я степь люблю, поле, чтобы кругом свободно… Чтобы не как в городе, или в лесу, а просторно… Свободно…
– Ну, ладно, иди. Еще успеешь надумать… Так, значит, берем тебя, как только паспорт получишь.
– А я уже получил.
– Вот и хорошо. Иди…
«Странный парень, – подумал начальник, когда Валентин вышел. – А может быть, нет? Может быть, все мы в его возрасте хотели именно полной свободы, только не умели так сформулировать, как он? Да, наверное… И все-таки – необычный он какой-то, серьезный, почти взрослый, а по существу совсем еще мальчишка…»
…Теперь Юлька на целый день оставалась одна – в Институт, как и в школу, ее нельзя было брать с собой. Но все как будто оставалось по-старому: утром, как раньше перед школой, теперь перед работой ее выводил Валентин, придя с работы, кормил и снова выгуливал, а вечером с нею гулял дядя Коля. Но жила Юлька теперь уже дома, у Хозяина, – по настоянию Насти, которая побаивалась своего строгого и аккуратного Алексея Александровича, Юльку на весь день запирали в комнате. Балкон замазали, но Юлька не отказалась от своей старой привычки и подолгу, положив лапы на подоконник, смотрела на противоположный дом, на прогуливавшихся по перилам голубей, на видный отсюда угол двора. Все как будто было как прежде, но Юлька тосковала. Она взрослела и томилась в одиночестве. Уже не так радостно встречала она по вечерам Хозяина, а в те дни, когда ему случалось выпить с товарищами, она вообще к нему не подходила, не откликалась на его зов, на предложение «гулять!». Он сердился, называл ее трезвенницей, обзывал «участковым», но переупрямить ее не мог – она смотрела на него спокойно, не огрызалась, но молча отскакивала от его протянутых рук и, если могла, уходила на кухню, к своей миске, и принималась лениво, не заинтересованно есть. В конце концов, Хозяин отступался и укладывался спать. Тогда Юлька возвращалась в комнату, укладывалась на свой матрац и, повздыхав и тихонько поскулив, в конце концов, засыпала…
Весна в этом году была ранняя и жаркая. Уже в конце марта стаял снег. Открыли балкон, и Юлька первая выбежала, привычно просунула голову сквозь перила и, вздрагивая кожей, с наслаждением втянула в трепещущие ноздри влажный, прохладный воздух. Так она и стояла неподвижно, настороженно до самого вечера, пока в противоположном доме не засветились окна. Тогда она легла на захолодавший бетон и пролежала здесь до утра. Ночью Хозяин слышал, как она протяжно вздыхала, а иногда даже коротко взлаивала, чего никогда не делала раньше. Неизвестно, спала ли она в эту ночь. Может быть, спала. А может быть, ее посещали видения – то ли сны, то ли воспоминания. Может быть, ей слышалось сухое шуршание передвигающихся барханов, виделось огромное, тусклое от жара солнце, и степь, степь с редкими рощицами уродливого саксаула. А может быть, она слышала лисий визг во время гона или виделся ей лет скакуна, окруженного распластанными над землею телами узкогрудых собак. Если бы Юлька была человеком, она подумала бы обычными словами: «тоска по родине» или «зов предков». Но Юлька была собакой. Она умела только грезить…
В начале апреля вся группа, включая и Валентина, начала подготовку к экспедиции. Они снова отправлялись в Голодную степь исследовать ее скупую, но удивительно интересную флору.
Они ехали на родину Юльки.
А Юлька была уже взрослой собакой – ее нельзя было уже ни посадить в корзину, ни спрятать в рюкзак. И Николай Петрович и Валентин прекрасно понимали, что положение складывается почти безвыходное – нелепо было брать ее с собой, да и начальник мог не согласиться; нельзя было и оставить ее в Москве – Настя ни за что не решится обратиться с таким предложением к мужу. Да и кто бы стал заботиться о Юльке, кто бы гулял с ней? Оба – и дядя Коля, и Валентин – неустанно думали о Юлькиной судьбе, мучились, но ничего придумать не могли.
Помощь пришла с неожиданной стороны. Однажды вечером Настя постучалась к соседу.
– Зайди и ты, Валентин, – сказала она, как всегда немного возбужденно. – Это и тебе интересно… Вот какое дело. Алексей Александрович узнал тут у товарищей, есть такой добрый человек, который берет на время чужих собак. Ему даже не очень много денег надо платить – он их и кормит хорошо, и гуляет с ними, и даже воспитывает – учит там всяким штукам. Он инвалид, правда, но на улицу выходит, собак выводит. И хозяева потом довольны – собаки здоровы, сыты. Как, а?
Дядя Коля и Валентин посмотрели друг па друга, потом оба на притихшую Юльку.
– Подумать надо, – нерешительно сказал дядя Коля.
– Да что тут думать? Да и когда – вы, ведь, на той неделе уезжаете? А я с ней ни за что не останусь! Ни за что! Алексей Александрович так и сказал – не разрешаю! И все! Он ее просто выгонит!
– Что ж, – после короткого раздумья сказал дядя Коля. – Давайте адрес. Завтра отведем…
Инвалид этот жил на соседней улице в большом новом доме со множеством подъездов. Квартира его, расположенная на полуторном этаже, окнами выходила в тихий, замкнутый дворик. На балконе стояло много цветочных горшков, сушились полотенца. Под самым балконом – высокая куча желтого, чистого песка.
Прежде чем зайти с Юлькой в подъезд, Валентин и дядя Коля внимательно все осмотрели.
– Ничего, а? – спросил дядя Коля юношу.
– Ничего. Чисто.
В подъезде тоже было чисто, но обоих поразил отвратительный, гнилостный запах, словно дым, ударивший в ноздри.
– Фу! – сказал дядя Коля. – У кого-то что-то подгорело.
Они позвонили в нужную квартиру и долго ждали, пока им открыли. Наконец, заскрежетали замки – один, другой, третий, дверь приоткрылась, и в щель они увидели грузного, неопрятного человека на двух костылях.
Чего надо? – спросил инвалид нелюбезно.
– Да вот… – сказал дядя Коля. – Послушайте, чем это у вас так отвратительно пахнет? Горит что-то?
– Чего надо? – еще более резко спросил хозяин квартиры. – А, вы с собакой. Давайте. Мои условия – пятьдесят рублей вперед, а там будете вносить ежемесячно. По двадцать пять. Кличка?
Все в этом человеке было отталкивающим – грязные, неопределенного цвета широченные штаны, засаленная рубаха, исходивший от него запах давно не чищенной выгребной ямы, отекшее, злобное лицо с крошечными глазами, даже скрюченные ноги в ортопедических ботинках.
– А можно нам зайти, посмотреть квартиру? – робко спросил дядя Коля.
– Вы что, собираетесь со мною меняться? Нет? Ну, так вам здесь нечего смотреть. Давайте деньги, собаку и уходите. Кличка?
– Юлька, – тихо сказал Валентин.
– Что ж, Валентин, у нас другого выхода нет. Как ты считаешь?
– Да.
– Ну, так, – вздохнул дядя Коля. – Вот вам деньги. И еще овсянка. Давай, Валентин. Вот. Пять коробок. Этого ей пока хватит. Через месяц пришлем по почте двадцать пять. Дороговато вы берете, да ничего не поделаешь, выхода у нас нет… Иди, Юлька, иди, не волнуйся, мы тебя не бросим. Вернемся, и опять дома заживешь… Иди, псина…
Три дня оба они ходили мрачные, молчаливые, расстроенные. Наступил день отъезда. Поезд уходил вечером, все вещи вчера еще были сданы в багаж, с собою брали только то, что помещалось в рюкзаки. До поезда оставалось еще часа два. Все было уложено, собрано, делать дома больше было нечего. Оба, и взрослый, и юноша, понуро бродили по пустой квартире – с матерью Валентин попрощался еще утром, – обоих томило одно и то же желание – попрощаться с Юлькой. Наконец Валентин не выдержал:
– Сходим, дядя Коля, а?
– Так, может, мы ее только расстроим? – неуверенно ответил дядя Коля.
– А мы не зайдем. Только поглядим на нее и уйдем…
– Что ж, пошли… Как-то так нехорошо – бросили, и все… Идем!
Надели рюкзаки, заперли квартиру – возвращаться сюда было уже ни к чему, быстро прошагали короткое расстояние, отделявшее их от дома, где жил инвалид, прошли под аркой во двор и тихонько взобрались на песочную кучу. На улице было уже почти темно, поэтому им хорошо было видно все, что делалось в освещенной комнате. Инвалид сидел за столом и что-то ел, вытаскивая куски прямо из миски своими непомерно длинными, огромными руками. Костыли стояли рядом, прислоненные к стулу.
Вдруг он замахнулся, пронзительно крикнул:
– Ах ты дрянь этакая! Схватил костыль и ткнул кого-то.
И вдруг Валентин и дядя Коля увидели – на балкон вылетела Юлька. Она испуганно забилась в дальний угол, но костыль достал ее и здесь – не выходя из комнаты, инвалид тыкал и тыкал ее в бок. Юлька извивалась, изворачивалась, но костыль настигал ее снова.
– Господи! – охнул дядя Коля.
Валентин взбежал на самый верх песчаной кучи. И вдруг вечернюю тишину двора пронзил тихий, переливчатый, радостный свист.
И в ту же секунду, даже не разбежавшись, а только сконцентрировав всю свою стремительность и силу длинных, послушных лап, Юлька перемахнула через перила балкона и упала на песок у самых ног Валентина. Падение не ошеломило ее – она вскочила, отряхнулась, словно от воды, и, подпрыгнув, облизала лицо юноши снизу вверх, от подбородка до волос. И тут же оба помчались по двору к арке. За ними тяжело бежал дядя Коля. Под аркой они остановились, чтобы перевести дух.
– Вот, – сказал Валентин, протягивая дяде Коле поводок, – я у ребят заграничный карабин выменял.
Из-под арки они вышли уже не торопясь – два солидных человека с рюкзаками за плечами и спокойно шествующая на поводке собака.
Когда они завернули за угол и вышли на шумную Красноармейскую, Валентин с досадой произнес:
– Вот гад! Полсотни-то он зря прикарманил!
– И пять коробок овсянки! – вздохнул дядя Коля.
– Ничего, овсянку я еще вчера вместе со всеми вещами в багаж сдал.
– Дядя Коля глянул на юношу и весело рассмеялся.
– Ну и хитрец же ты, Валентин! Значит, ты все это заранее придумал?
– Да нет, – улыбнулся в ответ Валентин. – Это я так… на всякий случай…
После трехдневного путешествия они, наконец, добрались до той самой лощинки среди барханов, куда впервые когда-то прибежала Юлька, где спаслась от волчьих зубов и подружилась с Хозяином.
В поезде Юлька вела себя спокойно и почти все время спала. Но как только все погрузились в машину и стали углубляться в Голодную степь, Юлька явно стала нервничать. Она высовывала свой длинный нос в открытое окошко, то спрыгивала с сиденья, то снова взбиралась на него, тыкалась холодным носом в шею дяди Коли и обливала его потоками слюны. Даже Валентин не мог ее успокоить.
Юлька первая выскочила из остановившейся машины. И впервые в своей жизни подала голос: коротко, резко залаяла. Нагнулась, понюхала песок, всмотрелась в бесконечные, ритмичные волны барханов, и лай ее перешел в странный, утробный вой. Она рванулась, словно ее кто-то удерживал сзади, взвилась вверх и огромными скачками помчалась в степь, вперед, туда, прямо к ослепительному заходящему солнцу.
– Она вспомнила, – растерянно сказал дядя Коля.
– Пожалуй, не вернется, – сказал начальник…
…Валентин не ложился, не гасил костра, сидел, охватив колени руками, поеживаясь от холодного ночного ветра.
Юлька явилась ночью. Подбежала к парню, виновато лизнула его в щеку и прижалась к нему теплым боком. Он легонько потрепал острые Юлькины уши.
– Вернулась?
Юлька улеглась рядом, смешно наклонила голову, заглянула парню в лицо и успокоилась, – нет, он на нее не сердился, он был рад ее возвращению.
– Ну, что? – тихо спросил Валентин. – Хорошо тебе было там, на воле? – Поднялся, затоптал костер. – Пошли спать, Юлька. Скоро утро…
Несколько дней Юлька не отходила от палатки. Как ни звал ее с собою Валентин, она упорно сидела на пороге, только иногда поднималась, вытягивала морду и, тревожно трепеща ноздрями, нюхала ветер, несший со степи запах раскаленного песка, сухих трав, горьковатый запах свободы. На пятый день, возвратившись из очередного похода в степь, группа не застала Юльки. Она не откликнулась ни на зов Хозяина, ни на Валентинов свист.
– Ушла, – сказал начальник. – Теперь – совсем. Ночью Юлька опять вернулась. И с этого дня стала часто и надолго убегать в степь. Но всякий раз возвращалась. К этому все привыкли и перестали о ней беспокоиться.
Так прошло тяжелое, жаркое лето и длинная, ветреная осень. Наступило время отъезда. Группа паковала в ящики набранный материал, дядя Коля разбирал и чистил машину перед далекой поездкой.
А Юлька стала заметно нервничать. Она беспокойно металась по лагерю, ни к кому, даже к Валентину, не приближалась близко, а если кто-нибудь пытался ее погладить – даже огрызалась. Но все были заняты, и всем было как-то не до нее.
И вот все уложено, погружено, все уселись по местам, ждали только, когда поднимутся в машину Валентин и Юлька.
Юноша стоял у открытой дверцы кабины, Юлька – в нескольких шагах от него, наблюдая за происходящим. Поза ее была странной и отчужденной: тело, словно готовое к прыжку, вытянулось в сторону степи, голову она чутко и напряженно повернула к людям. Как будто она ждала чего-то. Какого-то окончательного решения.
– Валентин, Юлька, что же вы? – нетерпеливо крикнул дядя Коля, высунувшись из кабины.
Услышав голос Хозяина, Юлька не бросилась к нему, дрогнула всем телом и осталась стоять в той же позе.
– Юлька! – снова крикнул Хозяин.
Юлька отбежала на несколько шагов, остановилась, из-за спины, изогнувши голову, продолжала смотреть на людей.
– Юлька! Тебе говорят! Хватит баловаться, – строго крикнул Хозяин.
Но Юльку этот приказ только подстегнул – она отбежала еще дальше и остановилась.
И все поняли – это не было игрой, нет, она всерьез не хотела подчиняться, она не хотела уезжать, она не хотела к людям.
– Валентин! Что же ты?! – растерянно сказал дядя Коля. – Позови ее. Свистни. Тебя она послушается…
Но парень не откликнулся. Он молча смотрел на Юльку, и по лицу его нельзя было понять, огорчен он или радуется чему-то, расплачется сейчас по-детски или улыбнется.
А Юлька рывками отбегала все дальше.
– Валентин. Да свистни же!
Юлька в последний раз оглянулась и вдруг стремительно понеслась в степь. Сперва еще можно было уследить за ее скачками, но потом она распласталась и словно полетела над рыжей землей, как прямая золотистая стрела.
– Валентин, – в последний раз позвал дядя Коля. Только тогда юноша очнулся, подошел к машине и, взбираясь в кабину, негромко и серьезно сказал:
– Не надо, дядя Коля. Пусть… пусть живет…
ТРУДНАЯ НОЧЬ
Радиограмму он получил вечером, когда промокший и усталый вернулся на базу.
Он не был здесь двое суток и мечтал только об одном – согреться и уснуть. Он думал, что радист, вместе со своей рацией помещавшийся с ним в одной палатке, давно спит; но палатка светилась изнутри слабым, мерцающим светом.
Длинный, худущий Володя Маленький, прозванный так геологами в шутку, сидел у открытой дверцы печурки и читал. Как только Игорь вошел, он поднялся, и огромная его тень изломалась на потолке.
– Чайник! – радостно сказал Игорь. – Здорово! Согреюсь и спать завалюсь. Здравствуйте, Володя.
Тот не ответил, неловко потоптался, вынул из кармана листок.
Вчера получил. Утром. Как только вы с Сеней ушли на маршрут.
Что там? – спросил Игорь, стаскивая облепленные грязью сапоги.
Володя молчал. Игорь не видел его лица, только напряженно протянутую руку; досадуя, он вытер грязные пальцы о ватные штаны, взял радиограмму, наклонился к печурке.
– Зажгите лампу, я ничего не вижу.
Но он уже разобрал три коротких слова: «Выезжай немедленно. Мама».
«Отец! – испуганно подумал Игорь. – Что с ним? Жив?»
Он снова натянул сапоги, даже не переменив портянки, накинул на плечи штормовку и вышел на дождь.
– Куда же вы, Игорь Николаевич? Ночь. Выспитесь, обсушитесь, завтра пойдете.
– Вы сказали – радиограмма пришла вчера утром? Я… я, может быть, уже опоздал… Если сейчас же двинусь, могу успеть еще на утренний самолет. Все равно – не раньше завтрашнего вечера попаду в Москву.
– Так до аэродрома же сорок километров!
– Напрямик через тайгу не больше двадцати. Если доберусь до узкоколейки к шести, как раз поспею.
– Ночь. Заблудитесь…
– Я?
– И зверь…
– Какой там зверь? Болтовня одна… Скажите Семену – он за меня на это время начальником останется… Я радирую, если задержусь…
Он шел наослеп, ориентируясь по чутью и по едва слышному здесь рокоту порожистой реки, шел, не думая о дороге, знал, что безошибочный инстинкт геолога укажет ему именно то направление, которое надо, и приведет туда, куда надо.
Он старался не вспоминать отца таким, каким видел его последние годы. Сознательно, с трудом восстанавливал в памяти тот его облик, который был ему так близок в детстве, в юности – открытый, веселый взгляд, поджарую фигуру, стремительную походку, смех. Тогда, в те годы, Игорь был уверен, что лучше, правдивее, честнее отца нет человека на всей земле… Тогда…
Но чем дальше он углублялся в тайгу, чем больше глины налипало на его сапоги, тем труднее становилось ему вспоминать отца своей давно прошедшей юности. Он словно бы обо что-то спотыкался или наталкивался на невидимую, непроходимую стену, и разматывались, разматывались перед ним, будто снятые на пленку, те мелкие и крупные события, эпизоды, столкновения, что привели его к бесповоротному решению уехать, бросить дом, мать, даже бабу Аню, аспирантуру и в свои двадцать четыре года взвалить на себя ответственность начальника, правда, маленькой, но трудной геологической партии, проводившей вспомогательную разведку в тайге, бесконечно далеко от родной Москвы.
Он точно помнит, как и когда это началось. Он только никак не может определить словами, что именно началось. Во всяком случае, для него все началось именно тогда, в машине, когда они с отцом, матерью и дядей Колей возвращались с загородной прогулки. Дядя Коля вел машину, отец сидел с ним рядом, они с матерью сзади. Проехали какой-то дорожный указатель, и вдруг мать сказала иронически:
– Ах, вот почему – Елино. Это на трассе…
Он тогда не понял, что это означает. Он знал только, что недавно, этой зимой отец жил почему-то в доме журналистов в этом самом Елино. Он бы не обратил внимания на реплику матери, если бы не странные нотки, прозвучавшие в голосе отца. Не оборачиваясь, отец сказал резко:
– Глупости! Ты прекрасно знаешь, что я написал там две главы своей докторской…
Игорь, вероятно, и не запомнил бы этот незначительный разговор, но вот слова «на трассе» почему-то показались ему странными. Еще вчера он бесхитростно спросил бы:
– На какой трассе?
Но что-то незнакомое в голосе отца удержало его от простого вопроса. И – запало в память. Просто запало в память. Пока еще независимо ни от чего – просто запомнилось.
Запомнилось и насторожило.
И вот как-то воскресным днем ранней весны, перед самыми выпускными экзаменами, они с Наташей, его девочкой, возвращаясь с прогулки, шли по парку Речного вокзала к метро. И вдруг впереди, на тропинке, что вилась параллельно той, по которой шли они, он увидел отца. Он вел под руку высокую, полную женщину с распущенными по плечам ярко-рыжими, крашеными волосами. Игорь не видел их лиц, не слышал голосов, но как-то сразу почувствовал, что они целиком поглощены друг другом.
«Так вот что означают эти мамины слова – «на трассе!» – подумал он, и странная, какая-то яростная осторожность заставила его схватить Наташу за руку и затащить с тропинки в кусты.
– Молчи! – приказал он ей шепотом.
– Что с тобой? – испуганно спросила Наташа.
– Ничего… Я не хочу, чтобы нас кто-нибудь увидел…
– Почему?
– Ну, так…
– Нет, что-то ты… кто это там, на дорожке?
– Откуда мне знать? – стараясь говорить равнодушно, ответил Игорь. – Ну, идем, они уже прошли… Идем.
– Дома он застал только мать – баба Аня уехала к дяде Коле на дачу.
– А где отец? – равнодушным голосом спросил Игорь, входя.
Поехал в поход, в Абрамцево. Обещал зайти к Анастасии Николаевне, если успеет. А ты хорошо погулял?
– Ага. Есть хочу.
– Когда же ты начнешь как следует заниматься, Игорек? Ведь до экзаменов считанные дни…
– Ну, мама, я сам знаю, что мне надо делать. Ты забыла – сын у тебя уже большой.
– Ладно. Садись. Ешь.
Отец пришел часа через три. Он был весел, немного возбужден и еще из передней крикнул:
– Умираю с голода! Могу съесть слона, если его хорошо поджарят!
Особенностью их обширной, вполне современной квартиры было то, что любое произнесенное слово слышно было во всех комнатах, даже если двери были плотно прикрыты. Естественно, что Игорь слышал, что отец пришел, но не вышел, как обычно, встречать его.
– А где сын?
Не тревожь его. Слава богу, сел заниматься… Ты заходил к Анастасии Николаевне?
Знаешь – не пришлось. Группа вся пошла в другую сторону, неудобно было отрываться…
В этот момент и кончилась Игорева юность. Он еще не понял всего до конца, но явно почувствовал – он стал другим.
Тот, прежний, юный Игорь хотел было вскочить, броситься в столовую, крикнуть отцу:
– Ты лжешь! Как ты можешь?
Но тот второй, что уже родился, – настороженный, недоверчивый, хитрый – удержал его. Нет, он не подумал, что своим разоблачением может сделать матери больно. Его захлестнула не жалость, а совсем другое: злое желание отомстить отцу за свою безоговорочную, детскую веру в него. Отомстить! Но как?
От растерянности, отчаяния он чуть было не расплакался. Но нет, новый, взрослый Игорь не заплакал. Он только весь сжался, словно боясь обнаружить свое присутствие, боясь, что отец вот-вот с чем-нибудь обратится к нему.
Мать что-то спокойно ответила, он не расслышал. Но в ее ровном голосе почудилось ему уже когда-то слышанная ироническая интонация. И короткое воспоминание ударило его еще больнее, чем обнаруженная ложь отца: машина, возвращение из загородной поездки и фраза матери:
– Ах, Елино. Теперь понятно – это на трассе!
Значит… значит, она все знает? Знает и молчит! Сознательно делает вид, что ничего не происходит, лишь бы в; доме по-прежнему было все тихо, спокойно! Нет, она тоже не достойна ни жалости, ни… уважения!
…Дождь перестал, но Игорь заметил это только тогда, когда выбрался на лобовину небольшой сопки. От реки поднимался уже выбеленный утренним сумраком туман. Он медленно клубился, принимал причудливые, странные формы и, словно живое существо, приникал к ногам, полз все выше и выше. Чтобы попасть к узкоколейке, надо было спуститься и по сосняку пройти еще километров пять. Но туман становился все плотнее. Липкая, живая стена наступала на Игоря то с одной, то с другой стороны. Он знал – часа через два, к рассвету, туман осядет. А сейчас дальше идти нельзя, лучше присесть под сосной, постараться хоть немного отдохнуть, может, даже немного поспать. Но уснуть он не смог; казалось, сырость пробралась под кожу, и, как он ни прижимался спиной к стволу, ему все время казалось, что кто-то сейчас подойдет к нему сзади и дотронется до него. Он не боялся ни заблудиться, ни зверя, которым запугивал его Володя Маленький; как только станет совсем светло, он легко определит направление. Но плотно охваченный туманом, он внезапно остро почувствовал свое одиночество. И не только здесь, в ночной тайге, а вообще – одиночество; другое, общее, что ли. И до тоски захотелось увидеть отца. Пусть он будет таким, каким он его узнал в последние годы, пусть неблизкий, даже в чем-то враждебный, но пусть он будет!
«А вдруг – никогда?» – ужаснулся Игорь.
Что-то сжало ему горло, и он, взрослый, много и горько передумавший человек, заплакал, как плакал в раннем детстве от какой-нибудь пустяшной обиды. Он плакал, громко всхлипывая, и ему казалось, что плачет не он, а кто-то другой и что этот кто-то вот-вот дотронется до него, и ему станет нестерпимо, до отчаяния страшно.
Он плакал, не стыдясь, долго и громко и вдруг перестал слышать свой голос, свои нелепые всхлипывания. Все затихло, словно туман поглотил и его, и его слезы, и окружавшую его тайгу, и его тоску.
Когда он очнулся, солнце уже пробивалось сквозь корявые лапы сосен. Он вскочил, осмотрелся и понял, что просто спал. Часы стояли – забыл завести с вечера, но, судя по солнцу, он явно уже не успевал на утренний самолет. Даже если поймает кукушку, и она подвезет его до станции, все равно до аэродрома оттуда еще добрых сорок минут ходу. Он решил не спускаться к узкоколейке, а прямиком пробираться к самолету. Лишних два-три километра, но можно поймать транспортный или какой-нибудь заблудившийся в тумане ближний перевозчик – здесь это бывало… Он прислушался – река пошумливала справа, грохот ее был уже не таким грозным, – значит, он далеко отошел от нее. Вброд сейчас все равно не пройти – полая вода проглотила камни, по которым они летом перебирались на тот берег. В обход надо; не три, а, пожалуй, пять километров лишку, но другого выхода не было.
Он сбежал с сопки и углубился в сосняк. Здесь идти было легче: стволы ровные, оголенные, без ветвей, начинавших расти где-то очень высоко, земля, как ковром, покрыта игливом; щепкой он счистил грязь с сапог и пошел быстро, почти побежал.
И странно: конечно, он не перестал думать об отце, обо всем, что его угнетало, но вместе с тем ощущал чисто физическое удовольствие от быстрой ходьбы, от того, что солнце грело по-настоящему и одежда начала подсыхать…
…Он ввалился в диспетчерскую, не стучась, его здесь знали, и никто не остановил, не спросил, что ему надо.
– Ну и вид у тебя, начальник! – удивился диспетчер. – Что с тобой?
– Я шел всю ночь… Мне необходимо сегодня быть в Москве.
– Так ведь рейсовый с час уже…
– Знаю. Пристрой на транспортный. Надо мне.
– Случилось что?
– Да.
– Что ж, пойдем, попробую… Постой, ты голодный?
– Нет. Пить только…
– На, возьми термос. Чай. Сладкий. Обратно полетишь – отдашь…
…Он устроился на каких-то мешках, сваленных в хвосте самолета, с жадностью выпил почти весь чай из термоса и лег в полной уверенности, что проспит теперь до самой Москвы.
«На этой таратайке не меньше одиннадцати часов лету, – подумал он. – Ну, все равно, теперь я уже ничего не могу. Спать, только спать…»
Он уснул тотчас же. Проснулся, уверенный, что проспал часов семь, но глянул в иллюминатор и понял, что солнце еще только поднимается к зениту. И почувствовал, что зверски голоден. Допил остывший чай, но от скопившегося на дне сахара его замутило. Вспомнил, что почти сутки ничего не ел, кроме нескольких ложек подгоревшей пшенной каши.
«Вот черт! Хоть бы хлеба кусок!»
Второй пилот вышел из кабины, прошел в хвост и прямо над головой Игоря стал с чем-то возиться, шуршать бумагой. Игорь понял – собирается завтракать, и отвернулся, сделав вид, что спит.
– Эй, пассажир! – сказал пилот, наклоняясь над Игорем. – Проснись. Давай поедим, пока моя смена не наступила.
– Спасибо, я не голоден, – откликнулся Игорь, приподнимаясь на своих мешках.
– Врешь ты, друг, – усмехнулся пилот. – Такой мужчина не может одним чаем сыт быть. Не ломайся, давай.
Не счищая шкурки, Игорь с наслаждением откусывал от колбасного круга большие куски, заедая их жесткой, сладкой плюшкой.
– На вот еще яблоко, – сказал второй пилот. – Это тебе, конечно, не джонатан, но все равно здорово – кисленькое, свежее. Ну вот, поели. Иду. Сейчас первый придет заправляться. А тебе что – спи теперь до самой Москвы.
Игорь снова улегся на мешках, собираясь действительно подремать. Но вдруг резко поднялся и сел, охватив руками колени. Его безмерно удивило, что он мог с наслаждением есть, похрустывать кислым яблоком и в эти минуты совершенно не думать об отце, не волноваться, что дома его ждет несчастье. Что это – равнодушие? Черствость? Значит, он нисколько не изменился, остался такой же скотиной? Злобным, изворотливым, самому себе отвратительным, каким был последние несколько лет?!
И снова мысли его, растревоженные, нескладные, торопливые, вернулись к тем дням, когда он, как ему казалось, – в одно мгновение стал взрослым, подозрительным и неправдивым.
С той первой замеченной им отцовской лжи он следил за каждым его шагом словно сыщик-профессионал, подстерегал выражение его лица, с острым ощущением проверки, примерки к чему-то, прислушивался к словам, к интонации голоса. И все, все казалось ему подозрительным, лживым. Постепенно, почти не контролируя себя, он втянулся в эту постоянную слежку. Это стало больше чем привычкой, – чертой характера, необходимостью – как для курильщика папироса, для пьяницы – водка. Никто, даже баба Аня, единственный человек, которому он теперь полностью доверял, не знал, какие томительные часы проводил он в развязывании им самим поставленных криминалистических загадок, предположений, выводов.
И что страшнее всего – если догадки оправдывались, это не только не огорчало, наоборот, доставляло почти физическое удовольствие. Нет, это не было игрой, в которой он почти всегда выигрывал; он радовался не тому, что оказывался прав, не тому, что его следственно-математические выкладки воплощались в жизнь; страдая и терзаясь, он радовался тому, что все тверже убеждался: отец его вовсе не тот человек, за которого принимают его другие, – не добрый, широкой души, окруженный учениками и друзьями, талантливый литературовед, а тот, кто только маскируется под созданный им выгодный образ!
Очень хорошо помнит Игорь сумбурный, в общем – неумный разговор с отцом перед поступлением в Университет. Когда Игорь был еще в восьмом классе, отец решил: самое подходящее для сына место учебы – филологический факультет, самая подходящая специальность – литературовед, может быть, критик. Во всяком случае, для отца этот вопрос был решен, и решен окончательно. В семье это даже не обсуждалось – так будет, и все. Тем более что у Игоря всегда были пятерки по литературе, и даже на каком-то конкурсе он получил первое место, и рассказ его был напечатан в «Московском комсомольце».
Когда-то давно Игорь очень гордился написанными отцом книгами, занимавшими целую полку в книжном шкафу; он даже попытался их читать, но одолеть не смог – все они показались ему нестерпимо скучными. И все до одной были написаны об одном и том же – об Алексее Максимовиче Горьком! Он знал, что отца именуют горьковедом, что в институте он руководит сектором, читает лекции в Университете. Все это, наверное, почетно; но как можно всю жизнь заниматься изучением одного писателя! Ведь за это время можно было его всего наизусть выучить! А что дальше? Конечно, он не решался спросить об этом отца, но больше не пытался читать отцовские писания.
Мать Игоря, Вера Александровна, была полевым географом, часто уезжала в недолгие экспедиции и как-то не очень заботилась о том, какую дорогу после окончания школы выберет ее сын. Он все еще казался ей маленьким, да и решение отца она приняла молча. Важно кончить институт, а там – станет взрослым, тогда и будет видно, что он будет делать в жизни.
Но Игорь давно сам решил свою судьбу. Получая из рук директора школы аттестат зрелости, он твердо ответил на вопрос «ну, что ты собираешься делать дальше?»:
– Поступлю на геологический.
В то утро, выходя из дома, чтобы отнести документы в Университет, он заметил торчащую из почтового ящика тоненькую книжку, вернее, брошюрку. Видно, не пролезла в щель. И пришла не по почте – кто-то просто попытался засунуть ее в ящик.
Игорь вытащил ее, прочел под фамилией, именем и отчеством:
«Автореферат на соискание ученой степени кандидата литературоведения».
И более крупным шрифтом:
«Волга в произведениях Алексея Максимовича Горького».
– Смешно! – сказал Игорь. – Научная диссертация – Волга впадает в Каспийское море!
Откинул обложку, увидел дарственную надпись, выведенную крупным, аккуратным почерком:
«Дорогому учителю от его верной ученицы. Л. Ц. К».
«Странно, почему Л. Ц. К., когда ее имя начинается на А., а фамилия на Б? Ерунда какая-то… Ладно, пусть отец разбирается».
Он сунул брошюру обратно в щель и, не дожидаясь лифта, бегом сбежал по лестнице.
Он не вспоминал об этом, пока вечером не пришел домой. Самому себе не признаваясь, он немного побаивался предстоящего разговора. На все разглагольствования отца, что для него самое подходящее место учебы филфак, Игорь привык отмалчиваться, а тут надо было честно признаться, что он не посчитался с решением отца и подал документы на геологический.
На телевизоре лежала утренняя брошюрка. Игорь с презрением глянул на нее и, как бы подогревая себя, подготавливая к разговору, подумал:
«Этим он хотел заставить меня заниматься всю жизнь! Черта с два! Не выйдет!»
И сказал более громко и резко, чем собирался:
– Вот что, отец. Я подал документы на геологический.
– Что? – отец удивленно глянул на него. – Выключи! – бросил он, кивнув на телевизор. – Почему на геологический? Ведь мы же с тобой договорились, что ты идешь на филфак. Я уже беседовал кое с кем насчет тебя и предстоящих экзаменов. Что же ты?
– А я тебя не просил беседовать… кое с кем!
– Но ты же способный… ты так всегда любил литературу…
– Кто мне помешает любить ее и впредь? Во всяком случае, я не буду всю жизнь доказывать, что Волга… что Волга впадает в Каспийское море, как эта твоя Л. Ц. К.!
Он взял с телевизора автореферат и швырнул на колени отцу.
– Ты! – крикнул отец, вскакивая и на лету ловя брошюру. – Откуда в тебе столько хамства? Столько лживости? Ведь мы же договорились, а ты тайком…
– Лживости? – Игорь стоял перед отцом бледный, с бешено напряженным лицом. – Это я – лживый?!
– Да погоди! Послушай!
– Нет! Теперь ты послушай! Никогда, слышишь ли? Никогда мы с тобой не договаривались, что я пойду на литфак. Этого хотел ты. Но не я!
– Там бешеный конкурс, а я на филфаке…
– Что ж, буду держать, как все. – перебил Игорь. – Сдам – великолепно. Не сдам – поеду с матерью в экспедицию… или просто так, сам поеду… на год. А будущей осенью буду снова сдавать. Я уже решил.
– Мальчишка! Он решил! И потом – мать больше не будет ездить ни в какие экспедиции. Решено.
– Так же, как с моим филфаком? – иронически спросил Игорь.
– Мы договорились с матерью, все. Хватит мотаться. А ты… ты ничего не можешь решать без нас!
Игорь недобро усмехнулся.
– Вот теперь-то я как раз и должен все решать без вас!.. И вообще – разговор этот пустой. Документы поданы, сдавать я буду на геологический. Все!
Он круто повернулся и вышел, не закрыв за собою дверь. В своей крошечной комнате, не зажигая света, он улегся на диван. Отсюда, невидимый, он привык наблюдать за всем, что делалось в доме, следить за отцом, присматриваться к нему, прислушиваться к тому, что говорят родители. Последнее время это стало его насущной потребностью; все в доме привыкли, что, если Игорь не занимается, и у него нет гостей, дверь его комнаты всегда открыта. Матери это даже нравилось – ей казалось, так проявляется сыновнее доверие к ним, взрослым. Ей и в голову не могло прийти, что это как раз и есть проявление самого настоящего недоверия, что сыном руководит одно – желание следить, следить, контролировать каждый их шаг, – вернее, каждый шаг, каждое слово отца. Вот и сейчас он пристально наблюдал за отцом, прислушивался к его возбужденному дыханию.
А Николай Васильевич, не слыша ни шороха из комнаты сына, решил, что тот ушел из дома; на всякий случай он заглянул в прихожую – там тоже было темно и пусто… Тогда он снова уселся перед телевизором, но, прежде чем включить его, глянул на дарственную надпись, покачал головой и негромко произнес:
– Как неосторожно!
Игорь увидел, как из кухни, неся чайник, вошла баба Аня.
– А Игорь где? – спросила она.
– Ушел.
– А с кем же ты тут разговариваешь? И что – неосторожно?
Николая Васильевича словно кто-то ударил. Он весь передернулся, торопливо и неловко затолкал в карман автореферат и вдруг крикнул тонким, раздраженным голосом:
– Что это вы все за мной подглядываете, подсматриваете, подслушиваете?! Хоть из дому беги!
«А, – радостно встрепенулся Игорь, – значит, ты чувствуешь, что за тобой следят!»
Баба Аня подняла голову, удивленно глянула на Николая Васильевича и, проходя мимо него к буфету, бросила:
– Что ж, беги. Боюсь, тебя не очень будут упрашивать остаться!
– Что?
– То, что слышал, Коля. То, что слышал.
Она вынула чашки, стала расставлять их на столе. Ее седые, коротко остриженные, легкие волосы на секунду закрыли лицо.
– Что ты такое говоришь, мать? Ты в своем уме? Баба Аня откинула рукою волосы со лба, пристально посмотрела на Николая Васильевича, негромко ответила:
– Я-то в своем. А ты, я слышала, когда-то уже пожалел, что не сразу ушел.
– Кто это тебе сказал? Кто посмел тебе это сказать?! Нет, у вижу, ты совсем в склероз впала, голубушка!
– Возможно. Но ты это говорил, я знаю. Не знаю только, что означает – сразу… Но это не важно. Если ты хочешь хоть раз в жизни поступить честно…
– Мать!
– Ну что?
– Какое ты имеешь право гнать меня из собственного дома?! Это может решать только один человек в мире – Вера! Но не ты, не ты!
– А я и не гоню. Только прошу – оставь мальчика в покое. Не старайся лепить его по образу и подобию своему.
– Чем же мой образ и подобие тебя не устраивают? Чем?
– Ну, это разговор длинный. И счет у меня к тебе, Николай, тоже длинный. И твоей, с позволенья сказать, наукой ты его заниматься не заставишь. Нет!
– Да что ты понимаешь в науке со своими пятью классами? Смех один!
Баба Аня подошла к Николаю Васильевичу так близко, что ему пришлось отступить, и тихо сказала:
– Да уж не тебе, Николай, корить меня моими пятью классами. Не тебе!
Николай Васильевич вспыхнул, отступил еще на шаг и приглушенно произнес:
– Мать!
Но баба Аня уже отвернулась и, тяжело шагая, направилась в кухню.
Игорь никогда не видел на лице отца такого потерянного, детского, глуповатого выражения. Николай Васильевич кинулся за бабой Аней, потянулся даже обнять ее. Но не решился. Сказал только грустно и искренне:
– Прости меня, мама Аня, прости. Какими мы иногда бываем скотами! Не сердись ты ради бога!
Но баба Аня молча вышла, аккуратно прикрыв за собою дверь.
…Историю отца и бабы Ани Игорь узнал совсем недавно – ему рассказал ее как-то на рыбалке дядя Коля, который вовсе и не был ему дядей, а просто сыном давнего друга бабы Ани, другом ее далекой, нерадостной молодости. Тогда же Игорь узнал, что баба Аня не только не бабушка ему, но даже и не родственница. Его родная бабка умерла, когда отцу его не было и полугода. Дед был попом-расстригой, отрекшимся от бога еще в самом начале первой мировой войны. В маленькой сибирской деревеньке он купил дом, начал крестьянствовать и перед самой революцией женился на очень молодой болезненной учительнице крошечной сельской школы. Жили они бедно – по слабости здоровья жена не могла работать в поле и на огороде, а вскоре бросила работу и в школе. С трудом управлялась по дому и была очень одинока – деревенские сторонились ее, продолжая считать учительницей, а учителя быстро забыли, она никогда особенно ни с кем из них не дружила. Бывший расстрига также был в деревне чужаком, хоть и работал наравне со всеми и в поле, и в лесу. Был у него в деревне один-единственный друг лет на пять моложе его – тихий, хорошо грамотный, любознательный, но чудаковатый. Многие в деревне даже считали его блаженным. Он часто приходил к отцу Василию, как продолжали называть его в деревне, брал у него книги, слушал его рассказы, поверял ему свои невзгоды. Была у него в деревне девушка. Он любил ее робко, боясь лишний раз взглянуть на нее. Девушкой этой, тогда совсем еще молоденькой, и была теперешняя баба Аня. И грустил друг отца Василия не только потому, что не решался признаться ей в своем чувстве, – грустил потому, что знал – Анна любила другого. Так же бессловесно, несмело, как блаженный Федя любил ее. Этим другим и был отец Василий. Прошло несколько лет. Блаженный Федя женился, и родился у него сын – вот этот самый дядя Коля. А Анна все ходила в девушках, хотя минуло ей уже лет двадцать пять. Но вся деревня почему-то знала, что любит она расстригу, и никто не решался засылать к ней сватов. Знал об этом и отец Василий. Но он любил и жалел свою «нетутейшую», как называли ее соседи, жену. Родился у них сын, Николай Второй, как прозвали его впоследствии мальчишки, – будущий Игорев отец; а через полгода от чахотки умерла мать мальчика, и остался отец Василий с полугодовалым сыном на руках. И тогда, никого не стесняясь, не таясь, в избу к нему перешла жить осиротевшая к тому времени Анна. Никто не спрашивал у них, женаты ли они. Просто Анна жила у отца Василия, растила маленького Николку, крестьянствовала. Одни из первых вступили они в колхоз. Анна привела на общий двор свою коровку, отдала землю, весь несложный инвентарь и даже хату ведь она ей была уже не нужна. Так прошел тридцатый год. Однажды поздней осенью отца Василия официальной повесткой вызвали зачем-то в район. К ночи он не вернулся. Анна сидела, не раздеваясь, не зажигая огня, – ждала.
Кукушка на стене просипела три раза. И в ту же минуту кто-то осторожно и очень тихо поскребся в окно.
Анна бросилась в сени, трясущимися руками открыла дверь – на пороге стоял Федор, блаженный Федор. Молча он шагнул в сени. Притянул Анну за руки к себе, зашептал в самое ухо;
– Скорее, скорее, Анна. Собирай парня – и ходу. Мне верный мужик в райисполкоме сказал – утром, мол, и твою Анну под метелку, а дите – в детский дом. Скорее! У меня конь не распряжен, я тебя сейчас на станцию, а там – как удастся. А бы подальше. Фамилия-то у тебя другая, не Архангельская – Ковалева. А в районе не знают, думают – ты ему законная. Так что ничего, скроешься. Торопись, до свету недалеко.
Так вот и ушла Анна из деревни, ушла с узелком и малым пареньком на руках. С названным своим сыном, Николаем Вторым…
Незадолго до смерти моего отца, – рассказывал дядя Коля – поехал я к нам в деревню. Не знал, что он так сильно болен, а вышло – приехал попрощаться. Как то вечером, выслав мать их хаты, рассказал мне отец все про себя и про Анну. Не знал отец ни как она жила, как вырастила Николая, что делала в жизни. Знал только, что она в Москве, – года два назад получил от нее письмо: жив ли, мол, ты, Федор блаженный, а я жива, ушла на пенсию, живу с сыном и его семьей, а все помню нашу сторону, тебя и отца Василия. Вот и все. Попросил меня отец напоследок – найди ее, помоги, если нужно. Светлее, говорил, я в жизни не знал человека, и никогда ближе ее у меня никого не было… Вот я и нашел. С отцом твоим, Николаем Вторым, дружбы у меня как-то не получилось, а с Анной – как бы по наследству. Да и с тобой, верно?
Игорь долго молчал. Наконец взволнованно спросил:
– Значит, я не Ковалев вовсе, а Архангельский, да?
– Да нет, ты Ковалев законный. Анна тогда отца твоего за сына выдала, отец, мол, так, приблудный, а мать – она, Ковалева. Вырос, паспорт получил, теперь и ты по всем правилам…
– Как же она… справилась? И сын, и работа, и Москва?
Она мне так все описала: умный человек посоветовал – чем больше город, тем в нем затеряться легче. Вот она и пробиралась в Москву. Почти год. Ведь в России нет больше города, чем Москва. А тут поступила на фабрику – в то время всюду нужны были рабочие руки. За мальчонкой посменно в общежитии девушки ухаживали. Потом подрос. Школа. Она изо всех сил его учила, думала, раз сын учительницы да такого грамотного человека, как отец Василий, обязана она и его ученым человеком вырастить. Ну, и вырастила. Ученый. Доктор наук. Книги пишет. Знаменитый. За рубежом на чужих языках лекции читает. Вот она и счастлива…
…Отец ушел к себе, баба Аня не выходила из кухни. В квартире было тихо до звона в ушах. Лежа в темноте на диване, Игорь вспоминал длинный рассказ дяди Коли. Думал: «Счастлива? А разве счастье только в исполнении долга, который ты сам себе назначил? Может быть… Но и еще в чем-то… Странно, она мне и вовсе не родная, а люблю я ее больше всех в моей семье… Правильно сказал этот Федор блаженный – светлая. Она тут единственная настоящая, поправдашняя… и правдивая. Никогда в жизни никого не обманула… Впрочем, а как же то, что все думают, будто отец – ее сын, Ковалев? Да нет, это не ложь, он ей действительно сын, она его собственными руками сделала?
Вот это, наверное, и есть настоящая правда! И пусть ей хоть сейчас в жизни будет по-настоящему хорошо. Она такая… только с ней одной я теперь чувствую себя честным человеком… все остальное – грязь! И слежка за отцом, и то, что я не люблю его, неприятен он мне, и то, что я стал совершенно равнодушен к матери – все, все гадость! Тошно мне! Как тошно!»
Он знал – давно, еще в школе, многие завидовали ему. Как же! Такая благополучная семья! Отец – доктор наук, мать – кандидат. Ученые. Все дороги перед ним, Игорем, открыты – куда захочет, туда и пойдет учиться, родители позаботятся. Да никогда он не знал, что значит – дырявые ботинки, старая, потершаяся на локтях форма или пьяный отец, – все культурно, мирно, тихо. Мирно! Разве мог он кому-нибудь, даже Наташе, сказать, что живет он в постоянном состоянии войны. Не только с отцом. Нет, и с самим собою. Чем старше становился, тем яснее сознавал – все хорошее уходит из души, сменяясь хитростью, неискренностью, подозрительностью. Еще до окончания школы он стал замечать, что товарищи, с кем он раньше так хорошо дружил, с кем было ему легко и весело, начали почему-то сторониться его, словно побаиваться его настороженных, всегда за чем-то и за кем-то следящих глаз, его молчаливости, той невидимой стены недоверия, которую он воздвигал между собою и остальными. Как бы монету на зуб, стал он проверять все поступки, слова окружающих – а не делается ли то или иное из корысти, либо для того, чтобы ложь выдать за правду. Это мучило его все больше. Он жил с постоянным ощущением потери чего-то, самому ему неясного. Конечно, это неправда, что все эти годы он никогда не бывал весел, искренен, беззаботен. Особенно хорошо ему было в первый студенческий год. Отец сразу примирился с выбранной им дорогой, как только узнал, что из двадцати пяти баллов на экзаменах он набрал двадцать четыре, а единственный балл потерял как раз на литературе.
– Что ж, – сказал отец, для порядка вздохнув, – значит, не судьба.
На другой день утром отец отправлялся в командировку в Берлин на какой-то очередной симпозиум. А в этот вечер решил созвать гостей, отпраздновать поступление Игоря в Университет.
Гостей собралось немного, только взрослые – и только самые близкие друзья родителей. Во время ужина в кабинете отца зазвонил телефон.
Отец хотел было подняться, но мать остановила его.
– Пойди, Игорек, послушай. Если меня или отца – пусть позвонят попозже.
Когда он вернулся, мать спросила:
– Кого?
– Да никого. Видно, не туда. Иностранка какая-то. Спросила – Фредди? – и тут же повесила трубку.
Даже сегодня, в этот свой счастливый день, Игорь по привычке искоса глянул на отца и поразился выражению его полуопущенных глаз – в них явно мелькнул испуг. Страх. Да, страх. На секунду отец оторвал взгляд от тарелки и посмотрел на мать. Но та разговаривала с дядей Колей и, видно, ничего не заметила. Что-то кольнуло Игоря, но он тотчас отмахнулся:
«Ерунда. Вечная моя подозрительность. Все хорошо!»
– Да, Николай, – оторвавшись от разговора, сказала мать. – Тебе звонила с кафедры Ирина Григорьевна, сказала, что у Станевича во вторник защита, а первая глава диссертации у тебя.
– А, черт, совсем забыл. Завтра утром позвоню. Если не дозвонюсь, скажи ей, пусть возьмет в моем столе, у нее есть ключ.
Наутро мать ушла на работу, и проводить отца поручила Игорю. Отец зачем-то хотел вызвать такси чуть ли не за три часа до вылета, но узнав, что Игорь едет с ним, решил отправиться экспрессом, с аэровокзала. На аэродром приехал все-таки раньше остальных членов делегации.
– Вот и хорошо. Успею позвонить Ирине Григорьевне о диссертации Станевича. Ты посиди, я скоро.
И ушел к автомату куда-то в другой конец обширного зала ожидания.
Вернулся веселый, чуть смущенный.
– Все. Договорился. Ты матери скажи – пусть не беспокоится. Ирина Григорьевна передаст главу Станевичу.
Начали подходить члены делегации. Игорь поцеловался с отцом и уехал, не дожидаясь отлета.
Дома было пусто – мать на работе, баба Аня, вероятно, ушла в магазин. Игорь тоже собрался уходить – завтра он отправлялся с курсом на картошку, надо было узнать время отхода автобуса, купить новые кеды – старые оказались малы. У двери его задержал телефонный звонок.
– Это кто, Игорь? Здравствуйте. Это Ирина Григорьевна, с кафедры. Отец уехал? Вы не знаете, Игорь, ваша мама передала профессору насчет диссертации?…
– Но позвольте, – удивленно перебил ее Игорь. – Отец только что с аэродрома говорил с вами и все уладил…
– Вы что-то путаете, – немного раздраженно ответила Ирина Григорьевна. – Профессор не мог со мной говорить – у меня дома нет телефона, а в Университет я пришла пять минут назад.
– Ну, может быть, – натянуто ответил Игорь. – Отец просил передать, что глава лежит в правом ящике его стола, а ключи у вас есть. Достаньте, пожалуйста, и передайте Станевичу.
– Ну, это другое дело. Спасибо. Но, заверяю вас, профессор со мною сегодня не говорил…
Игорь положил трубку и, забыв о том, что ему надо спешить, медленно опустился на стул. Хорошее настроение улетучилось, словно пять минут назад он не радовался, что с сегодняшнего дня, он. Игорь Ковалев, – студент геологического факультета Московского университета. Снова что-то мутное поднялось в нем, и ясный, солнечный осенний день стал будто пасмурным и холодным.
И все-таки этот первый год его студенческой жизни был счастливым. Не только лекции и занятия захватили его, но и новые дружбы, новые интересы, новый, незнакомой взгляд на все, что он видел, чем жил. С отцом, даже с матерью отношения не стали лучше, интимнее, искреннее, но все, что происходило дома, уже не так сильно его терзало, не поглощало все его душевное внимание. Да и баба Аня старалась быть поближе к нему, как бы заслоняла его собою от отца и матери. Он подсознательно чувствовал это и был ей благодарен, только не умел выразить эту свою благодарность. Да ей это и не было нужно – как и Игорь, она не любила необязательных слов, предпочитала заботиться о нем молча, не ожидая от него тоже ничего, кроме молчания.
– Ты мне совсем сына избалуешь, мама Аня, – смеясь, говаривал отец. – Вы дома всегда вместе – старый и малый. Словно влюбленные.
Баба Аня отмалчивалась, только иногда недобро взглядывала на него, и он тотчас замолкал.
Мать больше уже не ездила в экспедиции. Она перешла на преподавательскую работу в пединститут и, кажется, была вполне довольна своей жизнью. Во всяком случае, в те редкие минуты, когда они виделись с Игорем, настроение у нее было ровное, глаза спокойные. Но с отцом они редко бывали вместе, не ходили больше ни в театр, ни к друзьям. И гости стали реже бывать в доме. Даже большую часть отпуска, который у них всегда совпадал, они проводили врозь – отец по-прежнему отправлялся в свои лодочные или дальние пешие походы, мать сидела в библиотеке над докторской, и только на последние две-три недели перед началом занятий они куда-нибудь уезжали вместе.
Но Игорь как-то не придавал этому значения. После первого года практики у них еще не было, но вместе со всем курсом Игорь подрядился на железную дорогу и полтора месяца ездил проводником на дальних поездах. Несмотря на боязнь отца, что все они там со скуки начнут пить, эти полтора месяца были чуть ли не самыми интересными и веселыми за всю Игореву жизнь. Сколько мест он повидал, со сколькими славными людьми познакомился в пути! На второе лето они уже отправились в экспедицию с профессором Довлатом, которого весь курс – и мальчишки и немногочисленные девчонки обожали до самозабвения. Первая эта экспедиция была и не дальней, и не трудной, но все они были полны впечатлениями и от ночевок в лесу, и от рыбной ловли, и от того, что научились с одной спички разжигать костер в любую погоду.
Третий курс был трудным, и у Игоря просто не хватало времени на то, чтобы, как раньше, следить за отцом, враждовать с ним. Он словно бы выздоравливал, постепенно освобождался от той внутренней коросты, которую так тщательно наращивал в себе последние годы. Не то чтобы он стал снисходительнее к неправде. Но с возрастом нетерпимость его стала проявляться не так бурно, почти подсознательно он стал контролировать себя и даже попытался пересмотреть свое отношение к тому, чему посвятил свою жизнь отец.
«Может быть, как говорится, все идут не в ногу, один прапорщик – в ногу? Ведь все его действительно считают крупным литературоведом. Просто я далек от этого, мне это неинтересно, и все».
Прошел хлопотливый и увлекательный учебный год. Предстояла, наконец, длительная и серьезная практика – в конце июля его группа отправлялась на четыре месяца в тайгу, на Дальний Восток. До начала экспедиции все они получили двухнедельный отпуск. На семейном совете было решено, что он проведет эти две недели вместе с родителями в пансионате «Дюны», под Ленинградом, куда они с матерью должны были отправиться из Москвы вдвоем, а отец в тот же день, что и они, приедет из очередного лодочного похода прямо в «Дюны».
Впервые за многие годы день рождения отца, всегда торжественно праздновавшийся 9 июля в Москве, они должны были провести врозь. Но отец давно мечтал побродить по Эстонии, поплавать по озерам и, поколебавшись, решил, что праздновать они будут на три дня позже, двенадцатого, уже в пансионате.
Игорь с матерью приехали туда необычным для этих мест ярчайшим утром, быстро распаковали вещи и тотчас же отправились к морю. По всем расчетам отец раньше трех приехать не сможет, и оба они радовались, что успеют искупаться, побродить и осмотреться до его приезда. Несмотря на яркое солнце и жару, вода оказалась такой холодной и поблескивающее море таким неуютным, что купаться они не стали и решили просто побродить по берегу. Мать быстро устала и была вообще как-то неспокойна, задумчива. Игорь не сразу заметил, что у нее испортилось настроение. А когда заметил, потащил домой.
Игорь вышел на балкон полюбоваться плоской блестящей равниной моря.
Да, Игорь, – крикнула из комнаты мать. – Я забыла тебе показать. От отца пришла телеграмма. Почему-то из Кохтла-Ярве, а не из Вызу, куда он поехал. Отправлена еще восьмого, но я получила ее перед самым отъездом. Где это Кохтла-Ярве?
Кажется, у Чудского озера, – разворачивая телеграмму, ответил Игорь. Прочел: «Девятого буду здесь большом туристском костре. Душой с вами. До скорой встречи. Целую».
– Ну и ладно, – сказал он, – сегодня все равно приедет, сама у него и спросишь, где это Кохтла-Ярве…
Но в этот день отец не приехал. Не приехал он и ночью, которую мать провела на скамейке перед зданием пансионата. Не приехал и на следующий день. Мать была уверена, что с ним случилось несчастье. Она так волновалась, что Игорь впервые пожалел ее и предложил съездить в это самое Кохтла-Ярве и разузнать все на месте. Но мать побоялась остаться одна. Вместе они сходили на почту, отправили телеграмму:
«Кохтла-Ярве. Директору туристской базы. Прошу срочно сообщить местопребывание профессора Ковалева. Подпись. Адрес».
Прошли еще одни томительные сутки. Ответа не было. Мать решилась отпустить Игоря. И когда он уже собрался ехать, пришла телеграмма:
«Как я тебе писал, нахожусь недельном лодочном походе Чудскому озеру. Паника совершенно непонятна. Николай».
– А он писал? – спросил Игорь.
– Нет, – резко бросила мать. – Не писал.
– Может быть, ты просто не получила письма?
– Отправленные письма доходят. Вот что, сходи-ка на почту, пошли телеграмму. Я сейчас напишу.
Через минуту она протянула Игорю бумажку. Там стояло:
«Сообщи, присылать ли тебе чемодан в Кохтла-Ярве». А к вечеру пришел ответ:
«Поход кончился сегодня. Прошу подождать меня в Дюнах три дня». Подписи не было.
– Что это значит – подождать три дня? Ты разве собиралась уезжать?
– Нет.
– И почему подождать три дня, если поход кончился сегодня? Он мог бы быть здесь уже ночью…
– Если бы захотел, – усмехнулась мать.
– Мама, ничего, если я оставлю тебя одну на часок? Мне хочется побродить. Ты не обидишься?
– На тебя? Нет. Иди.
И снова мутные, трудные мысли одолели Игоря. Как и два года назад, он стал строить свои криминалистические концепции, он с каким-то отвратительным, скользким удовольствием представлял себе, как приезжает на базу в Кохтла-Ярве и застает там отца не одного. Какое будет лицо у отца, когда он увидит его, Игоря? Что скажет? Он перебирал варианты этого первого мгновения встречи и приходил в отчаяние от того, что все эти варианты вызывают в нем легкую дрожь странного удовлетворения.
Растревоженный, с ощущением гадливости по отношению к самому себе, он бродил по берегу до самого вечера. Свет в комнате не горел. Мать уже лежала в постели; он прекрасно знал, что она не спит, но двигался тихо, осторожно, будто боясь разбудить ее. Оба уснули только к утру, так и не сказав друг другу ни слова.
На третьи сутки около трех часов ночи приехал отец. Ни мать, ни Игорь не спали. Но Игорь отвернулся к стене и даже всхрапнул для правдоподобности – он ждал первых слов отца. Но в комнате было тихо. Отец сказал только:
– Здравствуй. Мать не ответила.
Когда Игорь уже начал по-настоящему задремывать, мать произнесла тихо:
– Зачем ты солгал, что писал о походе? Ответ прозвучал тотчас же:
– Клянусь тебе жизнью Игоря, что я написал! Ты просто забыла.
– Чепуха! И еще одно – если поход закончился, зачем тебе понадобилось сидеть там еще три дня?
– У меня резко поднялось давление. Доктор посоветовал мне отдохнуть пару дней.
– Так. Отдохнуть перед отдыхом… Какое же у тебя было давление?
– Сто семьдесят.
– А сейчас?
– Не знаю.
– Ну, ничего, завтра проверим.
Отец вдруг вскочил, нашарил ногами тапочки, прошел к столу, сел.
– Мне надоело, понимаешь ли, надоело вечно быть подследственным! Я не в отделении милиции, я не обязан все время перед кем-то оправдываться! Следят, подсматривают, подслушивают…
– Тише, – прервала мать. – Ты разбудишь не только Игоря – весь дом.
– Я категорически заявляю, – продолжал отец уже шепотом, – что не допущу больше… не позволю, чтобы меня вечно в чем-то подозревали…
– С твоей стороны это было бы самым правильным – не допускать, чтобы тебя в чем-то подозревали, – холодно сказала мать. – Но ты считаешь более правильным жить так, как ты живешь. Что ж, а я не считаю. И сделала для себя определенные выводы.
– Какие выводы? Что ты мне угрожаешь какими-то выводами?!
Мать молчала.
– Какие выводы, я тебя спрашиваю?! Я не желаю слушать эту ерунду! Выводы! Не желаю, слышишь ты?
Но мать молчала. Молчала так долго, что Игорь уснул.
Его разбудили голоса. Рассвет уже заполнил комнату, хотя солнце еще не поднялось; все вокруг будто покрывал легкий сиреневый туман. В этом странном свете он увидел родителей – мать сидела в кресле у окна, отец стоял близко, наклонившись над нею. Он говорил очень тихо, боясь, видно, разбудить Игоря, но даже в шепоте его слышались незнакомые, немного жалкие ноты.
– Ты пойми, я сейчас нахожусь в очень трудной ситуации, – говорил отец. – В крайне трудной. Но ведь и ты когда-то была в такой же трудной ситуации. Помнишь, когда мы еще не были вместе, но уже любили друг друга, ты никак не могла расстаться с Володей. Не решалась. Я умолял тебя тогда, не корил, нет, умолял, а ты не решалась. Помнишь?
– Значит, ты сейчас находишься в том же положении, что и я тогда? – помолчав, негромко спросила мать.
– Нет, я этого не говорю. Но ведь и с тобою я – в трудной ситуации. Ты перестала мне верить, ты все время подозреваешь меня во всех смертных грехах, ты постоянно тычешь мне – лжешь, лжешь, лжешь!
– А ты и сейчас говоришь неправду, Николай!
– Нет, это невыносимо! Ну что ты хочешь от меня, что? Я клянусь тебе, что все это ерунда…
– Что?
– Все, все, что ты вбила себе в голову, что тебе писали и говорили твои анонимщики!
Твои анонимщики…
– Чего ты от меня хочешь?
Я не хочу больше, чтобы ты опускался все ниже и ниже в это болото. Я не хочу больше грязи. Не хочу корчиться от стыда за тебя. Я хочу одного – или я, или она. Подумай, крепко подумай, прежде чем решать…
– Мне не надо думать, не надо решать! Я знаю твердо – я хочу быть с тобой! Вера, милая, я хочу быть с тобой!
– Постараюсь в последний раз поверить тебе… Постараюсь… А теперь ложись, отдохни. Скоро утро…
Игорь встал, когда родители еще спали. Он быстро оделся, написал им записку:
«Отсыпайтесь. Пошел купаться в Солнечное, а потом, может быть, съезжу в Ленинград. Приеду поздно. Здравствуй, отец. Завтра утром повидаемся. Игорь».
И торопливо вышел. Меньше всего хотелось ему сейчас встречаться с отцом, смотреть ему в глаза, говорить с ним. В глубине души ему было даже немного жаль отца, всегда такого самоуверенного. Но эта жалость не смягчала его, а наоборот, как бы еще больше восстанавливала его против Ковалева старшего. Да и против самого себя. Ему было стыдно, что невольно он стал как бы участником их тяжкого разговора, стыдился ощущения, будто во всем, что говорил отец, даже мать, было что-то театральное, ненастоящее. Да и сам себе он казался ненатуральным, словно герой плохого детективного романа.
Родители уже спали, когда он вернулся из Ленинграда с твердым намерением не дожидаться конца отпуска и завтра же уехать домой, в Москву. Отец не очень внимательно отнесся к его словам об отъезде, мать только пристально посмотрела на него и негромко сказала:
– Что ж, может быть, так будет правильнее…
Дела и заботы экспедиции почти полностью вытеснили из Игоревой головы мысли о родителях. Если он и вспоминал изредка дом, то больше бабу Аню. С нею он почти регулярно переписывался. Ее письма были коротки, спокойны и как-то по-особенному точны. Двух-трех ее слов было достаточно, чтобы событие, о котором она писала, ясно представилось Игорю. Она не упоминала ни о матери, ни об отце, только, что все здоровы и что все дома в порядке. И Игорь постепенно начинал верить, что все действительно уладилось, что все хорошо и нет больше поводов ни для грусти, ни для волнений. Он будто очищался, смывал накопившуюся внутри пего нечистоту и подозрительность, возвращал себе душевное здоровье. Домой он вернулся возмужавшим, по существу, уже взрослым и задался целью в оставшиеся до весны месяцы сдать все экзамены не только за текущий, четвертый курс, но и за пятый, последний. Он занимался упорно, увлеченно, дни и ночи, и весною действительно выполнил все, что задумал. Он был весел, немного самоуверен, и за все эти месяцы один только раз вернулось к нему то подозрительное, следовательское отношение к отцу, которого он в последнее время и стыдился, и боялся.
Три дня, как и в прошлом году, седьмое, восьмое и девятое марта, отец собирался провести в военном лагере «Боровое», под Москвой, покататься в последний раз в эту зиму на лыжах.
Вечером шестого отец пришел домой немного торжественный и очень довольный, нагруженный большим пакетом. За ужином он сказал:
– Дорогие мои женщины! Разрешите поздравить вас с вашим праздником немного раньше, чем делают это все мужчины. Так как меня с вами в этот день не будет, я хочу сейчас вручить вам мои подарки. Можно?
Он развернул пакет, вынул два нейлоновых халата – один розовый, другой светло-зеленый. Матери протянул розовый, а перед бабой Аней, как заправский купец, развернул и встряхнул зеленый. Стеганый нейлон сверкнул под лампой. Мать сдержанно поблагодарила. Баба Аня засмущалась, ласково сказала:
– Спасибо, сынок. Сроду такой красоты не нашивала.
– Носи на здоровье. Я тебе, Веруша, позвоню восьмого, проверю, надела ли ты в ваш день мой подарок. Обязательно позвоню.
Что-то больно ударило Игоря.
– Да, – бросил он иронически. – Если, конечно, не будет маневров.
– Каких маневров? – удивился отец.
– Военных. Как в прошлом году на восьмое марта. Никто ему не ответил, но он прекрасно почувствовал, что испортил всем настроение. Ему стало неловко и противно. К чему эти мелкие укусы? Он торопливо поблагодарил за ужин, встал, оделся и вышел на мягкий мартовский морозец. Он заставил себя думать о предстоящей защите диплома, о недавнем разговоре с профессором Довлатом. Профессор предложил ему остаться при кафедре в аспирантуре. Соблазнительно, конечно, но, пожалуй, не менее соблазнительно получить самостоятельную работу, а главное, надолго уехать из Москвы, из дома.
«Да, уехать. Получить распределение в поисковую партию – и подальше, подальше отсюда…»
Пришел день защиты, пришел и прошел. Профессор Довлат поздравил его, напомнил:
– Что ж, самое время решать, Игорь. Жду до завтра, и начнем действовать. Идет?
– Можно действительно отложить до завтра? Сегодня голова совсем пустая, ни о чем серьезном думать не хочется.
– Ну, ну, празднуйте, заслужили, – добродушно усмехнулся Довлат.
Дома его встретил возбужденный, радостный отец. Он крепко обнял Игоря, поцеловал в макушку, как всегда целовал в детстве, немного излишне громко сказал:
– Прости, сын, не смог быть на защите – срочно вызвали в министерство. Но я уже все знаю. И про аспирантуру тоже – видел Довлата. Поздравляю тебя с двойной победой. – И немного виновато рассмеялся. – Что ж, твоя взяла! Доказал, что был прав. В сущности, не все ли равно, в какой области человек работает, – лишь бы честно. И если ты будешь ученым-геологом – это ведь тоже неплохо, верно? – И не ожидая ответа, продолжал: – Знаешь, я уезжаю в Югославию на съезд славистов. Так получилось, что я об этом узнал чуть ли не в последнюю минуту. Понимаешь, наметили другого, но югославы звонили и настаивали именно на моей кандидатуре. Вот так! Да, у меня к тебе просьба – сходи в чистку, там открыто до девяти, возьми мой серый костюм. Поеду в нем, а новый спрячу в чемодан. Мать занята до ночи, бабе Ане нездоровится, а у меня еще тысяча дел. И подготовиться надо к сообщению. Сходишь?
…Девушка, что выдавала костюм, протянула Игорю какую-то во много раз сложенную бумажку.
– Хорошо, что приемщица заметила, – сказала она. – А то вещь была бы испорчена – чернила ведь. Надо опорожнять карманы перед сдачей.
Игорь развернул бумажку-письмо. «Дорогой Фредди!»
Чужое письмо! Игорь хотел было отдать его обратно девушке, сказать, что она ошиблась, но что-то все-таки заставило его глянуть на последнюю страницу, на подпись: то ли почерк показался ему знакомым, то ли это нелепое обращение «дорогой Фредди!» что-то напомнило ему… И прочел:
«Дорогой мой, любимый, нежный! Я жду Вас, жду! Всегда Ваша Кэтти».
И чуть пониже – две буквы:
«Л. Ц».
И словно в стоп-кадре возникла перед глазами Игоря дарственная надпись на автореферате. И те же буквы «Л. Ц».
И еще мелькнул перед ним давний день поступления в университет; телефонный звонок, женский голос, спросивший Фредди, и испуг в глазах отца.
«Господи, как сусально, как пошло! Да как ему не стыдно… с такой!..»
– Спасибо, – сказал он девушке сдавленным, не своим голосом, взял уже завернутый костюм и быстро вышел. Он не заметил, как пробежал по пахнущей ветром и водой весенней улице, как вбежал в подъезд, – он торопился, торопился испортить отцу радость от предстоящей поездки, от защиты диплома сыном, от приглашения его в аспирантуру. В эти минуты он стал ему еще более чужим, чем во все эти тяжелые, нечистые годы!
Баба Аня спала, матери еще не было, отец что-то писал у себя в кабинете за столом.
– Принес? – спросил Николай Васильевич, не отрываясь от дела. – Спасибо, сын. Повесь в шкаф.
– Уже.
– Ну и ладно. Да, – сказал отец, снимая очки и поднимая голову. – Звонил Довлат. Спрашивал, говорил ли ты со мной и как мы решили. Просил не тянуть до завтра, а позвонить ему сегодня же. Или ты еще колеблешься?
– Нет. Я решил.
– Ну, вот и хорошо. Ты прости, я скоро кончу… И снова принялся писать.
Но Игорь не уходил. Он несколько секунд смотрел на быстро передвигавшуюся по бумаге отцовскую руку и вдруг негромко произнес:
– Девушка из чистки сказала, что надо опоражнивать карманы перед сдачей.
– Что? Не понимаю.
– Они нашли в кармане письмо.
– Какое письмо? Не помню. Я уже больше месяца этот костюм не надевал.
– Это письмо, вероятно, было тебе очень дорого, раз ты его не уничтожил, как другие… или не спрятал подальше…
– О чем ты говоришь, Игорек? Не пойму. Извини, я сейчас очень занят. И не забудь позвонить Довлату…
– Не забуду…
Это был его последний разговор с отцом один на один.
Через неделю отец вернулся из Югославии и, как всегда после интересной поездки, вечером созвал гостей – последнее время они вообще стали появляться в доме довольно часто. На этот раз за столом сидели не только академические друзья отца, но и баба Аня.
Отец громко и увлеченно рассказывал о съезде славистов, о своей поездке в Дубровник. Игорю казалось, что он уже много раз и в тех же выражениях выслушивал рассказы отца об очередных его поездках на съезды и симпозиумы. Ему вдруг стало нестерпимо скучно. Глянув на бабу Аню, он понял, что ей не только неинтересно, попросту стыдно за отцовский самоуверенный, немного хвастливый тон.
– Баба Аня! – шепнул ей Игорь. – Пойдем, мама просила чай приготовить. Помоги мне, пожалуйста.
Баба Аня молча поднялась и вышла за Игорем в кухню. Так же молча она заварила чай, нарезала пирог, расставила на подносе чашки и кивнула Игорю – неси, мол.
– А ты?
– Нет, Игорек, устала я. Уволь… Уже ложась спать, отец спросил Игоря:
– Как ты намерен провести свой последний студенческий отпуск?
– Еще не знаю.
– Если задумаешь куда-нибудь в дом отдыха или пансионат – скажи. Деньги есть.
– Спасибо…
Когда через месяц Игорь вернулся с Кавказа, куда ездил просто так, побродить, отца и матери в Москве не было, – против обыкновения, они с самого начала отпуска отправились вместе в Коктебель, в Дом творчества писателей.
Признаться, Игоря обрадовало их отсутствие. Ни с кем не надо было спорить, ничего никому не надо доказывать. Он только съездил к дяде Коле на дачу, где, как всегда, проводила лето баба Аня, сказал ей, что уезжает на Дальний Восток начальником небольшой вспомогательной поисковой партии. Баба Аня только грустно посмотрела на него, сухой своей рукой погладила по щеке, и Игоря вдруг поразило, как резко она изменилась за последнее время. Не то что постарела, а стала словно бы намного меньше.
– Послушай, а ты здорова, баба Аня?
– Ты что, Игорек? Конечно, здорова. Просто – старая я… Ну, поезжай с богом. Пиши мне иногда. Будешь?
– Конечно! Адрес пришлю сразу…
И вот он ехал домой, в Москву, где не был уже больше года. Отец, видимо, возмущенный его отказом от аспирантуры, его самостоятельно принятым решением, вовсе ему не писал, мать – очень редко, а баба Аня регулярно слала ему свои письма-реляции – все хорошо, все в порядке, не простужайся, не пей…
Он сидел в нудно гудящем самолете и думал о том, что все накопленные им на отца обиды, в сущности, – ничто, детская страсть к распутыванию уголовных загадок.
Сейчас, в предчувствии несчастья, еще более подлым, чем раньше, казалось ему отношение к отцу, страсть к подглядываниям, слежке.
Но это были не главные мысли. Мучило его другое – томительное сознание собственной вины. Он не в силах был разобраться в себе до конца, ответить на вопрос – что же было с ним, с Игорем? Только ли простое подтверждение примитивного закона механики – всякое действие рождает противодействие? Вечно живущая рядом, разоблачаемая, но так до конца и не разоблаченная ложь вызывала в нем не менее подлую страсть к разоблачительству? А может быть, отец всегда был нечестен, и Игорь, когда был мальчишкой, просто этого не замечал, не понимал? Или эта изворотливость пришла к отцу только тогда, когда стала жизненно необходимой? Но почему же – необходимой? Разве нельзя было честно уйти из семьи и начать строить новую? Жалел мать и его, Игоря? Он помнил, как баба Аня сказала отцу однажды – ты жалеешь, что не ушел сразу? Что его удерживало? Нет, не жалость, и уж во всяком случае – не любовь! Вероятнее всего, боязнь шума – бросил семью и женился на молоденькой аспирантке! Впрочем, не такая уж она молоденькая. Игорь знал о ней многое, почти все, об этой пресловутой Кэтти, чеховской пошлой курочке, пишущей письма с орфографическими ошибками своему золотому петушку!..
Внезапно Игоря словно передернуло, он даже застонал негромко: опять! Опять одолевают его все те же пакостные мысли, все та же неуемная, тайная злоба. Ведь он уехал, убежал, как только понял, что неудержимо прорастает в нем этот вот злобный, подозрительный, скрытный человек, как только почувствовал, что становится отвратителен самому себе. Зачем же сейчас, в такую минуту, он снова вызывает в себе все ту же муть и грязь?!
– Уснуть! Уснуть! И спать до самой Москвы.
Наконец он действительно заснул…
Был поздний вечер, когда он добрался до дома.
Он не стал вызывать лифт, а медленно побрел по лестнице, бессознательно оттягивая момент окончательного, последнего знания. Автоматически пошарил по карманам, ища ключ, потом тихо позвонил. Мать отворила тотчас же, будто прислушивалась к его шагам.
– Отец? – почему-то шепотом спросил Игорь.
– Тише. Спит. Устал очень. Ты опоздал, Игорь, сегодня мы похоронили бабу Аню.
– Мама! – вскрикнул Игорь и, обняв мать, прижался лицом к ее плечу. – Мама! Мама!
Задыхаясь, он все повторял и повторял это слово. И было в его тихом крике и горе, и облегчение, да, облегчение: отец, жив отец! С ним ничего не случилось…
– Тише, тише, Игорек, разбудишь.
Мать похлопала его по вздрагивающей спине и повела в кухню.
На пороге столовой появился отец. На нем был длинный, мохнатый, яркий халат, из-под которого нелепо торчали одетые в белые кальсоны худые ноги.
– Я не сплю. Это ты? Да, горе у нас, такое горе. Жаль, что ты опоздал.
И снова чем-то театральным повеяло на Игоря от этих слов, от скорбного выражения осунувшегося, немолодого лица.
– Голоден? – спросила мать.
– Да.
– И грязен. Страшно грязен. Иди раньше помойся. Напустить ванну?
– Да.
Он долго мылся, потом без особого аппетита поел в кухне, ненужно растягивая эту несложную процедуру – хотелось побыть одному, подумать о бабе Ане, о том, что он никогда больше не увидит ее, не помолчит с нею рядом.
Но когда захотел пройти в свою комнату, чтобы немного поспать перед отлетом, отец остановил его.
– Погоди, Игорь, нам бы надо все-таки с тобою поговорить по душам.
– Мне кажется, сейчас не время. К тому же у меня осталось часа три, не больше. На рассвете я улетаю.
– Тем более.
– Игорь устало присел у стола.
– Ну, хорошо. Так о чем же ты хотел со мной говорить?
– Мы год не виделись, – обиженно сказал отец. – И сегодня я похоронил человека, заменившего мне мать. Зачем же ты так… официально?
Игорь промолчал.
– Я нарочно просил маму лечь, чтобы мы смогли, наконец, с тобою, ну… объясниться, что ли…
– Не стоит, отец. Все и так ясно.
– И что это ты стал так меня называть – отец, отец. Почему чуждаешься меня?
– Ты это только сейчас заметил?
Теперь не ответил отец. Оба долгую минуту молчали. Первым заговорил все-таки Николай Васильевич.
– Немного неловко именно сейчас… но мне кажется, что это баба Аня старалась отдалить тебя от меня, от матери…
Игорь спросил недоуменно:
– Что?
– Ты пойми, у меня с нею были сложные отношения. Да. Сложные. Если хочешь – я объясню, послушай, что я тебе расскажу. И прислушайся. Не замыкайся опять.
Игорь отошел к окошку, откинул занавес, стал смотреть на безлюдную ночную улицу, такую знакомую, сейчас как будто совсем чужую. Отец тоже поднялся, стал прохаживаться у него за спиной.
– Я хочу, чтобы ты правильно меня понял. Чтобы, словом, я знаю одно – не могу не рассказать тебе веер всей сложности наших с нею отношений.
– Я слушаю.
– Это повлияло, как я понимаю, и на наши с тобой… на неровности…
Он замолчал, продолжая шагать туда и обратно, туда и обратно. Размеренный стук его шлепанцев раздражал Игоря, ему хотелось поскорее уйти к себе, прервать эти несмелые отцовские излияния. Но он сдерживался, молчал. Повернулся к отцу, пристально посмотрел на него и вдруг усмехнулся невеселой своей догадке.
– Ты чему это смеешься? Она все больше прибирала тебя к рукам, забирала тебя у нас…
– Я улыбаюсь не твоим словам, – перебил его Игорь. – Мне пришло в голову – как же мы с тобою похожи, отец!
– Похожи? – не понял Николай Васильевич.
– Да. Оба мы ревнивы, как дьяволы. Вот в чем дело-то!
– Не понимаю.
– Ничего. Неважно. Но совсем не баба Аня была причиной моего отдаления. Нет. Не баба Аня.
Он замолчал. Молчал и отец. Присмотревшись к его лицу, Игорь заметил в нем что-то новое, почти незнакомое – куда-то исчезла веселая складка у губ, на месте ее появилась просто морщинка, лицо стало суховатым и вместе с тем будто набрякшим темной, недоброй кровью. И затеплившаяся, было, в Игоре доброжелательность к нему на мгновение превратилась в снисходительную жалость. Но тут же он снова отдалился от него на громадное, непреодолимое расстояние.
– Ты словно жалеешь, что это не я умер? – с горечью воскликнул отец.
– Нет, я счастлив… счастлив, что это не ты… Но теперь я знаю – ничто уже не может вернуть меня туда, в то вонючее болото, в которое, при твоей помощи, я затянул себя сам! Хотя бы из уважения к памяти бабы Ани! А сейчас нам лучше расстаться. И надолго.
– Опять на год? – грустно спросил отец.
– Может быть. А может, и на дольше…
– Но я старею… Да где тебе понять, как грустно в старости терять сына!
– Ты не сберег его в молодости, – после короткой паузы ответил Игорь. – А теперь – попрощаемся. Иди, отдыхай. Я немного побуду с матерью и пойду. Самолет в пять.
Они попрощались сухо, не обнялись, а только пожали друг другу руки. Отец ушел к себе, плотно прикрыв дверь. Игорь заглянул к матери, но она не пошевелилась.
Игорь вернулся в столовую, постоял немного у окна, глядя на посветлевшую улицу, потом вышел в переднюю, еще постоял там, ожидая, что мать выйдет проститься.
Но мать не вышла его проводить. Она лежала и горько, безутешно плакала.
МЕНЯ ЗОВУТ ТАНЯ
Мальчишка, что привез ее с Сааремаа на островок, получил свой рубль, махнул рукой в сторону трех домов, утвердившихся меж валунов и сосен, и тут же исчез вместе с лодкой, словно растаял в тумане.
Легкий рюкзачок, в котором лежали только пара белья, купальник, сарафан да мыло со щеткой, показался ей вдруг неудобным и тяжелым.
В домах ни огонька, нигде ни травинки, песок да бесконечный лабиринт сохнущих на столбах сетей. От них исходил острый запах водорослей, смешанный с холодным запахом рыбы.
Ее оглушила пустынность и тишина.
Восторженные рассказы подруги о прелести этого островка, затерянного где-то между Эстонией и Швецией, показались ей сейчас каким-то злым розыгрышем, а все, о чем мечталось еще зимой, – неуместным, неосуществимым.
Здесь, на этой продуваемой ветром песчаной косе, она должна ждать приезда Георгия Николаевича и остаться с ним надолго вдвоем. Но может быть, именно этого ей и хотелось? Нет, конечно, нет, все вышло не так, как было задумано.
…Сразу же, с первой минуты знакомства, она чутьем угадала, что вызвала в нем не просто дружеский, а особый, мужской интерес. Сперва это насторожило и даже оттолкнуло ее, как и до этого настораживали всякие попытки ухаживания. В школе ее называли Недотрогой – любое проявление внимания мальчиков, даже просто желание поднести портфель, она встречала сердитым взглядом. И в техникуме почему-то к ней стали прилипать разные прозвища: сперва она стала Царевной Несмеяной, потом ее окрестили и вовсе нелепо – Архимеда. Первое время она сердилась, не откликалась, но постепенно смирилась и привыкла к этой Архимеде, как к собственному имени.
Когда она училась уже на последнем курсе, недавно вышедшая замуж подруга, с которой они не разлучались с восьмого класса, затащила ее встречать Новый год в чужую шумную компанию сослуживцев мужа. Идти туда ей не хотелось, но сидеть всю ночь одной в пустом общежитии тоже было невесело.
Вот там-то, в этой незнакомой компании, она впервые увидела Георгия Николаевича.
Они с подругой вошли в комнату, когда все уже сидели за столом. И сразу, безошибочно она угадала – центром, душою застолья был этот большой, полноватый, уже не очень молодой человек с выпуклыми глазами, веселыми ямочками на щеках и узкой полоской черных усиков над приподнятой губой. Он был красив, этот человек. Как только подруги вошли, он помахал ей, почему-то именно ей, и крикнул:
– Сюда, сюда, ко мне! Сюда…
И с губ его сорвалось изящное прозвище, пожалуй, даже подходящее и меткое, – она действительно была мала ростом и еще по-детски худа. Было это прозвище как будто излишне красивым, и от этого немного пошловатым, но с той поры ни он и никто другой не называли ее иначе; как и прежде, она быстро привыкла к своему новому имени.
В первый же день Нового года он разыскал ее в общежитии и потащил к каким-то своим друзьям. От этого посещения у нее осталось неясное чувство, будто он демонстрировал ее как забавную игрушку, хотя по-прежнему был дружески приветлив и вежлив. Это немного льстило ей, но и смущало – она все время была скована, не могла найти нужного тона, не знала, как вести себя, и все больше молчала, внимательно слушая записанные на магнитофон крикливые, однообразные джазы.
Он стал приходить довольно часто, тут же уводил ее в кино или ресторан и всегда много и красиво говорил. Вскоре она уже знала все, что он с демонстративной откровенностью рассказывал о своей жизни, о неудачном браке, о двух избалованных сыновьях жены от первого мужа, о своей суетливой работе, о полученной женой в наследство от отца старой даче, требующей постоянного ремонта, о скуке домашних вечеров перед телевизором, словом, о том, что веселость его и довольство собой только маска, а по существу он человек грустный, и живется ему грустно. Она слушала внимательно, хотя ее все время не покидало чувство, что обо всем этом она уже когда-то читала или видела нечто подобное в кино. Но постепенно, как привыкала она к своим прозвищам, привыкла и к его посещениям, стала ждать встреч и поверила ему, даже стала немного жалеть. Поверила и в то, что постоянно и настойчиво внушал он ей: только она одна может облегчить его жизнь, без нее ему будет совсем плохо…
Неделю назад она окончила техникум. Встречи с Георгием Николаевичем не помешали ей получить диплом с отличием – все-таки недаром же когда-то называли ее Архимедой!
Впереди, до поступления на завод, целых четырнадцать свободных дней!
Еще зимой, задолго до защиты диплома, Георгий Николаевич начал упорно и вкрадчиво уговаривать ее провести отпуск вместе; они поедут вчетвером на тот самый сказочный остров, где прошлым летом подруга с мужем провели каникулы и свой медовый месяц.
Она долго не соглашалась.
Ей самой этого хотелось, но иногда она пугалась своего желания, однако быстро успокаивала себя: чего, собственно, бояться? Георгий Николаевич по-прежнему относился к ней дружески, с ласковой осторожностью и за все время их знакомства ни разу даже не попытался ее поцеловать.
В конце концов, она согласилась. Пропуска заранее раздобыл все тот же Георгий Николаевич. Решено было, что она с подругой и ее мужем выедет первой, обоснуется там, снимет комнату для Георгия Николаевича, потом приедет он – так будет лучше во всех отношениях, к чему лишние разговоры?
Но перед самым отъездом все как-то неожиданно переменилось: за несколько минут до отхода поезда подруга прибежала на вокзал и сообщила, что мужу перенесли отпуск на сентябрь, но она пусть спокойно едет – прошлогодней хозяйке отправлены письмо и телеграмма, ее ждут, все будет хорошо.
Поезд тут же тронулся. Она растерянно смотрела в окошко на уплывающий перрон, на что-то весело кричащую ей вдогонку подругу. Только устроившись уже на своей верхней полке, она испуганно подумала, что там, на острове, они с Георгием Николаевичем окажутся совсем одни среди чужих. Только вдвоем, он и она! На мгновение ей стало страшно, так страшно, что захотелось сойти на первой же станции и вернуться в Москву; но страх тут же сменился каким-то настороженным любопытством: как он поведет себя там, что будет говорить?…
Внезапно ею снова овладела тревога: а вдруг ее попросту обманули и все это подстроено? Подруга заранее сговорилась с Георгием Николаевичем и вообще никуда не собиралась ехать… Неужели она способна на такое? Как узнать, как узнать, правда ли это?… Что ж, вот и еще одна причина дождаться его приезда на остров…
Она не сошла на ближайшей станции…
Сейчас, когда она стояла одна на этом крошечном кусочке суши перед слепыми, враждебными окнами чужих домов, ей снова неудержимо захотелось тотчас же, сию минуту уехать обратно в Москву. Но как выбраться отсюда? Украсть одну из перевернутых у берега лодок и уплыть в этот серый, скользкий туман?
Ей захотелось плакать, кричать от страха, звать на помощь.
И тут она увидела, как от одного из домов отделилась высокая, темная фигура, и мягкий женский голос окликнул ее, нещадно коверкая русские слова:
– Что же ты стала, девушка? Иди в дом. Мы думали, ты на пароме, встречали, а ты…
В голосе женщины была доброта, улыбка. Забыв на песке брошенный рюкзак, она бросилась навстречу женщине, прижалась к ней и расплакалась.
– Я так испугалась! – всхлипнула она.
– Чего, глупая? – засмеялась женщина. – У нас нет ни зверя, ни злых людей. Мы мирные рыбаки и рады гостям. Идем, идем. Старик там жарит яичницу с колбасой. С домашней. Тебе понравится. Проголодалась с дороги?
– Рюкзак…
– А пусть лежит. Утром возьмешь. Сейчас надо покушать и спать. Под перину. Тепло…
Видно, это туман отмыл солнце до нестерпимого блеска. Все сверкало – небо, море, белые чайки, застрявшая в сетях рыбья чешуя, огромные ромашки на клумбах за домом, даже спина коровы, которую подле хлева доила старая хозяйка.
Хозяйка снизу вверх посмотрела на гостью, улыбнулась, блеснув на удивление молодыми зубами.
– Совсем ты девчонка, а мне писали – кончила техникум, с осени на работу. Да?
– Да. Меня зовут…
– А к чему мне твое имя? Девочка и буду звать. Мне ваши имена запомнить трудно. А я – хозяйка. А старик – хозяин. Вот и все имена. Поняла?
Поняла. Обе засмеялись.
– Можно мне поучиться доить?
– Ну, ну. Только моя Эли чужим не дается. Попробуй. Садись. Вот так надо.
Минуту старуха наблюдала за неловкими попытками девушки, но у той ничего не получалось, ни одной капли не могла она выдавить из тугого вымени.
Старуха легонько столкнула ее со скамеечки, уселась сама и, посмеиваясь, принялась доить.
– Долго учиться надо. Не успеешь. Иди лучше погуляй. На, попей парного. Завтрак не скоро – когда старик с моря вернется.
– Спасибо. Побегу искупаюсь.
– А ну, беги, беги. Не озябни. Море у нас холодное.
– Ничего. Я люблю.
Торопливо натянула купальник и босиком прошла к морю по обжигающему холодом песку. С наслаждением вбежала в воду, вовсе не показавшуюся ей такой уж холодной. Немного поплавала. А когда возвращалась, хозяин как раз сталкивал на воду баркас.
– Вам помочь?
Старик добродушно рассмеялся:
– А помоги, помоги.
Она протащила лодку до высокой воды, подождала, пока в нее залез хозяин, потом ловко перевалилась через борт.
– Можно, я на весла?
Старик насмешливо приподнял рыжие брови.
– Не надорвешься? Баркас тяжелый.
– Ничего.
Старый рыбак с удивлением смотрел, как ловко она разобрала весла, протабанила одним веслом, повернула неуклюжий баркас и легко, будто едва касаясь веслами воды, стремительно повела лодку в открытое море.
– Куда? – крикнула она.
– Греби, греби, пока силы. Я правлю.
– Не надо. Я сама. Скажите только куда.
– Вон вешки впереди. Дойдешь?
– Дойду.
– Не устала?
– Нет.
– А ты ничего. Маленькая, а сильная. Она только счастливо засмеялась в ответ. Подплыли к вешкам. Море, довольно бурное у берега, здесь было почти спокойно.
– Подгребай левым! – приказал старик, будто уже привык к помощнице.
– Он начал вытягивать сеть и вдруг яростно заругался по-эстонски.
– Что такое? – обернулась она.
– Чуть не порвал. Опять зацепилась. Второй раз эта же сеть! Черт ее!
– А как в первый раз ее вытянули?
– Не я, сосед. Стар я нырять – дыханья мало. Теперь оба соседа на сенокосе, раньше конца месяца и не жди!.. Резать? Новая! Жалко!
– И снова принялся со смаком ругаться по-эстонски.
– Как это зацепилась? За что она в море могла зацепиться?
Кто знает? Не видно. Может, старый якорь, может, острый валун или топляк.
– Знаете что? – подумав, сказала девушка. – Я попробую.
– Да ты что? – крикнул старик. – Умом решилась? Здесь глубина! Не смей!
Но она уже стояла на борту и вдруг, вся собравшись и комок, бросилась головой вниз, в воду.
Старому рыбаку показалось, что она взлетела, так легок и точен был ее бросок. Со страхом вглядывался он в глубину; еще секунду-другую видел он ее сжавшееся тело, потом оно распрямилось, словно у рыбы, и исчезло в зеленоватой темноте. Улетали секунды; старику они казались долгими минутами. Он был растерян, зол, взволнован. Ничего, ровно ничего не мог он разглядеть в плотной толще воды. И вздрогнул, когда за его спиной раздался веселый, чуть задыхающийся голос:
– И верно, ржавый якорь. В порядке. Можете выбирать.
Она взобралась в лодку, отжала сразу потемневшие волосы, разбросала их по спине и плечам, взялась за весла. Только тогда старик пришел в себя.
– Тебя, черт возьми! – сердито закричал он. – Я дуемая, ты потонула!
– Скажете тоже! Я волжанка. Только училась в Москве, а так – я с Волги.
Старик не очень разобрался в ее объяснениях. Но спокойствие и уверенность в ее голосе тут же снова превратили его в капитана.
– Суши правое. Левым, левым табань. Старайся баркас держать. Так… так… перевались больше влево. Да вот еще, возьми.
Он достал из подкормового ящика огромные резиновые сапоги, бросил ей.
– Надевай!
– Зачем?
– Зачем, зачем… Надевай, не разговаривай!
Она покорно всунула мокрые ноги в бахилы, едва не утонув в них целиком. И в ту же минуту почувствовала, как лодка накренилась, потом выровнялась, и на дно ее, прямо к ногам, хлынула тяжелая, сверкающая масса.
– Господи! – вскрикнула она.
– Чего трусишь?
– Они… они шевелятся, – испуганно ответила она.
– А конечно. Живые. Ну-ка, подвинься. Я на второе. Тяжело, улов. И дома скорее – я голодный.
Как только нос лодки скрипнул о песок, она выскочила, скинула сапоги и опрометью бросилась к дому. Ее мутило, казалось, если она хоть еще секунду пробудет рядом с блестящими, извивающимися рыбами, она тут же потеряет сознание от отвращения.
Старик вошел в кухню, когда она уже переоделась и расчесывала мокрые волосы. Она услышала, как за стеной хозяин что-то, смеясь, рассказывал жене, а та заливалась легким, старушечьим смехом.
«Это они надо мной. Ну и что? Да, я их боюсь – они скользкие, щекочут, брр…»
– Иди, девочка! – позвала хозяйка. – Завтрак готов.
Когда уселись за добела выскобленный стол, старуха провела рукой по ее распущенным, влажным волосам.
– А ты не мальчишка? – подмигнула она. – Ну, ну, я так. Шучу. Ешь, давай! Наработалась…
В коротеньком, не доходившем до колен сарафане, не подвязывая волос, босиком она отправилась обследовать остров.
Он оказался вовсе не таким уж маленьким: за добротными домами, что фасадами выходили не к морю, как она думала поначалу, а к негустому сосновому лесу, стояло еще несколько крепких построек – хлева, амбары, небольшая коптильня, над которой вился вкусный дымок, высокий сарай с тянущимися ко всем строениям проводами.
Она прошла сквозь лесок и снова оказалась у воды. Но берег здесь был вовсе не таким диким, как тот, к которому ночью привез ее мальчишка лодочник: к земле прижималась крошечная деревянная пристань с выкрашенной в ярко-голубую краску будкой над нею; от пристани к противоположному берегу неширокой здесь протоки тянулся металлический трос, удерживающий прочный паром. На том берегу протоки стояли машины, ходили люди, словом, до нормальной жизни было рукой подать!
«Ах ты, жулик, мальчишка, – засмеялась она. – Рубль хотел заработать, вот и возил меня вокруг света!»
За обедом она спросила, куда они девают рыбу, которую отлавливают? Неужели съедают такую массу сами?
Хозяин был чем-то озабочен и не обратил внимания на ее вопрос. Ответила ей старуха.
– Что ты, девочка! Мы от колхоза ловим. Часть сами коптим, часть сдаем на наш колхозный рыбзавод. Автоцистерны приезжают, загружаются, паром везет. Мы, три семьи, тут только летом и в осеннюю путину. Зимой – дома. У нас дом знаешь какой – каменный, двухэтажный, камин есть, телевизор цветной, не то, что здесь, старый. Наш колхоз – богатый колхоз, и колхозники богатые. Это – Эстония!
– Сегодня без телевизора, – проворчал старик, – и света нет. Третий день. Механик только в среду приедет! Еще три дня как кроты в норе!
– Ничего, – махнула рукой старуха. – Пораньше спать ляжем.
– Спать, спать. Тебе бы всю жизнь только спать!
– А что случилось? – полюбопытствовала девушка.
– Движок испортился.
– Движок? А можно я посмотрю?
– Что ты в этом понимаешь? – рассердился старик, – Сиди уж, ешь и помалкивай.
– Зачем вы так? Я ведь действительно в этом разбираюсь.
– Брось болтать!
– Я не болтаю! Вовсе я не болтаю!
Она вскочила, выбежала из комнаты, быстро вернулась, протянула старику красную книжечку.
– Вот! Это мой диплом. С отличием! Читайте: специальность – электротехник. Понимаете? Электротехник.
– Ты смотри! – удивленно протянул старик.
Еще мгновение он недоверчиво разглядывал диплом и его обладательницу, потом вскочил, бросил на ходу:
– Пошли!
Она возилась почти до самых сумерек, два раза чуть ли не по винтику разбирала и собирала злополучный движок, вся перемазалась и не отвечала на сердитые замечания старика, не отходившего от нее ни на шаг.
Наконец, – честно говоря, она и сама не могла с уверенностью сказать, почему и как, – движок ожил и яростно затарахтел, вспугнув чаек и ворон, заметавшихся над берегом, соснами и валунами.
Меж домами показалась хозяйка. Старик что-то кричал ей, махал кепкой, смеялся. Потом подбежал к измученному механику и крепко поцеловал в перемазанную мазутом щеку.
– Выключай! – закричал он в самое ухо девушки. – Включим к передаче. Пошли, хозяйка ужинать зовет.
Умытая, причесанная, счастливая, сидела она за столом, а старики наперебой подкладывали ей на тарелку то маринованные грибы, то моченые яблоки, то засахаренную бруснику. Она смеялась, протестовала, но с удовольствием поедала все, что лежало перед ней.
Старуха разлила по стаканам холодное, с погреба, молоко. Усмехнулась:
– Попробую тебя все-таки научить корову доить. Справишься? Нет!
Так прошел ее первый день на этом крошечном острове, не отмеченном ни на одной, даже самой подробной, карте…
И один за другим, словно цветные камешки. Покатились дни, наполненные купанием в прохладном море, солнцем, рыбалкой, возней по хозяйству, недалекими прогулками. Старуха постепенно переложила на нее часть домашних дел, сама же почти все время проводила в коптильне и на пристани, помогая мужу грузить на машины ящики с копчушками и заливать живой рыбой цистерны, стряпала и доила корову – эту премудрость постоялица так и не одолела. К вечеру гостья сильно уставала, но нисколько этим не огорчалась. Все равно ей было здесь необыкновенно хорошо, так хорошо, как не бывало даже дома.
Только перед самым сном, грея под хозяйской периной усталое тело, она снова начинала думать о Георгии Николаевиче. Первые дни ей казалось, что она ждет его с нетерпением, даже с обидой – выходит, она не так уж и нужна ему, если он так долго не приезжает. В такие минуты ей почему-то особенно хотелось его видеть. И все-таки она сознавала, что вдали от него ей лучше, спокойнее. Нет, он никогда не был назойлив, но ее настораживала, иногда и пугала его затаенная уверенность в собственной неотразимости. Она понимала, что при всей его многословной, демонстративной откровенности, он не всегда правдив, словно разыгрывает перед нею какую-то самому себе навязанную роль.
На четвертый день ее жизни на острове хозяйка, вернувшись с пристани, протянула ей телеграмму.
– Тебе. Паромщик привез, велел отдать.
Она схватила телеграмму и убежала к себе в комнату – ей не хотелось читать ее при стариках.
«Вынужден задержаться несколько дней. Мечтаю встрече малюткой. Выезде сообщу».
Подписи не было.
– Мечтаю встрече, – негромко произнесла она.
В этот вечер она долго не могла уснуть. Не потому, что ей было особенно грустно, нет, просто хотелось разобраться в себе, понять, так ли уж сильно хочется ей, чтобы он приехал, мечтает ли она о встрече? Что мешает ей радоваться телеграмме и привычным красивым словам? Она не могла на это ответить, но что-то мешало… Наутро она снова забыла обо всем, разморенная ветром, купанием, бездумьем.
Прошло еще несколько легких дней.
Но однажды в бессонный вечерний час у нее мелькнула пугавшая ее оскорбительная мысль: а что, если то, что он так долго не едет, тоже продумано заранее?! Не едет, чтобы заставить ее непрестанно думать о нем, скучать, тосковать?! Она заплакала от обиды и еще от того, что все-таки его ждала…
Ждала, но все больше привыкала к соленому ветру, к беспрестанному шуму моря, все крепче привязывалась к старикам, к утреннему кормлению чаек, к неназойливому солнцу просторных дней.
…В то утро она проснулась очень рано, даже раньше своих хозяев; вскочив с постели и пробежав сквозь белесое облако, поднимавшееся от песка, она с разбега бросилась в туманное, тихое, еще ночное море. И тотчас охватило ее такое счастливое чувство освобождения, что она, словно птица, закричала навстречу встающему солнцу в прохладной воде.
С этой минуты она перестала ждать. И радовалась тому, что Георгий Николаевич не едет. Как нелепо выглядел бы он рядом со старым рыбаком и его женой! А она? Каким бы прозвищем окрестил он ее сейчас, пропахшую рыбой, мазутом, морем, с выцветшими почти добела волосами и потрескавшимися от песка пятками?
Нет, ни одного дня, ни одной секунды этого прекрасного прохладного июля, этого короткого своего отпуска не отдаст она воспоминаниям о Георгии Николаевиче, ожиданию чего-то тревожного, неизвестного, что сейчас казалось ей стыдным…
А вечером, за ужином, хозяйка протянула ей еще одну телеграмму. Как и первая, эта тоже была без подписи: «Выезжаю сегодня машиной. Жди».
Несколько секунд она соображала, сколько времени может занять такая поездка, и, наконец, решила: «Успею».
– Плохое что? – сочувственно спросила хозяйка.
– Нет… Но завтра я уезжаю.
– Что скоро так? У тебя ведь еще несколько дней…
– Надо, – коротко ответила она.
Ранним утром, торопясь на первый паром, она сложила рюкзак и вышла с ним на кухню, попрощаться и расплатиться с хозяевами.
Старик сердито оттолкнул ее руку с деньгами.
– Ты что? Обидеть хочешь? Мне помогала, жене помогала, движок наладила. Это я тебе должен, не ты мне!
Она не стала настаивать, поняла, что они действительно могут обидеться.
– Спасибо вам за все! – сказала она, обнимая хозяйку.
– Еще приедешь? – спросила та.
– Приезжай хоть зимой, хоть летом, – улыбнулся хозяин. – Мы тебя полюбили.
Она прижалась лицом к колючей, небритой щеке старика.
– Обязательно приеду!
И выбежала. Но вдруг остановилась на пороге, будто споткнулась обо что-то: услышала, как хлопнула дверца машины, и тотчас увидела быстро идущего к ней по дорожке Георгия Николаевича.
– Колибри! – крикнул он радостно. – Наконец-то мы опять вместе!
Она не двинулась к нему навстречу, не переступила порога, осталась стоять неподвижно, держа в опущенной руке легкий свой рюкзак.
Он сделал еще шаг к ней, сказал тише, менее уверенно:
– Колибри!
– Меня зовут Таня, – негромко откликнулась она.
– Ты на меня сердишься? Но клянусь, я не мог вырваться раньше. Перевозил своих на дачу, получал машину… Я ведь хотел… Пойдем, посмотришь, какая красавица!
– Она молчала.
Старики не показывались. Было очень тихо. Только пошумливало море да коротко гуднул отошедший паром.
– Ты сердишься, Колибри? Сердишься, что так долго меня ждала? Но, честное слово…
– Я давно уже вас не жду, – перебила она.
– Но, пойми… – и осекся под ее пристальным взглядом.
– Это хорошо, что вы на машине, – сказала она, слегка усмехнувшись. – Вам не трудно подбросить меня в Пярну на аэродром? Тогда я смогу еще попасть на двухчасовой до Москвы.
– Но почему? Ведь у тебя еще несколько дней…
– Да. Но я все равно хочу быть сегодня в Москве.
– Я думал… я надеялся… эти несколько дней с тобой… вдвоем…
Она переступила, наконец, порог и, молча обойдя его на узкой дорожке, направилась через лес к причалу. Не попрощалась, даже не кивнула ему и вскоре скрылась за деревьями.
А он все стоял, глядя ей вслед, и по липу его было видно – игра его кончилась поражением.
Наконец он опомнился и бросился к машине…
Всю дорогу до Пярну они молчали. Он искоса поглядывал на ее спокойный профиль, на легко брошенные на рюкзак загорелые руки, и ему казалось, что эту сидящую рядом с ним девушку он никогда до этого не видел. И странно – он, всегда такой самоуверенный, немного даже робел перед нею.
Машина остановилась у аэровокзала.
Она вышла и, прежде чем захлопнуть дверцу, сказала благовоспитанно и серьезно:
– Вы были очень любезны. Георгий Николаевич, Я искренне вам благодарна. Всего хорошего.
И вошла в здание.
С минуту он просидел, не двигаясь, положив на руль обе руки в коротких шоферских перчатках с дырочками на костяшках пальцев. Потом тряхнул головой и резко взял с места…
ПРОХЛАДНО
Если смотреть на берег, кажется, что теплоход идет медленно, медленно. Но стоит перевести взгляд на воду, на поблескивающий под луною бурун у днища, становится ощутимо ровное и стремительное его движение.
– Как это там называется по-морскому? Узлы? Сколько он делает узлов в час, как вы думаете?
Женщина ничего не ответила. Она смотрела на лунную дорожку, которую старался, но никак не мог перерезать нос теплохода.
Она думала о чем-то своем, затаенном. Вероятно, она даже не расслышала вопрос. Только голос стоящего рядом с нею мужчины на секунду вернул ее сюда, на палубу. И снова она как бы осталась совсем одна с этой рекой, с этой лунной ночью, с запахом влажной листвы, что долетал с далеких берегов.
Впервые в своей жизни она задумалась о том, что вот уходит ее женское время, скоро сорок пять лет, а она еще никогда не обнимала ребенка, никогда руки ее не лежали на мужских плечах, никогда она не прижималась лицом к твердой шее мужчины.
…Матери она не знала – та умерла при родах. Отец был суров, молчалив и строг. Он никогда не говорил ей, как был раздосадован, узнав, что родилась дочь, – как все сваны, он ждал и желал сына. Но больше он не женился. Воспитывал ее сам. Даже своим детским умом она понимала, что он предпочел бы воспитывать любого соседского мальчишку, а не ее – худущую, длинноногую и запуганную девчонку. Он никогда не говорил ей о своей обиде, но изо всех сил старался сделать из нее мальчика: так же, как все мальчишки их крошечного горного селения, она научилась скакать на коне, стрелять из лука, а позднее – из старой берданки и без промаха попадать в подброшенный черепок. Но читать он ее не учил – он не знал русского, сванских книг в селении не было, грузинские же были только у священника, а с ним отец был не в ладах. Уже в пять лет она умела разжигать очаг, печь лепешки из кукурузной муки, белить стены их дома истирать белье. Отец никогда не смеялся громко, да и улыбался нечасто. Очень редко, как бы невзначай, проходя мимо, дотрагивался до ее плохо заплетенных, растрепанных косичек и, уезжая куда-нибудь, говорил негромко:
– Отдохни. Я вернусь дня через два. Не забудь подоить козу и пей все молоко, не оставляй. Сыр в погребе.
Садился на коня и уезжал, не оглядываясь.
То, что началась война и вообще что такое война, она узнала от чужой русской женщины, поселившейся в заброшенной хате, неподалеку от них. Тетя Аня была так же молчалива, как отец, но молчание ее было другое, грустное. В первые дни она часто выходила на дорогу, что вилась вниз, в долину, и там стояла долго, часами, одна, молчаливая и потерянная. Натэлла садилась на пороге своего дома и тоже молча смотрела на нее большими, блестящими, длинными глазами. Что-то затаенное, недетское было в глазах девчонки, что-то такое, что заставило молодую, одинокую женщину обратить на нее внимание.
Однажды, когда отца не было дома, тетя Аня подошла и присела на порог рядом с девочкой. Натэлла знала только два-три русских слова, женщина не говорила ни по-грузински, ни по-свански. Почему завязалась между ними дружба? Именно дружба. Ни та, ни другая не думали об этом – они просто стали нужны друг другу.
Очень скоро тетя Аня научила ее русскому языку, обучила русской грамоте и, возвращаясь с поля, где стала работать, а Натэлла начала помогать старшим, они вместе заходили в сельсовет послушать радиосводки, потом шли к тете Ане домой, и постепенно горы, ограничивавшие раньше селение, стали раздвигаться, и мир открылся девочке огромный, интересный и немного страшный.
Война подходила все ближе к ним. В селении почти не осталось молодых мужчин. Через несколько месяцев ушел на войну и отец. И ранней весной, когда на верховинах лежал еще снег, все, кто мог передвигаться самостоятельно, ушли за перевал. Ушли вместе со всеми и тетя Аня с Натэллой, которая со дня отъезда отца жила с нею вместе.
Они кое-как добрались до Москвы, но попасть в Пулково – родной город тети Ани – они так и не смогли: там были немцы.
С тех пор она больше никогда не видела отца, ничего о нем не слышала. Она даже не знала, жив ли он. Не знала также и своей фамилии – Гавриилы звали их в селении.
На запросы, которые посылала во все места тетя Аня и во время войны, и после того, как она кончилась, приходил один ответ:
«На ваш запрос отвечаем, что по одному имени «Гавриил». найти разыскиваемое вами лицо не представляете возможным». Известно было только одно – в родные места отец не вернулся.
Натэлла училась в той же школе, где в младших классах преподавала тетя Аня, которая становилась все более молчаливой и грустной. Вскоре она узнала, что все ее родные погибли во время боев на Пулковских высотах. С тех пор она совсем замолчала, перестала следить за школьными занятиями Натэллы, стала заметно слабеть и за несколько дней до окончания Натэллой семилетки умерла в больнице от сердечной недостаточности.
В школу Натэлла не вернулась. Осенью она сдала экзамены в электротехнический техникум. Тогда же пришла в милицию получать паспорт. Она и сегодня хорошо помнила недоверчивое выражение, появившееся в глазах паспортистки, когда та в графе национальность в ее школьном свидетельстве увидела слово «сванка».
– Это что же, – подозрительно спросила паспортистка, – ты, что ли, на озере Севан родилась? Так надо писать армянка, потому что я знаю, что озеро Севан в Армении, мы в школе учили.
– Нет, – сказала Натэлла. – Не севанка, а сванка. Я родилась в Сванетии. В Горной Сванетии. Этого вы в школе не проходили, что есть такая страна?
– Нет такой страны! Может, за границей? Так ты – не русская?
– Нет. Не русская. Я – сванка!
– Ты мне голову не дури!
Натэлле очень хотелось сказать ей что-нибудь резкое, но в своей одинокой жизни она уже научилась сдерживаться и говорить не все, что приходит в голову.
– Пойдите, пожалуйста, к начальнику милиции и выясните, есть ли такая страна, – спокойно сказала она. Паспортистка вскочила, резко захлопнула окошечко, отделявшее ее от посетителей, Натэлла ждала долго и терпеливо. Наконец окошечко открылось. Красная, взбешенная паспортистка выглянула и крикнула:
– Или к начальнику сама. Комната восемь.
И снова как выстрел щелкнуло захлопнувшееся фанерное окошко.
Начальником оказался молодой, видно, только что демобилизованный лейтенант.
– Это вы – сванка? – спросил он, улыбаясь. – Но ведь можно же написать и грузинка. Понятнее как-то.
– Нет, – упрямо сказала Натэлла. – Я – сванка. Отец и мать мои были сваны.
– Это, кажется, какие-то римские воины, осевшие высоко в горах в начале второго века? Или гунны? Я что-то помню…
– Возможно.
– Значит, – засмеялся начальник, – с тем же успехом вас можно назвать итальянкой?
– Нет. Я – сванка.
– Ну, хорошо-хорошо. Фамилия у вас какая-то странная – Гавриил. Это имя отца, наверное?
– Да. Имя. Но в селении нас все называли Гавриилами. Значит, и фамилия.
– Ну, что ж, так и напишем – Натэлла Гаврииловна Гавриил. Так?
– Да.
– Ладно. Идите, получайте паспорт. И поздравляю вас…
…Где-то внизу, под палубой, раздался приглушенный звонок, едва различимый голос отдал какое-то распоряжение, и снова стало тихо: только урчала за бортом вода да разбуженная птица щебетнула на далеком берегу. Деревья рисовали редкие тени на широком прибрежном плесе; ничем не омраченная луна лила густой медовый свет на воду, траву, лицо высокого, сухопарого мужчины, опершегося о поручень неподалеку от сидевшей на скамейке Натэллы.
Она оторвалась от своих воспоминаний и внимательно вгляделась в его несложный, простоватый профиль. Вокруг чуть вытянутых вперед губ от широкого носа залегла острая тень, придавая лицу грустное, задумчивое выражение.
«Ему тоже грустно? – подумала Натэлла. – Почему? А может быть, просто кажется… От луны…»
Чем дольше глядела она на его лицо, тем тревожнее становились ее мысли, тем тоскливее сжималось сердце.
Отчего? Она и сама толком не понимала – он был таким легким, веселым спутником все эти две недели, что плыли они по Волге вниз, к Астрахани. Казалось, никакого особого внимания он ей не оказывал, только в нужную минуту всегда появлялся рядом.
«А что это значит – в нужную минуту? – удивленно подумала Натэлла. – Ведь раньше я всегда обходилась либо случайным обществом, либо своим собственным! Неужели он, именно он стал мне нужен?»
Эта мысль испугала ее. Она с трудом оторвала взгляд от его лица, и тотчас же снова нахлынули на нее давние, давние, уже словно бы умершие воспоминания. Они стали менее плавными, менее точными, но, странно, более яркими. События? Нет, не было особых, экстраординарных событий в ее одинокой жизни: окончила техникум, потом институт, потом аспирантуру и начала работать в научно-исследовательском институте электронной техники. Защитила диссертацию, ее назначили начальником маленькой лаборатории – в подчинении у нее было три младших научных сотрудника и два лаборанта. До прошлого года жила она в той же маленькой комнате, в которой поселилась когда-то еще с тетей Аней. Только в прошлом году, когда дом их был назначен на слом, ей дали однокомнатную квартиру в отдаленном районе. С балкона своего одиннадцатого этажа она видела почти всю Москву, расчерченную по вечерам изгибающимися линиями фонарей вдоль шоссе и неровных улиц, поблескивающую Москва-реку. Эта живая карта огромного города вытеснила, наконец, из ее зрительной памяти узкое ущелье, где прилепилось к скалам ее родное селение.
Однажды, когда она еще училась в институте, она увидела объявление о приеме в конноспортивную секцию и вдруг затосковала по стремительному движению, цокоту копыт по скалистой дороге, по ветру, омывавшему ее детское лицо во время скачки.
Она тут же пошла и потребовала, чтобы ее приняли в секцию. Тогда она была единственной женщиной, пожелавшей заниматься этим неженским спортом, и пан Казимеж, тренер и, как его добродушно называли ребята, «Профессор высшей школы верховой езды», не соглашался принять ее. Но она настояла. Куда девалась ее обычная, суховатая сдержанность? Она потребовала, чтобы он дал ей любого, любого коня! Она покажет, на что способна! Она заставила коня проскакать галопом три раза по кругу и резко остановила его у самых ног тренера.
– Пани доказала, что понимает на конях, – сказал он, нещадно коверкая русский язык. – Но посадка! О! Тут надо много работы! Много!
Дни тренировок стали для нее самыми радостными днями ее наполненной учебой жизни. До самого окончания аспирантуры она не пропускала ни одного дня в манеже. Несколько раз участвовала в соревнованиях. Но ни разу не заняла первого места. Третье, второе – да, но ни одного первого. Она упорно и много тренировалась; ей казалось, что делает она все как надо, что конь понимает ее, беспрекословно слушается любого ее приказа. Почему же она никак не может завоевать первенства?!
– Рóнчка за тварда! – сокрушенно покачав головой, сказал пан Казимеж. – Нельзя всегда коня держать на цугундер. Иногда надо и отпустить. Пани понимает? Отпустить. На его волю! Конник не диктатор, конник-друг! Так? Друг!
После этого разговора она всю ночь просидела в своей тесной комнате, не зажигая огня.
«Рóнчка за тварда, – думала она. – Нет, дело не в этом. Не в этом. Ведь и друзей у меня потому и нет, что я им не друг. Девочки уже все имеют парней, многие вышли замуж, у них даже дети родились, а я… я всегда одна. Плохо это? Может быть. Но мне так легче. Мне легче быть одной, чем подчиняться чужой воле, чужим желаниям… Наверное, я просто моральный урод… Останусь старой девой… и никого не встречу, никого, кто мне понравится…»
Утром, причесывая свои темно-русые, густые, прямые волосы, она как бы впервые присмотрелась к своему отражению в зеркале.
– А ведь я красивая, – сказала она вслух, грустно улыбнувшись. – Ну, и никому не нужна эта моя красота…
С этого дня она больше ни разу не заглянула в манеж…
…В лаборатории сотрудники и молодые аспиранты называли ее за глаза «Архангел Гавриил». Они побаивались ее скрупулезной требовательности, ее строгих, длинных глаз, ее меткого, жесткого слова. И все ж относились к ней неплохо. Она была справедлива, а неистребимый кавказский акцент придавал ее речи некую женственную мягкость. К тому же она и вправду была красива.
Ей казалось, что жизнь ее течет правильно, плавно, размеренно; незаметно укоренились холостяцкие привычки – она полюбила одинокие прогулки по вечерней Москве, иногда уезжала куда-нибудь за город, присоединившись к какой-нибудь небольшой туристской группе; отпуск обычно проводила на воде – заранее покупала билет на маршрутный теплоход и покорно посещала все попадавшиеся по пути города и памятные места, внимательно слушая объяснения гидов. Так она побывала и в Кижах, и на Валааме, и в Петрозаводске, и на Карельском перешейке, – словом, объездила почти весь Север. Только ни разу не ездила она в отпуск в родные места, и вообще на Кавказ, хотя неизменно, как только сходил с московских тротуаров снег, ей начинали сниться темные ущелья и лысоватые горы ее родной Сванетии. Но что-то удерживало ее от поездки туда – то ли страх перед тем, что там она может оказаться еще более одинокой, то ли боязнь конкретности воспоминаний своего трудного и, по существу, такого же одинокого детства, то ли тщетно подавляемая тоска по отцу, по единственной родной ей в мире душе.
Вот и этот отпуск она проводила на теплоходе, но направлявшемся уже не на север, а на юг, к Астрахани.
Случайные знакомства, которые обычно завязываются в таких поездках, так и оставались всегда случайными, и никогда не приходило к ней желание снова увидеться со своими спутниками в Москве, зимой. Если она потом вспоминала о них, то только мимолетно, как-то не заинтересовано: женщины казались ей слишком откровенными, многословными, мужчины – либо замкнутыми, либо навязчивыми.
На этот раз получилось так, что человек, с которым она встречалась каждый день в салоне за столом во время завтраков, обедов и ужинов, показался ей более интересным, чем остальные.
Первые дни он не пытался с нею заговорить, не навязывал знакомства, только вежливо здоровался и, поев молча, извинялся, что кончил раньше ее, и уходил.
Он производил впечатление очень утомленного и чем-то сильно огорченного. Лицо у него было непримечательное, бледное, словно он долго до этого болел.
Со своего обычного места – на узкой бортовой скамье подле носа теплохода – она невольно стала следить за ним – он почти все время медленно расхаживал по палубе, не прячась, как другие пассажиры, от осеннего, но еще горячего солнца.
«Что-то его томит, – думала Натэлла. – Горе у него, что ли, какое?»
Она не уловила того момента, с которого стала замечать, что вот его сегодня не было с ними на экскурсии на Волгоградском мемориале или что он сегодня не выходил днем из своей каюты.
К концу первой недели пути она приметила, что он сильно загорел и вид у него стал куда более здоровый и веселый.
«Отдохнул!» – подумала она, и почему-то эта мысль доставила ей непонятную радость…
Вечером было пасмурно, по временам начинал накрапывать мелкий, теплый дождик. На палубе было пусто и тихо, только из салона доносились звуки джаза, негромко игравшего какой-то незамысловатый блюз, да шарканье ног танцующих пар.
Натэлла сидела все на том же излюбленном месте, и впервые ей захотелось, чтобы этот незнакомый человек подошел к ней и заговорил, как со старой знакомой. О чем? Да неважно. Просто ей захотелось побыть с ним вдвоем.
Снова пошел дождичек; она накинула на голову капюшон плаща и вдруг услышала: кто-то остановился у борта неподалеку от скамьи, на которой она сидела.
У нее внутри дрогнуло. Но она не обернулась.
– Нам пора представиться друг другу, – чуть насмешливо произнес за ее спиной сосед по столу. – Моя фамилия Воронов, Николай Алексеевич меня зовут.
Только тогда она заставила себя обернуться. И улыбнулась; ей показалось почему-то смешным, что высокий, сухопарый ее сосед стоит с раскрытым над головой огромным зонтиком. Светлый, песочного цвета костюм, который всегда был на нем, как-то уж очень не вязался с громадным черным зонтом, кожаной кепкой, надвинутой на самые брови, точно так же, как его высокая элегантная фигура и тщательно повязанный галстук не монтировались с его простым, немного грубоватым, сильно загоревшим лицом. От этого его вида будто бы раздвинулся внутренний заслон, всегда мешавший ей при знакомстве. Она свободно протянула руку и сказала громко:
– Гавриил, Натэлла Гаврииловна.
– Гавриил? Странная какая-то, библейская фамилия. Вы – кто?
– То есть, как это кто? Ну, скажем, инженер. Электроник.
Воронов смущенно улыбнулся.
– Простите. Я не так спросил. Вы – грузинка?
– Нет, – ответила Натэлла. – Я – сванка. Всех поражает моя фамилия. А я просто – сванка.
– Так? Честное слово, я впервые вижу живую сванку. Но почему вы блондинка? Это же почти грузины.
Натэлла неожиданно весело рассмеялась:
– Во-первых, грузины тоже бывают блондинами. А во-вторых, сваны – это потомки древних римлян, которые тоже когда-то были светлыми. Да и сейчас ведь венецианки в основном – русы и голубоглазы…
– Вы бывали в Венеции?
– Да. В туристской поездке. А в Риме – в командировке… Но ни одного родственника там не нашла, – опять засмеялась Натэлла.
– Я тоже бывал там… Но последние несколько лет жил, скажем прямо, в очень сыром и прохладном месте.
Натэлла молча и сочувственно поглядела на Воронова.
– Да нет, – улыбнулся он. – Вы не совсем правильно меня поняли. Я вот уже четыре года жил в Нидерландах. Я, видите ли, дипломат. Есть такая профессия.
– Вот как…
– И привез я оттуда отвратительную способность болеть насморком от малейшего дождичка. Потому и таскаю всюду эту шоферскую кепку и зонт. Смешно, верно?
– Смешно, – рассмеялась Натэлла. – И не очень романтично…
– Ну, романтики, положим, хоть отбавляй… Но и скуки, признаться, тоже…
– Романтики?
– Ну да… Пока я там представительствовал, меня бросила жена и вышла замуж, за весьма представительного заместителя министра здравоохранения… Собственно, бросила она меня давно, а замуж вышла только месяц назад. Я как раз поспел к свадьбе… Чем не романтика – бывшего мужа вызывают на родину, на свадьбу его бывшей жены!
Натэлла посмотрела на него с легким неодобрением.
Ей показалось, что в голосе его не было ни капельки сожаления, только ироническая насмешливость…
«Ну, – с неудовольствием подумала она, – и этот разболтался о своих интимных делах. Вроде всех этих теплоходских дам…»
Словно почувствовав ее недовольство, Воронов на минуту примолк, потом сказал негромко:
– Извините. Ни к чему вас путать в мои глупые дела. Но как-то само собою это вышло. Я, поверьте, никому никогда ничего не рассказывал. А тут почему-то захотелось, чтобы вы знали, кто я такой и… и с чем меня едят… Вы не сердитесь?
И снова Натэлле стало легко с ним. «Нет, он симпатичный, – подумала она. – Надо же человеку когда-нибудь и кому-нибудь рассказать о себе…»
– Можно, я присяду рядом? – спросил Воронов.
– Только не выколите мне глаза вашим гигантским зонтом!
– А дождь прошел.
Он чуть отстранился, что-то нажал в ручке зонтика, и тот с тихим шелестом закрылся сам.
Здорово! – засмеялась Натэлла. – Какой покорный.
Японцы придумали. Он и открывается сам. Теперь таких полно.
– Походим немного, я что-то озябла…
С этого вечера они почти не расставались. Он больше уже не говорил о себе, а только о странах, в которых бывал, о людях, с которыми встречался. Она слушала его со все возрастающим интересом и каждое утро, просыпаясь, думала о том, что вот скоро увидит его и снова услышит какой-нибудь длинный и яркий рассказ. Ни за что не хотела она признаваться себе, что просто хочет его увидеть, услышать его хрипловатый голос, ответить на ласковую улыбку, мгновениями мелькавшую в его серых глазах!
…Сегодняшняя ночь была не по-осеннему жаркой, почти душной. От полной луны словно бы тоже исходил теплый свет.
Утром они должны были прийти в Астрахань. Там он собирался сесть на самолет и улететь в Москву – короткий отпуск кончился.
Почему ей было сейчас так грустно? Она попыталась заставить себя собраться, замкнуться, осудить это свое нелепое грустное настроение. Но впервые не могла принудить, подхлестнуть себя.
«Завтра… – думала она. – И больше мы никогда не увидимся… Ну и что? Мало ли было пароходных, туристских знакомств, о которых я больше никогда не вспоминала?! Зачем он мне нужен, этот чужой, странный человек? Да ни зачем! Не нужен!»
Она оторвала взгляд от его лица и стала глядеть на лунную дорожку, струившуюся на неспокойной воде.
И почему-то в эту секунду вспомнился ей кривоногий тренер пан Казимеж.
«Как, как он сказал тогда? – с тревогой и непонятным волнением подумала она. – «Нельзя всегда держать коня на цугундере. Надо иногда отпускать»… Да, надо иногда отпускать…»
Она вздохнула прерывисто, точно после долгих слез.
«Вот, если он скажет… если он скажет – летим завтра вместе… я… что я сделаю?… Что я отвечу?… Что?»
Но он выпрямился и, не отрывая рук от перил борта, негромко произнес:
– Ну, Натэлла Гаврииловна, пора прощаться. Поздно уже. Мы прибываем в четыре тридцать. Вы еще будете спать, а я сразу помчусь на аэродром. Боюсь, билетов не будет, если задержусь… Ну, попрощаемся…
Она почувствовала, как слезы накапливаются у нее где-то в горле и, боясь, что сейчас постыдно расплачется, резко поднялась и сказала сухо:
– Что ж. Действительно поздно. Прощайте.
Он задержал ее руку, чуть пригнулся к лицу и вдруг сказал тихо и взволнованно:
– Если бы вы знали, какая вы сейчас красивая!.. Нагнулся к ее руке, легко прикоснулся к ней губами, резко отвернулся и быстро отошел, оставив ее одну, растерянную и испуганную.
Было прохладно, и даже сюда, на аэродром, ветер доносил откуда-то запах палого листа и влажного леса.
Она опоздала на автокар и, пока дошла до самолета, сильно озябла на ветру.
Воронов стоял немного в стороне от трапа, безучастно следя за тем, как медленно и тщательно стюардесса проверяет билеты. Натэлла подошла к Николаю Алексеевичу и остановилась вплотную за его спиной. Он не заметил ее, не обернулся.
Тогда, сдерживая рвущийся из горла нервный смех, она сказала излишне громко:
– Возьмите, пожалуйста, мой чемодан. Он нестерпимо тяжелый…
ИВАН-ЧАЙ
Сергей Иванович ушел на пенсию, когда ему было уже под семьдесят. Все как-то не решался бросить завод, хотя давно уже не работал по своей специальности слесарем-инструментальщиком – слаб стал здоровьем. Дали ему работу, по его мнению, – пустяковую: воспитателем в общежитии недавно созданной слесарной группы заводского ПТУ. Похвастаться особой дисциплинированностью своих подопечных он не мог – вечно случались с ними какие-нибудь ЧП, вечно таскали его к директору для объяснений. Но мальчишек своих он не выдавал и часто брал их вины и шалости на себя.
Внимательно, как когда-то к солдатам своей роты, присматривался старый мастер к мальчикам, к тому, что их интересует, чем они увлекаются. И с огорчением заметил: большинство ни к чему не проявляет особого интереса – после занятий слоняются по общежитию, по двору, мало читают, сидят целыми вечерами перед телевизором и смотрят все программы подряд. Но были и такие, что с увлечением мастерили модели моторок, самолетов, выпиливали что-то, нещадно соря в коридоре, за что неизменно получали взбучку от коменданта. На одного паренька, долговязого и неимоверно худого, которого мальчишки в насмешку прозвали «Малыш», Сергей Иванович обратил особое внимание – тот всегда рисовал. Отрезая большие листы от широкого рулона шершавой бумаги, он рисовал какие-то странные, не совсем понятные картинки. Иногда ребята останавливались за его спиной, подолгу следили за тем, как Малыш набирает краску из разных баночек и, почти никогда их не смешивая, уверенно орудуя левой рукой, рисует кистью диковинных, странных зверей, либо стремительно бегущих куда-то людей с длинными, тонкими ногами. Однажды Сергей Иванович тоже приостановился за спиной Малыша и поразился – парень держал в правой руке карандаш, в левой – смоченную в краске кисть и, одновременно действуя обеими руками, быстро и уверенно рисовал и раскрашивал, вернее, писал красками только что приземлившийся самолет, выходящих из него людей, бегущих навстречу им детей. Все это возникало на бумаге с такой быстротой и выглядело так красочно и радостно, что у Сергея Ивановича не возникло сомнения – день был солнечный, яркий, весенний. Постояв до той поры, пока Малыш не кончил, Сергей Иванович спросил только для того, чтобы завести с парнем разговор!
– Ты где такую бумагу достал?
– Украл, – спокойно ответил Малыш.
– То есть как? Где?
– А в детдоме. Когда сюда уходил. Там у нас коридор оклеивали, два куска осталось. Лежали без толку. Я и взял. Знаете, как на них хорошо гуашь ложится!
– Это что – гуашь?
– Вот, краски. Водяные, а густые.
– А ты куда все после занятий бегаешь?
– В зоопарк. Я зверей люблю. Всяких. Рисовать их интересно.
– Я видел твоих зверей. Они все какие-то непохожие. Сразу и не разберешь, верблюд или, скажем, осёл.
– И птицы, – мечтательно продолжал Малыш, не слушая Сергея Ивановича. – Замечательные есть птицы. Посмотришь, и сразу видно, какой у нее характер…
– Характер? Чудак ты, Малыш!.. А знаешь, что я тебе предложу? Давай организуй ребят, чтобы они тоже учились рисовать, а? А то многие без дела болтаются. Согласен? Научишь их?
– Как же я могу их учить? Я и сам не умею. Просто так рисую… Нет, я бы сам хотел поучиться… Очень бы хотел, да не знаю, как, у кого…
Почти полгода прошло, пока Сергею Ивановичу удалось раздобыть средства на оплату педагога. По неопытности он пригласил не художника, а старого чертежника из конструкторского бюро, ушедшего на пенсию. Вначале ребята охотно посещали кружок, потом их становилось все меньше – старик-чертежник заставлял их рисовать какие-то коробочки, стаканы, мячи, учил писать всевозможные шрифты и с недоверием относился к тем, кто рисовал, как он говорил, «из головы». Малышу он сразу же сказал:
– Ты упрямый. Тебя я ничему научить не смогу. Но ты ходи, только другим не мешай.
Как-то так само собою получилось, что Сергей Иванович стал регулярно появляться на занятиях кружка. Конечно, ему и в голову не приходило самому пробовать рисовать, но он с увлечением следил за тем, что делает Малыш. А тот продолжал писать своих диковинных зверей и птиц, а однажды нарисовал портрет чертежника. Это был странный портрет – явного сходства не было никакого, но узнать старика можно было не только по очкам: что-то угловатое и вместе с тем доброе было в этом лице с обвисшими губами. И что-то смешное: то ли излишне удлиненная голова с торчащими ушами, то ли очень тонкая, кадыкастая шея; он сильно смахивал на старого, облезлого гуся, уже не способного ни шипеть, ни щипаться.
А тот, глянув на свой портрет, сказал обиженно:
– Художник должен человека изображать лучше, чем он есть в жизни, а не хуже, а ты…
– А почему лучше? – удивился Малыш.
– Искусство, как я понимаю, призвано украшать жизнь, а не уродовать ее, – напыщенно ответил чертежник.
– Не знаю, – неожиданно вмешался в разговор Сергей Иванович. – Думается, искусство – это как человек другого видит и что про него думает. Верно, Малыш?
– Не знаю, – сумрачно ответил Малыш.
– Вот и я не знаю, – засмеялся Сергей Иванович.
Все крепче привязывался старый мастер к этому молчаливому, замкнутому пареньку, хоть и старался, чтобы другие ребята не заметили этого. Своих детей у Сергея Ивановича не было: жена умерла в Ленинграде, в блокаду, когда он был на фронте – поехала навестить больную мать, застряла да так и не вернулась; больше он не женился, хоть в невестах недостатка не было – тридцатипятилетний вдовец, был он строен, мускулист, с темным, цыгановатым лицом и казался много моложе своих лет, хотя из-за осколка, засевшего в легких, всегда негромко, сухо покашливал. Руки у него были умные, глаз точный, его ценили на заводе, куда он вернулся после фронта. Старел он как-то незаметно – не матерел, а становился будто еще суше, стройнее, только лицо темнело, словно покрывалось патиной.
Он и всегда-то был неразговорчив, скуп на дружбу, с малознакомыми суховат и не очень приветлив. А вернувшись после госпиталя в свой опустевший дом, и вовсе замкнулся. Нельзя сказать, чтобы он так уж сильно тосковал по умершей жене. Погрустил, конечно, но как-то не было у него привычки долго переживать свои горести – он как бы отстранял их от себя, стараясь поменьше думать о них и побольше делать, действовать. Первое время по возвращении на завод он почти не бывал дома – работал по две смены, часто ночевал на заводе. Многие считали его жадным – вот, мол, вкалывает, чтобы побольше заработать. Но это было не так. Просто ему нечего было делать дома в большой, неуютной комнате. Может быть, ему когда-нибудь и хотелось, чтобы в доме было потеплее, повеселее, что ли, но он совершенно не знал, как это сделать. Он был по-мужски педантично-аккуратен, много тратил времени на уборку своего одинокого жилья, но лучше оно от этого не становилось. Иногда он даже подумывал жениться, но что-то всякий раз удерживало его. Нет, не тоска по жене, он довольно быстро почти начисто выключил ее из своего сознания. Но чем старше он становился, тем явственнее из глубины подсознания проступало чувство некой, самому ему не совсем понятной, вины перед нею. В чем она была, эта вина, он не знал, не смог бы четко сформулировать ее словами. Может быть, то, что перед своим уходом на фронт он дал ей согласие избавиться от еще не родившегося ребенка? Может быть, не надо было соглашаться? Но нет, логически он понимал, что этот не родившийся ребенок все равно погиб бы вместе с нею. Он вообще старался не вспоминать о прощании с женою, слишком оно было деловым, торопливым. Как и другие жены, она пришла к военкомату, прижалась к забору, в последнюю минуту через штакетник протянула ему твердую, негнущуюся ладошку и долго стояла, провожая взглядом их разношерстную, нестройную, еще не солдатскую колонну. Он не помнил, плакала ли она, он вообще не помнил уже ее лица…
Ну, а позднее жениться уже просто стало ни к чему – какая уж тут женитьба под шестьдесят!
Так и жил он – одиноко, замкнуто, постепенно теряя старых товарищей: одни уходили с завода куда-нибудь на другие предприятия, другие – на пенсию, а иные умирали от болезней, от давних ранений, от старости…
А он все ходил на завод и старался только не поддаваться ни времени, ни грусти. Но все труднее становилось справляться с привычной работой, все длиннее казалась дорога из дома и с завода, все чаще без всякой видимой причины он простужался, кашлял, даже задыхался.
Однажды, после того, как целый месяц пролежал в больнице с воспалением легких, не заходя в цех, он пошел на прием к директору, одному из немногих оставшихся на заводе стариков, вместе с которыми он пришел сюда еще юношей.
– Вот что, – садясь напротив директора в кожаное кресло, сказал Сергей Иванович. – Ты бы подумал, Петр Степанович, куда меня приспособить. Я еще ничего, могу, на пенсию еще неохота, а поспевать за молодыми – никак. Старость, она, собака, торопиться не позволяет. Будто и делаешь все, что в молодости, да вдвое медленнее. А позориться, сам знаешь, нам в стыд. Вот и подумай…
Так и назначили его воспитателем этих беспокойных мальчишек.
Словно бы и впрямь пустяковая работа, а уставать стал еще больше.
И кашлял все сильнее. Иногда так закашляется, что с час отдышаться не может. Мальчики подрастали, в этом году вся его группа сдавала экзамен на разряд и получала рабочие удостоверения. Словом, они в нем больше не нуждались. И за день до экзаменов Сергей Иванович снова пошел к директору.
Тяжело уселся в то же кресло, изрядно истершееся за эти годы, долго молчал, внимательно, насуплено всматриваясь в лицо сидевшего напротив него грузного старика. Наконец строго сказал:
– А ты бы сходил к врачу, Петр Степанович. Мешки у тебя под глазами, да и желтый ты весь. Сходи.
– Вот уйду на пенсию, тогда и лечиться начну. Я, брат, знаешь, уже оформился, в этом месяце ухожу, – прибавил директор грустно.
– Видно, нам в один день с тобою на пенсию выходить. Я ведь за тем и пришел.
– Ну, ты сухарь, тебя время не берет, а меня вон как разнесло. Сердце, знаешь ли. Иногда замирает, будто и нет его у меня совсем.
А, может, и впрямь – нету? – усмехнулся Сергей Иванович. – Истерлось на директорском месте?
– Жалко завод бросать, – вздохнул директор. – А надо. Я уже и дела передал.
А у меня какие дела? Попрощаюсь с мальчишками, и все.
– Сам говорил – работа легкая. Где мне сейчас, летом, другого воспитателя искать?
– А ты и не ищи. Пусть уж новый ищет.
– Ладно. Оформляйся. Заодно. Мы ведь с тобою последние могикане остались.
– Что?
– Ну, последние. Старики. Худо, брат, думать про себя – старик. Верно?
– Что ж. Все по закону. У тебя хоть семья. А я – бобыль.
…Без особого сожаления прошелся Сергея Иванович по заводу, зашел в общежитие, без грусти попрощался с ребятами, заглянул в красный уголок на занятая кружка. Как обычно, народу было мало, пожалуй, еще меньше, чем всегда, – ребята как бы уже рассталась со своим школьным житьем-бытьем. В углу подремывал старик-чертежник, двое парнишек рисовали очередной натюрморт – стакан, яблоко, коробка из-под сигарет «Дымок». И, как всегда, отвернувшись от всех, у самого окна сидел Малыш и рисовал что-то свое.
Сергей Иванович остановился за его спиной. А тот никого и ничего не замечал, увлеченно докрашивал синий фон. А на этом чистом фоне сверкал огромные, ярко розовый пеликан с широко раскрытым клювом. Это сочетание розового и синего показалось старику таким неожиданно веселым, что он невольно произнес вслух.
– Красиво! Здорово красиво!
– Вам нравится? – обернулся Малыш. – А вот он меня опять ругал. Но как-то непонятно. Говорит – не реалистично.
– Чего, чего?
– Не реалистично.
– Ну, эти тонкости не для меня. По мне, красиво, глаз радует – и ладно. Я вот что хотел… ухожу я, на пенсию ухожу… Старость, брат…
Парень ничего не ответил, только посмотрел на него чуть дольше и пристальнее обычного, и от этого взгляда Сергею Ивановичу стало как-то не по себе. Может быть, впервые за эти дни он подумал, что впереди у него ничего не будет, кроме медленного в пустого угасания. Но он не привык прислушиваться к своим настроениям. С того далекого дня, когда получил на фронте известие о смерти жены, он научился переламывать свою печаль каким-нибудь немедленным действием, поступком, заглушать необходимым решением внутреннюю пустоту.
И сейчас, как всегда, пришло решение: может быть, и скоропалительное, неправильное, но необходимое ему именно в данный момент.
– Вот что, – сказал он, дотрагиваясь сухим пальцем до заросшего затылка Малыша. – Выйди-ка, поговорить надо.
Несколько минут они молча шагали взад и вперед по коридору. Сергей Иванович как бы заново приглядывался к замкнутому, сумрачному парню. Наконец, сказал:
– Я тебя к себе припишу. Дом ведь тоже заводской; комната у меня большая, жить тебе со мной будет удобно. Да и рисовать. Согласен?
Малыш помолчал, потом неуверенно спросил:
– А я вам мешать не буду?
– Почему мешать? Помогать будешь. Согласен?
– А разрешат?
– Не твоя забота. С директором я сам поговорю. Все равно тебе место в общежитии полагается.
– Что ж…
– Лады! Сдашь экзамен и перебирайся…
Совместная их жизнь началась довольно странно. В первые дни они едва ли сказали друг другу больше десятка слов: поставь сюда, иди завтракать, спасибо, спокойной ночи и, пожалуй, все. Но постепенно сумрачная молчаливость Малыша начала раздражать Сергея Ивановича; хоть сам он и не был многоречив и понимал, что парень еще не освоился и, может быть, просто стесняется, но подсознательно всё же ждал, что присутствие Малыша скрасит пустоту и полное одиночество, на которое обрекла его старость и пресловутый «заслуженный отдых». Он не знал, как подступиться к Малышу, о чем говорить с ним в долгие вечера, когда паренек, все так же отвернувшись, сидел у окна или у лампы и рисовал.
– Ты бы в кино сходил, – обратился он как-то к парню. – Что ты все сидишь да сидишь, словно тебе столько же лет, сколько мне.
Малыш промолчал.
– Почему в зоопарк перестал ходить?
– Теперь зверей на зимние квартиры перевели. Скучные они стали. Я люблю зверей, когда они как бы на воле.
– А что сейчас рисуешь?
– Так, из головы…
– Из головы, – почему-то рассердился Сергей Иванович. – Да много ли у тебя в голове-то? Какие у тебя такие воспоминания есть, чтоб можно было их зарисовать!
Малыш на минуту задумался.
– А можно и не вспоминать, – сказал он серьезно. – Просто – думать.
– Как это?
– Не знаю. Представлять себе, что ли.
Теперь задумался старик. После долгого молчания он негромко заговорил:
– А я вот все время вспоминаю и вспоминаю. Будто странички перелистываю. Вероятно, на старости лет у всех так бывает. Да и жил-то я как? Сам не знаю. Но, кажется, за всю долгую жизнь просто так думать, как ты говоришь, не научился. Делал – да. Вот, воевал. Жил. Трудился. А задумываться как-то даже боялся. Понимаешь ты меня?
– Не знаю.
– Молодой ты еще очень, – подосадовал Сергей Иванович. – Молодой.
Но досада его была какая-то внешняя, несерьезная. Сам не понимая почему, он вдруг обрадовался, что заговорил с Малышом вот так, по душам. И молодость паренька не только не мешала, а наоборот, как-то облегчала возможность такого разговора.
– Я тебе про что хочу сказать. Ты послушай. Это – про давнее, про старые дни. Слушай. Я жену свою, Катерину, может и не любил тогда, когда мы вместе стали жить. Ничего не скажу, нравилась она мне. Но чтоб любить, вот так, как, скажем, в кино бывает, – нет. Все женились, ну и я женился. А померла она в блокаду от голода, и другой мне на всю жизнь не надо было. Что ж, значит, я ее любил, да? Можешь ты мне на это ответить? Вот и я не могу. По жизни моей выходит – любил. А вот лица ее не помню. Не помню, и все! Стараюсь, стараюсь, а вспомнить не могу. Ни лица, ни голоса. Так, выходит, и впрямь не любил? Веселая была – это помню. II что не плакала никогда. А какая она была по-настоящему – не знаю. Вот кофточку ее цветастую – помню, сшила она себе перед самой войной. Кофту помню, а человека – нет. Ну что ты скажешь?! А другие бабы мне во всю жизнь ненужные оказались. Почему так, не скажешь?
Парень молчал, с интересом всматриваясь в худое, взволнованное ладо старика.
– Мне помирать скоро. Я, конечное дело, не верю в загробную жизнь. Чепуха это. Ну, а вдруг – не чепуха? А? Вдруг встретится она мне где-нибудь на том свете, а я ее не узнаю! Жену свою не узнаю! Как ты на это?
– Малыш усмехнулся.
– Не встретится.
– Знаешь ты много! Этого никто не знает, никто оттуда на землю еще не возвращался!
– Выходит, вы – религиозный? – удивился Малыш.
– Что городишь, парень! Религиозный! Чушь! Только вот как-то заскучал я последнее время. Хочется под конец в порядок душу свою привести. Ан – не выходит порядка. Вот и тоскливо мне…
Этот нелепый разговор словно бы прорвал невидимую, плотную пленку, которая разделяла их в первые дни совместной жизни. Не только старик стал приветливее, ласковее с Малышом, но и тот стал внимательнее, заботливее.
Однажды, когда уже не в первый раз ночью старик разбудил Малыша своим натужным, захлебывающимся кашлем, вскочил и начал метаться по комнате, стараясь продышаться, Малыш поднялся, накинул одеяло на плечи Сергея Ивановича и сказал строго, серьезно, как старший младшему:
– Завтра же пойдете в поликлинику. Вы больны. Вам лечиться надо!
– Ерунда! – упрямо отмахнулся Сергей Иванович. – Это осколок у меня там сидит.
– Осколок не осколок, а все равно пойдете. Завтра я во второй смене, утром пойду с вами. А сейчас – спать.
Несколько дней подряд Малыш водил старика в поликлинику и, несмотря на его сопротивление, заставил проделать все, что велел врач, – сдать анализы, рентген и явиться на консультацию, где три доктора долго рассматривали рентгеновский снимок, негромко произносили непонятные слова и, наконец, велели Сергею Ивановичу одеться и подождать в коридоре. Малыш помог ему натянуть рубашку, пиджак и собрался выйти вместе с ним, но его задержали.
Он ждал, сумрачно поглядывая на серьезные лица врачей.
– Вы кто ему? – спросил самый старший ворчливо и, как показалось Малышу, раздраженно. – Сын? Внук?
– Никто я ему, – ответил Малыш неохотно.
– Как это? – удивилась полная, немолодая женщина-рентгенолог.
Ну – жилец.
– Ага, жилец, – старший из врачей словно бы обрадовался этому сообщению. – Значит, так, молодой человек… Ваш… хозяин, что ли, очень болен. Очень. Я бы сказал – болезнь эта в очень скором времени может привести к… так сказать, летальному исходу… Словом, операцию делать поздно. Вы меня поняли?
Малыш вдруг сильно побледнел. Его высокие скулы обострились, глаза сузились; он, будто, сразу повзрослел.
– Не понял, – сказал он очень тихо.
– Нет, я вижу, поняли, – опять раздражаясь, сказал доктор. – И повторяю – здесь медицина бессильна. Все. Можете идти.
– Значит, вы отказываетесь его лечить? Да?
– Я уже сказал – медицина пока не знает способов лечения этой болезни в таком запущенном состоянии…
– Но как же можно так вот человека бросать?
– Почему это – бросать? Мы его не бросим. Если понадобится – будем делать облегчающие уколы и вообще все, что нужно… Только понимаете, молодой человек, вы… вы не должны…
– Понимаю, – перебил Малыш. – Конечно, я буду молчать.
– Что ж, идите.
Малыш не уходил. Помявшись, он шагнул было к двери, но вернулся и тихо попросил:
– Пожалуйста, дайте хоть какие-нибудь таблетки или капли. Чтобы он думал…
– Да, да, конечно! – женщина-рентгенолог и врач помоложе сказали это одновременно.
– Старший молча выписал рецепт, протянул Малышу.
– Три раза в день. По таблетке. Следите, чтобы принимал неукоснительно. Идите…
– Да, и пусть больше бывает на свежем воздухе. Все…
Как только Малыш приходил с работы, он, прежде всего, справлялся, принял ли Сергей Иванович лекарство, потом, наскоро поев, выводил старика гулять. Если шел снег, они усаживались под грибком на детской площадке, куда Малыш перетащил скамейку. Если погода была ясной, Малыш упрямо водил его по двору, хотя Сергею Ивановичу становилось все труднее двигаться. Малыш сам уставал от этих медленных, стариковских прогулок, но, помня совет врача, не давал поблажки ни себе, ни старому мастеру – они бродили и бродили туда и обратно по расчищенным дорожкам. Жильцы густонаселенного дома привыкли к этой странной паре и уже не обращали на них внимания; они словно одни были в огромном дворе. Так проходил час. В сумерках возвращались домой, ужинали и молча расходились по своим углам. Старик засыпал сразу, но вскоре начинал кашлять, задыхаться, поднимался с кровати, и начиналось трудное кружение по комнате, длившееся иногда до самого рассвета. Говорить ему становилось все труднее, голос слабел, хрипнул, временами он почти совсем терял его.
И вот пришел день, когда Сергей Иванович уже не смог утром подняться с постели. Малыш подал ему чай, поставил рядом на стуле лекарство и ушел на работу.
Сергей Иванович лежал тихо, недоумевая и удивляясь тому, что у него нет сил даже переложить поудобнее подушку. Он поднес к глазам свою желтоватую руку, внимательно рассмотрел ее, пошевелил растопыренными пальцами, осторожно опустил на одеяло, перевел взгляд на освещенную солнцем стену над кроватью, еще раз удивился своей слабости и незаметно уснул.
Спал он, видимо, очень недолго – луч солнца на стене почти не передвинулся. Но сон ему приснился длинный и удивительный.
Он почти никогда не вспоминал своего раннего детства, деревни, в которой жил лет до десяти, но во сне он увидел невысокую горницу в их старой хате, окошко с глиняным кувшином на нем, и в кувшине большой букет высоких цветов, целый куст с лиловыми островерхими соцветиями. И тотчас же увидел себя, идущего с матерью по опушке леса, заросшей такими же высокими лиловыми цветами. И вся поляна перед лесом была усеяна ими.
– Это иван-чай, – сказала мать.
– Иван-чай, – повторил Сергей Иванович, да нет, не Сергей Иванович, а худой, босоногий мальчишка Сережка.
Повторил и проснулся.
С недоумением оглядел старик аккуратно прибранную комнату, снова тронул солнечный блик на стене и как бы ощутил под пальцами гладкую, натянутую кожу худых щек; из глубины еще затуманенного сном сознания выплыли перед ним большие, очень светлые материнские глаза, наполненные прозрачной, чистой влагой.
У него болезненно сжалось сердце. Сейчас, больной и старый, он уже не смог каким-нибудь действием отогнать, оттолкнуть свою тоску. Он словно стал тонуть в ней, тонуть и задыхаться. Ему захотелось крикнуть, позвать кого-нибудь, встать, уйти от тоски, от болезни, от старости.
Но он никого не стал звать, только крепко зажмурился и лежал так долго, стараясь преодолеть удушье и странное трепетание сердца.
Тогда за прикрытыми веками он снова увидел огромное поле иван-чая. Лиловые соцветия тянулись высоко вверх, к бледному северному небу. Сергей Иванович постарался удержать эту поляну, это небо, эти островерхие цветы, но все вдруг потемнело, растаяло, исчезло, и на место этой давней, родной картины перед самым лицом его, мерно покачивая вверх-вниз уродливой, зобастой головой на неестественно выгнутой шее, прошел верблюд, облезлый и жалкий, какого он однажды видел на рисунке Малыша. Прошел и исчез. Наверное, он тотчас же заснул и на этот раз спал долго, потому что разбудил его свет зажженной Малышом лампочки, что висела под потолком.
Увидев осунувшееся, потемневшее лицо больного, Малыш испугался.
– Вам что, плохо, дядя Сережа? – тихо спросил он, впервые назвав его по имени.
– Нет, Малыш, теперь уже ничего. Отоспался. Иди, мойся, ужинай, да садись, посиди со мной, мне что-то скучно так вот одному лежать целый день.
Малыш пристроился на низкой скамеечке у кровати и принялся, было, читать. Но старик не дал ему прочесть ни строки.
– Я ведь тоже, как ты, сиротой рос, – заговорил он хрипло. – Мать умерла, когда мне и десяти не было. Отец взял меня в город. Поучился я там немного, потом отец пристроил меня к себе на завод, там я и проработал всю жизнь… Ты меня слушаешь, Малыш?
– Слушаю, дядя Сережа.
– Ну, это все неинтересно. Жил, как все. Потом воевал, как все. Редко деревню вспоминал. А вот сегодня вспомнилась…
– Он закашлялся, с трудом отдышался и снова заговорил:
– Да как сказать – деревню. Нет, ее не помню. А вот лес, поляну, мать, хату нашу… Да и не то. Не знаю, как и рассказать тебе. Сон мне, что ли, приснился – цвет один.
– Как это цвет? – не понял Малыш. – Какой? Красный? Синий?
– Да нет, цвет, цветок. Иван-чай называется. Знаешь такой?
– Нет, не слыхал.
– Он больше на севере растет. Высокий такой. Семействами растет. Вроде бы куст, целые поляны и лесные опушки покрывает. Лист у него как бы ступенечкой идет, на концах тоже острый, а сверху вроде метелки. Такая нежная-нежная. Не могу сказать, какого цвета метелка, не знаю я названия – похоже как у сирени гроздь, только краснее.
– А, знаю теперь. Бледно-лиловые такие стрелки. У нас под Москвой они тоже встречаются.
– Нарвал бы ты мне их. Хоть немного, штук пять, шесть, а?
– Это сейчас, зимой-то? – усмехнулся Малыш.
– Да. Верно. Ну, нарисуй. Я тебе все про них расскажу, а ты нарисуй!
Малыш промолчал.
– Мать его моя любила, этот иван-чай. И в огороде не выпалывала, и в доме всегда держала – нарвет, бывало, целую охапку, и веселая такая идет, принесет, в кувшин поставит и любуется. Так мне захотелось еще на цвет этот посмотреть. Нарисуй, а я тут над кроватью повешу. Сделаешь?
– Попробую.
Ночью старику стало совсем плохо. Растерянный Малыш попытался вызвать скорую, но не сумел толком ничего объяснить диспетчеру, и вызов не приняли. Утром он прибежал в поликлинику, долго ждал врача и, наконец, около пяти вечера получил направление в больницу. Не ушел оттуда, пока нянечка не вынесла ему письменное разрешение главврача посещать больного.
– Иди, парень, домой, отоспись. На тебе лица нет. Деду твоему стало получше после укола. Спит сейчас. Авось и протянет еще немного. Приходи, внучек, завтра.
– Не дед он мне, – сам не зная зачем, сумрачно сказал Малыш.
– Отец? – удивилась нянечка.
– Да нет. Никто он мне.
А если никто – как знаешь. Передай пропуск родным.
– Никого у него, кроме меня, нет, – тихо сказал Малыш. – И у меня – кроме него…
– Не пойму я что-то. Ну, все равно, приходи завтра, когда захочешь.
На заводе мастер не ругал его за вчерашний прогул, – видно, слышал, как с самого утра Малыш из его конторки дозванивался в больницу, чтобы узнать, как Сергей Иванович провел ночь. В этот день парень работал невнимательно, спустя рукава и, едва дождавшись гудка, побежал в больницу. Он нашел старика в изоляторе – узкой, отгороженной от коридора матовым стеклом палате с одной койкой.
Сергей Иванович обрадовался, увидев Малыша.
– Не забыл старика, – слабо улыбнулся он. – Обедал? Сыт? А то возьми, поешь, моя вся порция осталась. Еще не остыло.
– Да нет, неудобно.
– А что неудобно? – ворчливо сказала старая нянечка, что вчера передала пропуск Малышу. – Все равно выбрасывать. Ешь, не чинись.
Только когда Малыш доел последнюю ложку сладкой каши, Сергей Иванович, поудобнее примостившись на постели, заговорил:
– Знаешь, малый, ты обо мне не тревожься. Вылечат меня здесь. Вот поглядишь, я отсюда очень скоро уйду обратно, домой. Ты все там в чистоте держи, я неаккуратности не люблю. Понял?
– Ладно.
– Чтоб когда вернусь – все с иголочки.
– Ладно.
– А ты ко мне каждый день будешь приходить? – непривычно для него робко спросил Сергей Иванович.
– Ясно.
– А сейчас иди, Малыш. Устал я что-то. Посплю.
На следующий день в изоляторе они с Малышом были одни; один только раз зашла молоденькая строгая сестра, сказала:
– Не сидите долго, вы утомляете больного. Больной, поменьше говорите, вам это вредно.
И тотчас вышла.
– Вредно! – сердито передразнил ее Сергей Иванович. – Ничего ты не понимаешь, милая. Вредно мне одному тут валяться и молчать целый день. А с хороший человеком разговоры говорить только польза. Ты ее не слушай, парень, ты меня вот послушай. Я что тебе рассказать хочу. – Он примолк ненадолго. – Ты не забыл, иван-чай нарисовать? Картинку? Не забыл?
– Нет.
– Нарисуй, принеси. Все не так тоскливо будет. Я ее тут на тумбочке пристрою.
– Ладно. Завтра принесу. Сергей Иванович обрадовался.
– Лады! А сейчас что я тебе скажу, послушай – никак у меня Катерина из головы не идет. Виноватым я перед нею себя чувствую. Может, я и не обижал ее. Не помню, кажется, никогда не обижал. А вот же мучаюсь все время – не могу вспомнить, какое у нее было лило. Мать вспомнил. Как бы я ее по кусочкам составил, как дети кубики в картинки составляют. И все-таки – вижу ее, перед глазами она у меня, а ведь ее уже шестьдесят лет нет в живых нет. И я тогда дитё малое был. А Катерину я уже взрослым человеком узнал. Как же так получается, а?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю…
Он закрыл глаза и долго молчал. Малыш решил, что он заснул, но как только захотел подняться и выйти, Сергеи Иванович негромко окликнул его:
– Ты не уходи, посиди еще. Тоска меня тянет. Вот думаю все – хоть бы во сне мне с нею встретиться, может – узнаю тогда, может, вспомню…
Малыш молчал. Нечего было ему сказать старику, нечем утешить, облегчить его томление, отвлечь от навязчивых мыслей. Он не понимал, почему так отчаянно хотелось старику вспомнить свою давно умершую жену. Зачем, думал он, ведь если забыл, значит, легче должно быть. Почему же он так мучается? Но он молчал, только слушал и сам начинал томиться предчувствием чего-то необъяснимого и пугающего.
Наконец, старик замолк, как-то очень быстро затих и через минуту уже спал, хрипло и редко дыша.
Малыш поднялся и на цыпочках вышел из палаты.
На следующий день, когда он вошел в изолятор, там, близко, у самой койки, на которой неестественно плоско лежал Сергей Иванович, сидела знакомая старушка нянечка. Он остановился у двери, спросил шепотом:
– Спит? Так я завтра с утра приду – мне в вечернюю.
Нянечка ответила не сразу. И не снизила голоса:
– Не уходи. Останься. Не спит он. Отходит.
– Что? – не понял Малыш.
– Отходит, говорю. Малыша качнуло от ужаса:
– Что же вы? Что? Почему не зовете врача? Сестру? Лекарство надо… Укол!
– От смерти лекарства нет, парень.
Неожиданно для самого себя, Малыш громко, по-детски заплакал.
– Зачем? – крикнул он, захлебываясь слезами и задыхаясь. – Зачем люди умирают? Жить-то зачем, если все равно надо умирать?! И ничего, ничего не останется…
– Что ты, что ты, – испуганно заговорила нянечка, торопливо подходя к нему. – Нельзя кричать, успокойся, парень. И как это – не останется? Вот ты по нем плачешь, – значит, останется… Человек – не муха, не может он на земле по себе ничего не оставить!
Она взяла его за руку, подвела к окошку, повернула спиной к палате. Он прислонился лбом к холодной раме и замер, глядя в заснеженный, жалкий, тусклый садик.
Нянечка снова уселась подле койки и уставилась в лицо умирающего.
– Я принес, – вдруг громко и почти спокойно сказал Малыш. – Он просил. Вот. Иван-чай.
Сквозь тяжкое забытье Сергей Иванович услышал эти слова. Услышал. Нянечка поняла, что он еще жив, еще слышит, – веки его дрогнули, приподнялись, лицо неуловимо и мгновенно изменилось – кожа натянулась, исчезли морщины, и сухие губы сложились в почти радостную улыбку.
Да, он расслышал эти слова. И в ту же секунду увидел лицо молодой женщины. Оно было спокойно и розово. Бесконечно знакомым жестом она приподняла руку в цветастом рукаве и привычно заправила за ухо темную прядь.
– Катя! – закричал он.
Но в палате никто его не услышал.
– Встретились! – снова крякнул он и глубоко, облегченно вздохнул.
Грудь его высоко поднялась и тотчас же резко опала, словно он уже опустился в глубокую яму.
Нянечка секунду всматривалась в его помолодевшее лицо, умело провела ребром ладони сверху вниз по глазам, натянула простыню ему на голову. Поднялась, подошла к Малышу, положила руку ему на спину и негромко сказала:
– Пошли отсюда, парень. Кончилось наше дежурство…
ПОЗДНИЙ ДОЖДЬ
Старуха проводила дочь, подождала, пока автобус отошел, и побрела в гору, к заросшему кустами погосту. Она шла медленно, с трудом, изнывая от жары. Болели ноги. Хотелось пить. Наконец, она добралась до кладбища, присела у могилы.
«Горит земля, – устало думала она, – вчера только схоронили, а все высохло, будто месяц прошел.
Она взяла в руки комок глины, растерла. Легкое облачко пыли поднялось над бугорком и осело в безветрии. Кусты, могилы, бегущая вниз тропинка, даже небо – все было серым от зноя. Запах гари от далекого леса доносился и сюда, на гору.
Даже то, что старика пришлось хоронить в такую жару, ставила Анна ему как бы в счет – еще одна нанесенная ей обида.
Но сегодня, наконец, она скажет ему все. Она больше не хочет молчать, как молчала всю жизнь.
Не то чтобы она сейчас вспоминала ушедшие годы. Нет, они словно единым пластом лежали внутри и не давали свободно вздохнуть…
…Давно-давно, пожалуй, лет пятьдесят назад, показалось ей, что она полюбила веселого, озорного парня. Девушки звали его ласково – Василек, старшие не очень привечали – был он ленив и дерзок, но на баяне играл лихо, с переборами, с перекатами и ни одно сборище на кругу не обходилось без его залихватской игры и задиристых шуток.
Непонятно почему приглянулась ему тихая, неприметная Анна; но легко отстранив всех своих прежних поклонниц, он стал ходить с нею на круг, танцевал только с нею, и до зари засиживались они на бревнах подле сельсовета – заветном месте влюбленных.
Деревня решила – да и ее родители тоже – вернется с действительной и сыграют свадьбу.
Провожали призывников шумно, и тогда, впервые на глазах у всех, они поцеловались.
Но из армии он не прислал ей ни одного письма, а отслужив, в деревню не вернулся.
По правде сказать, Анна не очень тосковала. Первое время она удивлялась, обижалась, потом стала думать о нем все реже, и само собою вышло, что она вовсе перестала о нем вспоминать. Да и в колхозе отнеслись к его отсутствию равнодушно. Только пару раз на собрании председатель поминал его имя наряду с теми молодыми ребятами, что не вернулись в деревню и осели в городе. Позабылось и то, что когда-то старики считали Василька ее женихом: так, походили вместе, да мало ли кто с кем ходит до свадьбы.
Анна была работящая, здоровая девушка, но не отличалась ни особой привлекательностью, ни бойкостью; на вечеринках больше молчала, на танцы ходила редко, и парни как бы вовсе ее не замечали. Подружки любили поверять ей свои секреты – у кого из девушек их нет! – знали, она никому ничего не перескажет, никого не осудит, а при случае может дать спокойный, разумный совет.
Но вот одна за другой сверстницы повыходили замуж, многие уже обзавелись ребятишками, а Анна все была одна и с годами становилась еще более молчаливой. Незаметно в деревне стали считать ее перестарком, и даже родители не надеялись, что она выйдет когда-нибудь замуж и обзаведется собственным домом, хотя всего-то ей минуло лет двадцать пять, не больше. На круг и на вечерки она давно перестала ходить. С работы – домой, кончит возиться по хозяйству, выйдет на берег неширокой речки, что протекала возле их дома, и сидит там до темноты.
Однажды, когда она поздним вечером вернулась с реки, мать встретила ее раздраженным выкриком:
– Дождалась! Досиделась на речке!
Анна привыкла к тому, что в последнее время мать всегда чем-то недовольна, часто ворчит и покрикивает на нее, поэтому промолчала и спокойно начала переодеваться.
Опять молчишь как немая! Что, вековухой остаться задумала? Так скажи, я и беспокоиться больше не стану!
Да что ты собачишься, мать? – вступился за Анну отец. – Девка еще порога не переступила, а ты уже на нее чуть ли ни с кулаками…
Молчит, все молчит, – не унималась мать. – А женишок ее с бабой заявился. На сносях она, поняла? На сносях!
Не ответив, Анна ушла за занавеску мыться.
Она еще утром знала о приезде Василька и видела его жену. Анна встретила ее неподалеку от своего дома. Женщина медленно шла ей навстречу, с трудом неся свой тяжелый живот, прошла, равнодушно глянув на Анну маленькими бесцветными глазами. Но Анна успела рассмотреть ее лицо – отекшее, с припухшими синеватыми губами, с темными пятнами на лбу и щеках.
«Нехороша больно, – подумала Анна. – Уж не мог покрасивей кого найти…»
Не ревность, не зависть вызвали эти мысли, но, как ни странно, жалость к Васильку: «Такой парень и… эта…»
А мать продолжала злобно выкрикивать:
– Вековуха, вековуха чертова! Всю жизнь, что ли, тебя кормить-поить?
– А чем девка-то виновата? – сердито сказал отец. – Коль надоела тебе – что же не засватаешь? Займись. Все дело. Да и в доме крику меньше…
«А что ж, верно, пусть сватает, – подумала Анна, проходя мимо ссорящихся стариков. – Чем так жить, уж лучше за кого ни есть пойти, лишь бы из дому…»
Вскоре материна подружка привела жениха – тракториста из села, расположенного верст за пятьдесят отсюда. Жена его, прицепщица, утонула в половодье года три назад. Он вел трактор, провалился в залитый овраг, выплыл, трактор потом вытащили, и женщину до сих пор не нашли – унесла полая вода.
Жених был высок, поджар, с острым, словно обрезанным лицом; глядел строго, даже когда улыбался. Но был он по-своему красив и Анне понравился. Обрадовало и то, что жить ей теперь предстояло в чужом селе, где никто не напомнит ей о Васильке, и от матери подальше…
«Впрочем, – подумала она, – за кого ни идти… А этот как будто ничего, серьезный мужчина… Девочка? Ну, а может, полюбит? Да уж как-никак, а жить надо…»
Свадьба была тихая – ни жених, ни родители не хотели тратиться, а в деревне и не ждали пышной свадьбы – вековуха выходит за вдовца, что уж тут особо праздновать…
Председатель колхоза отпустил ее без протеста, – так сказать, вошел в положение… Анна переехала. И наследующий же день заняла место покойной жены своего мужа – стали прицепщицей на его тракторе. Всей премудрости она научились быстро – руки у нее были умные, работала она всегда сноровисто, спокойно, не торопясь. Муж поначалу был с нею ласков и ровен. Все было бы хорошо, если бы не девочка. Правда, она сразу начала называть ее мамой, но глядела на Анну хмуро, иногда прямо враждебно, не желала ей не только подчиняться, но попросту не слушала того, что тихим своим голосом говорила ей Анна. По целым дням она где-то бегала, часто приходила домой в царапинах и синяках, словно нарочно в клочья рвала свои платьишки, за что получала добрую порку от отца, но никогда не плакала, и ни разу Анна не слышала ее смеха. На вопрос мачехи, как ее зовут, сна сердито буркнула:
– Манька.
– Маня, – ласково поправила ее Анна.
– Манька, – упрямо повторила девочка.
– И не откликалась, если Анна звала ее Маней или Машей, пока Анна не скажет:
– Иди, помойся, Манька!.. Дай, Манька, я тебе платьице починю, а то снова шлепка от отца оторвешь…
Повадками, лицом она очень походила на отца, но вся была какая-то нескладная, угловатая, на все и на всех смотрела по-старушечьи недовольно, на каждое ласковое слово отвечала рывком, грубостью, словно нарочно не хотела дать себя полюбить. И как Анна ни старалась, так и не полюбила девочку, даже немного побаивалась ее, как можно реже к ней обращалась и часто втихомолку плакала.
Однажды муж застал ее в слезах и сказал резко:
– Чего ревешь? Не люблю! Или по женишку своему бывшему?
– Да что ты, Степанушка! – вспыхнула Анна.
– Степан Иванович! – сурово прикрикнул муж. – Для тебя я – Степан Иванович! Это женишка своего ты могла Васильком называть, целоваться с ним и миловаться, а со мной помни – ты всю жизнь должна мне благодарной быть, что я тебя, брошенку, замуж взял! Так и знай – я тебя заставлю себя уважать!
С этого дня он больше не звал ее по имени, а только: слушай! Подай! Иди!
Анна, и вообще-то молчаливая, вовсе замкнулась: на вопросы отвечала скупо, только самое необходимое: нет, хорошо, – сама же из гордости, а может, из боязни услышать грубость, никогда не обращалась ни к падчерице, ни к мужу. Манька, видя, как относится к мачехе отец, по всякому поводу и без повода обливала ее услышанной на улице бранью. Но Анна никогда не жаловалась мужу. К чему? Он все равно не станет ее защищать, а девочку и так колотил за дело и не за дело.
Но ее, Анну, он не бил никогда, даже не замахивался на нее, только иногда взрывался:
– Ну что ты все молчком да молчком?! Знал бы, что немая, так не женился бы! Не зря деревня тебе кличку дала – Тихоня! А в тихом-то омуте, небось, черти и водятся! Знаю я таких!..
Анна и на это ничего не отвечала, спокойно ждала, пока муж откричится, хлопнет дверью и выскочит из хаты.
На работе Анна со всеми была приветлива; как и прежде, дома, женщины охотно поверяли ей свои горести и радости, с уважением выслушивали ее советы. Она же никогда ни на что не жаловалась, ни с кем никогда не спорила, не обижалась на то, что, позабыв ее настоящее имя, всё, от мала до велика, зовут ее Тихоней.
Маня пошла в школу, и новые заботы и тревоги навалились на Анну – чуть ли не каждую неделю учительница вызывала ее в школу, жаловалась на строптивый нрав девочки, на ее лень, невнимательность, на то, что Анна не следит за ее воспитанием. Анна покорно выслушивала упреки, молча уходила и ничего не рассказывала дома о своих посещениях школы.
Однажды учительница, окончательно раздосадованная Анниным молчанием и тем, что девочка нисколько не исправляется, ядовито сказала:
– Я понимаю, конечно, она вам не дочь – падчерица, чужая, но поскольку…
Анна, не дослушав, поднялась:
– Не чужая она мне, дочь, понимаете – дочь! Да я, видно, никудышная мать…
И вышла, не попрощавшись.
С той поры она ни разу больше в школу не ходила. Да и вызывать ее больше не стали…
…Старуха все сидела у могилы в неудобной позе, вытянув отекшие ноги.
Солнце палило так же нещадно, и белесое небо, словно тоже томилось от жары.
У Анны болела голова, щемило глаза от пыльного света, но уходить отсюда она не хотела. Беспокойным, спутанным комом клубилась в ней ее прошлая жизнь, всё никак не выливаясь в слова, которые ей так хотелось, наконец, сказать своему старику…
Откуда-то из-за леса донесся неясный, протяжный гул. Небо в той стороне потемнело, и лес вдруг высветлился на тяжелом, свинцовом фоне. Снова загрохотало уже громче, ближе.
«Ну что гремишь? – недовольно подумала Анна. – Ни к чему теперь дождь – поздно. Все сгорело – хлеба, огороды, даже яблоки. Только завязались, да тут же попадали горохом на землю, даже свиньям не в смак. Поздний твой дождь, ничему уже не поможет…»
Такой же знойный июль был в том, сорок первом, когда Степан Иванович ушел на фронт. Как она с дочкой дотянула ту первую военную зиму, она и сама не понимает. Правда, немцы до них не дошли, но мужиков в селе осталось мало, бабы с уборкой справились плохо, и богатый урожай почти весь так и ушел под снег.
Перед самой отправкой на фронт председатель зашел к Анне. Посидел немного молча, повздыхал и, наконец, заговорил:
– Вот что, Анна… Сама знаешь – весна скоро, а сеяться вроде и нечем. Ты женщина разумная, а главное – спокойная, на тебя, думается, положиться можно. Съездила бы ты в райком, посоветовалась там, может, что вместе и придумаете…
– Так я же беспартийная, Павел Семенович! – испуганно вскинулась Анна.
– А партийных баб, милок, в селе и нет ни одной…
Как-то никто не обратил внимания, что Анны трое суток не было в селе. Сердечная ее подружка Наталья взяла к себе на эти дни Маньку.
Вернулась она уже в сумерках н. не заходя домой, прямо прошла в правление. Манька с соседской девчонкой обежали село, и через полчаса все, кто мог ходить, собрались в кабинете бывшего председателя. Как-то никто особенно не удивился, увидев Анну за его заляпанным чернилами столом.
Анна оглядела женщин и, не ожидая, пока наступит тишина, заговорила тихим своим, спокойным голосом:
– Ну, вот что, бабоньки. Весна, сами видите. Сеяться надо. А то ребятишек поморим. Да и мужьям нашим, сынам, что воюют, без хлеба нельзя. Так что, я говорю, – сеяться надо…
– А чем? – крикнула какая-то баба. – Чем? Зерно-то поели!
– Знаю. Вот я и сбегала в райком…
– Сбегала?! Тридцать километров по распутице?!
– Что ж делать? Машины не ходят. Есть, правда, у председательши велосипед, от старшего сына остался, да я на нем что телок на насесте. Третьего дня в ночь вышла, день там пробыла, сегодня на рассвете обратно. Так я о чем? О зерне. Договорилась я в райкоме – дадут нам, сколько требуется. В долг. С урожая отдадим…
– А на чем пахать-то?
– Да вот – на чем? Трактор один исправный, лошадей в обозы отдали, коровушки одни остались, – улыбнулась Анна.
Засмеялась одна баба, другая, и как-то переломилось настроение, все зашумели, заговорили разом.
Однако Анна незаметно, но твердо снова повела их туда, куда и наметила с самого начала;
– Вот я и говорю – коровы остались. Да еще в райкоме обещали второй трактор прислать, как отремонтируют. На одном я пороблю, на другом – Натальин Серега. Ничего, что малолеток, он смекалистый, еще Степан Иванович его учил, говорил – скоро самостоятельным трактористом будет.
– Так ему же еще и пятнадцати нет! – крикнула тетка Наталья.
– Ну и что? Вон он какой у тебя здоровый да ладный. На все двадцать сойдет! Ну, а коровушки, да и мы все – бабы, старики, – мы тоже, по крайности, впряжемся. Не смейтесь, бабоньки, мне в райкоме рассказали, что в тех местах, из которых немцев повыгоняли, бабы так и задумали – на коровах пахать, ежели ничего другого не раздобудут.
– Что ж! – вздохнул Натальин свекор. – Нужда заставит, и на петушином хвосте полетишь.
– Да далеко ли улетишь, батя? – крикнула Наталья.
– Что ж нам, так и сидеть? – рассердился старик. – Земля-то, она… требует…
– Верно, дедушка! – подхватила Анна.
– Ну, а кто, скажем, у нас председателем сядет? – спросила тетка Наталья.
– Я, коли выберете, – спокойно ответила Анна.
– Ты?! Ишь ты. Тихоня! – И швец, и жнец, и на дуде игрец! Ты же на трактор сесть обещалась?
– Коли мне не доверите – называйте кого другого. Я ведь и не хотела, это мне в райкоме так советовали…
– Никого другого не надо! – закричали бабы. – Ты и садись!
– Ну, спасибо вам, бабоньки. А ежели что не так, сразу не справлюсь – вы и поможете. Так? Верно я говорю?
– Верно! Правь, Корнеиха. Если что – поможем. Чай свои…
Впервые ее так называли: не Тихоня – Корнеиха, по фамилии мужа.
И почему-то Анне стало радостно, будто наградили ее чем-то, будто окончательно одарили ее бабы своей дружбой.
«Вот уж я стала мужняя жена», – подумала Анна, с непонятно теплым чувством и легкой тоской вспомнив суровое, недоброе лицо мужа. – И он ведь воюет, и ему, поди, не сладко…»
Так и стала тихая Анна головой колхоза.
Правду сказать, с тех пор, как Степан Иванович ушел на фронт, Анна о нем почти не вспоминала. Иногда только, немного стыдясь самой себя, она облегченно вздыхала – слава богу, некому над нею строжиться, некому кричать и приказывать, некому корить! Даже Манька, как и прежде настороженно следившая за мачехой глазами, почувствовала, что та словно бы выпрямилась, помолодела. Всю свою короткую жизнь девочка боялась сурового, неласкового взгляда отца, его тяжелой руки. Никогда он не разговаривал с нею иначе, как в тоне приказа. Но вырастая, она стала понимать, что, в сущности, отец к ней совершенно равнодушен и вовсе не обязательно выполнять его требования – он тут же о них забывает, надо только как можно реже попадаться ему на глаза. Так завоевывала девочка свою независимость.
Но с приходом в их дом Анны появился еще один взрослый, посягающий на ее свободу. И сразу не очень развитым своим умом, а скорее инстинктом маленького, полузаброшенного звереныша, Манька почувствовала, что с мачехой справиться будет труднее, что она как-то иначе, внимательнее относится к ней, падчерице, что мягкость ее и спокойствие угрожают сильнее, чем строгость и колотушки отца. Единственным оружием девочки против новых посягательств было непослушание, а с той поры, когда девочка почувствовала, что отношение отца к Анне переменилось к худшему, дерзость Маньки переросла во враждебность, в прямую, злобную грубость. Может быть, подсознательно она старалась таким образом завоевать симпатии отца, вернее, в своей постоянной борьбе с навязываемой ей чужой, взрослой, волей привлечь на свою сторону сильнейшего?
Но вот отец уехал, и что-то в мачехе переменилось. Одиночество выработало в девочке недетскую наблюдательность – она заметила, что Анна ведет себя совсем не так, как другие бабы, мужья которых воюют. Она никогда не плакала, никому не жаловалась, не волновалась, когда долго не было писем, а получив фронтовой треугольник, спокойно читала его Маньке вслух, тут же садилась и писала короткий, в две-три строчки, ответ. И никогда ни с кем из соседок, ни с ней не говорила об отце.
Но к Маньке она стала как будто внимательнее, даже ласковее. Чаще называла доченькой, заботилась, чтобы та была всегда чисто одета, сыта, исправно ходила в школу, никогда не наказывала, хотя прекрасно видела: все свои фокусы девочка проделывает без особого удовольствия, а попросту назло ей, Анне. Это была не жалость к запуганному, одинокому ребенку, и даже еще не теплота, а как бы тихое, но настойчивое предложение перемирия.
Девочку это еще больше настораживало. Уж лучше бы мачеха кричала на нее, лупила, как лупил, бывало, отец! И все-таки в Маньке что-то стронулось – постепенно она стала менее груба и начала помогать матери по дому.
С той поры, как Анну выбрали председателем, девочка, сама того не желая, стала относиться к ней даже с некоторым уважением. Но возможно, она просто становилась старше, да и ослабевало влияние отца, улетучивалась давящая атмосфера враждебности, будто в душной хате распахнули сразу все окна.
Конечно, понять всего этого девочка была не в состоянии, но с чуткостью зверька ощущала, что в доме их стало легче, свободное жить. Постепенно, очень медленно Манька словно бы оттаивала, перестала сердитым взглядом следить за каждым движением мачехи, чаще улыбалась и как-то незаметно начала превращаться из злобной старушки в обыкновенную деревенскую девчонку.
Анну все это радовало, она даже по временам испытывала непонятное ей самой чувство благодарности к Маньке. Конечно, это еще не была любовь, какую мать испытывает к дочери, и все же…
Да и в себе Анна стала замечать перемену. Раньше она очень редко вспоминала мужа, только вздыхала с облегчением, нет, мол, его рядом. Теперь же. озабоченная свалившейся на нее ответственностью, тяжестью небабьего труда и чужого горя, она иногда ловила себя на мысли: хорошо бы Степан Иванович поглядел, как его Тихоня управляется с делами, хозяйством, как умело водит старый трактор!
Однако ни в одном письме она не упомянула о своем избрании.
Так же, как и его редкие письма, ее ответы были немногословны, сухи, почти официальны.
«Уважаемая супруга Анна Васильевна! – писал Степан Иванович. – Я пока цел, невредим, здоров, чего и вам желаю. Опишите, как течет ваша жизнь и хватит ли хлеба до нового урожая. Поклон передайте дочери моей Марии Степановне и всем соседям, кто меня помнит. На службе у меня порядок, взысканий нет, особых наград пока тоже. Уважающий вас супруг, старший сержант Корнеев Степан Иванович. Я жду скорого ответа, как соловей лета».
Отвечала она тотчас же и в том же официальном тоне:
«Уважаемый супруг Степан Иванович! Мы с дочерью вашей пока здоровы, шлем наши сердечные приветы. В колхозе почти не осталось мужчин, но мы, женщины, на нашем трудовом фронте работаем не покладая рук, чтобы вам и всем трудящимся хлеба было вдосталь. Ваша супруга Анна Васильевна Корнеева».
Отправляя письмо, Анна всякий раз с легким злорадством думала:
«Что бы вы, Степан Иванович, сказали, коли б узнали, что я – председатель колхоза, что меня люди уважают и даже в райкоме иногда хвалят?!»
Так шла ее жизнь – тревожная, полуголодная и… счастливая…
Трудно было? Конечно, трудно. Но были и веселые минуты.
Летом, когда подсохли дороги, Анна решила научиться ездить на велосипеде – ее часто вызывали в райком, а пешком ходить всякий раз тридцать километров времени не было; к тому же болели ноги и жалко было полуботинки – одни ведь, когда теперь новые раздобудешь, а в райком босиком не заявишься – неудобно.
Натальин младшенький, Петяша, взялся ее учить. Натянув старые мужнины штаны, подвязав их чуть ли не под мышками, Анна храбро взгромоздилась на верткую машину. Но учеба у нее шла туго. Петяша добросовестно бегал сзади, держа велосипед за седло, но Анне никак не удавалось направить руль так, чтобы ехать по прямой – машина вихляла с одной стороны узкой улицы на другую, распугивая собак и кур. А вслед за Анной гурьбой носились ребятишки, смеясь, крича, советуя, выпрашивая у Петяши право тоже поучить председательшу, Вместе со всеми весело бегала и Манька. А Анна откровенно трусила. Как только, хоть на мгновение, Петяша отпускал седло, она в ужасе кричала:
– Держи! Держи, ради господа. Не усидеть мне! Держи!
Мальчик тут же подхватывал ее. Она успокаивалась, но дело не двигалось ни на шаг.
Наконец, видно, мальчишке надоело. Однажды, добежав до конца недлинной улицы, он решительно отпустил седло и остановился.
Почувствовав свободу, строптивая машина вильнула, Анна не удержалась в седле и, перелетев через переднее колесо, головой врезалась прямо в кучу опревшей прошлогодней соломы. Когда она, отплевываясь, наконец, выбралась на волю, вся деревенская ребятня стояла вокруг и покатывалась с хохоту. Анна стянула с головы платок, вытряхнула его и сердитым от смущения голосом сказала:
– Ну, и что такого смешного? Упал человек и упал… И тут на нее вихрем налетела Манька. Она обняла мать, весело крича:
– Неумека, неумека, неумека!
Анна посмотрела в ее смеющееся лицо, и ей самой стало почему-то страшно весело.
– Неумека! – притворно обиженно сказала она. – Думаешь – легко? Вот ты сама попробуй, узнаешь!
– Да я умею! Я давно умею! Меня Петяшка еще во когда научил!
– Ах ты! – весело крикнула Анна и неожиданно расцеловала дочку в обе щеки. – Вот ты какая у меня умница! А я и не знала!
И сразу обе смутились – ведь это в первый раз в жизни Анна поцеловала девочку. Да еще при всей ребятне.
Анна первая оправилась от смущения!
– Ну, раз ты, малявка, можешь, неужто я оплошаю?! Она вывела велосипед на середину улицы, неловко попрыгала, но все же уселась в седло и – о, чудо! – покатила ровнехонько по прямой.
Правда, путь ее был недолог – метров через двадцать машина стала опасно крениться, и, если бы не подоспевшие ребята, она брякнулась бы на дорогу, к великой потехе выглядывавших из хат соседей. Но она снова упрямо уселась, сердито крикнула подоспевшему Петяше:
– Не тронь! Я сама!
И стремительно понеслась по улице, вполне благополучно завернула в свой проулок, но там обессиленно прижалась к забору и едва сползла на землю. Когда ребята добежали до проулка, она уже спокойно вела велосипед к дому…
В этот день она не только научилась ездить. В этот день она поняла, как дорога ей стала Манька. И еще: она словно бы увидела, как в девочке прорвался какой-то заслон, мешавший ей раньше относиться к мачехе с доверием. Да и не только к мачехе – ко всем. С того дня она больше не дралась ни на улице, ни в школе, не дерзила всем старшим без разбору, а осенью, когда начались занятия, Анну как-то встретила на улице учительница и строго, как говорила всегда и со всеми, сказала:
– Дочка ваша сообразительная девочка. Учиться стала лучше. Оказывается, может, если хочет. И грубит теперь меньше.
– Спасибо вам! – вспыхнула Анна. – Я всегда знала – внутри себя она хорошая. Просто – долго жила сиротой…
Несмотря на скудную пищу, Манька росла так стремительно, что невысокая Анна смотрела на нее чуть ли не с испугом.
– Не иначе как тебя зайцы по ночам за ноги тянут! – жаловалась она. – Гляди – из-под всех платьишек коленки светятся! Удлинять-то уже нечем, а где я тебе новые достану? Скоро голяком бегать будешь.
– А я твои надену, – смеялась Манька, – подкоротишь маленько, и все!
Четвертый год шла война. Маше – она уже не сердилась, когда мать и все в деревне звали ее не Манькой, а Машей, – шел четырнадцатый год, и осенью вместе со всеми школьниками она помогала женщинам в поле. Да много ли пользы от этой детской помощи? И Анна, и женщины, и те немногие мужчины, что вернулись к домам, – в большинстве своем инвалиды, – были предельно измучены. Горе все чаще посещало деревню – приходили похоронки, да и в домах, куда возвращались искалеченные мужья и сыновья, тоже жилось несладко.
Часто, приходя поздно вечером домой, Анна не в силах была даже помыться как следует и валилась на кровать, мечтая только об одном – поскорее уснуть. Но сон приходил нескоро – усталость, горестные жалобы женщин, неясные мысли о муже, о Маше томили ее. Иногда она засыпала только на рассвете. Но утром перед людьми, перед дочерью она скрывала свои тревоги, всегда казалась спокойной, отдохнувшей.
– Не боись, бабоньки, – говорила она, улыбаясь своей неяркой улыбкой. – Мы с вами семижильные! Кому же тянуть, как не нам? Вот мужики, кто живой, возвернутся, тогда и поцарствуем, ужо они потрудятся для нас! Теперь войне вот-вот конец…
Может, так оно и будет? Может, вернутся мужчины, увидят, как жены и матери берегли их дома, хозяйство, детей малых, и поклонятся им в ноги за их тяжкий труд, за любовь, за терпение? Может, и ее, Анны, Степан Иванович вернется цел и невредим и снимет с нее горькую ответственность за людей, за землю, за дочь? Может, и ей скажет доброе слово?
Но чем ближе подходил день окончания воины, тем тревожнее становились мысли Анны о муже – как он примет ее такую, непохожую на прежнюю Тихоню, или, вернее, как примет его она? Сможет ли, захочет ли снова покориться его тяжелому характеру? Да и Маша, дочка, тоже? Как все это будет, как сложится их жизнь? Будет ли он уважать ее, как уважают ее в колхозе все, даже мужчины, повидавшие смерть, пострадавшие от пуль и ран, умудренные тяжким трудом войны? И все равно, все равно она хотела, чтобы он поскорее вернулся!
И вот, наконец, наступил этот долгожданный день победы!
Никто, конечно, работать не пошел – все, кто мог двигаться, собрались возле правления, а тех, кто не мог сам передвигаться, принесли сюда соседи. Радовались все, даже те, кому уже некого было ждать, что-то кричали разом, обнимались.
Анна тоже с кем-то обнималась, кто-то обнимал и целовал ее, кому-то что-то говорила она, кто-то кричал ей что-то радостно и ласково.
Расталкивая всех, к Анне подлетела Манька, судорожно охватила худущими руками мать, прижалась к ней и внезапно горько, неутешно заплакала.
– Что ты? Что? Случилось что? – испугалась Анна. – Да говори же! Почему плачешь?
Но девочка, дрожа и захлебываясь, плакала все безнадежнее.
Анна с силой подняла ее лицо, заглянула в залитые слезами глаза. И столько недетской тревоги и страха увидела она в этих светлых глазах, что у нее больно и тоскливо сжалось сердце.
Она прижала худенькое, мокрое лицо девочки к своей щеке и сказала тихо, чтобы никто кругом не услышал:
– Ничего, доченька! Не боись – нас ведь теперь двое!..
А через несколько дней приехал Степан Иванович. У ворот ему встретился дед Анисимов. Уважительно поздоровался за руку, сказал:
– С благополучным возвращением вас, Степан Иванович. А председательша наша вас ждет не дождется…
Но в доме было пусто. Печь не топилась, чистая посуда аккуратно расставлена на припечке, нигде никаких признаков еды, только посредине стола на тарелке, прикрытой белой тряпочкой, лежало несколько черных сухарей.
Он вышел за ворота. Но на улице тоже было пусто, даже не видно было ребятишек. Один дед Анисимов сидел возле своего дома на лавочке. Он и объяснил Степану Ивановичу:
– Все сейчас на дальнем поле, далеко, за поймами – рассаду капустную сажают. Анна? А, конечное дело, и Анна Васильевна там. И доченька с ней. А как же – помогает…
Анна вернулась только в сумерки. И ахнула, увидев сидящего за столом мужа.
– Вернулись?! – радостно крикнула она. И истово, в пояс поклонилась ему, как кланялись в старину на Руси женщины приходившим из похода мужьям. – Слава тебе господи! – нараспев сказала она. – Вернулись, Степан Иванович! Целым и невредимым! Счастье-то какое!
Степан Иванович резко вскочил, неловко опрокинув стул.
– Явилась! – крикнул он. – Потаскуха! Муж четыре года дома не был, а она где-то шляется до ночи!
Анна вся сжалась от этого крика. И тут увидела, что делается в хате: скатерть с разбитой тарелкой и рассыпанными сухарями валялась на полу у самого порога, на голом столе стояла полупустая бутылка водки, лежали осклизлые соленые огурцы, шматок пожелтевшего сала, рваная газета; ее постель раскидана, подушка черна, словно ею чистили сапоги.
А Степан Иванович не унимался:
– Председательша! Со сколькими ты там, в городе, переспала, чтобы тебя председательшей сделали? А? Отвечай!
Он поднял стул, тяжело уселся, хлопнул раскрытой ладонью по столу.
– Отвечай, тебе говорят, потаскуха чертова!
Тут он заметил Маньку; девочка не решалась войти и робко прижималась к матери.
– А! И ты здесь! Подойти к отцу, поздоровайся!
Но девочка еще крепче прижалась к Анне, почти спряталась у нее за спиной.
– Не желаешь? Я всю войну личным шофером у начальника фронта был, а ты и поклониться мне не желаешь! Все она, сука трепаная, все Тихоня проклятая! И девку на свое повернула! Я еще тебе дам школу, председательша занюханная, я тебя, стерву…
Анна глубоко набрала в легкие воздух и сказала как можно спокойнее:
– Негоже такие слова о матери при дочери говорить, Степан Иванович!
– Да какая ты ей мать?! Ты…
– Вы пьяный, Степан Иванович. Протрезвитесь, тогда и поговорим…
– Пьяный?! Я кровь проливал, а ты мне стакана водки пожалела?! – заорал он. И вдруг осекся, увидев холодную, незнакомую улыбку на лице жены.
– Не проливали вы кровь, Степан Иванович, личный шофер начальника. Не проливали, – усмехнулась Анна.
И уже не обращая больше внимания на мужа, ласково подтолкнула девочку к выходу.
– Пойдем, доченька. К завтрему он протрезвеет, тогда и свидимся…
Всю дорогу до стана обе молчали. А наутро туда явился еще более пьяный, чем вчера, Корнеев.
Колхозники собрались под навесом вокруг длинного стола. Пожилой коренастый человек в очках вслух читал газету. Неподалеку от него сидела Анна. Бледная, со скорбно сжатыми губами, опустив усталые руки на колени. И видно было, что она не слушает чтения, думает о чем-то своем. Среди собравшихся Маньки не было.
Корнеев подошел и бесцеремонно перебил читавшего.
– Где дочка? – крикнул он. – Куда ее спрятала? Анна не ответила.
– Тебя спрашиваю – куда от родного отца донку увела? Ты…
Пожилой пристально посмотрел на пьяного и негромко перебил:
– Не шуми! Видишь, люди заняты.
– Где девчонка? – еще громче закричал Корнеев. – Сама пусть катится на все четыре стороны! Ее в моей хате ничего нет – как пришла голяком, так и уйдет! А девчонку мне отдай!1 Моя она!
– Проспался бы раньше, – так же мирно и спокойно сказал пожилой. – Не успел вернуться, а уже куражишься. Постыдился бы людей!
– А чего мне стыдиться? Я всю войну личным шофером начальника штаба армии был, а эта потаскуха передо мной нос дерет!
– Не позорься, солдат! – поднимаясь, сказал пожилой.
– Не позорься! Это она тут хвостом трепала, пока я кровь проливал… Да и кто ты такой, чтоб мне указывать?
– Парторг я. Семенов моя фамилия.
– Парторг! А я беспартийный. Мне на твои указки… Анна сидела все так же молча, ни разу не подняла глаз, не взглянула на мужа.
Парторг снял очки, положил их на газету и, широкий, коренастый, с налитой темной кровью шеей, медленной, чуть развалистой походкой двинулся к Корнееву.
– Шел бы ты отсюда… герой! Проспишься, может, еще совесть в тебе заговорит, тогда и приходи…
Что-то в его голосе было такое твердо-спокойное, что дошло даже до пьяного Корнеева. Степан Иванович молча повернулся и нетвердо зашагал к деревне…
Этой ночью Анна вместе с Машей ночевали в правлении. Наплакавшись, девочка крепко уснула на жестком диване. Прикрыв ее ватником, Анна вышла на крыльцо, села на ступеньку да так и просидела до утра.
«По правде он меня ревнует, – думала она, – или так, придирается? Нет, видно, не переменила его война… Может, проспится и все ладно станет?… А дочку я ему все равно не отдам! Не его, моя она… И из хаты не пойду. Куда я с Машей-то? Не ночевать же всегда в правлении. Ей учиться надо. Учительница говорит – способная она, а к математике этой и просто, говорит, талант имеет… Ну, а если не затихнет – пусть сам уходит… А останется? Сломать нас с Машуней захочет? Так не выйдет у него ничего! Нас и верно теперь – двое!»
Часов в пять вечера Корнеев, уже совершенно трезвый, пришел в правление. Там было шумно, людно, колхозники получали наряды на завтра. Как только на пороге появился Степан Иванович, все замолчали и, неловко протискиваясь мимо него, стали выходить. Остались парторг и Анна.
Пристально посмотрев на Корнеева, парторг сказал негромко, спокойно:
– Что скажешь, солдат?
– Старший сержант, – поправил его Корнеев.
– Слушаем тебя, старший сержант, – усмехнулся парторг.
– Я вот к ней… к председателю… Анна молчала, ждала.
– Погулял, и хватит, – мрачно сказал Корнеев. – Работу давайте. Не люблю я без дела. Да и свои демобилизационные… ну, в общем, – пора…
– Твоя правда, старший сержант, – вновь усмехнулся парторг.
– Анна обратилась к парторгу:
– Как думаешь, Дмитрий Николаевич, в ремонтную его? Там у нас помощник слесаря в техникум уезжает, учиться, так на его место…
– Это меня-то – помощником слесаря?! – вспыхнул Корнеев. – Я всю войну личным шофером…
– А нам личные шоферы не нужны, – сухо перебила Анна, – нам работники надобны.
– А на трактор нельзя? Я ведь…
– Нас тракторами МТС обслуживает, – сказал парторг. – На первое время, а?
– Что ж, – неожиданно миролюбиво согласился Корнеев, – ненадолго можно…
– Впервые Анна подняла на него глаза, посмотрела удивленно, внимательно, не очень доверяя его покорности.
– Так и решим? – спросил парторг у Анны.
Она кивнула и тут же стала разбирать какие-то бумажки.
Корнеев ступил было к выходу. У самой двери остановился, неловко помялся и, наконец, негромко сказал:
– А ты, Анна Васильевна, не держи на меня обиды. По пьянке это я. Приходи домой. И дочку с собой веди. Придешь?
Анна вспыхнула и тихонько ответила:
– Приду… Придем… сегодня…
На предложение матери вернуться домой Маша не ответила ничего. Только не по-детски серьезно и грустно посмотрела на мать и пожала узкими плечами.
Но мир, которого Анна так ждала, в их доме так и не наступил. Холодно было в их доме. Никакого особого счета у Анны к мужу не было – он вел себя спокойно, больше никогда не кричал ни на нее, ни на дочку, но был подчеркнуто равнодушен к ним обеим и жил не с ними – рядом, как посторонний, как квартирант, – уходил и приходил, когда хотел, никогда ни о чем не советовался, вообще редко заговаривал первый. Так прошло лето. А осенью он явился в правление и официально попросил отпустить его из колхоза на год. Это перед самой-то уборочной!
– Как знаете, Степан Иванович, – сухо сказала Анна, подписывая его заявление.
За лето Анна привыкла к его присутствию. Хоть и тяжело с ним, а все же – мужской дух в хате. Но она ничем не выдала своего огорчения, дочка же откровенно обрадовалась. Весной она перешла в последний, седьмой, класс. Худенькая, высокая, еще не оформившаяся, но с настороженным, серьезным лицом, она производила впечатление уже почти взрослой. Они с матерью давно договорились, после окончания школы она поедет в город поступать в техникум. Отцу они, конечно, не говорили о своем решении. Втайне обе мечтали, что когда-нибудь она будет инженером, научится, как говорила мать, строить трактора и всякие интересные машины.
– Но ты так и знай, мама, – шептала девочка, забираясь вечерами к матери в постель, – я сюда, в деревню, не вернусь. Я тебя к себе заберу. Уедем куда-нибудь далеко. Я буду на заводе работать, ты, если захочешь, тоже – ты умная, со всяким делом справишься…
– Да ты выучись сначала, – смеялась Анна. – Может, вырастешь и забудешь про мать-то…
– Я тебя никогда не забуду, – серьезно отвечала Маша. – Ты у меня одна…
Степан Иванович вернулся раньше, чем обещал, – в самом начале лета.
В тот день Маша уезжала в город держать экзамены. Анна помогала собирать ее немудрый багаж, готовила еду на дорогу и не заметила, как в хате появился муж.
Обернулась на его недовольный вопрос:
– Это куда же ты? Уезжаешь, что ли? Муж на порог, а ты за ворота?!
– Не я, Маня едет, – сдержанно ответила Анна.
– Это еще зачем?
Девочка, уже одетая в дорогу, вышла из-за занавески. Равнодушно кивнув отцу, она сказала:
– Пора идти, мама, на автобус опоздаем.
И вдруг впервые после первого скандального дня своего возвращения из армии, Степан Иванович взорвался, закричал:
– Никуда ты, сопливая, не поедешь. Я сказал! Председательша устроила, что из колхоза бежишь? А кто тут-то будет работать?
И осекся, увидев устремленный на него презрительный взгляд дочери.
– А ты! Ты и будешь работать, – сказала она, недобро усмехнувшись, первый раз в жизни обращаясь к отцу на ты.
И, подхватив фанерный чемоданчик, спокойно вышла из дому. Анна хотела что-то сказать, как-то объяснить Машин отъезд, но передумала и вышла вслед за дочкой.
Вечером, когда она вернулась домой, Степан Иванович сладко спал, развалившись на ее постели.
А утром, выкатив из сарая свой новый велосипед, она поехала в райком, просить, чтобы ее, наконец, освободили от председательства. Через несколько дней она уже работала рядовой колхозницей в полеводческой бригаде.
«Может, теперь-то он успокоится?» – надеялась она.
Но Степан Иванович и не думал успокаиваться. Работать он не начинал, по целым дням валялся на кровати и придирался и грубил ей так же, как когда-то до войны. Как и раньше, Анна отмалчивалась, терпела. Ради Маши, дочери.
Через две недели девочка вернулась. Еще с порога она радостно крикнула:
– Приняли! Мама! Приняли! Степан Иванович вскочил:
– Это куда еще?
В техникум, – негромко ответила Анна.
– Еще чего! Девка будет в городе хвостом вертеть, а мы ее корми?!
Маша засмеялась:
– Корми! Да много ли ты меня кормил? С шести лет меня мать кормит! И не волнуйся, я на все пятерки сдала, буду стипендию получать! Вот!
Анна едва дождалась весны. Два раза за зиму она ездила к Маше, отвозила ей продукты – теперь это было легко, автобусы ходили чаще.
Степан Иванович, наконец, начал работать там же, в ремонтной бригаде, на той же должности. Попытался было устроиться шофером, но новый, приехавший из города председатель решительно отказал ему:
– Пьющий вы, не могу я вам машину доверить.
Степан Иванович действительно много пил и пил в одиночку: друзей, просто товарищей даже для выпивки он так и не приобрел. Бывало, что и на работе появлялся навеселе; на замечания бригадира не обращал внимания, отмалчивался. Он постарел, от его прежней стройности, подтянутости не осталось и следа.
Анна тоже сдала. Маша заметила это сразу, как только вошла в избу. Обнимая мать, спросила тихо:
– Плохо тебе, мама, одной?
– Плохо, – вздохнула Анна.
– Вот подожди, выучусь я…
– Учись, учись, умница, – улыбнулась Анна. – А я? Что ж поделаешь – старею…
* * *
«Старость. Что же это такое – старость? – думала Анна, глядя на сухой могильный холмик. – Болезни? Да вроде здоровая я, ничего у меня не болит, и работать еще могу. А вот же слышу я ее, эту старость. Не в костях она у человека, где-то внутри, в душе, что ли?»
Гром зарокотал ближе, неярко блеснула молния, и в воздухе запахло чем-то острым, приятным, заглушая гарь, что тянулась от леса.
«Дождь пойдет, – безразлично подумала Анна. – Промокну».
Но не поднялась, даже не пошевелилась.
С непонятной тоской она вспомнила, как умирал ее муж. Он долго лежал, разбитый параличом. Она ухаживала за ним, как умела. Оба почти никогда ничего друг другу не говорили. Но за несколько часов до смерти он позвал ее, попросил сесть поближе и сказал серьезно и грустно:
– Неладно мы с тобой прожили нашу жизнь, Анна. За то и не послал мне бог быстрой смерти. Потерпи еще немного. Теперь уже скоро… И вели дочке приехать меня хоронить. Сегодня же отбей телеграмму, как раз к похоронам и поспеет…
Дочь приехала, поспела. Она давно уже работала инженером на заводе в большом городе.
На поминках, где собрались только соседки, – она снова завела разговор о переезде матери к ней.
Но Анна упорно отмалчивалась.
– Женщины! – обратилась Маша к старухам. – Уговорите хоть вы мать. Ну что ей здесь одной делать?
– Нет, – покачала головою Анна, – ты уж прости, доченька, я здесь останусь. Тут жизнь прожила, тут и доживать буду. Да и могилку Степана Ивановича нашего как бросить? Останусь я, не неволь…
Больше дочь не стала ее уговаривать, только мельком удивленно на нее посмотрела…
Тоска и жалость наполняли сердце старухи. Глядя на пыльную землю у своих ног, она думала:
«Правду он сказал – неладно мы с ним прожили жизнь… И кто тому виной – он ли, я ли, – сейчас уже не поймешь… Может, и любил он меня когда, да я не разглядела? Что же мне так горько без него? Не знаю… Ничего-то я не знаю…»
Она заплакала, тихо, без всхлипываний, как плачут очень старые люди, не утирая бегущих слез… О чем? О трудной своей жизни? Да нет, – наверное, о том несовершенном, пропущенном, чего уже никак нельзя ухватить, вернуть, переделать…
Дождь, наконец, пошел. Сперва редкие, крупные капли, ударяясь о сухую землю, вздымали крошечные пылевые смерчи. Потом капли стали мельче, чаще. И вот дождь полил – стремительный, теплый, душный, заволакивая сидящую Анну, могилы, кусты, закрывая все вокруг.
И непонятно было – слезы или этот поздний дождь заливает лицо Анны…
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Первая любовь… Ей казалось, что она так и останется единственной. Когда-то эта уверенность помогала ей жить. Но потом…
Когда весной сорокового года он появился в этом маленьком пограничном городке, почти не осталось ни одной девчонки от пятнадцати до двадцати лет, которая не мечтала бы о том, чтобы новый инструктор райкома комсомола хоть раз пригласил ее в кино или на прогулку в парк, раскинувшийся на высоком берегу быстрой реки.
То ли слухи о его героической юности, то ли густая, совершенно седая шевелюра, резко контрастировавшая с румяным, гладким лицом и живыми черными глазами, но влюблялись в него и девушки постарше, а некоторые открыто навязывали знакомство. Он довольно настороженно относился к влюбленным взглядам, а близких знакомств избегал. И вовсе не потому, что был излишне скромен, а просто испытывал неловкость оттого, что легенда о его прошлом так цветисто разукрашивалась, а слава романтического борца с кулацкими бандами создавала ореол вокруг его седой головы.
А между тем ничего героического он в жизни не совершил. Действительно, поседел он в одну минуту, и виной тому были восставшие в его дальнем селе кулаки. Но все, что с ним произошло, было и проще, и будничнее, чем этого хотелось девичьей молве.
В тридцатом году в богатом сибирском селе, куда его отца назначили начальником отделения милиции, вспыхнуло кулацкое восстание. В ту ночь отца в селе не было – он поехал повидаться с матерью, учительствовавшей в маленьком городке, расположенном верстах в пятидесяти от села.
Сергей проснулся среди ночи от странного треска, который принял сперва за скрип раскачивающихся на ветру деревьев. Собрался было снова уснуть, но комната осветилась вдруг тревожным, колеблющимся светом. Он понял – это не ветер, а треск близкого огня. В одних трусах выбежал из хаты и вначале не мог понять, где горит. На мгновение внимание его отвлекли странные, редкие хлопки; похоже было, будто пастух подгоняет кнутом отставшую от стада корову.
И тут он увидел, как вспыхнул соседский сарай, выбросив вверх несколько ярко-оранжевых языков.
Ему было только четырнадцать лет. И первое, о чем он подумал, – о своих голубях, запертых в клетке на высокой крыше их хаты. Он бросился спасать не свои и отцовские вещи, а торопливо полез по приставной лестнице наверх, к своим птицам. Шар уже бил в лицо, но он добрался до клетки, выхватил распорку из скобы, распахнул дверцу. Увидел, как первая пара белых голубей взмыла вверх, размахивая крыльями, в свете зарева ставшими алыми. И тут же услышал грохочущие по железу шаги и возглас:
– А, вот где ты, пащенок!
Но пока двое огромных людей бежали к нему по коньку, он успел выхватить еще несколько птиц, подбросить их. Они взмыли, и шум их крыл на минуту заглушил и шаги, и треск близкого пожара. Потом он почувствовал, как кто-то схватил его за руки и за ноги, раскачал и швырнул. Ему показалось, что он летит вверх. Последнее, что слышал, – шум крыльев улетающих птиц.
Он не помнил, как нашел его отец, вернувшийся из города с небольшим отрядом, разоружившим бандитов, не помнил, сколько пролежал в больнице. Только одно он знал точно – все время, что он болел, над ним летали, шумя крыльями, красные голуби…
Первое, что он увидел, придя в сознание, было осунувшееся, постаревшее лицо отца и заплаканные глаза матери.
– Очнулся! – вскрикнула мать.
И тотчас затих сухой стрекот голубиных перьев. Он слышал только голос матери:
– Что же они с тобой сделали, сыночка! Ты весь седой!
– Ну, что плакать, – прервал отец. – Шивой, это главное…
Потом учился, окончил школу, служил в армии. Перед демобилизацией его вызвали в райком комсомола и предложили пойти работать инструктором райкома сюда, в пограничный городок.
Отец служил на Дальнем Востоке, мать была с ним. За последние три года он виделся с ними только один раз и как-то немного отвык от них. Решил, что ехать на три-четыре дня так далеко не стоит, лучше через год-два перетащить стариков к себе; не использовав отпуска, поехал к месту будущей работы. В армии он ни на минуту не оставался один и радовался теперь тому, что сможет почитать, порыбачить в одиночестве, по-своему построить свою самостоятельную жизнь.
А девушки? Что ж, ни одна из них не нравилась ему настолько, чтобы хотелось побыть с нею наедине. Поэтому они всегда собирались возле него кучками, не очень искренне пересмеиваясь и не очень складно запевая песенки из новых кинофильмов; но как только появлялась мужская компания, они безропотно уступали ей место и удалялись, боясь, что в городке пойдет про них недобрая слава.
Только одна из – них, самая младшая и самая некрасивая, никогда не отступала – она всюду как тень бродила за Сергеем, никогда с ним не заговаривая, только глядя на него сквозь очки своим узкими, чуть подслеповатыми глазами. Сама того не замечая, она все время механически расплетала и снова заплетала негустые, темные косички, и, если взгляд Сергея случайно падал на нее, краснела и смущалась почти до слез. Пальцы ее судорожно застывали, и казалось, даже останавливалось дыхание. Но как только он отворачивался, она опять начинала заплетать прямые волосы и смотрела на него завороженно и преданно. Звали ее Зоя Зайцева. Еще в первом классе кто-то прозвал ее Зайка-очкарик, так до сих пор она им и осталась.
Конечно, он знал ее в лицо – городок был слишком мал, чтобы кого-нибудь в нем не знать, но никогда не обменялся с нею ни словом, ни улыбкой, даже когда встречал ее в деревянном клубе, где еженедельно крутили новые картины. Впервые он услышал ее робкий голос, когда ее принимали в комсомол – она ответила на какой-то вопрос секретаря райкома. Потом она надолго исчезла – поступила в Минске в медицинский институт. Он окончательно забыл о ее существовании.
Весной сорок первого она вернулась. Встретились они случайно, на улице. Он не узнал ее, хотя она нисколько не изменилась – тот же нескладный подросток в очках.
Увидев его, она приостановилась, сказала робко:
– Здравствуйте, товарищ Сергей. Он удивленно приподнял брови.
– Здравствуйте. И прошел мимо.
Она еще долго стояла, смотрела ему вслед. Все в нем нравилось ей – и стремительная походка, и то, как он держал седую голову, чуть склонив к правому плечу: шея у него ворочалась туго после падения с крыши. Но и это казалось ей трогательным свидетельством его героизма и красоты. Все по-старому – он ее не замечает, не узнает, она может и дальше восхищаться им, радоваться тому, что он где-то рядом. Зоя стояла, глядела ему вслед, словно стараясь получше запомнить его высокую фигуру и светящуюся на солнце седину…
В ту ночь ее мать – старшая хирургическая сестра – дежурила в больнице, и Зоя была одна в их маленьком деревянном доме, почти крайнем от леса, начинавшегося тут же, за последней городской постройкой, по ту сторону глубокого, заросшего ежевикой оврага.
Зоя немного боялась колючего оврага, а главное – леса; даже в самые ясные дни он казался ей темным, непроходимым и страшным. Лес и правда был очень густой, а километра через два-три переходил в настоящую пущу; говорили, там водится зверь. Не важно – какой. Зверь. Одного этого сознания для Зои было достаточно, чтобы никогда не заходить дальше опушки.
Зоя спала, когда началась бомбежка. Никто в городке не ждал этого, не понял сперва, что это за грохот. Полураздетые люди выбегали из домов, метались по узким улочкам и один за другим падали, сраженные либо взрывами бомб, либо пулеметным огнем отбомбившихся самолетов.
Деревянный городок вспыхнул, как стог соломы. Крики женщин, плач детей, рев скотины, ошеломленной не меньше людей, разрывы, выстрелы – все слилось в единый страшный гул.
Зоя тоже выбежала из дома, но, увидев, что творится вокруг, бросилась обратно – спрятаться, забиться под стол, под кровать, куда-нибудь, только бы не видеть и не слышать ничего. Но не успела добежать даже до порога – сильный удар оглушил ее. Она ничего не слышала, только увидела, как в полной тишине их крепкий, надежный дом в одно мгновение превратился в груду пылающих поленьев. Прикрыв голову руками, она бросилась бежать вон из города, туда, к лесу, – сейчас он казался ей единственным на свете надежным, нестрашным местом, где можно было укрыться от всего этого ужаса. Споткнулась, упала и надолго потеряла сознание. Когда пришла в себя, солнце уже поднималось. Медленно выползало оно из-за леса, и Зое показалось, что деревья тоже охвачены пламенем. Но треска огня не было слышно. Только далекий, стрекот удаляющихся самолетов.
Зоя приподнялась на руках, еще раз посмотрела на поднимающееся солнце, сказала громко:
– Это просто утро.
В странной, почти абсолютной тишине она четко услышала свой голос. Значит, она не оглохла, ей это только показалось. Но всего происшедшего ночью она еще не осознала. Саднило разбитое колено. Она встала, чтобы осмотреть его. И тут увидела, что улицы, ее родной до каждого кустика в каждом палисаднике, знакомой улицы просто нет, не существует: кое-где торчали только почерневшие печные трубы. И никого вокруг. Ни души.
Босиком, в длинной ночной рубашке, в наскоро накинутом ночью мамином старом ватнике, она бросилась бежать в город, туда, где еще вчера стояла нарядно побеленная городская больница. Но больницы тоже не оказалось – куски обвалившихся стен, обгоревшие кирпичи, стекла, стекла.
Несколько человек, плотно сгрудившись, стояли неподалеку от развалин. Зоя бросилась к ним, закричала:
– Мама! Где моя мама?
– Сестричкина Зойка, – жалостливо сказала какая-то старуха. – Увезли маму-то. Ранили ее. Больных, раненых – всех увезли.
Куда?
Кто же его знает?
– Известно куда – на восток, в Россию… Да и всем уходить надо, говорили, – к вечеру немцы здесь будут.
– Какие немцы? – ужаснулась Зоя.
– Какие, какие? Я их в четырнадцатом немало повидал… Нам со старухой не уйти, дорогой помрем. А ты беги. Беги, милая. Лесом, там схорониться легче…
Зоя еще раз оглядела неузнаваемую улицу, свои босые, грязные ноги, изорванную рубашку, уродливо свисавшую из-под ватника, повернулась и побрела вниз, к оврагу.
– Эй, девонька! – услышала она за собой слабый крик старика. – Больничный обоз тоже лесной дорогой поехал. Беги, может, догонишь…
– Куда там! – сказала старуха.
Зоя бросилась было бежать, но снова остановилась. Тоска, отчаяние, страх – за мать, за себя, потерянную и одинокую, давний детский страх перед лесом словно сковали ее на минуту. Ей нестерпимо захотелось вернуться к людям, прибиться к ним, не быть одной. Но тотчас она снова побежала, перебралась через овраг, бросилась под деревья, в панике разыскивая лесную дорогу… Бежала, не останавливаясь, ни разу не обернувшись, будто за нею уже гнались те таинственные, неизвестные немцы, о которых она, в сущности, ничего не знала, но уже панически боялась. И вдруг остановилась, пораженная: прямо перед нею лицом вниз лежал человек. В лесном полумраке она сразу увидела его странно вывернутые ноги, раскинутые руки с обращенными вверх ладонями, седой затылок. Убитый? Свой, не военный – белая рубаха вздернулась, открывая голую спину. Нагнулась над лежащим. До нее донесся чуть слышный, булькающий стон. Жив! И в ту же секунду она поняла, что перед нею он, Сергей. Осторожно перевернула его на спину, присела на корточки, смахнула с лица землю, прилипшие травинки, рукавом ватника стерла со лба кровь, тихо позвала:
– Сергей! Товарищ Сергей!
Он ее не услышал. Только прерывисто, со всхлипом вздохнул.
Высоко в небе раздалось нудное, уже знакомое ей гудение.
Она вскочила, подхватила его под мышки, попыталась приподнять. Но он был слишком тяжел для нее. Тогда она взяла его за руки, впряглась в них, словно в оглобли, и потащила в глубь леса, под деревья, в темноту, – спрятать его, укрыться самой от налетавшего ужаса. Она почти бежала, задыхаясь, не выпуская его неподвижных, словно окостеневших рук. Закачалась, упала. Все сдвинулось, поплыло… Первое, что увидела, придя в себя, была нежная, елковидная вершинка сочного хвоща, по которой медленно взбирался маленький черный жук. После всего, что она видела, слышала, пережила этой ночью, нелепыми показались ей усилия жучка добраться до вершинки хвоща, дикой – спокойная лесная тишина, запах подгнившего иглива и травы. Болело все тело, саднило разбитое колено, но рядом со всеми этими ощущениями, отчаянными мыслями, тоской крепло решение – действовать, спасать Сергея, спасаться самой; надо попытаться пробиться к людям, к своим. Как? Где они сейчас, эти свои? Неизвестно. Надо искать. Но это потом, сейчас главное – помочь Сергею, не дать ему умереть здесь, в лесу. Переползла поближе к его голове, дотронулась – руки сразу стали липкими. С трудом, помогая себе зубами, разорвала на нем рубашку, туго перетянула голову, села, прислонившись к стволу, уложила голову Сергея к себе на колени. Сейчас ничего больше она придумать не могла.
Так она сидела долго, чутко прислушиваясь к равномерному шуму деревьев, поскрипыванию стволов, легкому шороху листвы над собой. Начало смеркаться. Становилось все темнее, но это уже не пугало, а даже радовало ее. Измученная, не заметила, как уснула. Разбудил ее далекий стрекот мотоцикла. За первым промчался еще один, еще, еще. Звук был приглушенный и, внезапно возникнув, замирал почти сразу.
«Неужели я так далеко его протащила? – подумала Зоя. – И странно обрывается звук. Наверное, близко поворот дороги… Завтра постараюсь разведать».
Откуда к ней пришло это слово – «разведать», – слово из военного, совершенно незнакомого лексикона? Возможно, вычитала из какой-нибудь книги о войне. Во всяком случае, она подумала именно так.
Снова в лесу все затихло. Где-то гукнула сова. Наверное, раньше крик ее до ужаса испугал бы Зою; сейчас он показался ей успокоительно мирным; Сергей завозился, громко вздохнул, сказал почти спокойно:
– Пить хочу. Дайте напиться…
Она испуганно склонилась над ним, прошептала:
– Тише. Ради бога тише. Потерпите. Нет у меня воды…
Она испугалась, что голос его донесется до дороги, до немцев. Но он уже снова затих, отяжелел, видно, потерял сознание. Голова его соскользнула с ее колен, гулко ударилась о землю.
«Он умрет у меня здесь! – в ужасе подумала Зоя. – Что делать?!»
До утра она уже ни на минуту не уснула. А утром, поудобнее уложив его, почти уже мертвого, поползла к дороге. Может быть, думала она, еще не все наши ушли отсюда, может быть, кто-нибудь проедет, пройдет по дороге, поможет ему…
Странно – о себе она уже не думала. И ничего не боялась. Ей безразлично стало, что с нею будет. Главное – спасти его.
«Только бы он выжил, только бы выжил», – эта мысль вела ее, обостряла хитрость, находчивость, осторожность. Наконец доползла до дороги, затаилась в придорожных кустах и стала ждать.
Солнце поднялось высоко, к полудню стало жарко, потом темная, душная туча стала наползать на небо, налетел ветер, где-то мирно, по-домашнему, громыхнуло, запахло дождем. Зоя рванулась было назад, в чащу – укрыть Сергея от дождя, но одумалась: а вдруг как раз в это время появится на дороге тот единственный, кто сможет спасти раненого? Опять притаилась за кустом. Время тянулось, тянулось. Голода она не испытывала, только какая-то сосущая дурнота временами подкатывала к горлу.
Тогда она с трудом разжевывала травинку и высасывала ее горьковатый сок. Ей становилось легче. Постепенно начало темнеть. И вот, когда она совсем уже отчаялась, из-за поворота дороги показалась лошадь. Сперва она подумала, что лошадь бредет одна. Но тут же разглядела медленно идущего старика – он вел лошадь под уздцы, устало шаркал ногами и что-то тихо бормотал. Вот он поравнялся с кустом, за которым притаилась Зоя.
– Дед, – тихо окликнула она его. – Погоди, дед… Тот испуганно шарахнулся, но, разглядев Зою, придержал коня.
– Ты чего? Как ты тут?
– Человека ранило. Тяжело. В больницу надо, а то умрет…
– Так и что я? Как?
Далеко больница?
– Километров десять отсюда. Зоя бросилась к нему.
– Помоги, дедушка! Пойдем, привяжем к лошади, довезешь его… Пойдем…
Она уже схватилась за повод и тащила коня в чащу. И дед поддался ее страстной мольбе, ее отчаянию.
– Жених, что ли? – сочувственно спросил дед.
– Жених, – выдохнула Зоя.
…Они с трудом втащили Сергея на коня, привалили лицом к холке, руки, свисавшие по обе стороны конской шеи, связали поводом, ноги притянули как можно ближе друг к другу и скрепили дедовым поясным ремнем.
На дорогу не буду выезжать, – деловито сказал дед. – Болотом доберусь. Ничего, не плачь, схоронюсь, коли что. Я тутошний. А ты уж тут оставайся – помеха ты нам будешь. Может, кого и встретишь своих, тоже выберешься…
Обо мне не беспокойся, – счастливо ответила Зоя. – Спасибо тебе, дед. Езжай, езжай, ведь он чуть жив…
Дед повернул коня и повел его сразу в гущину по ему одному видимой тропе. Они скрылись за деревьями тотчас же. Еще некоторое время Зоя слышала хруст и треск веток. Потом снова наступила совершенная и глухая тишина. Зоя опустилась на землю, свернулась комочком и вдруг неудержимо расплакалась, коротко, по-детски всхлипывая. Ее била мелкая, противная дрожь то ли от влаги, тянувшей от земли, то ли от вернувшегося к ней страха. Она долго лежала, то затихая, то снова принимаясь плакать. Но, в конце концов, усталость и голод сморили ее, и она уснула. Ее разбудили шаги и приглушенные голоса. В ужасе она вскочила, собираясь бежать, но кто-то крепко ухватил ее за плечи.
– Кто такая? Откуда?
Взошла луна, и в ее металлическом свете Зоя ясно различила небольшую группу окруживших ее солдат, даже их усталые, словно бы знакомые лица.
Она снова заплакала, но уже громко, облегченно.
– Свои! – захлебывалась она. – Свои!
– Здешняя?
– Из города.
– Немцы уже там… Кругом они…
– Как это кругом?
– Так. Мы вот вырвались из окружения. К своим хотим пробиться. Местность знаешь?
– Нет, – растерялась Зоя.
– Ладно. Разведаем…
– Возьмите, возьмите меня с собой… Я боюсь одна… Лица солдат были измучены, суровы, замкнуты. Никто еще никогда не смотрел на Зою такими изучающими, строгими глазами.
– Возьмите, – прошептала она робко. – Я могу перевязывать – целый год училась на медицинском.
– Вот так босиком и пойдешь воевать? – пошутил кто-то.
– Сгорело все…
– Куда же тебя девать? – задумчиво сказал самый старший из солдат. – Иди уж с нами. А обмундирование добудем – прибьемся к своим и добудем…
– Что в лесу-то делала? Одна?
– Бежала. Маму ранили, думала – обоз догоню… А потом нашла Сергея. Чуть живого… Уговорила деда в больницу свезти. Ну и…
– Жених твой, что ли?
Зоя промолчала. Не могла она солгать, назвать человека, который ее почти не помнил, своим женихом. Деду сказала, чтобы пожалел, повез. А этим не могла.
– Ладно. Жених не жених – человек, – бросил кто-то…
Днем они сторонились дорог, деревень, прятались в зарослях. Питались ягодами, грибами, ночью упорно шли на восток, чтобы с рассветом снова залечь, затаиться.
Ноги у Зои распухли, кровоточили. Кто-то из солдат пожертвовал свою рубаху, обмотал ей ноги; идти стало легче. Хотя было уже начало июля, на заре она сильно зябла в своей ночной рубашке и изодранном ватнике. Первое время стеснялась, ложилась поодаль от бойцов, но однажды не выдержала, растолкала спящих, прижалась к чьему-то теплому боку и впервые уснула крепко, спокойно, без снов…
Почти месяц пробиралась группа к своим. Постепенно она росла и за счет примыкавших к ней окруженцев, и за счет молодежи окрестных деревень. С едой стало полегче – кое-что добывали в селах, мимо которых проходили, но прятаться стало труднее. В бой не вступали, шли окольными тропами; наконец, прорвав кольцо, перешли линию фронта и соединились с регулярной частью.
Так Зайка-очкарик стала бойцом Красной Армии, сестрой полевого госпиталя. Всю войну, маленькая, худущая, некрасивая, провоевала она и дошла с войсками до Берлина. Научилась преодолевать свой страх, научилась, применяя тот же способ, которым она тащила Сергея – впрягаясь в руки, как в оглобли, – вытаскивать из-под огня раненых. И за всю войну ее ни разу не царапнули ни осколок, ни пуля. Бойцы смеялись – больно мала, пуле ее и не видать. Сам собою отпал обидный «очкарик», но Зайкой называли все, словно раненые по наследству передавали друг другу это ласковое имя…
С ранеными она всегда была ровна, весела, но как только выходила из госпитальной палатки, как только оставалась одна, она словно обо что-то внутренне спотыкалась, застывала, как в детской игре «замри без слов». Глаза за выпуклыми очками расширялись, и казалось, она смотрит на что-то далекое, трудно различимое, старается вспомнить какое-то слово и не может. Если кто-нибудь не окликал ее, она могла простоять так совершенно неподвижно очень долго. К чему присматривалась, что слышала тогда, она и сама не знала; только все окружавшее ее в эти минуты начинало казаться ей далеким, нереальным, немым, а перед нею, как из густого тумана, возникали зеленые улицы родного городка, школа, лицо матери, стремительная походка Сергея, его седая голова. Не грохот войны, не кровь и смерть, не изнуряющая работа, а тиши-па и покой далекого детства становились реальностью, истинной, невыдуманной жизнью. Но стоило ей очнуться, и все, что с таким напряжением она старалась вернуть, удержать, снова уходило в туман, делалось похожим на полузабытый сон.
Война упорно и настойчиво вырывала ее из детства, чертила между нею и ее прошлым непроходимый рубеж. Все реже замыкалась она в своих воспоминаниях, все острее чувствовала, как уходят от нее и мать, и первая ее, безответная, до конца не осознанная любовь. Но где-то в самой глубине ее сознания жила эта маленькая, некрасивая девочка Зайка-очкарик с ее наивными мечтами о счастье. С трудом, постепенно научилась она смотреть на эту девочку со стороны; тогда ей становилось легче от неясного ощущения, будто вспоминает она не о своей, а о чьей-то чужой жизни. Это помогало ей тверже стоять на ногах.
Вот в такую трезвую, приземленную минуту и встретила она своего будущего мужа, веселого, ярко-рыжего, веснушчатого лейтенанта Сорокина. Он был исконным москвичом и пресловутое – «после войны» не мог и не желал представить себе без любимой улицы Горького, без тихих арбатских переулков, без Ленинградского проспекта, университета, который не успел окончить до войны.
И во время войны, и после ее окончания Зоя упорно разыскивала мать и Сергея, но ничего о них так и не узнала.
Перед самой демобилизацией она вышла замуж за Сорокина. Так и получилось, что больше она не вернулась в свой городок. Поступила снова на первый курс медицинского института, окончила его, стала врачом, родила Сорокину двоих таких же веселых, рыжих, веснушчатых мальчишек и почти всегда чувствовала себя вполне счастливой.
Целый день бегала по своему району, с лестницы на лестницу, из квартиры в квартиру, лечила, выписывала бюллетени, лекарства, уговаривала родственников больных не волноваться, а в конце дня, забежав в магазин, возвращалась к своему шумному семейству. И все-таки у нее хватало времени, особенно в погожий, летний денек, пройтись по улице Горького, поглазеть на оживленную толпу, постоять возле витрин, поболтать со встретившейся знакомой. Дойдя до Манежной площади, она поворачивала и уже медленно шла к проезду Художественного театра, где на углу стоял ее дом.
И почти каждый день возникало в ней неясное ощущение легкой досады, нежелание возвращаться домой. Она сама удивлялась, но ничего с этим поделать не могла. Что же такое с нею? Ведь дом – всегда дом, а ее дом – хороший, веселый. И лейтенанта своего она как будто любила, хоть и по сей день не называла по имени, а только «лейтенант», как в армии. Он хороший, убеждала она себя, он очень хороший, добрый, веселый, и мальчишки – прелесть.
Так почему же так часто ей хотелось оттянуть минуту возвращения? Она ругала, подгоняла себя, и все же шаги ее становились все медленнее, тяжелее. Ей казалось, что, войдя в дом, она потеряет какую-то неясную возможность отгородится от чего-то, что могло бы с нею произойти как раз в ту минуту, когда она закроет за собой дверь своей квартиры, погрузится в замкнутый, не сулящий ничего неожиданного, до последней детали знакомый мир.
Война, работа, замужество рассекли ее жизнь надвое. Та, первая, была будто бы уже не ее, а жизнь какого-то другого, чужого человека. Но в те минуты, когда ей надо было возвращаться домой, та, чья-то чужая жизнь, казалась ей растаявшим в тумане счастьем; может быть, поэтому так хотелось, чтобы произошло что-нибудь новое, а может, – и наоборот, то, что напомнило бы ей прошлое. Пристально рассматривала она прохожих, часто оборачивалась, чтобы посмотреть, как они разговаривают друг с другом или молча торопятся мимо. Кого она надеялась встретить? Что хотела прочесть в незнакомых лицах?
Там, дома, она ничего уже не ждала, ни о чем постороннем не думала, просто – жила, любила своего мужа, свой чистый, немного по-армейски аккуратный и пустоватый дом…
Этот ранний вечер был тих, безветрен. Томительно-сладко пахли липы. Даже бензинный перегар не мог заглушить их пронзительный запах. Она шла по улице Горького вниз, подошла к подземному переходу, чтобы тут же повернуть и возвратиться назад. И внезапно остановилась. В первое мгновение она даже не поняла, что пронзило ее, поразило как удар, как взрыв. Высокий мужчина обогнал ее и торопливо направился к лестнице. Он был сед и голову держал немного странно, чуть склонив ее к правому плечу.
Еще не осознав до конца, что она делает, зачем, она бросилась вперед и остановилась перед ним как раз в ту секунду, как он собирался ступить на лестницу.
Она поглядела на него так пристально и взволнованно, что он даже немного испугался.
– Что? – спросил он. – Что вы?
– Да, – сказала она и засмеялась. – Конечно. Это вы!
– Позвольте, – усмехнулся он, уже немного оправившись. – Безусловно, это я. Но что вам, собственно…
– Вы… вы Сергей… товарищ Сергей, да? Сережа?
– Когда-то меня действительно так называли. Но сейчас, простите, я Сергей Николаевич…
– Да, да, это вы!
– Извините, – начиная раздражаться, сказал мужчина. – Вы, вероятно, обознались…
– Нет! Ну как я могу вас не узнать!
– Еще раз простите, но я не припоминаю… я вас не знаю.
– Ну, конечно же, вы опять меня не узнали! – счастливо рассмеялась она.
«Что за дичь! – подумал он. – Радуется, что я ее не узнал! Так зачем же она меня остановила?»
Светлые глаза за толстыми стеклами очков вдруг наполнились слезами.
«Этого еще не хватало! Сумасшедшая какая-то!»
– Позвольте мне пройти, – сказал он довольно резко.
– Я – Зоя! – сказала она тихо. – Помните, в сорок первом вы работали инструктором райкома комсомола в нашем городке. Вы еще были на бюро, когда меня принимали. Помните?
Что-то смутно припоминалось ему – выпуклые очки? Прямые косички? Но неясный, совершенно несхожий с этой женщиной образ тотчас исчез, растаял.
– Работал. Но вас я не помню.
– Меня называли Зайка-очкарик. Не помните?
– Нет.
Маленький городок, все, что было с ним до тех дней и потом, в войну, все на мгновение ожило для него. Но ее, эту женщину, он не помнил.
– А я теперь здесь живу. Вон в том доме, за углом. У меня двое мальчишек, такие рыжие, чудесные ребята…
Она что-то еще собиралась сказать, но, глянув в его удивленные глаза, осеклась, замолчала.
– Я тоже уже лет двадцать живу на улице Горького.
– Странно, – тихо сказала она.
– Что?
– Двадцать лет. Здесь. Почти рядом. И я ни разу вас не видела.
– В Москве семь миллионов жителей… Извините, я тороплюсь…
– А вы… вы не помните, как вас, раненного, увез из леса старик? Привязал к лошади и увез…
– Нет. Не помню. Ни леса, ни старика. Ни лошади.
– Ни леса. Ни старика, – очень тихо сказала Зоя. – Что же, извините меня.
Она отступила, пропуская его к переходу, повернулась и быстро пошла по улице вверх.
И почему-то ей стало спокойно. Спокойно и легко. Две неравные части ее жизни, наконец, соединились. И та, прошлая, уже не казалась ей жизнью другого, а была ее собственной, прожитой ею самой.
Она глубоко, с наслаждением вздохнула – и вместе с терпким запахом улицы Горького словно вобрала в себя чувство освобождения.
Она зашагала быстрее.
Она торопилась домой.
ДВОЙКА ЗА СОЧИНЕНИЕ
На восьмой день пребывания в подмосковном доме отдыха Наталья Ивановна получила странное письмо. Оно начиналось так: «Дорогая Тата! Простите, что называю Вас так, но Вы для меня всегда были Татой. О первых двадцати годах Вашей жизни я знаю почти все, обо мне же Вы наверняка никогда ничего не слышали».
Неприятное ощущение, будто кто-то подглядывает за нею, заставило Наталью Ивановну невольно оглянуться.
«Первые двадцать лет? – подумала она. – Значит, уже девять лет за мною никто не следил… Кто же это? Мужчина? Женщина?»
Она решила не смотреть на подпись. Может быть, это просто розыгрыш, неумная шутка кого-нибудь из знакомых? Стала читать дальше. Но по мере чтения какая-то странная тревога начала овладевать ею. И чем дальше читала, тем становилось беспокойнее. Нет, это не анонимка, не розыгрыш – письмо было искренним, она это почувствовала. Человек был в горе. И ждал помощи именно от нее, Натальи Ивановны Смирновой.
«Вы, Тата, единственный человек, который может мне помочь. Если то, что я о Вас знаю, – правда, Вы бросите все и приедете. Торопитесь, умоляю!! Я живу не так уж далеко от Москвы – в Воронеже. Зовут меня Мария Казимировна Островец. Ведь я права? Вы и понятия не имели о моем существовании? Умоляю, приезжайте! Только скорее!»
Мария Казимировна Островец? Нет, она действительно никогда не слышала этого имени. Откуда же эта женщина знает о ней «почти все»? Может быть, это имеет отношение к ее бывшему мужу, с которым Наталья Ивановна давно уже развелась и с тех пор ничего о нем не слышала? Но тогда как же она может помочь незнакомой Марии Казимировне? Нет, тут что-то не то. К Владимиру Степановичу Короткову все это не имеет никакого отношения.
Встревоженная, она спустилась с террасы и медленно пошла по тропинке к лесу.
Было всего только пять часов дня, но в лесу уже начало темнеть. Сумерки медленно ползли вверх, постепенно заволакивая узкие просветы неба, высоко и безразлично расстилавшегося над деревьями.
Наталья Ивановна вышла на широкую просеку. Здесь было светлее и не так душно, пахло хвоей и подгнившей листвой. Она присела на ствол поваленной березы.
Вот уже много, много времени она не вспоминала ни о бывшем муже, ни о своем браке, длившемся всего лишь год.
А сейчас почему-то ей вспомнился не только муж, но и вся ее жизнь.
Отец ее был геологом и часто надолго уезжал в дальние экспедиции. До третьего класса она училась в Москве, в английской школе. В середине третьего года учебы отец увез ее с собой, и с той поры она вместе с ним объездила почти всю страну. Бывала она и на Севере, и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке. Куда бы он ни уезжал, он неизменно отдавал ее в школу-интернат, а приезжая, очень строго и придирчиво проверял, чему она научилась за время его отсутствия. Чтобы не забывала английского, занимался с нею сам, либо находил кого-нибудь из местных, знавших язык, и по приезде из экспедиции весьма строго экзаменовал и ученицу и учителя. Несмотря на то, что школы были самые разные – и те, в которых вместе, в одной комнате, сидели ученики первого и седьмого классов, как это было в Северной Якутии, и новые, светлые, как во Владивостоке, – она занималась усердно и школу окончила с хорошими отметками. А по-английски говорила свободно, много читала; может быть, потому, что считала себя некрасивой, мало интересовалась мальчишками и даже в десятом классе не мечтала о замужестве, как втайне мечтали ее одноклассницы.
О матери своей она вспоминала неохотно.
Ей было десять лет, когда мать исчезла из ее жизни. Больше года был тогда отец в экспедиции и за это время один лишь раз прилетал на несколько дней в Москву.
Она совершенно не помнит, как и почему, но она еще тогда почувствовала, что между отцом и матерью происходит что-то тяжелое, непонятное.
В отсутствие отца в доме часто появлялся какой-то высокий, сухой дядя, говоривший только по-английски. Когда Тата бывала в комнате, они переходили на какой-то другой, незнакомый ей язык, и оба настороженно поглядывали на нее. Она ничего не понимала, как мало еще тогда понимала и по-английски.
Мать преподавала историю английской литературы в институте иностранных языков; на Татину учебу она мало обращала внимания. Отец снова улетел в свою экспедицию, а мать, не предупредив Тату заранее, просто как-то утром запаковала ее вещички и отвела в интернат. Только из разговора матери с директором интерната Тата поняла, что мать уезжает в командировку за границу и пробудет там не менее года.
– Веди себя хорошо и как следует занимайся языком, – сказала мать, прощаясь. – Это тебе в жизни может еще здорово пригодиться. Отцу я обо всем написала. Ну, я пошла. Извини, тороплюсь.
Вот и все…
Три дня Тэта плакала, лежа на своей узкой постели, три дня не желала ничего есть и ходить в школу.
А на четвертый приехал отец, молча, ни с кем ничего не обсуждая, взял в одну руку ее чемоданчик, другою легонько погладил Тату по плечу и увел из интерната.
Так и остались они вдвоем – ездили, учились, болели, выздоравливали и крепко дружили. У них не было тайн друг от друга, даже самых маленьких, – они обо всем, решительно обо всем могли говорить откровенно. Только никогда не вспоминали о матери. Ни разу.
Тата не забыла мать. А главное, не забыла ее предательства. Она всегда считала предательством, а выросши, – прямой подлостью то, каким способом мать отделалась и от нее, Таты, и от отца. Уехала, не вернулась и ни разу не написала. Первые дни, чтобы успокоить Тату, отец говорил, что мать скоро вернется, но и он, и Тата прекрасно знали, что это не так. И однажды, поздней осенью, когда они возвращались из Средней Азии в Москву, домой, Тата сказала серьезно:
– Знаешь, папа, не говори мне больше о маме. Она нам уже не нужна. Оба мы ее больше не любим. Правда?
Отец промолчал, только посмотрел на нее внимательно и кивнул.
Так навсегда ушла мать из жизни Таты.
После окончания школы Тата поступила в тот же институт иностранных языков, где когда-то преподавала мать. Поступила на английское отделение.
Отец снова уехал в экспедицию, но уже один – Тата училась, и не было никакого смысла срывать ее с учебы.
Она прекрасно знала, что никакими особыми способностями не обладает. Разве что память у нее была великолепная. Ей не составляло никакого труда запомнить десятки, сотни иностранных слов. Английский она знала прекрасно, поэтому на первом же курсе принялась изучать еще два языка – французский и испанский. Студенческая жизнь ее была заполнена учебой, зубрежкой, как сама она ее называла, и ожиданием известий от отца. А, в общем-то, жила она скучно. К концу первого года она поняла, что больше так не выдержит и в один прекрасный день бросит институт, учебу, Москву и уедет к отцу в экспедицию. Вот тогда-то она и встретилась со своим будущим мужем. Это был старший брат одной из ее сокурсниц. Высокий, статный, красивый и очень моложавый подполковник больше всего в жизни боялся демобилизации. Он откровенно говорил Тате и вообще всем, кто хотел его слушать, что ничего в жизни не знает, кроме строевой службы, не имеет никакой гражданской специальности, потому что с семнадцати лет в армии, всю войну провел в пехоте, ни разу, кстати, не был ранен, а вот теперь вышел приказ, по которому годы, проведенные на фронте, считаются год – за два, и время его службы в армии подошло к концу. Что он будет делать? Куда пойдет работать? Кем? Это волновало его беспрестанно. Гораздо больше того, что жена его, на которой он фактически уже давным-давно не был женат, не дает ему развода, боясь потерять прекрасную квартиру из двух комнат в самом центре Москвы, которую придется разменивать. Почти все время он жил в десяти минутах езды от города, где была расположена его часть, в маленькой комнатке при казарме. Свободное время проводил то у сестры, то у одной женщины, то у другой, то у кого-нибудь из товарищей, не замечая, что мешает и сестре, и друзьям. В свою квартиру он вернуться не мог – там безраздельно правила жена, у которой давно уже был постоянный друг, спокойно поселившийся в бывшей его комнате.
Что привлекло Тату в этом человеке? Может быть, как раз его неустроенность, его страх перед будущим? А может быть, как раз его легкомысленная бездумность?
Кто знает, что может привлечь девушку, которой в данное время тоже кажется, что жизнь ее плохо, неинтересно устроена и не сулит ей впереди никаких особых неожиданных радостей?
Во всяком случае, после нескольких встреч у подруги Владимир Степанович Коротков перенес свой мундир и единственный штатский костюм в удобную, обжитую квартиру Смирновых.
Через месяц его действительно демобилизовали. Вернулся в Москву отец. Защитив докторскую диссертацию, он навсегда осел в Москве, стал работать в министерстве геологии.
Ему не понравился зять. Не понравился с первого взгляда. Не потому, что он все-таки немного ревновал Тату, даже не потому, что дочь ничего ему не написала о своем решении выйти замуж, а просто так, сам по себе. Не понравилось то, с какой фатоватой наглостью он обращался с дочерью, не понравилось, что Владимир Степанович по целым дням валялся на диване, оправдываясь тем, что еще не избрал себе поле будущей деятельности, не понравилось, как несерьезно, чуть снисходительно относился он к Татиной учебе, как отговаривал ее начать заниматься четвертым языком – итальянским, убеждая ее, что это ей ничего не даст, кроме знания еще нескольких сотен иностранных слов. И еще не нравилось отцу, что Владимир Степанович часто приходил домой выпивши, а иногда и не ночевал дома, отговариваясь тем, что надо ему хоть изредка ночевать в своей квартире, а то он потеряет прописку и право на площадь. Оба – и Тата и отец – знали, что это неправда, но никогда ничего не говорили Владимиру Степановичу.
А Тата становилась все грустнее и замкнутее, уже не ждала мужа по вечерам и чаще допоздна засиживалась в библиотеке.
Владимир Степанович все не находил себе применения «на гражданке», продолжал бездельничать и валяться на диване. Единственным его занятием было от корки до корки прочитывать «Огонек» и «Крокодил» и во время ужина рассказывать не очень остроумные анекдоты.
В конце концов, Смирнов не выдержал.
В этот вечер он чувствовал себя особенно усталым. Да еще начало сильно болеть сердце. Врачи давно говорили, что надо обратить внимание на здоровье, но, привыкнув всю жизнь не считаться со своим самочувствием, с условиями жизни, с погодой, он легкомысленно отмахивался от трезвых советов. Валидол уже не помогал; надо бы попросить у докторов более действенное средство – сердце ноет и после трех, четырех таблеток.
Но сегодня был торжественный день – Тата защитила диплом и уже договорилась о работе в Библиотеке иностранной литературы.
На столе стояли цветы, ужин был особенно пышный, и Смирнову не хотелось вспоминать о болевшем сердце.
Знаешь, папа, – весело сказала Тата, – я была сегодня в библиотеке и все узнала. Оказывается, там платят еще какие-то проценты за язык. Понимаешь? У меня – четыре. Значит, я буду просто Крезом!
Даже так? – удивился Владимир Степанович. – Здорово! Вот если бы мне тоже платили за язык, я мог бы и на гражданке немало заработать!
Тату покоробила эта немудреная острота. Но она, как обычно, промолчала.
Иван Константинович исподлобья посмотрел на зятя и сказал сухо, недоброжелательно:
– Не грех было бы, если бы вам платили хотя бы за руки. На голову я уже не надеюсь!
– Папа! – тихо сказала Тата.
– Ну что – папа?! Здоровый мужик, на нем пахать можно, а целыми днями только и делает, что читает «Крокодил»! Стыдно!
Владимир Степанович сердито покраснел:
– Я, кажется, отдаю почти всю свою пенсию! Неужели этого не хватает на мое содержание?
– Содержание! Именно! Мужчина в вашем возрасте не имеет права быть на содержании! Он должен работать. Понимаете? Работать!
– Папа, успокойся! – перебила его Тата.
– Какое там – успокойся! Мне просто… просто противно смотреть на него…
Он резко поднялся и вышел из комнаты.
Несколько дней после этого разговора Владимир Степанович не появлялся в доме Смирновых. Но однажды вечером, когда отец и дочь вернулись домой, они застали его все в той же позе, на том же диване, с неизменным «Огоньком» в руках. На этот раз он с мудрым видом решал очередной кроссворд.
Едва кивнув вошедшим, он деловито спросил:
– Иван Константинович, поделочный камень из шести букв?
– Гранит, мрамор, – механически ответил Смирнов и ушел к себе в комнату.
Последние дни он чувствовал себя совсем плохо – по утрам сердце колотилось и ныло, руки и ноги отекали до того, что он с трудом натягивал ботинки, а среди дня иногда на какую-то секунду то ли засыпал от усталости, то ли терял на мгновение сознание. Он понимал, что надо хоть несколько дней просто полежать дома, отдышаться, отдохнуть, но одна мысль, что придется целый день быть вместе с ничего не делающим зятем, приводила его в трепет – ему хотелось вообще как можно меньше времени проводить дома, а если было бы можно – уехать куда-нибудь далеко-далеко, на Север, на Юг – все равно, только бы подальше от этого человека, на свежий воздух, в тайгу, на простор. Но он понимал, что не выдержит далекой поездки, вообще – перемены. Так тянулось и тянулось, пока однажды ночью, во сне, он не почувствовал такую нестерпимую боль в сердце, что закричал громко, отчаянно. Все, что произошло дальше, он помнил очень смутно. Вбежала Тата, потом кто-то стоял над ним, потом его куда-то везли. Очнулся он много времени спустя в больничной палате. Ему не позволяли шевелиться, говорить. Но он и не хотел ничего. Только лежать неподвижно и прислушиваться, не заболело ли снова сердце…
Вечером следующего дня, когда Тата пришла домой, в передней ее встретил Владимир.
– Ну что? – спросил он.
– Инфаркт. Обширный. Положение тяжелое, – торопливо ответила Тата, ушла в комнату отца и плотно прикрыла за собой дверь.
Через несколько минут постучался Владимир Степанович.
– Таточка! Иди, я согрел тебе поесть. И кофе сварил. Надо же что-нибудь.
Она не стала есть, только маленькими глотками тянула обжигающе горячий кофе.
– Ну, не огорчайся так. Может, еще обойдется, – негромко сказал Владимир Степанович.
Она промолчала. Допила кофе, поднялась, собираясь снова вернуться в комнату отца.
– Погоди, – остановил ее Владимир. – Я вот что… Я хотел с тобой поговорить…
– А можно – завтра?
– Как бы ни было поздно, – ответил Владимир.
– Что – поздно? – испугалась Тата.
– Ну, сама говорила – положение тяжелое…
– Да.
– Так вот. Я хотел тебе сказать – я решил потребовать у жены развода. Срочно. Хватит тянуть бодягу. И тогда я тут же пропишусь здесь. Поняла? То есть – мы раньше распишемся…
– Лицо у Таты стянуло, будто обдал ее порыв морозного, колющего ветра.
– Нет. Не поняла.
– Ну, ты же сама говорила – обширный инфаркт.
– Так? И положение тяжелое. Так вот… если несчастье случится, тебе немедленно кого-нибудь подселят…
Тата молча долго смотрела в красивое, чуть смущенное лицо мужа.
– Так, – наконец, сказала она.
– Вот видишь, ты сама понимаешь. Лучше свой, чем…
– Кто это – свой? – тихо спросила она. Владимир Степанович растерянно уставился на нее.
– Нет, ты не поняла…
– Отчего же? Мне все совершенно ясно. И… пожалуйста, уходи. Сейчас же.
– Как это?
– А вот так. Сию минуту! И – навсегда. Я больше не хочу тебя видеть. Никогда!
Она говорила тихо, внешне абсолютно спокойно, и это больше всего напугало Короткова.
– Ты что, Тата?! Что ты такое говоришь?
– Уходи!
– Но мы же… мы любим друг друга…
– Нет. Не любим. Мне это только показалось. Прости меня – мне только показалось.
Медленно повернувшись, она вышла из комнаты. Села в отцовское широкое кресло и незаметно для себя уснула. Когда проснулась, за окном уже начинался рассвет. Она встала, вышла в столовую. Там, все на том же диване, укрывшись пледом, спал Владимир Степанович Коротков. Она с минуту смотрела на его красивую голову, на сильную руку, спокойно лежавшую на подушке, вышла. Сняла со шкафа чемодан, аккуратно уложила костюм, рубашки, галстуки, с трудом заперла и вынесла чемодан в переднюю. Потом вернулась в комнату, где спал Коротков.
– Вставай, – сказала она негромко, дотрагиваясь до его плеча. – Вещи я уложила. Побреешься где-нибудь в другом месте. И отдай, пожалуйста, ключи. Мне надо перед работой в больницу, я должна запереть квартиру.
– Ты это… ты серьезно?
– Совершенно серьезно. Поскорее, пожалуйста, я тороплюсь…
Больше она его никогда не видела и ничего о нем не слышала…
А через год, от второго инфаркта, умер отец. Умер в метро. Сразу. Незаметно. Когда поезд пришел на последнюю станцию, дежурный обнаружил, что человек, сидящий на скамейке в углу – мертв.
С тех пор ее больше никто не называл Татой.
И вот – это письмо.
Всю ночь она почти не спала. Она старалась убедить себя, что никуда ей ехать не надо, что это глупо – терять отпуск неизвестно из-за чего и из-за кого. Но, убеждая себя в собственной глупости, она уже твердо знала, что поедет в Воронеж.
Она уложила вещи, взяла в конторе паспорт и уехала.
В Воронеж приехала ранним утром. Город только-только просыпался и казался чистеньким, умытым, каким-то очень свежим и веселым.
Улицу она нашла быстро. Войдя с солнца в темноватый подъезд, она не сразу различила цифру «один», нарисованную серой краской прямо на двери. Позвонила. Довольно долго никто не откликался. Позвонила еще раз. И тотчас же в распахнутой двери увидела худенького мальчика в синих трусишках. Он смотрел на нее сонно и испуганно.
Мария Казимировна здесь живет? – спросила Наталья Ивановна. – Здравствуй, малыш.
Здесь, – не отвечая на приветствие, ответил мальчик сумрачно. – Идите, я покажу.
Длинный коридор показался Наталье Ивановне очень светлым и чистым, – вероятно, потому, что в противоположном его конце была широко распахнута дверь в залитый солнцем двор; там, в траве копошились куры, как тень пронесся, промелькнул черный кот.
– Сюда, – сказал мальчик, указав на последнюю по коридору дверь, и выбежал во двор.
Наталья Ивановна постучала. Очень слабый, как ей сперва показалось, старческий голос ответил:
– Входите. Открыто.
В небольшой комнате тоже было светло и чисто. В раскрытое окно заглядывал отяжеленный гроздьями невысокий куст сирени. Наталье Ивановне показалось, что комната пуста: слева у стены не застеленная детская раскладушка, справа – пузатый комод. Наталья Ивановна шагнула в глубь комнаты и вдруг заметила, что на кровати, которую прежде прикрывала дверь, кто-то лежит.
Простите, – растерялась Наталья Ивановна. – Мне сказали, что Мария Казимировна…
Это я, – донесся с постели тот же слабый голос. – Входите.
И тут Наталья Ивановна увидела лицо говорившей. Оно было так бледно, что почти не отделялось по цвету от подушки. Это было уже не лицо, это был почти череп – высокие, острые скулы натягивали кожу, рот с бледными, почти невидными губами запал, выпуклые веки прикрывали глаза. Лицо показалось Наталье Ивановне страшным.
И все-таки что-то подсказало ей: когда-то оно было прекрасным. Не красивым, а именно – прекрасным. Тонкий нос с нежно вырезанными ноздрями, высокий, крутой лоб, а над ним – масса разметанных по подушке светло-пепельных волос. Женщина с видимым трудом разомкнула рыжеватые ресницы, и на Наталью глянули продолговатые, ярко-голубые глаза.
«Боже, какая красавица! – восхищенно подумала Наталья Ивановна. – Я ничего подобного в жизни не видела!»
– Вы – Тата, – сказала женщина. – Спасибо, спасибо, что поторопились!
– Что с вами? – спросила Тата. – Вы больны?
– Умираю, – спокойно ответила женщина. – Потому и позвала вас…
– Я… я не понимаю…
– Садитесь. Поближе. Я не могу громко говорить. Да и нельзя – он услышит.
Мальчик, который открыл мне двери? Он убежал во двор.
– Я велела… Вы устали?
– Нет, что вы…
– Тогда – слушайте. Я, понимаете, очень тороплюсь… На днях операция. Но я знаю – это напрасно. Все равно – конец. Сами видите… Я держалась. До последнего. Ради него…
Она задохнулась, закашлялась, но вскоре затихла, устало прикрыв глаза.
– Вы отдохните, – сказала Тата. – Вам нельзя…
– Мне уже все можно… Слушайте. И не перебивайте. Мне трудно говорить. А надо сказать очень много. Очень много…
Она снова помолчала недолго.
– Этот мальчик – ваш брат, – сказала она неожиданно громко. – Брат. Это сын вашего отца… Дайте, дайте мне все сказать… Нет, он не знал… Он никогда ничего не знал… Он не знал, что мальчик родился… Он ни в чем перед ним не виноват… не был виноват… Это я… я сама не хотела, чтобы он знал…
Наталья Ивановна, словно защищаясь, откинулась па стуле, плотно прижалась к его прямой спинке.
«Брат? Как это?» – растерянно подумала она.
Больная с трудом, со всхлипом вздохнула и, будто угадав мысли гостьи, торопливо заговорила:
– Конечно, вы можете мне не поверить… Но я… клянусь… Слушайте же! Помните, вы поступили в институт, и отец впервые оставил вас одну в Москве? Десять лет назад. Помните?
– Конечно.
– Тогда его не было дома целый год. Верно? Так вот… Нет, я должна начать сначала. С самого начала…
– Я слушаю.
Это была не первая экспедиция, в которой мы с вашим отцом, с Иваном Константиновичем, работали вместе. Вы не знали этого, но и в Средней Азии, и на Дальнем были в одной с ним поисковой партии; я всегда старалась попасть в его партию… Я давно и безнадежно любила его. Еще с института, с первой практики… Он не знал. Он просто не обращал на меня внимания. Никогда. И я решила больше с ним не ездить… А тут, когда узнала, что вы остались учиться в Москве, – не выдержала… Ему было очень тоскливо, плохо без вас. Вот тогда он и заметил меня впервые. И все, все рассказал мне о своей жизни. И о вас. Я знала – он и тогда уже был болен. Сердцем. Но никому, ни одному человеку, никогда не жаловался…
– А я ничего не знала…
– Никто не знал, кроме меня. Хоть и мне он никогда ничего не говорил о болезни… Только один раз обмолвился, что это, наверное, последняя его экспедиция…
– Да, он больше не ездил…
– Не ездил… Тогда ему было особенно тоскливо, и мы сошлись. Он говорил, что я слишком красива, слишком молода, чтобы остаться с ним навсегда… Он ведь не знал… Он ничего не знал… Я не хотела, чтобы он знал, сколько лет он был для меня единственным… Я не хотела отягощать его еще и этим… Он решил, что это экспедиционная связь – ведь так бывает, если люди подолгу, годами живут и работают вместе, в поле, в тайге… Когда мы расставались, я уже знала, что у меня будет ребенок. Но я не хотела… я ничего ему не сказала…
– Но почему? Ведь он… ведь он был свободен, не женат…
– Ну как же вы не понимаете? Он ведь не любил меня. Не любил. Зачем же?
– Но он мог бы… полюбить ребенка…
– Нет. Для него единственным ребенком были вы.
– Больше, чем дочерью… Я не знаю, как это сказать. Но никого на свете он не мог бы уже полюбить…
– Вы не имели права решать все одна… решать за него! – возмущенно сказала Наталья Ивановна.
– Имела. Я это право выстрадала. Понимаете? Наталья Ивановна промолчала. Ей стало так грустно, словно отец второй раз умер сейчас, вот в эту минуту. Она отвернулась, чтобы Мария Казимировна не заметила ее слез, которые она не сумела удержать. Теперь она верила всему, что говорила больная, каждому ее слову. И внезапно почувствовала ее правоту – если со стороны отца это был только случайный порыв, – ребенок, мальчик, по праву принадлежал ей, ей одной, этой несчастливой женщине. А может быть, и ей, Тате, жилось бы лучше, если бы она родила ребенка? Нет, не то, ведь эта женщина любила…
И больше не стесняясь своих слез, она нагнулась почти к самому лицу Марии Казимировны.
– Вы правы, – сказала она тихо. – Да, правы… Больная улыбнулась, и Наталью Ивановну поразила ее улыбка. Словно бы и не было ничего страшного в этом изможденном лице – только радость, только сознание, что в жизни она сделала именно то, что должна была сделать…
– Вот видите! – неожиданно легко вздохнув, сказала больная.
– Как же вы жили? Потом? Когда он родился?
– Я приехала сюда, к матери. Она снова примолкла.
– Ну, – поторопила ее Наталья Ивановна. Ей захотелось как можно больше узнать об этой женщине, все, всю ее жизнь.
С обостренной интуицией умирающей та тотчас же ответила, словно Наталья Ивановна произнесла это вслух:
– Мой отец – внук сосланного на Дальний Восток польского офицера. Вы знаете, за восстание шестидесятых годов. Он родился уже на берегу Тихого океана. Вырос там. Их было немного, несколько польских семей. И все они женились обязательно на дочерях сосланных поляков. И не забывали ни языка, ни своих традиций. Отец стал охотоведом и некоторое время ходил по тайге с Арсеньевым, знаете? Со знаменитым Арсеньевым, «Дерсу Уза-ла». Знаете, конечно. Женился он тоже на польке, моей матери. Она была очень красива и образованна, но по-русски до конца жизни не научилась как следует говорить – только по-польски и по-французски. Вскоре после моего рождения отец заболел туберкулезом, и врачи посоветовали ему переменить климат. Вот так и попала моя семья сюда, в Воронеж, как бы на юг. Отец вскоре умер – климат ему не помог. А мать начала преподавать сперва в гимназии, потом и в советской школе французский. Во время войны были далеко, в Казахстане, потом вернулись сюда. Мать проработала здесь почти до самой смерти – она ушла на пенсию всего за несколько месяцев до конца. Простите, я устала. Немного отдохну…
Наталья Ивановна поднялась, налила воды из графина, стоявшего на комоде, подала больной. Но та не стала пить, отмахнулась, продолжала:
– Я кончила школу, уехала в Ленинград учиться, на геологический. Первой моей поездкой как раз и был Дальний Восток. Я прошла по маршрутам отца, вычерченным для меня матерью. Мне помог Иван Константинович. И с тех пор… с самого первого дня я уже не могла его забыть… Через много лет, я уже говорила вам, я вернулась сюда, к матери. И родила. До последнего дня мать ухаживала за мальчиком. И ни разу не призналась, что больна. Слегла только за пять дней до смерти. Тогда и выяснилось, что у нее… что она была больна тем же, чем сейчас больна я…
Наталья Ивановна молчала. Что она могла сказать этой чужой женщине, так неожиданно ставшей для нее чуть ли не единственным близким человеком? Ничего.
Она просто ждала, что будет дальше, что она скажет еще о себе и, может быть, об отце.
Мария Казимировна закрыла глаза и, казалось, уснула.
В комнате было тихо, солнечно: легкий ветер занес из палисадника приторный запах куриного помета, смешанный с влажным запахом сирени. Кто-то свистнул во дворе, и мальчишеский хрипловатый голос ответил сердито:
– Не пойду. Отстань!
Наверное, этот голос и разбудил Марию Казимировну.
– Простите. Уснула, кажется… А теперь – самое главное, зачем я просила вас приехать…
И снова надолго замолчала.
– Я слушаю…
– Да… Так вот… Я не могу примириться с мыслью, что мальчик останется один… Как же он будет жить? В детском доме?! Нет, нет! Ведь у него есть вы!
– Я?
Мария Казимировна не расслышала вопроса.
– Я ничего ему не говорила. Он не знает… он не знает, что у него… был отец… Он никогда ни о чем не спрашивал. Он вообще… редко спрашивает… Учится отлично, перешел в третий… очень способный… вам будет с ним легко… как говорится, он легкий ребенок – сам умеет себя занять, много читает… И главное, абсолютно правдив. Ни разу, никогда еще он не соврал ни мне, ни учителю, ни товарищам… Вот он такой…
– Я не совсем вас понимаю, – растерянно сказала Наталья Ивановна.
– Сейчас. Сейчас я все скажу… Я знаю, – передохнув, продолжала она, – только мы двое по-настоящему любили Ивана… Ивана Константиновича… А теперь… теперь мне не к кому больше обратиться… Вы одна можете помочь в том горе, которое на меня, на нас свалилось… Я сказала ему, что вы за ним приедете и, пока я лежу в больнице, он будет жить у вас, в Москве… Только это… Больше я ему ничего не говорила… Но, я думаю, он понимает, что я… что вряд ли я выйду из больницы… он умный… и чуткий… он понимает…
– Но как же я… я совсем не умею… и я живу одна. Как же он будет…
Мария Казимировна с трудом оторвала голову от подушки, пытаясь приподняться. Секунду она очень пристально смотрела в лицо Натальи Ивановны, словно стараясь что-то прочесть в нем или запомнить его навсегда.
– Вы верите, что это ваш брат? – спросила она сурово.
– Верю, конечно, верю…
Мария Казимировна обессиленно опустилась снова на подушку, сказала уверенно, твердо:
– А я, Тата, знаю вас очень хорошо. И верю, что вы никогда его не бросите. И никому не отдадите. Я знаю…
– Да, – выдохнула Наталья Ивановна.
– И если свершится чудо и я из этой больницы выйду – я приеду и заберу его у вас. Заберу… Но этого не будет… Не надейтесь… И не ждите меня… И сделайте все, чтобы хоть как-то заменить ему меня… Дайте мне слово… Больше ничего не надо – только дайте слово… Я тогда… я буду спокойна…
– Честное слово…
– Позовите его. Вам надо спешить. У меня уже все собрано. Есть дневной поезд…
– Я бы хотела остаться… подождать, как пройдет операция… я не могу вот так бросить вас…
– Нет, – твердо, почти резко сказала больная. – Он не должен… ждать… Он должен сегодня же уехать… Я уже решила. Давно. Перерешать не буду… Позовите… Можно через окно.
Наталья Ивановна перегнулась через подоконник, оглядела двор, но никого не увидела.
– Малыш, иди! – крикнула она. – Зайди в дом. – Никто не отозвался. – Как его зовут? – спросила она.
– Андрик.
– Андрюша! – снова крикнула Тата.
Молчание. По двору снова промчался худой черный кот.
– Андрик! – поправила больная.
– Андрик, иди, мама зовет!
Сипловатый голос откликнулся неожиданно близко:
– Иду.
Мальчик вошел, сумрачно глянул на Наталью Ивановну, обернулся к матери.
– Что?
– Поздоровайся, Андрик, – тихо сказала больная. – Что же ты?
– Здравствуйте, – неприветливо кивнул мальчик.
– Вот, Андрик, с этой… тетей ты сегодня поедешь в Москву.
– Я знаю.
– Да.
– Билеты я купил. Вот. Один взрослый, один детский. Поезд – в тринадцать сорок. Вагон четыре. Места…
– Хорошо, – перебила Мария Казимировна. – Отдай… тете Тате. И вот – деньги, документы, – она вынула из-под подушки плотную пачку, передала мальчику, тот протянул Наталье Ивановне.
– Зачем? – смутилась та. – Не надо. У меня достаточно.
– Нет. Берите, – устало сказала Мария Казимировна. – Мало ли что?
– А у вас…
– Мне не надо. То есть – все, что понадобится – приготовлено. Идите. Чемодан понесет Андрик – он не тяжелый. Не забудь ранец с книгами. Все. Идите же скорее. Опоздаете.
– Еще много времени…
– Нет. Идите сейчас же. Андрик вам покажет город. Хорошо, сынок?
Мальчик кивнул. Взял со стола приготовленный ранец, вытянул из-под кровати небольшой чемодан, глянул на мать.
– Барсика тоже, – сказал он упрямо.
– Можно? – умоляюще посмотрела на Наталью Ивановну больная.
– Кота? Бери. Конечно, бери.
– Я его в сумку. Он послушный, не замяукает. Никто не заметит, – обрадовался мальчик.
– Да, да. Конечно, никто не заметит. Мальчик стремительно выбежал из комнаты.
Обе женщины молчали. Во дворе мальчик звал кота:
– Барсик, Барсик, иди скорее, мы сейчас уезжаем. С тобой вместе. Иди же!
– Скорее, скорее уходите! – вдруг быстро зашептала Мария Казимировна. – Умоляю вас, скорее! Я больше не выдержу…
Наталья Ивановна шагнула к кровати, наклонилась, хотела поцеловать бледную, худую щеку больной, но в последнюю секунду почему-то передумала, взяла ее сухую руку, поднесла к губам и крепко, нежно поцеловала тонкие пальцы.
– Прощайте, – прошептала Мария Казимировна. – Берегите его. Я вам верю.
Когда мальчик вбежал в комнату с котом в руках, Наталья Ивановна торопливо вышла.
– Я подожду тебя на улице, – на ходу сказала она, плотно прикрывая за собою двери…
– Дай-ка, я понесу кота, – сказала Наталья Ивановна, отбирая у мальчика сумку.
– Мне не тяжело, – чуть слышно ответил мальчик.
– Тогда – чемодан.
– Нет. Мама велела, чтобы я.
Наталья Ивановна силой отобрала сумку с котом, неожиданно оказавшуюся довольно тяжелой.
– Что ты туда насовал?
– Там еще мой конструктор. И подводная лодка. И еще – космический корабль.
– Вот как? А коту не будет тесно?
– Нет. Барсик терпеливый. Ничего…
– Надо купить еды на дорогу. Покажешь, где?
– Покажу… А вы любите ливерную колбасу?
– Люблю.
Если не будет очереди – успеем. Возьмем целое кило, ладно?
– Ладно, – с трудом улыбнулась Наталья Ивановна, не понимая, как мог он думать о ливерной колбасе, когда минуту назад расстался с матерью, может быть, навсегда. Что это – выдержка или… или равнодушие? Но глянув сверху на мальчика, она вдруг увидела, как по лицу его, по загорелым щекам быстро, будто струйка из не завернутого крана, бегут светлые слезы.
Мальчик молча шел рядом, стараясь попасть с ней в ногу.
– Мы будем с тобой жить дружно, правда?
– Не знаю.
– И никогда не называй меня «тетя Тата». Хорошо? Просто – Тата.
– Хорошо… А почему? Разве вы мне не тетя?
– Нет. Не тетя. Просто – Тата.
Ну как объяснить этому маленькому человеку все, что свалилось на нее, да и на него в это странное и страшное утро? Потом когда-нибудь, решила она…
Поезд шел враскачку, ходить по вагону было трудно. У Натальи Ивановны сильно разболелась голова. Она была рада, что им с мальчиком повезло – в купе, кроме них, никого не было. И еще она была рада, что мальчик, казалось, всецело был занят тем, как поудобнее устроить Барсика, как покормить его, чтобы никто не обратил на него внимания…
В Москву они приехали поздним вечером, долго ждали такси на сумрачной вокзальной площади и, когда наконец вошли в дом, Андрик почти спал. Ей пришлось помочь ему раздеться, уложить, как маленького. Есть и мыться он был уже не в силах.
На рассвете она проснулась с неожиданно радостным ощущением. Что же такое случилось хорошее в ее жизни? И почему у нее нет того чувства пустоты, тишины, которое появлялось у нее каждый раз при пробуждении? Ах да, Андрик!
Она вскочила, набросила халат и тихонько приоткрыла двери в столовую, где вечером на диване уложила сонного мальчишку.
Он лежал раскинувшись, одеяло сползло на пол, и грязные пятки смешно торчали над зеленым валиком. В комнате было сумрачно и прохладно. Она испугалась – простудится! На цыпочках подошла, подняла одеяло, укрыла мальчика и долго стояла так, глядя в его загорелое, совершенно спокойное сейчас, круглое лицо.
«На кого он похож? – подумала она. – Да ни на кого. На самого себя!»
И тихонько засмеялась.
Мальчик пошевелился, повернулся на бок и смешно вытянул губы, словно собираясь засвистеть.
– Рано. Пусть поспит, – сказала Наталья Ивановна тихо.
Но ей очень захотелось разбудить его, помыть, покормить и тут же отправиться с ним куда-нибудь гулять, показать Москву, а может быть, съездить в новый зоопарк, где сама она еще не была. Она вышла в кухню, чтобы приготовить завтрак, и с огорчением увидела, что холодильник пуст и выключен – ведь она не была дома уже почти десять дней! Она торопливо оделась, крупными буквами написала записку: «Пошла за покупками. Скоро вернусь. Обязательно помой ноги!» Когда через час она, нагруженная, вернулась с рынка, мальчик все еще спал, даже не переменив позы.
Тихонько выбралась на кухню. Когда завтрак был готов, она, уже не боясь разбудить мальчика, вернулась в столовую, стала накрывать на стол, нарочно громко стуча тарелками, передвигая стулья, открывая и закрывая ящики буфета. Но мальчонка все спал и спал.
Тогда она не выдержала.
– А ну-ка, соня, вставай! – крикнула она.
Мальчик тотчас вскочил, ошарашенно огляделся, удивленно уставился на Наталью Ивановну, кашлянул, спросил:
– А мама… – И осекся. – Сейчас. Покажите, пожалуйста, где у вас все…
Ноги, ноги как следует помой! – крикнула Наталья Ивановна ему вслед.
– Вкусно? – спросила она, когда мальчик, наконец, наелся и вскочил.
– Спасибо… Можно было встать из-за стола?
– Так ты уже встал, – засмеялась Наталья Ивановна. – А теперь – живо одевайся, я выгладила белую рубашку и джинсы. Поедем с тобой в новый зоопарк.
– Куда?
– В новый зоопарк. Я там сама еще не была.
– А вы разве не работаете?
– Работаю, конечно. Но у меня еще почти три недели отпуска. Вот уж погуляем с тобой! Я тебе все-все покажу. И по окрестностям поездим. В театр сходим. Хотя сейчас, летом, они, кажется, не работают. Ну, ничего, в кино пойдем. В планетарий…
– Ой! – крикнул Андрик. – В планетарий! Обязательно! Можно – сейчас?
– Почему такая спешка? Можно и завтра.
– Ну, пожалуйста, пожалуйста, сегодня!
– А разве звери, самые разные, из разных стран, тебя не интересуют?
– Интересуют, конечно. Но я же хочу стать конструктором межпланетных кораблей! Как вы не понимаете, что без астрономии, без изучения всей галактики я не смогу конструировать корабли!
– По-моему, без арифметики тоже! – засмеялась Наталья Ивановна.
– Какой арифметики? У нас – математика!
– Ну, без математики.
– Так я знаю! Но я ведь звездное небо только на карте видел, а тут… Мне бабушка рассказывала все про планетарий. Я помню…
– Ну и ладно, – легко согласилась Наталья Ивановна. – Пойдем в планетарий, а оттуда – в старый зоопарк. Там еще очень много всяких зверей живет. Это совсем рядом. Ну, одевайся, пошли…
Эти дни до окончания отпуска Наталья Ивановна вспоминала потом чуть ли не как самые счастливые за последние десять лет. Где они только не были с Андриком! Она старалась до отказа заполнить его день, ни на минуту не оставлять его одного, не давала ему задумываться, тосковать по дому, матери. Они объездили все парки Москвы и Подмосковья, чуть ли не каждый день бывали в кино, в музеях; несколько раз, хотя она изрядно скучала при этом, побывали на лекциях в планетарии. Словом, целый день они бывали так заняты, что вечером сваливались в постель и засыпали оба тотчас же.
Но часто среди ночи Наталья Ивановна просыпалась и с тревогой думала о том, жива ли Мария Казимировна и почему до сих пор нет еще из Воронежа никаких вестей? Ведь если бы она умерла, вероятно, нашелся бы хоть один человек, который ответил бы на письма и телеграммы, которые она посылала почти ежедневно. Но к кому обращаться, она понятия не имела, просто писала по старому Андрейкиному адресу. А с мальчиком обо всем этом говорить не хотела, попросту – не могла, щадила его.
За день до окончания отпуска она сходила в школу, расположенную в двух кварталах от ее дома, отдала его переходное свидетельство, и, так как там были одни пятерки, его приняли без всяких задержек. Когда она уже уходила из кабинета завуча, та спохватилась, спросила:
– Да, чуть не забыла, а сведения о его семье? Уже от двери Наталья Ивановна продиктовала:
– Мать – Мария Казимировна Островец. И замолчала.
– Отец?.
Помявшись, Наталья Ивановна ответила:
– Иван Константинович Смирнов.
– Вы – мать мальчика?
– Нет.
– А кто же? Тетя?
– Нет.
– Позвольте, так почему же мать сама не пришла? Или отец?
– Ни матери, ни отца здесь нет. Мальчик живет со мной.
– Опекунша? Приемная?
– Нет. Это неважно. Он живет со мной. Мое имя – Наталья Ивановна Смирнова. Адрес есть в заявлении.
Она сказала все это так сухо, что завуч не решилась больше приставать с расспросами.
– Благодарю вас, – сказала она. – Я записала. До свидания.
А назавтра Андрик незаметно и естественно влился в армию «ключников» – тех мальчиков и девочек, которые целый день носили на шее ключи от квартир, умели сами открывать двери, сами согревать себе пищу, сами занимать себя до прихода родных, чтобы вечером рассказать им обо всех горестных или радостных событиях, которые пережили за день, носясь по двору огромного, многокорпусного дома.
Пятый день пребывания отличника Андрика в новой школе принес неожиданное огорчение – он получил двойку за сочинение. Кроме того, учительница прислала с ним записку Наталье Ивановне с просьбой обязательно прийти вместе с Аидриком в школу сегодня, в семь часов вечера, для беседы.
Учительница была лет на пять моложе Натальи Ивановны. И по молодости своей чрезвычайно сурова и официальна.
– Прошу садиться, – сказала она сухо. – А ты, Островец, постой. Послушай, о чем мы будем говорить.
– Может быть, мы поговорим пока без него? – робко сказала Наталья Ивановна.
– Нет. Он должен слушать. И сделать выводы.
– Хорошо. Так в чем же дело? В чем он провинился?
Учительница, не глядя на Наталью Ивановну, сказала:
– Он дерзок. Даже груб. И не пожелал ничего писать. И поджала губы.
– Как – не пожелал писать? Не понимаю.
– Вот так. Не пожелал. Тема сочинения – мой отец. А он написал: «Не буду писать сочинение». И все. Точка. Ни слова больше.
Она с торжеством посмотрела на Наталью Ивановну.
– Понимаете? Ни слова. На мой вопрос – почему, он сказал, что не желает, и все. Я отправила его подумать в коридор. Он думал до звонка. Пришел после перемены и спокойно уселся на место. Я написала вам записку и отправила его домой.
– Андрик? – тихо сказала Наталья Ивановна.
– Да. Так и было. Я не хочу писать такое сочинение.
– Почему, ну почему? – чуть ли не со слезами, беспомощно произнесла учительница. – Ведь это у нас по плану…
Наталье Ивановне на секунду стало жалко эту беспомощную, неумную девчонку. Но она молчала. Только смотрела на Андрика.
Тот, словно бы отвечая на ее взгляд, негромко произнес:
– А потому, что у меня никогда не было отца.
– Так не бывает! – почти выкрикнула учительница. – У всех бывают или были отцы!
– Нет. У меня не было! И, пожалуйста, не приставайте!
– Вот видите, видите, как он со мной разговаривает!
– Он действительно не знает… – попыталась что-то сказать Наталья Ивановна.
– Ну, предположим. Но он мог бы хотя бы выдумать, придумать, каким бы хотел, чтобы был его отец. Ну, скажем, летчиком, космонавтом или сталеваром!
– А выдумывать нехорошо! – спокойно сказал Андрик. – Мама мне никогда не позволяла врать…
– Да кто же тебя просит врать! – крикнула учительница, снова будто собираясь заплакать. – Каким бы ты хотел его видеть!
– Никаким. У меня его никогда не было, зачем же я себе его буду выдумывать? И, пожалуйста, не кричите, – прибавил он тихо. – Я очень не люблю, когда кричат…
– Нет, я отказываюсь! Пусть переходит в другой класс, пусть идет в «Б». Я не могу с ним…
Наталья Ивановна поднялась.
– Успокойтесь, – сказала она резко. – Вы – учитель. И вам не пристало… Он будет учиться именно в этом классе! Пойдем, Андрик!
У самой двери она обернулась, легонько вытолкнула мальчика в коридор и негромко, но очень сухо произнесла:
– Не грех бы вам запомнить на будущее, моя дорогая, что кроме планов существуют еще живые мальчики и девочки. Если вы, конечно, хотите стать настоящим учителем… Вот так!
Придя домой и, накормив Андрика ужином, Наталья Ивановна ушла в комнату отца, куда последние два месяца почти не заходила. И просидела там долго одна. Потом позвала мальчика, усадила его напротив себя, сказала:
– Андрик, милый, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Ты умеешь говорить серьезно? Как взрослый?
– Наверное, умею. Попробую.
– Так вот. Слушай. Ты, Андрик, – мой брат. Понимаешь?
– Брат? – удивился мальчик. – Как же так? Значит, моя мама – и ваша?
– Нет. Я – дочь первой жены твоего отца. Ты – сын второй его жены.
– Вы ошибаетесь, мама никогда не была жената…
– Была. То есть – была замужем. Давно. Она просто тебе об этом не говорила, не хотела тебя огорчать, потому что наш отец умер вскоре после твоего рождения. Понял?
– Странно…
– Нет, ничего нет странного.
– Значит, ваша мама… твоя мама, – поправился мальчик, тоже умерла?
– Нет… Да… Впрочем, не знаю. Должно быть, умерла…
– Как же ты не знаешь? Про отца можно не знать, но про мать…
– Вырастешь, я все тебе объясню… А теперь я хочу рассказать про нашего с тобой отца… Он был замечательным человеком…
– Он кто был? Летчик? Он погиб в войну?
– Нет. Он просто умер от инфаркта… от болезни сердца… Он был геологом…
– Как мама?… – обрадовался мальчик.
– Да. Как мама. Они вместе ездили в экспедиции, ватте работали…
– А ты его хорошо помнишь?
– Конечно. Я ведь тоже с ним часто ездила. Мы с ним почти не расставались… Мы крепко дружили… А теперь, теперь мы будем так же дружить с тобой. Верно? Ведь у нас с тобой никого родных больше нет. Понимаешь? Мы с тобой вдвоем… будем всегда вдвоем…
– А он, отец, он тебя очень любил, да?
– Любил, конечно. И я его крепко-крепко любила…
– А… а мою маму он тоже любил? – тихо спросил мальчик.
– Да, дружок. Иначе тебя бы не было на свете…
– А меня?
– Тебя он любил больше всех… больше всех… даже больше, чем меня…
ПЕТЬКА
Лицо матери Петька видел очень редко. Дома она ходила в сером платке, повязанном так низко что он закрывал даже брови, а в поле прикрывала белым платком нос и рот, так что видны были одни глаза, маленькие, синие, почти всегда сердитые и озабоченные.
Отца Петька не знал. Когда однажды он спросил: «А где мой папка?» – мать промолчала, только сердито глянула из-под платка да больнее, чем всегда, шлёпнула, укладывая его спать. Больше Петька никогда не спрашивал об отце. Он привык к тому, что живут они с матерью вдвоём в маленьком, запушенном саманном домике, состоящем из кухни и горницы, в которой никто не спал, хотя там стояла большая кровать, застеленная серым одеялом.
Летом мать почти всё время проводила в поле, так и жила в передвижном вагончике, а за Петькой ухаживала соседка – равнодушная Терентьиха, которой многие молодые матери оставляли на день своих ребят. Все они сбегались к ней, когда бывали голодны, ели то, что сами находили в печке или на столе, и убегали, не заботясь о том, чтобы старуха знала, куда именно. А вечером, наигравшись, разбредались по своим хатам, чтобы наутро снова начать свои увлекательные походы на Плевку, где ловились головли, которых ребята называли шаранчиками, или в падину, далеко от посёлка МТС, где по рассказам Терентьихи, жила заячья семья – зайчиха и сто зайчат, которых никому ни разу не удалось увидеть.
Петьке было шесть лет, но он не отставал от старших ребят и также храбро нырял в Плевке, так е, как они, часами просиживал с самодельной удочкой в ожидании, когда клюнет капризный шаранчик. Правда, ему ни разу не удалось поймать даже самой маленькой рыбешки, но что значит неудача для истинного рыболова!
Словом Петьке жилось неплох, И если правду говорить, куда более сносно летом, когда матери подолгу не бывало, чем зимой, когда надо было по целым дням сидеть дома и слушать её воркотню, переносить шлепки и тычки, на которые она никогда не скупилась. И совсем уж неприятно было, что мать не звала его Петькой, а только «горе моё». Так и говорила «Иди, горе моё» снедать» или «Ложись, горе моё, спать».
И даже в те редкие минуты, когда мать не сердилась, а ласково ворошила его спутанные волосёнки, она говорила всё те же, казавшиеся Петьке обидные слова: «Эх, горе моё!» Это было, пожалуй, ещё неприятнее, чем когда мать говорила эти слова сердясь. Обидно было и т, что он не мог, как другие ребята, похвастаться, что вот, мол, к ним приехал инженер из Москвы и поселился «на вовсе» как у Сереги Самохина.
Но всё же Петьке жилось на свете довольно хорошо. Только одно тревожило его ребячью душу и омрачала его беспокойную ребячью жизнь и омрачало беспокойную интересную жизнь: очень страшно было засыпать одному в пустом доме. Особенно страшно было в те ночи, когда луна заглядывала в низенькое окошко. Хотелось тогда выскочить из хаты, бежать, спрятаться от этой страшной рожи; но на улице было еще страшнее одному. И, прижавшись щекой к подушке, Петька горестно всхлипывал и шептал так же, как мать: «Горе моё». Он тоскливо мечтал: пусть ему присниться что-нибудь интересное7 И наконец, засыпал, чтобы наутро начисто забыть обо всех своих страхах и горестях.
Лето только началось, когда однажды вечером мать приехала с поля не одна, а с каким-то высоким человеком, которого Петька до сих пор не видел ни в станице, ни в усадьбе МТС. Незнакомый человек первый шагнул через порог, пригнулся, чтобы не ушибиться о притолоку, прищуренным глазами оглядел комнату, поджал губы под седеющими усами, но увидел Петьку и широко улыбнулся.
Мать была такая же хмурая и озабоченная, как всегда. Не глядя на Петьку, она прошла прямо в горницу, поправила солдатское одеяло на кровати, зачем-то переложила подушку и сказала сухо:
– Ну вот, это будет ваше помещение. Только я вам говорила, ухаживать за вами будет некому. Я по неделям в поле, прицепщицей работаю.
Пока она говорила, Петька успел рассмотреть не только незнакомца, которого мать с того времени стала называть не по имени, а просто «жилец», но и его чемодан и мешок. Петька нашел, что жилец довольно покладистый малый, потому что не закричал и не заругался, когда Петька попытался открыть чемодан.
– Э, брат, – засмеялся он, – да ты, видно, хват! Тебя как зовут?
– Петька.
– Вот как? Тезка значит. Меня тоже Петром кличут. Давай знакомиться!
Петька засмеялся, положил свою грязную ладошку в его руку и сказал весело:
– Давай!
Ему очень хотелось спросить, что же это такое – знакомиться, но мать сердито крикнула:
– Поди умойся, горе моё! Неделю ручищи не мыл!
И Петка покорно побрёл в сени.
– Погоди, мне надо с дороги умыться. Покажи-ка, где у вас рукомойник, – сказал ему в вдогонку жилец и вышел за ним.
Он поглядел, как неумело и неохотно Петька плещется под тоненькой струйкой рукомойника.
– Дай-ка лапы, тёзка!
Жилец тщательно вымыл душистым мылом Петькины руки и лицо, и Петька, не понимая почему, даже не пикнул во время этой неприятной возни. А когда жилец умылся сам, Петька спросил:
– Дядь, а дядь, а когда же мы будем знакомится?
Жилец рассмеялся, подхватил Петьку на руки и вошёл в хату.
Мать недовольно глянула на них, но ничего не сказала и отвернулась к печке, около которой устанавливала небольшой, очень тёмный, погнутый самовар.
– Правильно, хозяюшка, – сказал жилец. – Чайку попить в самый раз. У меня и угощение есть – печенье московское «петифур». Едал ты их, Петька, когда-нибудь, а? – говорил он распаковывая мешок и вытаскивая оттуда всякую снедь. – Вот, – подал он Петьке нарядную коробку, – и матери предложи.
Петька протянул было руку за коробкой, но мать сказала резко:
– Не привык он к петифурам.
И снова отвернулась к печке.
Жилец секунду поглядел на ее сутулую спину, обтянутую голубой полотняной кофтой, и поставил коробку на стол.
– Ничего, – сказал он спокойно, – один раз можно.
После чая мать сухо сказала Петьке, что приедет только в субботу, и кивнув, на прощанье жильцу, торопливо вышла из хаты.
Жилец посидел некоторое время за столом, потом перетащил вещи в горницу и тоже ушёл.
Петька ждал его долго. Уже сало совсем темно, снова нахально заглядывала в окошко луна, и Петька, повздыхав, улёгся в постель, с головой укрылся душно пахнувшим овчинным полушубком матери и внезапно горько заплакал.
Он сам не мог понять, почему плачет. Ему показалось, что дядя Петя не вернётся, не захочет жить в из пыльной запущенной хате.
Он плакал долго т не заметил, как вошёл жилец.
А тот постоял над Петькиной постелью, прислушался к жалобным всхлипываниям, пригляделся в темноте к тому, как мелко дрожала старая овчина, прикрывавшая Петьку, и вдруг услышал, как, прерывисто вздохнув, Петька произнёс тихо и жалобно.
– Ох, горе моё!
Жилец присел на край твердой постели. Петька дрогнул, откинул полушубок, скорее угадал, чем увидел, склоненную над собой высокую фигуру и без всякого перехода радостно засмеялся.
– Ты? – спросил он, обеими руками захватив руку жильца. – Ты пришёл?
Так началась их дружба. Наутро Петька проснулся от того, что в горнице кто-то шумел и шаркал. Вначале Петька немного испугался, так как привык, что, кроме него, в доме никого не бывает. Он присел на постели, прислушался. Вместе с шумом и шарканьем из соседней комнаты раздавалось тихое пение, похожее на низкое гудение трубы:
Каховка, каховка, Родная винтовка…Петька соскочил с постели и, не надевая штанов, пришлёпал в горницу. Открыл дверь и остановился на пороге. Окно было распахнуто настежь, посреди комнаты стояла бадья с белым раствором, пол весь забрызган.
– Ой, – сказал Петька, осматриваясь, мамка заругается! Ты что наделал?
Жилец, стоя на табурете, макал кист в раствор и мазал потолок.
Весь он, также как и пол в комнате, был заляпан белым, и даже на носу у него красовалась красивая белая нашлёпка.
– Ничего, – прогудел он, продолжая работать, Уж очень вы неуютно живёте.
Горячая пуля лети…снова запел он.
Петька засмеялся.
– Ты так гудишь. Будто жук в кулаке.
– Сам ты жук! – сердито откликнулся дядя Петя. – Я хорошую песню пою, а ты ругаешься… жук!
Но Петька не испугался. Он еще веселее рассмеялся и запрыгал на одной ноге.
– Дай, дай, я помажу! – кричал он, прыгая по комнате. – Я тоже умею!
– Вот я тебя в бадье искупаю! – свирепо заорал на него дядя Петя. – Иди, лучше штаны надень, голодранец!
– Но сейчас Петька нисколько не испугался. Одевшись, он снова появился в горнице и сказал деловито:
– Я тебе помогать буду.
– Вот молодец! Тащи з сеней тряпку, я видел, синяя там такая, лежит за дверью.
Через час, усталые и голодные, они плескались у колодца, отмывая с себя глину. Петька стоял на солнышке совершенно голый, ежился под струйками ледяной воды, хохотал и визжал и не пытался бежать, как всегда, когда его мыла мать.
Потом они позавтракали, и Петька съел почти всё печенье, что оставалось еще в коробке.
– Ну, брат, теперь айда на работу! – сказал дядя Петя, надевая чистый синий комбинезон и серую кепку. – Со мной пойдёшь или в падину зайчихе сторожить?
– А что ее сторожить? – отозвался Петька. _ Её там квартира, она оттуда и завтра не уйдёт.
– Когда они пришли в контору МТС, было еще очень рано. Их встретила только уборщица, тётя Нюша.
– С добрым утречком, товарищ главный механик! – сказала она приветливо. – Ну как устроились? Это вы у них стоите? – кивнула она на Петьку и сокрушенно вздохнула. – Ай уж не могли вам получше квартиру предоставить?!
– Ничего, – ответил дядя Петя, – я хорошо устроился. И хозяйка ничего. А главное – хозяин уж больно хорош! – хитро подмигнул он Петьке…
Никогда еще Петька не ждал мать с таким нетерпением, как в эту субботу.
Задолго до того, как она должна была приехать, они с дядей Петей накрыли к чаю маленький круглый столик, который соорудили во дворе под шелковицей. Петька всё время поглядывал на улицу, прислушивался, не стукнет ли калитка, но так и пропустил минуту, когда пришла мать. О ее приходе он только догадался по лицу дяди Пети, который стоя у стола, заглядывал в комнату и улыбался. Петька хотел было крикнуть, но дядя Петя мигнул ему, и оба они, не слышно ступая, подобрались к окошку и заглянули в кухню. Мать стояла на пороге и недоверчиво оглядывала свою хату.
А хата, чисто выбеленная, стала как будто шире и выше. Не валялся по углам мусор, окна были растворены, и затейливо вырезанные из бумаги занавески тихо шелестели на сквознячке. Исчез с кровати старый полушубок; вместо него постель была застелена выстиранным одеялом. Над столом. Где раньше висела засиженная мухами тусклая лампочка, красовался склеенный из бумаги и ярко разрисованный неумелой Петькиной рукой абажур.
Петька смотрел на растерянное лицо матери и едва сдерживался, чтобы не рассмеяться.
Жилец подсадил его на подоконник и отошел под шелковицу к накрытому столу.
– Анна Николаевна! – сказал он оттуда. – Мойтесь да идите сюда, чаю попьем. Мы под шелковицей с Петькой накрыли.
Мать вздрогнула, глянула в окно, не обратила внимания на сидевшего на подоконник Петьку и суетливо стала топтаться по комнате, будто потеряла что-то и никак не могла найти. Потом остановилась, взялась обеими руками за щёки, постояла с минуту, резко тряхнула головой и вышла из хаты, сильно хлопнув дверью.
В сад под шелковицу она всё-таки пришла. Но как Петька ни ждал, что она похвалит его и жильца, хоть улыбнется им, она была угрюмо-озабоченна, разговаривала мало и рано погнала Петьку спать.
Весь воскресный день мать ходила хмурая и молчаливая, несколько раз куда-то исчезала среди дня, а вечером всё также неласково распрощалась с Петькой и жильцом. И уже в постели Петька вспомнил, что она сегодня ни разу его не шлёпнула.
Неделя прошла еще интересней, чем прошлая. Большую часть времени Петька проводил в МТС, два раза ездил с дядей Петей в поле. Иногда дядя Петя уезжал без него, но это тоже было не так уж плохо, потому что интересно было хвастаться перед ребятами тем, какие книжки читает ему дядя Петя, какие у него замечательные штуки есть в чемодане. Интересно было бегать на Плевку, пробовать ногою воду, стремглав лететь обратно в контору и сообщать дяде Пете, что вода еще снеговая и купаться нельзя, но завтра уже обязательно-обязательно можно будет! Интересно было каждый день ходить с дядей Петей в столовую, съедать сперва большую-пребольшую тарелку щей, потов второе, потом еще сладкий чай или взвар, который дядя Петя называл компотом.
Но самое интересное было вечером. Лёжа в постели, Петька слушал рассказы о том, какие на свете есть замечательные города, какие в них люди живут, какие строят на Волке платины и электростанции. От дяди Пети он узнал и про то, что мать стала учиться управлять трактором и скоро сможет и его, Петьку, научить водить эту машину, Всё, всё на свете было и интересно и хорошо!
И вот пришла суббота, и мать снова приехала домой.
С особым, новым для него чувством уважения и заинтересованности посмотрел на неё Петька. Вот она какая, сама умеет трактор водить!
Шел дождь, и они не могли накрыть стол под шелковицей, как в ту субботу. Петьку это огорчило. Он уныло приплелся в комнату жильца, присел к нему на кровать.
Несколько раз Петька заглядывал в кухню к матери, но она не обращала на него внимания, не отвечала на его вопросы.
Мать зачем-то открыла давно не открывавшийся сундук и, наклонившись, рылась в нём., вытаскивая и рассматривая какие-то лоскутки и тряпки. Петька совсем загрустил и вернулся в комнату жильца. Тот дремал, и Петька боясь разбудить его присел на табуретку у окна, уныло наблюдая, как жирные капли прыгают по луже, образуя скучные пузыри. Так просидел он долго, слушая как на кухне мать плескалась водой, подтирала пол расставляла посуду.
Потом он услышал, как из соседней комнаты голос матери:
– Я ужин собрала. Пожалуйте.
Дядя Петя поднялся, будто вовсе не спал, и прошел на кухню. За ним побежал Петька и, пораженный, остановился на пороге. Мать сидела за столом в чистой белой кофточке, без своего неизменного серого платка на голове. И Петьке показалось, что никогда он не видел ее такой нарядной. Он увидел всё её лицо и голову, золотистые, как у Петьки, мягкие волосы, ее высокий, совсем не загорелый и по сравнению со щеками казавшийся таким белым лоб, ее маленькие уши. И на лице этом, новом и милом, было совсем не такое угрюмо-озабоченное выражение, а какое-то смущенное, доброе и немного детское.
Секунду Петька стоял пораженный новым видом матери, потом непонятно почему ему захотелось расплакаться, но он не заплакал, а, наоборот, засмеялся, бросился бегом через комнату и с разбегу уткнулся головой к ней в колени и зарылся лицом в юбку.
Потом Петька всё-таки заплакал. Мать нагнулась к нему, ласково провела рукой по его вздрагивавшей спине и сказала, с запинкой и с трудом произнося его имя:
– Ну, что ты, Петенька?…
Она глянула а жильца, и в синих глазах мелькнула на мгновение необычная для неё влажная теплота…
Петька уснул задолго до того, как мать и дядя Петя поднялись из-за стола. Он не слышал, как мать разделась, тихонько прилегла рядом и притянула к себе его тяжелую сонную голову. Он спал, и снился ему огромный шаранчик, пойманный им наконец в затоне.
СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Ни света, ни теней. Все было зыбким, нереальным.
Белая ночь пролетала над заливом, стирая границы между небом водой и землей. Ни света, ни теней. Всё было зыбким, нереальным. Кривая сосна росла на пригорке у верхней кромки песка. Ольга прижималась к ней спиной, стараясь впитать дневное тепло, отдаваемое деревом.
Неслышный ветер покачивал крону, и где-то в глубине ствола возникал легкий вздох, вызывая холодок одиночества, ощущение затерянности в этом струящемся.
Стало прохладно. Ольга опустилась на игливо, натянула куртку на колени, но теплее не стало. Идти ей было некуда – до последнего автобуса, который должен был везти ее в город, оставался еще час, а возвращаться в тот дом, к тому человеку, ради которого она сегодня утром приехала из далекого сибирского городка, она не хотела. Почему? Что случилось? Нет, лично ее он ничем не обидел. Наоборот, был с нею изысканно, даже как-то подчеркнуто вежлив. Может быть, по его письмам она представляла его себе другим? Возможно. Но нет, не потому…
Глядя на блеклое море, что плоско лежало у ее ног, Ольга со смутным чувством вспоминала подробности заочного знакомства со старым ученым, их переписку.
Отдельные фразы из его добрых писем, постоянные приглашения приехать провести отпуск «в моем огромном, пустом доме» – как все это не походило на то, что она увидела сегодня, услышала в его сердитом, неприятном голосе! А ей так хотелось думать только о том хорошем, что внес он в ее жизнь…
Десять лет назад Ольга разошлась с мужем. Расстались они мирно, не ссорясь; просто оба поняли, что если они когда-то и любили друг друга, то сейчас отношения уже выветрились и дальнейшая совместная жизнь обоим будет в тягость.
Несколько лет они вместе проработали в школе, преподавали литературу, но после развода Ольге не захотелось там оставаться; не захотелось ежедневно встречаться с мужем, с друзьями-педагогами, не одобрявшими их развод. Уйдя из школы, она устроилась старшим библиотекарем в городскую библиотеку.
Она не торопилась заводить новых друзей и постепенно привыкла к одиночеству, поначалу не очень ее тяготившему. Чтобы помочь читателям в выборе книг, да заодно и заполнить внутреннюю пустоту, вернее, огромное пространство духовно свободного времени, Ольга стала много читать. Все подряд, без разбора – прозу, поэзию, книги по теории литературы. Как-то попался ей объемистый том об Александре Блоке. Она была искренне удивлена, что так много можно написать об одном поэте. Еще больше ее поразило, как тонко и умно исследователь доказывает, сколько мудрых мыслей может вместить одно поэтическое слово!
Раздобыла другие книги этого автора и прочла их все. И вдруг поняла – этот незнакомый человек, старый, мудрый писатель, научил ее тому, чего она попросту никогда не умела – он научил ее думать!
Это открытие настолько растревожило ее, что как-то вечером, сидя в своей одинокой комнате, она написала ему длинное, откровенное письмо. Обо всем – и о поэзии, о его книгах, о своем одиночестве и даже о том, что разошлась с мужем.
Ответа она не ждала.
Но он пришел.
И очень скоро.
Мелким, чуть кокетливым – буковка к буковке – почерком, он писал:
«Рад, рад Вашему письму, уважаемая Ольга Николаевна! Вот беда – к старости мы все становимся сентиментальными. Признаться, прочел Ваше милое послание и пустил слезу! А сегодня у меня особенно грустный день. Была у меня маленькая книжечка с телефонами и адресами друзей, я всегда носил ее с собой. А вот сегодня понял – она мне уже не нужна: ни писать, ни звонить больше некому. Буду теперь писать Вам. Да и Вы меня не забывайте. Право, я искренне обрадовался новому корреспонденту!»
И подписался тоже чуть кокетливо: «Ваш благодарный Старик» (с большой буквы).
С той поры она обращалась к нему только так: «Старик».
Писали они друг другу часто, не дожидаясь ответа на свои письма, тогда, когда возникала потребность поделиться мыслями, мнением о прочитанной книге, рассказом о незначительных событиях (Старик называл их «обыкновенные необыкновенности»); словом, это была настоящая дружеская переписка. Но в последний год его письма стали приходить реже. И более настойчиво он приглашал ее приехать, провести у него хотя бы несколько дней. В одном из писем Ольгу особенно огорчила фраза:
«Приезжайте, приезжайте поскорее, будет поздно…»
Потом пришло совсем грустное письмо:
«Мне восемьдесят шесть. Вы еще не можете понять, как это много. Не помню – сам я это сказал или прочел где-то (последнее время я часто путаю свои и чужие мысли): пока человек жив – он жив, а потом его просто нет, – значит, и смерти нет, она существует только для тех, кто остается. Хорошая мысль, верно? Утешительная. Не думайте, я вовсе не хочу Вас разжалобить, просто надо же с кем-то поделиться великим открытием… Кстати, не сохранились ли у Вас мои письма? Я начал систематизировать свой литературный и личный архив. Пора, пора. К тому же – я вообще люблю аккуратность. Ну, привет Вам, моя хорошая.
Ваш Старик.
Может, все-таки соберетесь приехать? Буду рад. С.»
После этого письма он молчал несколько месяцев. Она забеспокоилась – не болен ли? Но нет, узнала – здоров, работает. И вот на днях пришло, наконец, письмо. Короткое. Почти официальное. И подписано не как обычно «Старик», а полным именем, отчеством и фамилией. Собственно, это письмо и заставило ее поторопиться оформить отпуск и приехать.
«Уважаемая Ольга Николаевна!
Не дождавшись Вашего приезда, обращаюсь к Вам с просьбой: не откажите в любезности выслать мне мои письма! Как я Вам уже писал, все свои рукописи и прочие бумаги я в ближайшее время предполагаю сдать в Центральный государственный архив литературы и искусств.
Надеюсь, моя просьба Вас не очень затруднит».
Этот тон вначале озадачил, даже задел Ольгу. Но тут же она подумала:
«Может, он просто обиделся, что я не приезжаю?»
…Поезд пришел рано утром. Хорошо зная распорядок его дня, зная, что сможет увидеться с ним не раньше семи-восьми вечера, Ольга оставила чемодан в камере хранения и пустилась в долгое, увлекательное путешествие по Ленинграду. Часам к восьми она, наконец, добралась до его дачи в далеком приморском поселке. Дома у нее в это время уже светились окна, на улицах зажигали фонари, а здесь все было почти таким же, как утром, только неуловимо изменились цвета вокруг; деревья, небо, шоссе, дома словно покрылись легким серебристо-желтым туманом.
Дверь на пустую террасу была открыта.
– Можно?
Никто Ольге не ответил. Налево она увидела темную прихожую, шагнула туда. Здесь было тоже пустынно, сумеречно, пахло сухим деревом; круто поднималась узкая лестница, будто вела на старую церковную колокольню. Сверху доносился гул многих голосов, смех, веселые выкрики. Ольга поднялась на площадку, постучала, но ее, видно, не услышали. Тогда она открыла дверь и смущенно остановилась на пороге: комната была полна людей. Разговаривали стоя, смеялись. Только один сидел на широком подоконнике. Он смотрел в сад, и солнце, проглядывая сквозь деревья, окрашивало его лоб, щеку, золотило густую бороду. Мельком, бессознательно Ольга отметила, что в этой комнате он был как бы отделен от всех, не слышал ни чужих голосов, ни смеха.
Среди стоящих Ольга тотчас узнала хозяина, хотя прежде никогда его не видела. Он был широкоплеч, приземист, и небольшая голова с прямыми седыми волосами была словно прочно вставлена в его массивное туловище. Он громко, театрально смеялся, однако короткие усики над губой топорщились, как у ощерившегося терьера. Он смеялся и выкрикивал высоким голосом:
– Ну, господа, это же совсем не я! Честное слово – совершенно, совершенно не похоже!
И тотчас полный, краснолицый гость повторил его слова, в точности копируя голос и интонацию. Все вокруг засмеялись.
И тут хозяин заметил Ольгу.
Мгновенно перестал смеяться, сухо бросил:
– Вы ко мне? У вас что – проза? Стихи? Видно, стихи, больно поклажа мала… Простите, сейчас никак не ногу.
Ольга растерянно молчала.
Так же быстро, как только что сменил веселость на сухой, деловой тон, хозяин подчеркнуто любезно извинился:
– Простите великодушно, но… Впрочем, погодите. Вот провожу эту банду, поговорю с ним, – кивнул он на бородача, – и тогда я к вашим услугам. Но прошу учесть – могу уделить вам не более двадцати минут – ровно в девять я ужинаю, в половине десятого выхожу на прогулку, в десять – сплю. Режим, знаете ли, режим… Можете подождать внизу…
В прихожей стояла широкая деревянная скамья. Ольга устало присела, закрыла глаза. Резкий свет заставил ее выпрямиться: напротив открылась дверь, и в светлом проеме появилась высокая, худая девочка с длинным, острым носом, прямыми неприбранными волосами, в огромных выпуклых очках. Она разительно походила на хозяина дома. Но тот отличался какой-то своеобразной, старомодной элегантностью, девочка же была так некрасива, что Ольга невольно пожалела ее. Молча, упрямо она смотрела на Ольгу.
– Можно я здесь немного посижу? Очень, устала… Девочка равнодушно пожала плечами:
– Сидите. Мне что? – и, помолчав, неожиданно добавила: – Ненавижу химию!
– Что?
– Ничего…
– Я первый раз в Ленинграде, – словно оправдываясь в чем-то, сказала Ольга. – Сегодня только приехала и целый день бегала по городу. Да что можно осмотреть за один день?
– А я тоже Ленинграда почти не вижу, – буркнула девочка. – Утром в школу, из школы – прямо сюда. Дед заставляет. Я ему и не нужна вовсе, а все равно требует, чтоб была. Просто так – чтоб была, и все!
– Он старый…
– Неправда! – резко перебила девчонка. – Никакой он не старый, он моложе вас, моложе всех!
И скрылась за дверью, прихлопнув ее за собой.
«Банда» с шумом и смехом спустилась с лестницы, прошла мимо, не заметив Ольги. Хлопнула калитка в саду. И снова стало тихо.
Ольга откинулась к стене и, верно, ненадолго задремала. Разбудил ее резкий раздраженный голос Старика. Сверху, с площадки, доносились короткие, хлесткие фразы; в конце каждой голос поднимался почти до визга:
– Молчите! Я сказал – это плохо, это удручающе плохо!
Собеседник что-то тихо ответил, но Ольга не разобрала слов. Старик и не дал ему договорить.
– Подумаешь – печатают! Мало ли какую муру печатают!
Олга догадалась – бородач попытался что-то еще сказать, но Старик опять перебил:
– Раз навсегда запомните – полуудача в тысячу раз опаснее полного провала! Да! Опаснее! Особенно для вас! Почему? Да потому, что вы вообще плохо пишете!
В визгливом голосе, в словах Старика было что-то такое неприятное, злое, что Ольга вся напряглась и опять не разобрала ответа бородача. Но видно, он привел старика уже в полную ярость.
– Молчать! – закричал он, почему-то переходя на басовые ноты. – Ни черта вы в жизни не видели и ничего в ней не понимаете! Идите! Вы мне надоели с вашими разговорами о жизни! Все! Прощайте!
Скрипнули ступеньки. Бородач медленно начал спускаться.
Но старик еще не до конца выплеснул свое раздражение.
– Эй, слышите? – крикнул он. – Желаю вам горя! Настоящего горя! Может быть, тогда вы хоть что-нибудь решите!
А невысокий, плотный человек медленно, с трудом шел по лестнице вниз, и шаги его были странно неритмичными – один тупой, громкий, другой легкий, скользящий.
И Ольга увидела – у бородача вместо ноги был тяжелый, неудобный протез. В падавшем откуда-то блеклом луче мелькнуло его лицо: оно было сдержанно-спокойным и грустным, словно он жалел разбушевавшегося старика.
Ольга вскочила, бросилась к выходу – нельзя, нельзя, чтобы бородач увидел ее и понял, что она все слышала! Ей стало почему-то нестерпимо стыдно, будто она только что присутствовала при чем-то нехорошем, о чем никто посторонний не должен знать.
Она почти бежала вниз по опустевшей дачной улочке, перебежала шоссе и остановилась только тогда, когда увидела тусклую плоскость моря и слабо желтеющий песок неширокого пляжа. Она прижалась к придорожной сосне, потом опустилась на мягкие, теплые иглы… Было тихо, тихо. Даже волны, едва набегая на берег, казалось, сознательно сдерживали свой однообразный шелест.
И вдруг эту тишину разорвал многоголосый собачий лай… Старик медленно спустился с крыльца. На нем было длиннополое черное пальто.
Палку, как всегда, он держал обеими руками сзади, концом вверх. Как только вышел за калитку, поселковые собаки тотчас встретили его яростным лаем.
«Опять, черт их подери!.. Говорят, собаки чуют недобрых людей. А я какой? Злой? Да нет, пожалуй…»
Дачи по обе стороны улицы казались пустыми – свет еще не зажигали, а рычание и лай заглушали голоса.
«Как будто одни собаки живут в этом поселке! – досадливо думал Старик. – Сколько лет хожу здесь – и всегда под этот отвратительный аккомпанемент! Что я им такое сделал?»
Всякий раз ему хотелось броситься бежать и как можно скорее оказаться по ту сторону шоссе, у моря. Но сдерживая себя, он нарочно шел медленно, размеренно, постукивая палкой по прямым плечам.
«А куда подевалась эта дамочка со стихами? Неудобно получилось… Впрочем, шут с ней! Мало ли таскается ко мне графоманов, мнящих себя Пушкиными или, по крайней мере, Есениными!..»
А собаки все лаяли, рычали, остервенело кидались на заборы. Их необъяснимое неистовство раздражало его, даже пугало.
«Может, и правда, я вовсе не так уж хорош, как себе кажусь?»
Конечно, думал он, каждый человек совершает стыдные поступки, которые мучают его потом всю жизнь. Сколько лет прошло, а он всякий раз испытывает почти физическую тошноту при воспоминании о том, как вместе с какими-то неизвестными деятелями подписал статью, поносившую великолепного поэта.
«И где? В какой-то вонюченькой курортной газетке! В редакции почему-то отвратительно пахло полынью. Ни лица редактора, ни тех людей я не запомнил. А вот же до сих пор помню запах полыни… И еще…»
И еще – разрыв со старым, умным другом в момент, когда тот впал в немилость. Потом, когда все схлынуло, – друг не захотел с ним видеться. А на похоронах его Старик рассказывал об их старой дружбе, об уважении к покойному, говорил о том, что все, кто любит литературу, долгие годы будут изучать его замечательные книги…
Когда Старик ступил на шоссе, собаки, наконец, перестали бесноваться.
Он облегченно вздохнул, но тотчас же зябко поежился: возвращаться-то придется опять через собачий строй…
Он перешел шоссе, начал спускаться к морю.
Ольга услышала, как скрипнул песок у него под ногами, и испуганно вскочила.
Но он ее не заметил. Сошел к самой воде и зашагал твердым, размеренным шагом опытного ходока.
Ольга хотела было окликнуть его, но что-то ее удержало. Она смотрела на его упрямую спину, на сцепленные сзади руки с торчащей вверх палкой и досадовала на себя:
«Напрасно я приехала! Лучше было бы, как он просил, переслать все почтой…»
А он шел, не глядя под ноги, чуть закинув голову, и думал печально и немного отрешенно о том, будут ли помнить его книги?
«Не написал я такой книги, чтобы сама вошла в сердце. Не смог… И теперь уже не успею… А этот бородач? Он… он-то, пожалуй, еще успеет!.. Ну, хватит! Пора домой. Завтра вставать чуть свет – придет курьер за версткой, а у меня не готово… Засну ли? Черт бы побрал эту проклятую белую ночь!»
Ольга все смотрела ему вслед, не решаясь ни уйти, ни окликнуть. Внезапно ей стало неловко, словно она подглядывала за ним из-за угла. Отвернулась. Далеко слева, на вытянутой в море косе, маячило какое-то здание. Ольге показалось, что оно вот-вот сдвинется и поплывет к ней по светлой воде.
Когда она снова поглядела в ту сторону, куда ушел Старик, на берегу уже никого не было. Только темные, ровные следы на влажном песке. Но и их вскоре смыли неслышные волны…
Ночь она провела в зале ожидания, сидя на жесткой скамье. Иногда она задремывала, но быстро просыпалась, томясь от запаха пыли, мокрых пеленок, сонного дыхания людей.
Дождалась открытия кассы. Билет достался ей легко – мало кто в это весеннее время торопился попасть обратно в зиму. Вышла на вокзальную площадь. До отхода поезда оставался свободный, длинный день. Она многое успеет посмотреть, может быть, даже удастся попасть в Эрмитаж или Русский музей…
Под вечер она забрела в маленькое, полупустое кафе и долго сидела над стаканом жидкого чая. Ее слегка мутило от усталости и запаха булькающих в котле сосисок.
«Пора на вокзал, – убеждала она себя, – скоро поезд». Но все сидела и сидела, бездумно глядя в окошко. Наконец, заставила себя выйти.
Тихий трамвай, легко покачиваясь, вез ее по длинному проспекту. Может быть, она дремала? Но нет, она видела все – и дома, и буйную сирень скверов, и гранит набережных, и тусклый блеск реки, но ни на чем уже не могла задержать внимания. Ей казалось, что с той минуты, как вчера утром она сошла с поезда, время сделалось неподвижным, слилось в монолитный брусок; это она скользила мимо него…
Трамвай повернул и стал мягко подниматься на мост. И вдруг на противоположном берегу она увидела одинокую стройную колоколенку, зажатую между квадратными громадами домов какого-то нового района. Колоколенка жила своей отдельной, самостоятельной жизнью; она была так стройна и легка, что даже скучные коробки из бетона и стекла не смогли ее изуродовать. Она мелькнула и исчезла за изгибом набережной, но этот короткий миг, когда в последний раз мелькнул ее купол, был для Ольги мигом открытия. Чего? Она сама еще не знала. Но время снова стало временем подвижным, даже стремительным, и горькое разочарование от поездки куда-то отступило. Еще бился в памяти визгливый крик: «Я желаю вам горя, настоящего горя!», но впечатления дня уже заглушали его, и медленно проступало радостное ощущение, что этот город, его дворцы, памятники, темная Нева, торжественно-строгие площади и белая ночь над заливом останутся с нею навсегда…
Вечером в поезде, уже собираясь лечь, Ольга услышала по радио, что прошедшей ночью он умер во сне…
Она долго стояла одна в тамбуре, прижимаясь плечом к железной стене.
Было холодно, тоскливо, и хотелось плакать от сознания, что она чем-то обидела Старика, и теперь уже ничего нельзя сделать…
А там, за стеклом, в ускользающем мире все еще было почти светло. Медленно вращались серые поля под тусклым небом, кружась, уплывали туманные силуэты деревьев, взбирались на столбы и снова опадали к земле провода, и Ольге казалось, что этот длинный, длинный день так никогда и не кончится…
Я ВЛЮБИЛСЯ
На пенсию Наталья Ивановна ушла ровно в пятьдесят пять. Не потому, что с нетерпением ждала, когда настанет день «заслуженного отдыха». Нет, она не чувствовала себя усталой и работу свою любила. После окончания техникума пришла на завод; сперва была счетоводом, затем стала бухгалтером и вот уже более двадцати лет сидела все в том же маленьком кабинете подле кассы. Дружила она и со своими сослуживцами. Уйти на пенсию ее попросту заставили.
С мужем она разошлась лет тридцать тому назад, жила вдвоем с сыном Алексеем в большой светлой комнате коммунальной квартиры. Соседи менялись часто, но и с теми, кто вселялся позже, у Натальи Ивановны сохранялись ровные, добрые отношения.
Сын поступил на экономический уже по возвращении из армии – после десятилетки дважды не набирал нужного количества очков. По окончании был направлен в Центральное статистическое управление, с той поры там и работал, хотя работа ему не нравилась, он скучал, томился – попросту отбывал службу. Однако привык и другого места не искал.
Женился он поздно, тридцати двух лет на двадцатитрехлетней, окончившей факультет журналистики; как-то сразу и полностью он подпал под ее влияние; Наталье Ивановне казалось, что сын даже побаивается своей энергичной жены.
Ни словом не обмолвившись заранее, он как-то вечером привел ее в дом, зачем-то поставил у ног Натальи Ивановны небольшой чемодан и сказал:
– Познакомься, мама, это моя жена Лидия.
Несмотря на растерянность от ошеломившего ее сообщения, в первую минуту молодая женщина показалась Наталье Ивановне хорошенькой: стройная, тоненькая, чуть выше Алексея, с маленькой головой, совершенную округлость которой подчеркивала очень короткая стрижка «под мальчика»; лицо свежее, не накрашенное. Но что-то все же насторожило Наталью Ивановну. Может быть, то, как скромно сидя на краешке дивана и не поднимая глаз, Лидия необыкновенно длинными пальцами узкой ладони все время ощипывала с юбки невидимые соринки. «Что это она все время обирается?» – недовольно подумала Наталья Ивановна.
Оторвав взгляд от этих неприятно притягивающих движений, она впервые внимательно посмотрела в лицо своей невестки и поразилась: на этом хорошеньком личике почти не было губ, только узкая розовая щель.
Вот Лидия улыбнулась какой-то Алексеевой шутке и, смывая скромность, на лице ее появилось хищное и одновременно лицемерное выражение.
«Господи! – ужаснулась Наталья Ивановна. – Да она похожа на щуку!»
В эту секунду взгляды двух женщин встретились; и с той быстротой, с которой только женщины могут приходить к окончательным выводам, обе почувствовали свою острую взаимонесовместимость.
А молодая, заметив испуг в глазах старшей, тот час уверилась, что с матерью она справится так же легко, как справилась с сыном…
Вскоре Лидия получила направление в многотиражную газету большого московского завода. По-журналистски хваткая на сплетню, она обо всем и обо всех говорила резко, категорично, легко высказывала безапелляционные суждения о книге, которой не читала, или фильме, которого не видела.
– «Подранки»? И смотреть не буду. Я слишком хорошо знаю, как этот Губенко шагал по трупам, чтобы дорваться до постановки!
Или:
– Новый роман Соловьева? Наверняка – ерунда! Дал взятку пожирнее, вот и напечатали.
С той же категоричностью она утверждала, что попала в эту дурацкую многотиражку только потому, что не догадалась во время сунуть кому надо и что с ее талантом она, конечно, не станет задерживаться там до окончания положенного срока, а «выйдет в центральную прессу».
Муж тоже свято верил в ее литературную одаренность; Наталья Ивановна, однако, считала, что единственный талант невестки – в умении все подгребать под себя и устраиваться в жизни так, чтобы ей, Лидии, было удобно и приятно.
Наталья Ивановна сразу же заметила, что сына ее, Алексея, она совершенно не любит и относится к нему терпимо только потому, что замужество помогло ей после окончания учебы остаться в Москве. Алексей пока ни о чем не догадывался и был, по-видимому, вполне счастлив.
Ради него Наталья Ивановна согласилась на реконструкцию комнаты. Само собой так получилось, что отгороженный ей угол оказался самым темным и неуютным; дневной свет попадал в него только из узкой щели под потолком – шкафы и книжные полки, оклеенные ярчайшими обоями, имитировали стены ее нового обиталища.
Очень скоро выяснилось, что Лида беременна. Это на время как-то примирило с нею свекровь.
«Может быть, это ее смягчит», – подумала Наталья Ивановна.
Но вот родился ребенок, декретный отпуск кончился, и однажды вечером они вместе с Алексеем, не постучав, явились в закуток к Наталье Ивановне и, не присаживаясь, невестка со свойственной ей категоричностью заявила:
– Вот что. Мы с Алексеем решили, что пора вам переходить на пенсию. Месяц назад вам минуло пятьдесят пять и тянуть больше нечего. Домработницу достать в Москве практически невозможно, да и вашей зарплаты едва хватило бы на оплату ее труда. А я не собираюсь посвящать свою жизнь стирке пеленок и варке манной каши! Самое время выходить в центральную прессу…
Наталья Ивановна посмотрела на сына; ей стало его мучительно жалко – лицо у него было растерянное, смущенное; он отворачивался, стараясь не встретиться с матерью взглядом.
А невестка сдержаннее продолжала:
– Пенсия у вас, конечно, мизерная, всего восемьдесят пять, но в общем котле сойдет…
Наталья Ивановна молчала.
«Все уже разузнала, – с горечью подумала она. – И все решила!»
– На оформление уйдет не больше недели, я знаю, у нас с этим просто!
Наталья Ивановна понимала, что если она хочет отвоевать себе более или менее спокойную жизнь, надо соглашаться.
– Хорошо, – сказала она, как можно спокойнее, не желая показывать, как это все для нее непросто.
Лидия ласково улыбнулась, попыталась даже приобнять Наталью Ивановну за плечи, но та, не сдержавшись, резко отстранилась…
Так началось ее «бабкование».
Павлик рос трудно, часто болел ангинами; она иногда целыми ночами просиживала над ним, боясь, что он задохнется из-за налетов; под утро она еле добиралась до своей кровати, чтобы поспать хотя бы пару часов, потом поспеть приготовить завтрак сыну и невестке и еще до ухода их на работу сбегать в молочную кухню за детским питанием.
И все-таки Наталья Ивановна пыталась как-то оправдать Лидию.
«Просто она очень деловая. Я, к сожалению, никогда такой не была. Ну, и что в этом хорошего? Чего я в жизни добилась? Семидесятипятирублевой пенсии? А она – добьется! Обязательно. Наверное, все современные молодые женщины иными и быть не могут. А как я, – ничего от жизни не получать, кроме труда, забот и в старости… понукания. Я не умела жить иначе, чем жила. Так это моя беда, а не ее вина…»
Но как она ни старалась, не могла заставить себя относиться к Лидии лучше. И все больше замыкалась, внутренне ограждая себя от делового напора невестки.
Теперь она целыми днями разговаривала только с Павликом. Может быть, поэтому он рано начал говорить. Первыми его сознательно произнесенными словами были не «мама» и «папа», а «баба’На» – полностью ее имя было для него еще слишком труднопроизносимым. Очень скоро он соединил два слова воедино, переставил ударение и изобрел одно новое «баба’На». Так стали называть Наталью Ивановну все в доме и во дворе. Все, кроме Лидии. Невестка продолжала обращаться к свекрови по имени-отчеству. Причем чаще всего это само по себе уже звучало как выражение откровенного недовольства.
– Наталья Ивановна! Вы опять не погладили белье. Сколько раз надо говорить?!
Или:
– Уважаемая Наталья Ивановна, почему это вы сегодня сократили прогулку с ребенком? Вы прекрасно знаете, что он должен быть на воздухе не менее пяти часов!
Позже появилась новая тема для недовольства:
– Наталья Ивановна! Я убеждена, вы портите ребенка своим баловством!
По правде сказать, Павлик действительно был избалован. Как все дети, он быстро и точно разобрался во всех тонкостях семейных взаимоотношений и научился использовать напряженные отношения бабки и матери. Он никогда не жаловался Лидии на бабушку, но когда все оказывались вместе, он не слушался ни той, ни другой; видел, что в этих спорах, вернее в недовольстве матери, отец был всегда на ее стороне и также научился эксплуатировать его молчаливую поддержку, отлично понимая, что бабушка была в семье как бы слабейшей стороной.
Но чем старше он становился, тем сильнее привязывался к Наталье Ивановне и по-детски чутко ощущал несправедливость матери. Правда, наверное, из чувства самосохранения, он при матери никогда к бабушке не ласкался; но когда Лидии не было дома, а в последнее время это случалось чаще и чаще, Павлик, прибегая со двора, тот час залезал на диван в бабушкином углу, просил ее либо поиграть с ним в его любимые игры, либо просто, уютно свернувшись калачиком, молча отдыхал от беготни.
В такие тихие минуты Наталья Ивановна любила читать ему не только детские книжки, изредка покупаемые Лидией, но и книги из своей маленькой, но тщательно подобранной библиотеки.
Если невестка заставала их за этим занятием, она неизменно делала Наталье Ивановне выговор:
– Опять вы читаете ему Чехова?!
Либо откровенно возмущалась:
– Только Вам может прийти в голову читать ему Мопассана! Слава богу, он во всем этом еще ничего не понимает. Вот пойдет в школу – там его быстро всему научат!
И повзрослевший Павлик неизменно откликался на это словами и голосом андерсеновского старика-шкафа:
– И зачем вы забиваете голову ребенку всякой ерундой!
При этом он заговорщицки подмигивал бабке, и оба они тихонько смеялись…
Наталья Ивановна любила книги. Всю жизнь она помаленьку собирала свою библиотеку. Когда еще задолго до школы Павлик научился читать, она разрешала ему брать все, что его заинтересует. Была одна полка, к которой она не разрешала Павлику даже дотрагиваться. Здесь стояла поэзия. Вкусы Натальи Ивановны в этой области были очень разнообразны; постороннему человеку могло показаться, что все вообще поэты ей одинаково по сердцу: и Пастернак, Сергей Орлов и Вознесенский, Лермонтов и Мандельштам. Но это было не так – она знала и любила поэзию. Выкраивая крохи из своей пенсии, она подолгу выстаивала в очереди в книжном магазине и покупала далеко не все подряд.
Для Лидии же книги представляли исключительно товарную ценность. Поэтому она и не мешала Наталье Ивановне покупать их, только всякий раз скрупулезно подсчитывала нанесенные семейному бюджету раны.
В тот год осенью Павлик должен был пойти в первый класс. В семье готовились к этому торжественному событию, но все по-разному.
Лидия и Алексей занимались покупками самой добротной формы, самого практически долговечного ранца, самых ярких считалок и самописок. Лидия, не любившая никакой домашней, женской работы, однако на всем, что было приобретено для школы, написала имя и фамилию будущего первоклассника, не преминув напомнить ему, что все стоит денег и надо тщательно беречь вещи.
А Наталья Ивановна подолгу гуляла с внуком по Москве, рассказывала о своей школе, о любимых учителях, о дружбе с соучениками, вспоминала веселые школьные происшествия и озорные проделки. Павлик любил эти прогулки – никаких поучений, весело и спокойно, да еще перепадет пара-другая эскимо…
Задолго до первого сентября Лидия стала поговаривать о том, что ребенку необходима отдельная комнатка, место для занятий, и вообще – до каких пор можно жить друг у друга на голове?
Наталья Ивановна еще не понимала, куда она клонит, но каждый такой разговор вызывал в ней все более нараставшую тревогу. Она слишком хорошо знала характер своей невестки – ведь та никогда ничего не делает и не говорит без точной цели – извлечь выгоду.
И вот, наконец, все стало ясно: как-то поздним вечером, когда Павлик уже спал, муж и жена, так же как и семь лет назад, явились в закуток к Наталье Ивановне. Лидия тотчас заговорила решительно и категорично:
– Ну, вот что, Наталья Ивановна, если вы не хотите понимать намеков, я выложу все начистоту.
И снова, как семь лет назад, увидев выражение лица Алексея, Наталья Ивановна остро пожалела его. И еще что-то примешалось к жалости. Кажется, это был стыд…
– Слушаю вас, – тихо сказала Наталья Ивановна.
– Пора подумать о сыне и внуке! Ну, я вам безразлична, но… Так дальше жить невозможно! Мы задыхаемся! Ребенок идет учиться… Кроме места ему еще нужно спокойствие и тишина в доме!
– Какой же выход вы предлагаете?
– Да самый простой – вам переехать в Дом ветеранов труда!.. Я все узнала: лучший тот, что в Покровском. Далековато, правда, – сто сорок от Москвы, но зато прекрасные условия, медицинский уход, никаких забот; кстати, воздух там прекрасный, дом стоит прямо в лесу, близко речка. Словом, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью!
Тяжелое молчание, воцарившееся после этих слов, на минуту смутило Лидию. Но не в ее натуре было менять свои решения! Она тут же оправилась и продолжала бодро:
– Поезда ходят часто, если вы захотите повидаться, в любое время можете приехать. Да и Алексей будет, конечно, вас навещать… Может, когда-нибудь захватит и Павлика…
Молчание становилось все плотнее, почти ощутимо давило на плечи Натальи Ивановны и Алексея.
– Я записала его в школе сразу на продленный день. Вас ведь не будет, мы целый день на работе, зачем ему болтаться одному? – продолжала Лидия. Она понимала, что говорить всего этого не следует, но все больше раздражаясь молчанием свекрови, уже не могла сдерживаться.
А Наталья Ивановна думала с горечью:
«Ясно, я ей больше не нужна… балласт в доме…»
Однажды невестка уже преподнесла свою версию ее судьбы как окончательную, обжалованию не подлежащую. Сегодня было то же.
– Вы не беспокойтесь, Наталья Ивановна, с оформлением все обстоит очень просто – вам надо будет только написать два заявления: одно в собес, другое в домоуправление о переводе комнаты на имя Алексея. Задержки не будет, я всюду уже договорилась.
Наталья Ивановна изо всех сил старалась сдержаться, не показать, как все это для нее мучительно. Продолжала молчать, боясь выдать волнение. И внезапно, пришла ей в голову спасительная мысль, на секунду отодвинув обиду:
«А может, это вовсе не так уж плохо? По крайней мере, не буду ее ни видеть, ни слышать… если не захочу. А я, клянусь, не захочу!»
Эта мысль почти успокоила ее.
– Хорошо. Я согласна, – сказала Наталья Ивановна.
– Вот и чудненько! – тот час облегченно отозвалась Лидия. – Завтра же возьму отгул, отнесу заявления, соберу кое-какие ваши вещи…
Как ни старалась Наталья Ивановна убедить себя, что все не так уж плохо, голос все-таки дрогнул…
Действительно, всё произошло настолько быстро, что Наталья Ивановна даже как следует погоревать не успела – через три дня она уже получила свой «вид на жительство» и в тот же день растерянная и подавленная, выехала в Покровское. Сын проводил ее, молча дождался, пока она оформляла документы, помог ей водвориться на новом месте, поцеловал и уехал.
Наталья Ивановна с удивлением оглянулась – все было не так плохо, как она себе представляла. Ей повезло – поместили ее, правда, в очень маленькой, но отдельной комнате. Стояла здесь деревянная кровать с пружинным матрацем, небольшой письменный стол, еще столик для еды и к радости и удивлению новой жилицы – на свободной стене, подле окошка были укреплены две висячие книжные полки. Темновато – у самого окна росла старая, ветвистая липа, – однако всё же светлее, чем в ее домашнем углу…
Так начался новый, и как она понимала, последний этап ее жизни.
Сын приезжал к ней редко. Может быть, поэтому от посещения к посещению заметнее было, как он старел, опускался. С болью Наталья Ивановна отмечала – он все больше замыкался, мрачнел; откровенно проскучав с нею часок, опять надолго уезжал. На ее тревожные вопросы – что с ним, он только равнодушно пожимал плечами. О школьных делах Павлика скучно говорил: «Нормально».
О Лидии она никогда его не спрашивала, инстинктивно чувствуя, что в доме неладно. Тем сильнее беспокоилась она о внуке; Алексей иногда привозил его с собой, но разговора с внуком не получалось – мешало присутствие отца.
Став постарше, Павлик приезжал уже один. И в нем Наталья Ивановна заметила какую-то недобрую перемену. Расспрашивать не хотела, захочет, сам расскажет, что его гнетет. Но внук молчал, и она тревожилась еще больше. Сама же она в своем бывшем доме не бывала. В первые годы не тянуло, жизнь переломилась, а возвращаться к прошлому не хотела: тяжело и не к чему.
А теперь стали болеть ноги, о поездке нечего было и думать: каждые сто шагов она вынуждена была останавливаться, пережидая, пока пройдет боль; да, собственно, и не боль даже, а какое-то странное томление в ногах. Сосуды, – говорили врачи. Может быть. Но она-то знала, что это просто старость…
Павлик учился средне, хотя весной перешел в восьмой только с тремя тройками. Летом, он как всегда уехал на все лето в пионерлагерь, по возвращении пару раз был у нее, но с октября ни сын, ни внук к ней не приезжали. Зима в этом году была тяжелая – то морозы под сорок, то таяло и под ногами хлюпал и растекался верхний снежный слой; под ним оставались окаменевшие ледяные бугры, и добраться к ней со станции было почти невозможно.
Только под Новый год она получила сухую, почти официальную открытку с пожеланием здоровья и счастья в личной жизни. Наталья Ивановна невесело усмехнулась:
– Счастья…
В одно из воскресений января сын, наконец, приехал, привез зачем-то коробку шоколада, которого она не любила, посидел с полчаса и, отказавшись от чая, уехал.
О том, что они с Лидией разошлись, Наталья Ивановна узнала от Павлика. Он приехал на следующий день; Наталья Ивановна поразилась, увидев, как он за эти месяцы осунулся и повзрослел. Еще так недавно по-детски округлые щеки опали, выше стали казаться скулы, куда-то вглубь ушли глаза.
– Здравствуй, бабушка, – не очень приветливо сказал он входя.
Давно уж перестал он называть ее «баба’На», и всякий раз, как Наталья Ивановна слышала «бабушка», ей становилось немного грустно.
И, может быть, потому, что сказал он это почти взрослым голосом, ее особенно больно кольнуло это обращение.
– Заходи. Раздевайся. Чай пить будешь?
– Я ненадолго.
– Что так? – обиженно откликнулась Наталья Ивановна.
– Так. Тороплюсь.
Он продолжал стоять подле двери, удивленно оглядывая комнату. – Тесно как у тебя…
– Это, кажется, потому что ты вырос…
– А книги где? Дома у тебя было много.
– Не взяла с собой только поэзию взяла… Перечитываю…
– Перечитываешь? А не скучно?
– Хорошие стихи можно всю жизнь перечитывать…
Юноша удивленно хмыкнул.
Наталья Ивановна задумалась.
– Как тебе это объяснить? Когда читаешь стихи, появляется ощущение свободы… Понимаешь?
– Свободы? Но ведь здесь ты и так совершенно свободна… Ни от кого не зависишь… И вообще никаких забот у тебя нет…
– Быть независимым. Ну, что ли материально, это еще не означает быть свободным… Я, наверное, не сумею тебе толком объяснить, но, по-моему, поэт, настоящий поэт, как бы принимает на себя весь мир… все людские горести. Ну, и радости тоже… Поэзия освобождает человеческую душу от мелкого, недоброго… Я так понимаю…
– Тебе отец ничего не говорил? – вдруг перебил ее Павел.
– Отец? – растерянно переспросила Наталья Ивановна. – А что он должен был мне сказать?
– Значит, и тут оказался… слабаком!
– Ты что такое говоришь?
– Я понимаю теперь, зачем он велел мне сегодня к тебе приехать! Сам не решился, так пусть я! – крикнул Павел.
– Да что? Говори толком!
– Она ушла от нас! Понимаешь? Совсем ушла!
В ломающийся его басок ворвались вдруг пискливые нотки. Казалось, он сейчас заплачет. Отвернулся лицом к двери, словно собирался бежать, и не выдержал, действительно заплакал.
– Павлик! – бросилась было к нему Наталья Ивановна. – Павлуша, милый!
Он резким движением отмахнулся от нее.
– Да объясни ты, что случилось? – крикнула Наталья Ивановна.
– Что объяснять? Что объяснять? Она ушла! Совсем! К любовнику!
– Павлик, замолчи!
Он повернулся к ней лицом, по-детски утер варежкой нос и заговорил уже тише:
– Она никогда нас не любила… Ни меня, ни отца… А он ведь знал, знал, что у нее всегда были любовники!
– Павел! Не смей! О матери!
– Были! Были! Он сам мне говорил.
– О, господи! Стыд какой!
– Стыдно, да! Стыдно, что знал и молчал – боялся, уйдет к кому-нибудь… И дождался…
Наталья Ивановна молча глядела в его заплаканное лицо, снова ставшее детским и близким…
– Успокойся, Павлуша, не плачь…
– Я не плачу! – крикнул он, но слезы катились и катились у него по щекам. – Я не плачу! Но скажи мне, скажи, за что она так нас возненавидела?
– Возненавидела?
Наталья Ивановна задумалась. Павлик притих, напряженно ждал ответа, словно от него зависело – вернется ли мать домой.
– Нет, – наконец сказала Наталья Ивановна. – Не возненавидела… Она просто полюбила другого…
– Ты! Ты всегда ее прощала! Всегда! Она с тобой и с отцом, как со старой тряпкой… а ты… ты молчала, как отец…
Он вдруг резко распахнул дверь и выбежал, не прикрыв ее за собой.
Всю ночь Наталья Ивановна, не зажигая света, просидела у стола. Под утро, еле преступая отекшими ногами, добрела до кровати, но еще долго не могла уснуть.
«Он прав, слишком я была тихая, – думала она. Сама не защищалась и их не уберегла…»
Сейчас ночью, в туманной темноте комнаты она думала о них так, словно оба они были одного возраста, не внук и сын, а мальчики, которых она не сумела заслонить от беды.
Что это было? Угрызения совести, горестное сознание своего бессилия или просто тоска?
«Да, да, я была самой настоящей эгоисткой… Оберегала свою так называемую свободу! А кому она нужна, эта свобода, если, защищая ее, я предала своих самых близких?! Проклятье! Что делать? Что же сейчас делать?…»
Конечно, она понимала, что ничего она уже не могла сделать, ничем помочь, но путаные, неосуществимые планы клубились в ее голове, планы, один другого нелепее. Все было ясно, ничего не могла она додумать до конца, какая-то самая нужная мысль, ускользнула…
Уже лежа в постели, почти засыпая, она вдруг четко сформулировала эту ускользающую мысль. Ей даже показалось, что она произнесла ее вслух:
«Нет, от зла нельзя отстраняться, с ним надо бороться, изо всех сил бороться, иначе… иначе будешь побежден, как я, как мои мальчики…»
Она спала очень недолго. Во всяком случае, рассвет не успел еще разогнать серую слизь тусклой зимней ночи.
Она вскочила и торопливо начала собираться. Вышла было из дома, но сообразила, что в Москве никого не застанет – сын на работе, внук в школе, а ключа от их новой квартиры у нее не было. Да и дойти до станции она ни за что не сможет – ноги так отекли и болели, что даже валенки оказались ей тесны…
Вернулась к себе, с трудом разделась, легла и встать уже не смогла, даже дойти до столовой. Так, голодная, пролежала до вечера, то, засыпая ненадолго, то снова просыпалась, опять задремывала. Вечером пришел врач.
– Ничего страшного, – сказал он, осмотрев ее. – Придется полежать с недельку. Дня три сестра вам поделает уколы, попринимаете вот эти таблетки и все пройдет. Сердечко немного зашалило, но это в нашем с вами возрасте явление нормальное…
Сыну она не сообщила, что заболела – помочь он все равно не смог бы, а сейчас ему было и вовсе не до нее.
Как только стало немного легче, она поднялась, тщательно прибрала в комнате – это всегда помогало ей отвлечься от грустных мыслей и недомогания.
А дней через десять приехал сын.
Он не спросил ее, как она себя чувствует, он ведь и не знал, что она болела. Но его равнодушие все-таки задело ее. Однако она все равно не рассказала ему о своей болезни и не спросила его ни о чем.
По своему обыкновению он молча следил за тем, как она возилась, приготавливая чай, пододвинул к себе налитый матерью стакан и, не выпив ни глотка, отставил подальше. Преодолевая неловкость, сказал нарочито решительно:
– Вот что, мать, я думаю, тебе бы надо переехать обратно… то есть возвратиться домой…
– А мой дом здесь – сухо ответила Наталья Ивановна.
– Как же ты не можешь понять, что нам с Павликом не справиться одним! Наталья Ивановна молчала, ждала, что он скажет дальше.
– Почему ты молчишь?
– Что я должна сказать?
– Ты не хочешь понять, что без женщины, без женской руки наша с Павлом жизнь прахом пойдет! – воскликнул он раздраженно.
Наталья Ивановна ответила тихо:
– Помощи от меня уже никакой, Алеша. Стара я. И больна. Только буду для тебя лишней обузой…
– Что ж, тогда придется Пашу в интернат устраивать… Он совсем отбился от рук – учится с пятое на десятое, по вечерам где-то пропадает, грубит, не слушается, дома ничего делать не хочет, даже постель свою по неделям не стелет. Единственный выход – интернат!
– И всех ты по местам определил, – неласково усмехнулась Наталья Ивановна. – Конечно, так тебе жить станет полегче… одному.
Он вскочил, сорвал с вешалки пальто и, не надевая его, бросился к двери. Уже с порога сказал тихо и яростно:
– А ты, оказывается, злая, мать! Злая!
– Нет, – серьезно и очень спокойно ответила Наталья Ивановна. – Нет, я не злая. Я только перестала быть тихой.
Сын больше к ней за эту зиму не приехал ни разу.
А Павлуша, наоборот, зачастил.
Как и отец, он был неразговорчив, не очень ласков, но всякий раз привозил Наталье Ивановне какую-нибудь мелочь – то сто граммов ирисок, то книжку из ее библиотечки, из тех, что Лидия не успела еще продать или выбросить.
Ни разу он не упомянул о намерении отца «устроить» его в интернат. Но Наталья Ивановна чувствовала, что Павел об этом намерении знает. И не придает ему особого значения. Может быть, просто привык, что у отца от намерения до его осуществления очень длинная дорога…
Восьмой класс он все-таки закончил неплохо, во всяком случае, много лучше, чем предсказывал отец.
За все это время ни он, ни Наталья Ивановна ни разу не упоминали о матери. В июне он уезжал в свой последний пионерский лагерь – осенью ему должно было уже минуть пятнадцать.
В день отъезда он приехал к ней с самого утра и, против обыкновения, никуда не торопился. Лагерь был расположен в пятидесяти километрах от станции, близ которой жила Наталья Ивановна; чтобы оказаться в том же поезде, в котором ехали все ребята, Павлу надо было быть на вокзале только в половине восьмого, – так, что целый день принадлежал теперь полностью им двоим.
Прежде всего, Наталья Ивановна распаковала его рюкзак, пересмотрела все, что он брал с собой, заштопала пару рваных носков, выстирала и выгладила две рубашки и давно ненадеванный пионерский галстук, словом, приготовила его к поездке так, будто они жили вместе и никогда не расставались.
Она с удовольствием хлопотала вокруг паренька, чем-то кормила, о чем-то незначительном говорила с ним, шутила, смеялась, а под конец сняла с полки томик Цветаевой.
– Хочешь, я почитаю тебе мои любимые стихи?
– Хочу! – неожиданно охотно согласился Павел.
Она читала стихотворение за стихотворением; он слушал внимательно, немного напряженно, и в глазах его, когда она взглядывала на него невзначай, Наталья Ивановна замечала удивление, а иногда и восхищение. Наконец, она сказала, с сожалением закрывая книгу:
– Ну, пора тебе Павлуша, опоздаешь, здесь ведь не так близко.
Он послушно поднялся, подошел к Наталье Ивановне, робко дотронулся указательным пальцем до его плеча.
– А знаешь что, бабушка? Я бы хотел жить с тобой.
Она вспыхнула, словно ей, двадцатилетней, впервые сделали комплимент. – Да на что тебе такая старуха?!
– Какая же ты старуха? Таких старух не бывает! Ты просто… ты пожилая женщина…
– Иди, уж, иди, а то опоздаешь…
Он легонько вздохнул, направился к выходу; у самой двери обернулся и сказал:
– Как там?! И если на дороге куст… особенно рябины… Как странно… И хорошо.
И вышел.
Из лагеря он написал ей длинное письмо, в котором, между прочим, сообщал, что отец уехал в длительную командировку на Урал, а он, Павел, принял очень важное и окончательное решение.
Вернулся внук в конце июля и, не доехав до Москвы, сошел на ее станции. Как только он вошел, она заметила, что он снова разительно переменился. Но не в худшую сторону, как тогда, зимой, а как-то совсем по-другому. Не то, чтобы только поправился и загорел, нет, он стал заметно спокойнее, увереннее, вроде бы даже немного умнее, что ли.
Чуть ли не с порога весело закричал:
– Поздравь меня, бабушка, я оформился в ПТУ. Ездил из лагеря подавать заявление, приняли. Сразу от тебя – в общежитие. Домой только за учебниками. Вот!
– Отец знает? – немного испуганно спросила Наталья Ивановна.
– Приедет – узнает, – легко отмахнулся Павел.
– Как же так?
– А так. Я сам теперь решаю свою жизнь. Сам…
– Не рано ли, Павлуша?
– Не рано. Что же ты, считаешь, лучше «устраивать» меня в интернат?
– Пожалуй, нет… может, ты и прав.
…Он писал теперь часто, подробно, с видимым удовольствием, рассказывал, чему и как их учат, какие ребята живут с ним в комнате, восторженно писал о своем заводском наставнике: «Ты подумай, он уже мастер, а ему всего только двадцать шесть лет! И вообще здесь все хорошие! Учатся с нами и девочки. Одна – Валя, из нашего класса. Помнишь, я тебе о ней говорил?»
Никогда он не говорил ей ни о какой Вале, из «нашего класса», но Наталье Ивановне казалось, что она эту Валю давно и хорошо знает.
Приехал он только в феврале и опять показался ей каким-то новым. Что-то было в нем иное, чем прежде, более свободное и, вместе с тем, – неспокойное.
Он все время вертелся по комнате, то присаживался возле Натальи Ивановны, то снова вскакивал, куда-то спешил и не уходил. Наталья Ивановна понимала – он хочет сообщить ей что-то очень важное, но не решается заговорить.
Она не торопила его. Сидела в кресле, опустив на колени руки, и ждала. Ей передалось его волнение, она чувствовала – вот, вот сейчас он откроет ей свою уже недетскую тайну, свое самое сокровенное.
Неожиданно он присел перед нею на корточки, взял в свои ее праздно лежащие руки, вложил лицо в ее ладони, как делал когда-то очень давно, когда был совсем маленьким, и несколько секунд сидел так, не поднимая головы.
И вдруг произнес очень тихо:
– Баба’На…
Он назвал ее забытым именем своего раннего детства! Что-то в ней радостно отозвалось на это имя.
– Что, мой малыш, что?
Она приподняла его голову, посмотрела в его милое, скуластое, сияющее лицо.
Он еще ничего не сказал. Он только с силой вобрал в себя воздух. Но она уже сразу и безоговорочно поверила, что внук подарит ей сейчас ощущение полного счастья, которым так редко баловала ее жизнь, и это ощущение до конца дней не покинет ее.
– Малыш, – прошептала она.
– Понимаешь, баба’На, – сказал Павел и тихонько засмеялся. – Понимаешь, я… я влюбился.
ЛУЧШАЯ КНИГА ЕГО ЖИЗНИ
О детстве он вспоминать не любил.
Отца он не знал и долгое время думал, что его вообще у него не было. Мать видел урывками. Жил с бабкой – стрелочницей на железнодорожном переезде, в сторожке, окруженной карликовым огородом, неподалеку от холодной речки с неласковым названием Прорва.
Деревня была далеко, и товарищей у него не водилось. Единственное развлечение – эта самая Прорва. Плавать он научился сам, купался в любую погоду и так подолгу, что, выходя на берег, дрожал и постукивал зубами от холода.
Бабка пронзительно ругалась:
– Опять весь синий, байстрюк несчастный! Вот попадись только мне!
Рука у бабки была тяжелая и, получая очередную трепку, он сердито думал: «Ну что врешь? Синих мальчиков не бывает!»
Редкие приезды матери тоже не приносили радости, они с бабкой вечно ругались, иногда дрались, а накричавшись, выпивали привезенную бабкой водку, усаживались на полу возле печки, долго плакали, жалели друг друга. Протрезвев, снова начинали ругаться. Ночным поездом мать уезжала куда-то и, проснувшись утром в пустой сторожке, он тут же про нее забывал и не скучал по ней никогда.
Когда ему минуло шесть лет, пьяная бабка попала под поезд. Ее отвезли в больницу, и больше он никогда не видел старухи, как не увидел и матери, затерявшейся где-то в огромной стране. Начальник станции не знал ни имени, ни фамилии матери мальчика и отыскать ее не мог. Подумав немного, он отправил паренька в деревню. Так он и прожил до самой войны, переходя из дома в дом – время было трудное, ни у кого не было охоты возиться с чужаком. Иногда начальник станции брал его на несколько дней к себе и снова отправлял в деревню; его перебрасывали от одних временных «родителей» к другим, ничему не уча, не заботясь о том, что ему уже пора бегать в школу. Осенью сорок первого ему должно было исполниться восемь, но ни читать, ни писать он еще не умел.
Война приближалась к этим местам и в августе, чтобы, наконец, избавиться от парня, начальник станции уговорил заведующую детским домом, что эвакуировался из-под Москвы в проходящем мимо эшелоне, взять мальчика с собой, пообещав испросить на это разрешение у московского начальства.
Парень знал свое имя – Петр, и случайно запомнившуюся ему фамилию бабки – Соловьева, знал, что когда-то у него была и мать, но ничего больше о себе сообщить не мог. Так и записан он был круглым сиротой, ничем, впрочем, не выделяясь среди своих новых товарищей. Иногда по ночам смутно виделось ему выдубленное ветром и морозом лицо бабки и залитое пьяными слезами лицо матери… Возможно, когда-то она и искала его, а может, вовсе не вспоминала – ведь и до войны, в редкие свои приезды, она никогда не ласкала его, не высказывала желания увезти с собой, ни разу даже не обратилась к нему по имени. Обиды на нее он не держал, как и на крикливую, драчливую бабку, – просто не знал другого обращения ни дома, ни в деревне, а сравнивать было не с чем – жил теперь среди таких же одиноких, бездомных ребят, никогда не знавших или не помнивших родительской заботы.
Детдом обосновался под Ташкентом, и грохот войны доносился сюда отдаленно. Осенью все ребята пошли в школу. Пошел и Петр. В первый класс, хотя и был старше многих. От ребят он не отставал, только читал с трудом – прежде чем произнести слова, по два раза шепотом повторял каждый слог. Однако вскоре, будто преодолев какой-то барьер, увлекся и начал читать охотно, много и всё, что попадалось под руку, даже учебники. Прошло немного времени, и учительница заметила, что вкусы его начали определяться. Сперва это были сказки. Любые. От русских народных, до Андерсена. Читал он быстро, в любом месте, в любое время. Через год школьная библиотека была исчерпана. Он стал ездить в Ташкент, в городскую. Выбирал совсем не то, чем увлекались его товарищи. Ничто, похожее на «настоящую жизнь», его не занимало. «Это обыкновенное», – объяснял он удивленной библиотекарше. – «А я хочу, чтобы было интересно, красиво».
Тогда старая библиотекарша стала приносить ему из дома книги своего детства: «Голубую цаплю», «Маленького лорда Фаунтлероя», «Дедушку Короля», даже старую «Детскую энциклопедию», ласково называя его при этом «дорогая подруга по «Задушевному слову».
В остальном он рос, как все, – учился неровно, старался отлынивать от работы и уборки на кухне, привирал, хвастался, дрался и мирился, словом – был обыкновенным мальчишкой. Взрослел и, естественно, книги «взрослели» вместе с ним.
Когда и почему он решил, что будет обязательно знаменитым писателем, он уже не помнил. Возможно, к этому привели его непомерные похвалы учительницы литературы. Она неизменно читала перед классом его сочинения как лучшие и по слогу, и по содержанию. А он просто хорошо запоминал то, что читал.
В сорок девятом детдом вернулся домой под Москву. Петр перешел уже в девятый класс. Тогда-то и возникло у него желание писать не по школьным заданиям, а так сказать, на вольную тему. Он принялся сочинять так называемую автобиографическую повесть, такую же, как и те, что десятками появлялись в то время в печати. В его повести было все, что полагалось: и запомнившийся запах и скрип отцовской кожаной лётной куртки, когда тот обнимал сына в час отправки на фронт, и сдержанные слезы мобилизованной матери-врача, оставлявшей сына в детском доме, и сообщение заведующей о двух похоронках, и верный друг, спасший героя во время драки с «местными»; были и обязательные описания среднеазиатской природы, переживания первой мальчишеской любви. Словом, это была нормальная «автобиографическая» повесть, с той только разницей, что она ничуть не походила на биографию автора…
Первым его читателем была, естественно, та же учительница литературы, по школьному, Литераторша. Она пришла от его произведения в неистовый восторг. Все каникулы потратила на то, чтобы отредактировать, подправить повесть, обтесать стилистику, сама перепечатала и отнесла в редакцию юношеского журнала своему бывшему ученику, работавшему там литсотрудником. Вместе с Петром стала дожидаться ответа. Он пришел неожиданно скоро: из редакции сообщили, что «автобиографическая повесть Петра Соловьева «Маленькие и большие» (название придумала та же Литераторша) принята и будет напечатана в двух июльских номерах». И учительница, и ученик не могли поверить в такую баснословную удачу даже тогда, когда оба побывали в редакции и с помощью того же литсотрудника выправили чистые листы. Наконец, первая часть появилась.
С журналом в руках Петр прибежал к Литераторше домой, нетерпеливо раз за разом звонил, пока ему не открыла испуганная соседка, не стуча, ворвался в комнату учительницы и долго, молча стоял, не решаясь ни открыть журнал, ни передать его ей. Наконец, они уселись за стол и вместе стали читать. Кончили, и Петр принялся читать с начала уже вслух. Каждая фраза, каждый абзац обоим казались великолепными. Ничего, ни одной буквы не хотелось менять. Особую, острую радость испытывали они от того, что все это отпечатано типографским способом, как будто от этого каждое слово стало более значительным и более совершенным.
В сентябре появилась рецензия в газете «Московский комсомолец», предварявшая подборку писем, полученных на имя Петра Соловьева. Вдохновленный успехом, он, не откладывая, принялся за новую повесть. Писал о детском доме, что эвакуировался в Ташкент из Москвы. В ней уже не было драк с «местными». Наоборот, это было повествование о дружбе между узбекскими и русскими ребятами, сентиментальный рассказ о том, как узбекская семья выходила заболевшего героя, как полюбил он узбечку Фатиму и решил остаться в Ташкенте навсегда.
Литераторша по-прежнему восторгалась подопечным. Возможно, она действительно верила в незаурядность его таланта. Но в отношении к нему у нее появилась некоторая доля тщеславия. При встрече со своими знакомыми она спрашивала:
– Вы уже прочитали повесть моего ученика? А ведь он написал ее уже в девятом классе. Да, да, он безусловно будет писателем!
А Петр становился самоувереннее. Во всяком случае, новую свою повесть он Литераторше даже не показал, и сам отнес в редакцию. Ему теперь уже не нужен был поводырь. Память, вот что составляло движущую силу его таланта. «Голубая цапля», «Дедушка Короле» – какую незаменимую службу сослужили они ему! Конечно, сознательно он не копировал их, не заимствовал сюжетные ходы, стилистику. Но излучавшаяся с их страниц благостность затопляла и страницы его повести. Безошибочным чутьем он угадывал: юные читатели, пережившие тяготы войны, ожидают сейчас «своей» литературы, не рассказов о горе и ужасах, а той сглаживающей романтики, которая часто перетекает в умиленность и прямую сентиментальность. Петр искренне думал, что основная задача литератора писать о том, что приятно, что нравится читателю, не отступая, конечно, слишком далеко от неписаных правил, определяющих как и о чем нужно, полагается писать.
– Он был, безусловно, литературно одаренным юношей, но его одаренность лучше всего проявлялась в этой интуитивной, неуправляемой приспособляемости…
Еще до окончания школы, журнал, который собирался печатать его новую работу, рекомендовал его для участия в семинаре молодых писателей.
Он не удержался и похвастался Литераторше, хотя последнее время она была с ним суха, давая понять, что обижена его отступничеством.
– Поздравляю, – сказала она. – Рада. Теперь вас обязательно примут в Литературный институт. Вас!
Его покоробило это официальное обращение, но на взлете успеха неприятный осадок быстро растаял, забылся, как забылась тот час после поступления в институт старая учительница. Новая среда, новые заботы захватили его. Живя в детдоме, он никогда не думал о быте: переехав в студенческое общежитие, он понял, что ответственность за собственную жизнь лежит теперь не на государстве, а на нем самом. К тому же и учеба вначале давалась ему с трудом.
Большинство студентов его курса уже прошли войну – кто воевал в строю, кто был военным корреспондентом: никогда раньше друг друга не видевшие, они вели себя в институте так, будто давно и крепко дружили. Петр был среди них младшим, они его как бы не замечали, и чувствовал он себя довольно неуютно. В семинар он попал к известному, пожилому писателю. Первое время он тоже как будто не обращал внимания на Петра, тем более что тот все время сидел молча и в общих дискуссиях участия не принимал. Но однажды руководитель, словно впервые увидев его, пристально в него всмотрелся, сказал не очень приветливо:
– Прочитал вашу повесть, Соловьев. Останьтесь после звонка. Побеседуем.
Ничего плохого Петр от этой беседы не ждал – его хвалили, рецензии пока были, как говорится, на все сто. Но первый же вопрос руководителя ошеломил его:
– Скажите, Соловьев, вы случайно не дальтоник?
– Не знаю, – растерялся Петр, не совсем ясно понимая, хорошо это или плохо – быть дальтоником.
– Дальтонизм это определенный дефект зрения, – объяснил руководитель. – Дальтоники не видят истинных цветов, они только знают, какими они должны быть. Скажем, им известно, что трава зелёная, крыши красные, небо голубое, реки синие. Вот так и вы – знаете, что ваши герои должны быть такими, а не иными… Словом – трава зелёная… Вы поняли меня?
– Нет… не совсем…
Старик сердито нахмурился.
– В вашей повести всё в норме, как теперь принято говорить: сюжет развивается гладко, язык неплохой, у героев всё на месте: глаза, нос, уши… Нет только одного – ни в характерах, ни во внешности – подлинных красок. Если у маляра есть только колер: зеленый, синий, красный, голубой… И в таких комнатах, конечно, живут, только уныло это, уныло…
Петр не то чтобы обиделся, но просто искренне считал, что руководитель к нему несправедлив. «И что ему надо, этому мусорному старичишке! Завидует, что меня упоминают чуть ли не в каждой критической статье, а о нем уже сто лет молчат? Уйду к черту из института!» Но уходить не пришлось – его перевели в только что организованный семинар детской и юношеской литературы, а с его руководителем Василий Николаевичем Волковым у Петра не было никаких недоразумений; их вкусы полностью совпадали. Узнав, что вскоре будет напечатана новая повесть Петра Соловьева, Волков помог студенту связаться с издательством «Молодая гвардия», где состоял членом редакционного совета. Там решили выпустить обе повести отдельной книгой. О заключении договора Петр не рассказал никому, хотя ему очень хотелось похвастаться, да некому было, а гордиться просто так, втихомолку, перед самим собой не весело! Но с детдомом он порвал, а здесь все еще чувствовал себя чужаком…
Учиться ему становилось все легче – поддерживало сознание, что все усилия, в конце концов, будут вознаграждены получением диплома о высшем образовании, а тщеславие помогло преодолевать неплотно оседавшую в мозгу науку. Память у него была отличная и где нужно, он теперь мог… поговорить о Ювенале. Институт он окончил. И продолжал писать всё те же юношеские повести, всегда от первого лица, всегда «правильные» и всегда подслащенные необходимой долей сентиментальности. Встречался и расставался с женщинами, никогда особенно не жалея о разлуке. В тридцать пять приобрел однокомнатную квартиру и «Москвича», а в сорок все еще считался начинающим и ходил в узеньких джинсах с американской нашлепкой на заду и неизменно приглашался на семинары молодых. Теперь он писать уже не торопился, однако в газетные перечисления еще попадал. Но иногда, а в последнее время чаще, из глубин памяти, а может быть, и подсознания, возникала перед ним тесная сторожка, переезд, узкая, холодная речка Прорва, нищая деревня и темное лицо бабки. И тогда ему становилось тоскливо, томительно и почему-то немного стыдно. В такие минуты он давал себе слово, что обязательно когда-нибудь напишет об этом. Напишет правду о своем полузабытом детстве… Когда-нибудь…
Несколько дней он чувствовал себя больным и усталым… Но вскоре неясные воспоминания снова затягивались каким-то белесым туманом и все опять уходило, исчезало; оставалась только слабая, глухая боль в груди… И ощущение, что чем он становится старше, тем дальше от него уходит босоногий, полуголодный Петька Соловьев. Сорокалетний свой юбилей он решил отпраздновать в ресторане Дома литераторов. А утром этого дня получил неожиданный «подарок» – приглашение явится в народный суд. В тесной комнате с не очень чистым окном он застал двоих: у стола сидел сухопарый молодой человек в очках, ежеминутно подталкивая их мизинцем к переносице; напротив, навалившись тяжелым, расплывшимся телом на столешницу нудно причитала какая-то старуха. Не прерывая жалоб, она мельком глянула на Петра. Видно было, что ее нарочито-нудная интонация давно раздражала слушателя, хотя он и делал вид, что внимательно вслушивается в слова посетительницы.
– Здравствуйте, – сказал Петр, меня вызывали…
– Да, да, проходите, пожалуйста, – с облегчением произнес молодой человек.
– Может подождать в коридоре?
– Нет, нет, садитесь… Гражданка!..
Старуха не обратила внимания на пришедшего, ни на обращение молодого человека – прервать ее было невозможно:
– Я и говорю – сосед посоветовал, поезжай, мол, он человек богатый, книжки пишет, они много получают, неужто матери не порадеет на старости лет, не накормит, не напоит? А советские законы справедливые, если что – и заставить можно! Вот, на вас и надеюсь, гражданин судья, помогите бедной старухе!
– Законы у нас, действительно, справедливые, уже не сдерживая нетерпения, перебил судья, – да прежде надо доказать, что это ваш сын…
– Да что доказывать, что доказывать? Украли его у меня! Из рук вырвали, ангела моего, сыночка драгоценного…
– Когда и где?
– Из рук вырвали…
– Обстоятельства! Обстоятельства, при каких это произошло! – раздраженно сказал судья. – Где и когда?
– Так от немцев мы бежали, от фашистов проклятых…
– А до этого он всегда жил с вами?
– А всегда, всегда! Как же быть иначе? Как же я без моего ангелочка…
– У того, которого, по вашим словам, вы разыскали, отец и мать – оба погибли в первый месяц войны. Верно, товарищ Соловьев? – обратился он к Петру.
– Верно, – кивнул Петр.
Женщина резко обернулась, вскрикнула, хотела было броситься к Петру, но передумала и снова тяжко осела на стул.
– Да как же так, как же так? – запричитала она. – Ведь Соловьев, Петр…
– Имя распространенное…
– Ну а мне-то, как быть? Из такого далека приехала, думала – под старость счастье мне пришло, сыночка нашла…
– Почему до сих пор не искали?
– Обстоятельства, гражданин судья…
– Так. Ясны мне ваши обстоятельства…
– Не виноватая я, клянусь богом, – не виноватая… Злые люди…
– Вот так, – сказал судья, поднимаясь. – Ошиблись вы, гражданка… Простите, товарищ Соловьев, что напрасно вас потревожили…
Выйдя из полутемного здания суда на залитый полуденным солнцем Ленинградский проспект, Петр на мгновение остановился. Ему вдруг показалось, что на гладкой поверхности его жизни образовалась почти видимая извилистая трещина. Захотелось посидеть где-нибудь в тишине и одиночестве, подумать. Вошел под деревья бульвара, присел на первой же скамье, прикрыл глаза. Смутная неловкость и тревога охватили его. Утренние заботы об устройстве собственного юбилейного вечера выглядели сейчас пустыми и чуть стыдными. Одновременно, он злился на себя за то, что увидел и услышал сегодня в суде. По какому праву эта старуха вторглась в его мысли? Почему именно она заставила испытать желание пересмотреть свое прошлое и как-то перепланировать будущее? Уже не впервые задумывался он, правильно ли, честно ли пользовался своим талантом? На этот вопрос он, конечно, ответить не мог, но почему-то так продуманно организованное существование больше не казалось ему таким уж счастливым…
Перед закрытыми глазами опять, как много раз прежде, возникло сердитое лицо бабки. Он услышал ее рассерженный крик: «Вылезай, байстрюк несчастный!». И впервые понял, что это слово, которое он всегда воспринимал, как очередное ругательство, имеет определенный, обидный смысл. Возможно, что только теперь, спустя столько лет, Петр и сам почти верил, что описанная им «автобиография» была подлинной. Смутное воспоминание подсказывало ему, что его настоящая мать, если была еще жива, немногим отличалась бы от этой старухи… И слезы, безостановочно бегущие по одутловатым, покрытым темными пятнами щекам… Но всё же – нет! Нет! Не могла его мать быть настолько отвратительной! Он еще долго сидел на затененной скамейке, стараясь побольше оттянуть неизбежную встречу с приятелями, пытаясь успокоить себя, даже высмеять, но это плохо ему удавалось; всегдашняя самоуверенность не приходила и тоскливая тревога все равно гнездилась в самой глубине его груди… Наконец, заставил себя подняться и двинуться к белорусскому вокзалу; в метро он уже снова казался себе еще довольно молодым человеком действия и сильной воли. Когда через час появился в доме литераторов, внешне он был уже совершенно спокоен. На вопрос товарищей, зачем вызывали в суд, ответил равнодушно.
– По поводу происшествия, свидетелем которого я не был…
Весь вечер, стараясь заглушить тревогу и какой-то непонятный ему страх, он «занимал площадку»: громко ораторствовал, блистал несколько потускневшей эрудицией, а сильно подвыпив, начал хвастаться своими былыми литературными успехами. Правда, это был его вечер, но что прощалось мальчишке в девятнадцать лет, коробило в сорок.
Постепенно за столиком оставались либо те, кому хотелось еще выпить, либо те, кто выпил слишком много. К ночи, почти окончательно потеряв над собою контроль, он принялся поучать собутыльников.
– А вы, что же, так и будете всю жизнь пописывать свои повестушки сю-сю для «Смены» или «Огонька»? Я – нет! Я – всё! Берусь за большой роман! Это будет… За соседним столиком кто-то насмешливо произнес:
– Роман века!
– Да! именно! – тот час отозвался Петр.
Но вдруг сообразив, что это издевка, попытался броситься на обидчика.
– Ну, ну, романист, – на ходе поймал его кто-то из присутствующих. – Пошли, провожу до такси, Поезжай домой, выспись…
Среди ночи проснулся, вскочил, не в силах окончательно вырваться из сна, Скрипучий голос кричал то ли над ним, то ли в его гудевшей голове:
– Вылезай, байстрюк проклятый! Ты уже весь синий! Вот попадись мне!
Снова откинулся на подушку и несколько минут лежал неподвижно, успокаиваясь. Засыпая, увидел мокрое от слез, обрюзгшее лицо старой женщины, встреченной им сегодня в суде…
Два дня он не выходил из дома. Не то, чтобы болел, просто никого не хотел видеть. Может быть, впервые за сорок лет понял, что такое плохое настроение. Оно стало еще хуже, когда, вынув из ящика очередной номер «Нового мира», прочел в оглавлении имя того самого ворчливого писателя, своего первого руководителя, которого уже тогда считал глубоким стариком. Оказывается, он и сейчас не так уж стар, если написал роман и дождался появления его в журнале. Роман… Хвастался ли Петр в тот вечер, или всерьез задумал его писать? Он и сам не знал. Пока на этот счет у него не было определенных мыслей…
Уже лет двадцать не брал в руки своей первой повести, не перечитывал ее. Тогда, в дни ее выхода, он частенько открывал книжку на любой странице и, с удовольствием вчитываясь в каждую фразу, не отрывался уже до конца. Тогда, впервые увиденные напечатанными собственные слова наполняли его гордостью и удовлетворением. Иногда он вспоминал сердитую отповедь руководителя, но тут же отбрасывал воспоминание, как отмахивался в детстве от крика и побоев бабки. Сидя в душной, прокуренной комнате, он вертел в руках «Новый мир», не решаясь начать читать роман своего бывшего учителя.
– Тоже мне название – «Клубы дыма»! – иронически усмехнулся он.
И принялся читать. Сразу же, с первых строк его охватила непонятная, сосущая тревога. Захотелось отбросить журнал, не читать дальше, но он уже не мог этого сделать – фраза за фразой, затягивали его все дальше в какой-то не совсем понятный ему, радужный мир. Он читал, внутренне споря с писателем, споря и протестуя, но оторваться не мог. Отложил журнал только когда почувствовал, что страшно, нестерпимо проголодался. Наскоро поджарил яичницу, съел чуть не целый полусухой батон, и снова засел за чтение. Не отрываясь, дочитал до конца, досадуя, что месяц придется ждать продолжения, погасил свет, открыл, наконец, окошко, не раздеваясь, прилег на кровать и тотчас крепко уснул. Проснулся поздней ночью. За окном было так тихо, что было слышно, как по далекому Ленинградскому проспекту проезжали редкие машины. Полежал еще немного, поднялся, зажег лампу, достал с полки свою первую книгу, несколько минут сидел, держа ее в обеих руках, не решаясь раскрыть, сопротивляясь страху, который она в нем почему-то вызывала. Наконец, решился… Дошел до конца первой главы и словно бы наткнулся на плотную стену – не мог продолжать. Встал, начал ходить по комнате от окна к двери. То ли от бессонной ночи, то ли от недавнего перепоя, у него нудно и тупо болело сердце, поташнивало, тянуло прилечь. Но он все ходил и ходил, стараясь понять, почему когда-то ему так нравилась чуть ли каждая написанная им строка, а сегодня все вызывает неловкость, будто он сам себя уличил в чем-то не очень непристойном. Нет, он не уверовал в слова старого писателя о дальтонизме, он просто в это не углублялся. Но по мере чтения, герои его становились всё бестелесней, превращаясь как бы в узоры на обоях. Одну за другой он стал вспоминать свои книги и вдруг испугался до холодного пота: он увидел, как почти не изменяясь, из повести в повесть, его герои заполняли все пространство оклеенной обоями стены… Стало трудно дышать, посередине груди, постепенно разрастаясь, возникла режущая боль, пересохло во рту… Такое бывало с ним и раньше. Врач в поликлинике казал: – зачатки стенокардии. Но вы молоды, если побережетесь, не будете переутомляться, проживете до ста… Он успокоился и больше к врачам не ходил. Но сегодня ему стало страшно одному. Позвать кого-нибудь? Пусть просто побудет здесь, посидит рядом…
Телефон стоял далеко, а встать он не мог – тело не слушалось, будто из него вынули скелет, оставив только беспомощные мускулы. Он становился все легче и легче, он улетал туда, куда уносила его боль. На какое-то время он, вероятно, потерял сознание. Когда очнулся, боли уже не было, дышалось легко, только нестерпимо хотелось спать… Проснулся поздно вечером здоровый, бодрый и голодный. Нашел кусок старого сыра, догрыз вчерашний батон и снова улегся. Попытался уснуть. Не смог. Томительная тревога опять охватила его. Это не было боязнью, что повториться боль… Вспомнилась почему-то девушка, с которой расстался недавно; но не возникло желания повидаться, даже поговорить по телефону. Ушло. Было, промелькнуло, ушло. Что же это? Почему ему так неспокойно? Кажется, что-то надо решить. Важное. Но что? Он не знал, но чувствовал, что к таким решениям человек должен приходить самостоятельно, в полном одиночестве, не делясь своими волнениями, не слушая ничьих советов. Рано утром он вышел из дома и бесцельно бродил по летней полупустой Москве; заходил ненадолго в пыльные скверы, сел на водный трамвайчик и бездумно смотрел на протекающие мимо скучные набережные; обедал в какой-то захудалой столовке, совершенно не замечая, что ест; вечером, придя домой, не мог вспомнить, где был, что делал. Тревога не покидала его. Он ждал: что-то должно с ним случиться. Может быть, решение придет. Так провел он несколько пустых дней. Ни читать, ни тем более писать он не мог, не хотел, даже с некоторым страхом поглядывал на свою, такую раньше покорную и доброжелательную пишущую машинку. Иногда приходил в отчаяние, думал: «Мне ведь уже сорок!» Еще один раз среди ночи у него заболело в груди, перехватило дыхание, охватил все тот же необъяснимый страх. И тогда пришло решение. Не то, генеральное, а как бы малое, периферийное: надо уехать куда-нибудь из Москвы, побродить по лесу… может быть, к морю? Нет, нет, только не в Коктебель, где все те же приятели… Надо туда, где его не знают, и он никого, просто в какую-нибудь деревню, пожить у речки, покупаться…
День он провозился со своим «Москвичом», готовил в дальнюю дорогу. Прохладным, туманным утром он выехал из дома, впервые за многие дни спокойный и немного возбужденный. Через час выбрался за границы города, выехал на какое-то шоссе и погнал «Москвич» вперед, куда глаза глядят. В два часа дня, из конца в конец проехав какой-то маленький городок, остановился на его окраине перед одноэтажным деревянным зданием с вывеской над дверью «Столовая № 2». У входа стояло несколько запыленных грузовиков. В полутемном зальце все столики были заняты. Он нашел одно свободное место – трое мужчин, по виду шоферы, весело переговариваясь, доедали густые, вкусно пахнущие щи; присел, ища глазами подавальщицу. Один из обедающих сказал ему:
– У нас самообслуга. Вон, на стойке возьми поднос, набирай в окошке, чего хочешь, там и заплатишь. Удобства!
Когда Петр снова уселся на место, соседи по столу уже пили чай. Стол был заставлен стаканами без блюдец. Общей ложкой они размешивали сахар. Тот, кто сказал Петру о самообслуге, спросил:
– С далёка?
– Ага.
– Куда едешь?
– А не знаю.
Петру стало весело оттого, что он не знает, куда едет.
– Понятно, сказал шофер, отпускник.
– Ага, – снова кивнул Петр.
– Так ведь до ночи на этой дороге ты хороших мест не увидишь!
– А я переночую где-нибудь и дальше поеду. Найду, поди, в России, что мне понравиться, как думаешь?
– Россия большая… Ты сам-то откуда? Москвич?
– Живу в Москве, сам из-под Курска.
– Ну, туда на своей тарахтелке не доедешь.
– Верно.
– Пора нам. Счастливой тебе дороги.
Петру стало жалко расставаться со своими новыми знакомыми.
– Минутку не задержитесь, пока дообедаю? Я, может, вместе с вами поеду. Шофер засмеялся.
– Куда? Мы в свиносовхоз, отсюда километров двадцать. Там нанюхаешься, не обрадуешься. Какой уж у нас отдых!
– Жалко…
Ночевал он в машине на опушке леса, полукругом окаймлявшего огромное поле зреющих хлебов. Лежать было неудобно, ноги зябли и сползали с сиденья. Несмотря на это, спал он крепко, без снов; на рассвете выбрался на волю, размялся, хотел было ехать дальше, но, пораженный увиденным, так и застыл, держась за открытую дверцу. Мало ли рассветов видел он в жизни? Но этот открыл для себя впервые. Все поле перед ним переливалось и сверкало от росы, легкий ветерок морщил поверхность еще зеленых хлебов и казалось, пролетают над ним изогнутые, прозрачные волны. Воздух струился, усиливал излучаемый полем свет. Слева, отделившись от леса, прямо в поле стояло несколько березок. Солнце только взошло, и стволы их были розовыми и будто прозрачными. Ветер колебал умытую листву и на бледно-желтом небе она, казалось, свободно парила, не прикрепленная к ветвям. В лесу щелкнул клёст. Ему нежным свистом ответила синица, и вдруг всё вокруг заклекотало, запело, зачирикало. Петр зачарованно слушал. На минуту он поверил, будто поют не птицы, а это улетающее к горизонту поле, березы и сам темный, только просыпающийся лес. Он долго стоял, снова и снова обводя медленным взглядом всё вокруг, словно хотел навсегда запомнить… Солнце поднялось выше и сразу все потускнело – погасла роса, посветлел лес и стали обычными, бело-черными березы, но волнение и радость не покинули Петра. Он вывел машину на шоссе и опять пустился наугад вперед. Дорога уже не утомляла его, как вчера, и серая полоска асфальта не казалась такой однообразной и скучной.
Он не думал ни о чем определенном, а просто старался вобрать в себя все, что попадалось на глаза. Может, это и было главное решение, прихода которого он ждал? Видеть, слышать, дышать, не укладывая случайные мысли и впечатления в аккуратные, округлые фразы?… Придут же когда-нибудь слова, за которые потом не надо будет стыдиться… К вечеру, голодный и усталый, он, наконец, набрел на место, где ему захотелось задержаться, может быть, пожить подольше: небольшая деревня взбегала на взгорок, а там, внизу текла неширокая речка. Неизвестно, где начинаясь, она ускользала в лес. Вблизи она уютно поблескивала под лучами заходящего солнца, а подальше, под деревьями становилась мрачной, немного таинственной. Петру захотелось тотчас, еще до того, как он найдет себе жилье, сбежать с пригорка, перейти овраг и окунуться в эту золотистую воду, и, может быть, накупавшись, проплыть под сумрачную тень склоненных над водою деревьев. Но он боялся, что позже его уже никто не пустит в дом.
Пристанище нашлось быстро в недавно срубленном доме, поставленном чуть на отлете от деревни. В чистой горнице, отданной ему хозяевами, пахло живицей, в окно была видна светлая излучина реки. Как только он водворился в доме, шестилетний сын хозяев тщательно осмотрел и ощупал «Москвич», оставляя на запыленном корпусе следы своих ладошек, затем, бесцеремонно войдя в горницу, также тщательно перещупал все петровы вещи, с ног до головы осмотрел всего его и только после этого деловито представился:
– Меня Витькой зовут. А тебя?
– Петром.
– Мамка сказала, ты дачник.
– Можно и так.
– А что это «дачник»?
– Ну, что ли, человек, который приезжает куда-нибудь отдохнуть.
– А ты устал?
– Устал.
– Наработался?
– Да.
– А что ты работаешь?
– Петр помолчал, не знал, как объяснить мальчику, «что он работает».
Витька помог ему:
– Ты шофер, как папка?
– Нет.
– Как же ты управляешь, ежели не шофер?
– Научился, – неопределенно ответил Петр.
– А зачем?
Вопросы Витьки все больше ставили Петра в тупик.
– Ну… ездить…
– Далеко?
– Как придется.
– Работать?
– И это.
– А что работать?
– Понимаешь, Витька, – сказал Петр неуверенно. – Я книжки пишу. Выдумываю, что ли…
– Сказки? Как наша бабка?
– Ага, сказки, не зная уже, как отделаться от мальчика, подтвердил Петр.
– А для меня выдумаешь? Бабка все одни и одни рассказывает. Я их все уже напролет знаю. Скучно…
– Постараюсь. А сейчас – айда машину мыть. Покажешь, как к берегу лучше проехать. Потом искупаемся. Идет?
С этого дня так уж повелось – на речку они всегда отправлялись вместе. Почти весь день проводили у реки. Если было жарко – уходили в лес; река там сужалась, превращалась почти в ручей. В глубине леса над водой нерукотворным мостом склонилась толстенная ольха. Петр с Витькой перебирались на противоположный низки берег, бродили по лесу в поисках земляники, потом купались; словом, по-настоящему подружились, тем более что Петру не хотелось сейчас общаться ни с кем другим. Возможно, что этих двоих – маленького и большого – связало нечто большее, чем простая дружба. Да и какая могла быть дружба между сорокалетним и шестилетним? Вот если Витька куда-нибудь убегал надолго, Петра охватывало беспокойство. Ему не хватало выжидательного внимания Витьки, его заинтересованных глаз, его готовности заливисто смеяться любой незадачливой шутке старшего. Он скучал без Витьки. Вероятно, это была не просто дружба, а любовь, которой не научили Петра в детстве. Бескорыстная, ни в чем не заинтересованная, кроме взаимного присутствия. Да и не только это. Петра поражало в мальчике удивительное свойство радоваться всему, умение все видеть и слышать, даже ощущать собственное быстрое тело; каждую секунду времени открывать новое, все время ждать, что вот-вот сейчас, сию минуту случиться что-нибудь необычное, интересное, веселое. В этом худущем, до черна загорелом существе внутри все время что-то кипело. Даже тогда, когда, накупавшись до озноба, он неподвижно грелся на солнце, в нем всё равно ощущалось тихое движение, подобно тому, как в стакане с газированной водой беспрестанно и бесшумно устремляются вверх пузырьки…
Тогда Петра охватывала никогда ранее испытанная нежность. В первые дни близости с девушкой, которую он недавно покинул, он испытывал что-то похожее. Но там было покровительство сильного слабому, наждавшемуся в защите. Когда же стало ясно, что его превосходство кажущееся, отношения погасли. Здесь было другое, Он не чувствовал себя ни сильнее, ни умнее, ни даже старше. Может быть, это только ему казалось, но он как будто заражался от мальчика этой его тихой стремительностью, свойством все видеть и воспринимать как бы впервые и одновременно, ежесекундно вбирать в себя весь разнообразно звучащий окружающий мир.
Чем жарче разгоралось лето, тем больше времени они проводили в лесу, тем дальше уходили от дома, туда, куда уводила их петляющая река. Однажды они набрели на большую поляну. Здесь река расширялась; таинственность ее исчезала, она была голубой и яркой, струились устремленные вниз, в непонятную глубину перевернутые деревья, колеблясь, проплывали облака, со дна, не достигая поверхности, навстречу острым вершинам елок, извивались тонкие плети ключей. Вода была здесь холоднее и как будто плотнее, чем дома под увалом. Это стало их любимым местом. Взяв с собою хлеб, длинные перья лука, пару огурцов, они отправлялись туда почти на целый день. По нескольку раз купались, обсыхая, рассказывали друг другу немудреные сказки, иногда подолгу молчали, валяясь на прохладной траве и оба были вполне счастливы. Как ни странно, чем жарче становился воздух, тем больше холодела вода. По утрам даже страшно было в нее окунаться. Несколько раз во время купания у Витьки судорогой сводило ноги, но никакие предупреждения, даже запреты и угрозы на него действовали. Как только они приходили на свое место, Витька с разбега бросался в воду, демонстрируя перед Петром умение плавать и подолгу держаться над водой.
В этот день было очень жарко. Явно собирался дождь, да никак не хотел пролиться. Пока они дошли до поляны, оба были мокры до духоты, царившей под деревьями.
– Не лезь сразу в воду, – сказал Петр. – Остынь раньше.
– Еще чего! Остынь. В воде и остыну. А ты дядя Петя, сколько я просижу под водой. Ты не хотел вчера смотреть, а я просчитал аж до двадцати!
– Не заливай! Ты до двадцати и считать еще не умеешь.
– А вот и умею! А вот умею! Считай!
– Петр не успел его удержать – воробьем пролетел мимо, плюхнулся в воду, подняв тучу холодных брызг.
Вздрогнув от окатившего его фонтана, Петр решил посидеть на берегу и послушно начал отсчитывать секунды. Он дошел до двадцати, но Витька не появлялся.
– Раз, два, три, – отсчитал он еще и вдруг понял, что случилось несчастье, что Витька тонет, и, может быть, больше уже никогда не всплывет на поверхность.
Петр не успел даже раздеться, скинул только кеды, разбежался и нырнул. Сдавило грудь, остро заболело под лопаткой, но подниматься на поверхность, чтобы набрать в легкие воздуха, времени уже не было. Он спускался все глубже и вдруг неподалеку от себя сквозь зеленую толщу воды скорчившееся тело мальчика. Ниже, еще ниже. Наконец он смог ухватить Витьку, или то, что было когда-то Витькой, за предплечье. Оттолкнувшись от дна, Петр стремительно поднялся наверх, вынырнул, сделал несколько гребков одной рукой, нащупал ногами дно и, размахнувшись, швырнул легонькое тельце на берег. Бросился к нему, бессмысленно крича «сейчас, сейчас».
Только хотел начать делать искусственное дыхание, как Витька без его помощи повернулся на живот. Его вырвало. Он замотал головой, отряхиваясь, как собака, выскочившая из воды, и, стал подниматься на ноги.
– Витька! – крикнул Петр, падая рядом с ним.
И в эту секунду разрезающая надвое боль ударила в грудь, и Петр тут же ненадолго потерял сознание. Когда очнулся, увидел скорченную от страха фигурку Витьки, услышал его крик:
– Дядечка Петечка, дядечка Петечка, ты что? Что? Проснись!
Боль охватила его всего. В нем не было уже ни одной клетки, которая не болела бы.
Но вместе с болью на него начало окатываться что-то радостное… Может быть, предчувствие счастья? Своим детским, трепещущим нутром, Витька тоже почувствовал приближение чего-то необыкновенного, но вовсе не счастливого – страшного. Петр увидел посиневшее, искаженное ужасом личико и вдруг засмеялся:
– Синий мальчик! – сказал он. – Синий мальчик!
Он хотел еще что-то сказать, но боль унесла его, и он полетел куда-то. Он увидел вдруг покрытое росою поле, розовые березы на нем, увидел черно-зеленую глубину реки и Витькино тело на дне; потом он медленно всплыл на поверхность и перед ним сверкнула осыпанная солнечными осколками, колеблющаяся гладь реки, небо над нею, а там, где-то вдалеке темное лицо бабки в обрамлении по брови линялого платка, полные слез глаза матери и свет, свет… Последней его мыслью было: «Это будет книга про синего мальчика»… А потом только боль и нестерпимо радостный розовый свет…
ОТЕЦ
После смерти жены Александр Иванович вместе с Юркой переехал в подмосковный поселок неподалеку от Шереметьевского аэродрома. Московская газета, где Александр Иванович начал работать заместителем главного редактора, построила там несколько зимних одноэтажных домиков. В одном из них он и получил комнату.
С Анной они познакомились в самом начале войны на Белорусском фронте. Он был тогда военным корреспондентом, она связисткой. Анне было всего двадцать, ему больше тридцати, но ни он, ни она не ощущали разницу в возрасте. Были трудные дни отступлений, но они не теряли друг друга. В начале сентября сорок первого его перебросили под Москву. Он добился ее перевода туда же. Вскоре она заболела двусторонним воспалением легких, легла в медсанбат, и там выяснилось, что она беременна. Пришлось демобилизоваться. Дома, в Москве она застала нового мужа матери – третьего после отца Анны. Вежливый, гладкий работник Генерального Штаба был всего на несколько лет старше Александра Ивановича. Мать, моложавая, статная и властная дама, при молчаливом одобрении мужа, усиленно уговаривала Анну избавиться от ребенка. Но как она могла это сделать?! Ведь Александра Ивановича могут убить, или… или он не вернется к ней – и такое может случиться. Ребенок будет единственным, что у нее останется в жизни на память об их короткой, стремительной любви!
Сразу же после демобилизации Александр Иванович вернулся к ней таким же, каким был. И впервые увидел уже почти трехлетнего сына.
Мальчик достался Анне трудно. После родов она так до конца и не оправилась.
Юре минуло четыре года, когда Анна слегла. Боясь заразить ребенка, она настояла, чтобы ее отправили в туберкулезную больницу. Оттуда она уже не вернулась.
В доме Анны Александр Иванович не стал своим человеком: мать относилась к нему открыто неуважительно – пожилой человек, на солидной должности, а не может добиться для семьи отдельной квартиры! С отчимом они почти все время переглядывались, прощупывая друг друга, но так и не смогли найти нужного тона для общения.
Несмотря на горе, переехав в поселок оба – отец и мальчик, – почувствовали что-то вроде облегчения: здесь они никому не были в тягость. Домá окружал один общий забор, и Юрка по целым дням свободно носился по лесу вместе с ребятишками других сотрудников. Сторожиха и истопница тетя Паша убирала их комнату, готовила, а если Александр Иванович по вечерам задерживался в редакции, укладывала Юрку спать.
Над поселком весь день, а часто и ночью, с ревом проносились самолеты, Но Юрку это нисколько не смещало. Побаивался он только их соседки, ответственного секретаря редакции, женщины неопределенного возраста с холодно-правильными чертами лица и всегда поджатыми, узкими губами. Она никогда не делала Юрке никаких замечаний, не одергивала, если он шумел в коридоре или притаскивал в дом компанию своих приятелей – она просто не замечала его, словно он и не существовал вовсе. Только иногда мельком взглядывала на него бледно-серыми, почти белыми глазами и именно это ее равнодушие больше всего пугало мальчика. Тогда он либо убегал куда-нибудь подальше, либо прятался на терраску, пока она не уходила из дома или не запиралась в своей комнате.
Но вольная Юркина жизнь скоро кончилась. Он был смышленым мальчишкой, к шести годам как-то сам, вернее, подражая старшим ребятишкам, научился читать и даже писать кое-какие буквы. Чтобы он окончательно не разболтался, Александр Иванович отдал его осенью в поселковую школу.
Ходьбы до школы было минут двадцать – перейти поле, обогнуть здание нефтебазы, а там только перебежать шоссе.
Учился Юрка легко, сам дома садился за уроки, и отцу ни разу не пришлось проверять его. Четвертый класс он окончил даже с похвальной грамотой. Труднее стало в пятом – он никак не мог привыкнуть к разным учителям. Он сильно привязался к своей прежней учительнице, да и она к нему относилась по-особому – самый маленький в классе, да еще сирота. Но он вовсе не был таким уж маленьким; одинокая жизнь приучила его к самостоятельности; теперь, идя из школы, он заходил в магазин нефтебазы, покупал все, что полагалось, а иногда, когда тетя Паша была чем-то занята, сам готовил на газовой плитке несложную еду – варил картошку, кашу или макароны, часть съедал, остаток заворачивал в одеяло и прятал под подушку, чтобы отец вечером мог поужинать.
Постепенно и Александр Иванович привык считать его почти взрослым. Отношения у них сложились мужские – спокойные, ровные, дружеские.
Так жили они до ранней весны пятьдесят второго года. И тут Юрка заметил, что отец как-то неспокоен, перестал расспрашивать его о школьных делах, стал молчалив, раздражителен. Тревога отца невольно передалась мальчику.
Однажды Александр Иванович пришел домой необычно рано. Они были одни в квартире – соседка еще не приехала с работы. Отец посадил Юрку рядом с собой на кровать и заговорил очень тихо, почти шепотом:
– Ты помнишь тетю Варю? Помнишь, она приезжала к нам прошлым летом из Ленинграда?
– Помню, конечно, – кивнул Юрка.
– Так вот, малыш, слушай внимательно. Если я когда-нибудь не вернусь домой…
– Как это? – испуганно вскинулся мальчик.
– Да вот так – не приду ночевать, не явлюсь на следующий день, и еще на следующий, ты не слушай никого… не слушайся ни одного человека и никого обо мне не расспрашивай…
– Почему?
– Может быть, я уеду… вынужден буду уехать далеко… без тебя…
– Я не хочу, папа.
– Я тоже, но может быть, придется…
Тихий голос отца и то, что говорил он так серьезно, растревожили Юрку; он изо всех сил старался не заплакать.
Они с отцом никогда не нежничали, не лизались, как презрительно говорил Юрка. А сейчас отец вдруг обнял его, прижал к себе и поцеловал в коротко остриженную макушку. Юрка дрогнул и все-таки расплакался.
– Не надо, – болезненно сморщился отец. – Не надо. Ты только слушай меня внимательно. Вот, смотри, – я пришил внутри рюкзака карман. В нем деньги, твоя метрика и адрес работы тети Вари. В рюкзаке трусы, рубашки, теплый свитер, твои тетрадки.
Плечи мальчика дрожали, и чтоб унять эту дрожь, отец все крепче прижимал к его себе и шептал ему в самое ухо:
– Жди меня не более двух суток. Понял? Двое суток. Если не дождешься – поезжай в Москву, добирайся до Ленинградского вокзала, купи билет на любой поезд до Ленинграда – на любой, – и уезжай. Ясно?
– Ясно.
– Но главное – никто, ни один человек не должен знать, куда ты едешь. Ты умеешь хранить тайны? Конечно, умеешь! У тебя наверняка есть потайное местечко, куда ты до отъезда можешь спрятать рюкзак? Есть?
– Есть.
– Ну, вот. Но главное – не слушайся никого, ничьих советов. И пуще всего этой… нашей соседки. До отъезда старайся ей вообще на глаза не попадаться.
– Да!
– Ну, все, Юрий, все. И не плачь – мужчины не плачут… – сказал отец, поднимаясь. – И не ходи за мной…
– Я буду тебя ждать!
– Жди. Двое суток, не больше… Может быть, я еще вернусь…
Ночевать отец не пришел. Не было его и на следующий день. И на второй.
С вечера Юрка не лег спать и все время к чему-то тревожно прислушивался. Он уже не ждал отца. Просто ему было страшно. Он сидел на полу у окна, в темноте.
С расположенного неподалеку от их дома шоссе доносился шум проносящихся мимо машин. Вдруг он услышал, как одна из них резко затормозила. Хлопнула дверца, скрипнула калитка, на дорожке послышались шаги нескольких человек. Они шли к их дому.
Юрка инстинктивно почувствовал, что среди них нет отца. Он выскользнул в темный коридор, неслышно отворил дверь кухни и, как кот, юркнул в узкий лаз под терраску, где еще утром спрятал свой нетяжелый рюкзак.
Всю ночь в комнате ходили, что-то передвигали. Под утро над самой своей головой Юрка услышал четкий голос своей соседки:
– О мальчишке не беспокойтесь, товарищи. Я еще вчера договорилась – утром за ним зайдет участковый и отвезет в детский дом. Вероятно, он ночует у кого-нибудь из поселковых ребят. Ничего, утром явится.
Гулко простучали шаги сбегавших по ступенькам людей, потом негромко скрипнула калитка, взревел мотор. Машина отъехала.
Юрка долго сидел притаившись. Наконец услышал, как щелкнул замок входной двери, и все стихло.
Тогда он вылез из своего убежища и одному ему известными тропками, пробрался к вокзалу. Через несколько минут подошла первая электричка. У сонной кассирши Юрка купил билет, забрался в пустой вагон и мгновенно уснул.
На Ленинградский вокзал он приехал, когда только что открылись кассы. Поезд отходил вечером. Купив билет, Юрка примостился на скамейке в зале ожидания и почти неподвижно просидел до самого вечера. Хорошо, что он догадался сунуть в рюкзак батон и большой кусок вареной колбасы! Ему очень хотелось пить, но он никак не мог решиться подойти к буфету и попросить стакан чаю. Он задремывал и снова испуганно вскидывался – мимо него все время ходили какие-то люди, бегали дети; рядом на скамейке всхрапывала толстенная баба, окруженная сумками, сетками, мешками… Наконец, он дождался своего поезда, нашел вагон, место, долго пил в туалете, неумело нажимая непослушный кран, потом улегся на своей голой, твердой полке, положил под голову рюкзак и крепко уснул…
Долго стоял он на утренней, оживленной площади Московского вокзала, не решаясь ни у кого спросить, куда ему идти.
Молоденький милиционер обратил внимание на растерянного мальчишку.
– Ты кого-нибудь ждешь?
– Нет! – испуганно ответил Юрка.
– Что же ты тут стоишь столько времени?
– Вот, – доверчиво протянул он записку отца с адресом библиотеки имени Тургенева. – Я не знаю, как пройти… проехать…
Когда Юрка добрался до библиотеки, она была еще закрыта.
Серое марево, заволакивавшее небо, постепенно рассеялось. Показалось солнце.
Юрка уселся перед закрытой дверью библиотеки и снова стал ждать. Никто не обращал на него внимания. Только худая серая кошка подошла к нему и потерлась о его ноги. Он отыскал в рюкзаке последний кусок колбасы и дал ей. Кошка с удовольствием съела уже не очень аппетитно пахнущее угощенье и не отходила больше от Юрки. Он взял ее на колени и вдруг то, что клубилось в голове, в груди, затрудняло дыхание, отошло куда-то и мальчик с интересом стал всматриваться в проносящиеся мимо автомобили.
И тут он увидел тетю Варю. Она, как и другие, не заметила его. Он встал, тихо окликнул:
– Тетя Варя!
– Ты? – вскрикнула она. Что случилось? С отцом, да?
Юрка молча глядел на тетю Варю, все еще прижимая к себе кошку; внезапно она дернулась, зло мяукнула и стремглав бросилась в открытую дверь библиотеки…
…Через несколько дней они уехали в Бийск к отцу погибшего во время войны мужа тети Вари. В его доме они прожили недолго – как только тетя Варя начала работать в городской библиотеке, они стали снимать комнату в маленьком деревянном доме старухи-староверки, потерявшей на фронте трех сыновей. Она была строга, молчалива и неприветлива, но к Юрке относилась терпимо, даже иногда подкармливала его. А жилось им туго; маленькой тетевериной зарплаты едва-едва хватало на оплату квартиры, дров и самой необходимой пищи. Юрка рос непомерно быстро. К четырнадцати годам он намного перерос тетю Варю, был худ, костист и голенаст, как дворовый щенок. С теткой они как будто были дружны – спокойно, молчаливо, без сантиментов и задушевных разговоров – просто жили рядом два надежных человека и по мере сил старались помогать друг другу.
Юрка давно понял, что отец никогда бы не бросил его по собственной воле. И ни на минуту не переставал ждать его возвращения. Но никогда не спрашивал у тети Вари об отце. И она никогда о нем не говорила. Это молчание еще больше сближало их.
Юрка видел, как трудно этой уже немолодой женщине вести их скудное хозяйство. Осенью пятьдесят шестого года он перешел в восьмой класс. Тетя Варя не удивилась и не возразила, когда он сообщил ей свое решение – на будущий год уйти из школы, начать работать, а если удастся – кончать десятилетку в школе рабочей молодежи.
В декабре того же года пришел на имя Юрки официальный пакет. Глянув на штамп, тетя Варя, волнуясь, вскрыла его и, прочтя, решила пока не показывать его мальчику. Через два дня, взяв недельный отпуск за свой счет, она уехала в Москву.
Вернулась похудевшая и как бы сразу постаревшая. Она ничего не стала рассказывать Юре. Ночью он проснулся, прислушался, но все было тихо. Собирался было снова уснуть, но вдруг понял, что проснулся оттого, что тетя Варя не спала.
– Что случилось? – спросил он шепотом.
Она долго не отвечала, наконец, громко и по-обычному спокойно сказала:
– Теперь мы остались с тобой совсем одни на свете – папа утонул. Сплавлял лес на Енисее, оступился, его затянуло под плот… и все…
До утра они не спали и оба затаенно молчали.
Больше они об отце не говорили.
Теперь Юре уже некого было ждать. Он не вспоминал отца – просто он всегда был рядом. Когда оставался один, слышал его тихий голос и старался слово за словом восстановить то, что он говорил ему в день исчезновения. Одна какая-то фраза, может быть, самая главная, все время ускользала из памяти. Что это было? О чем? О ком говорил отец?
Но однажды ночью он услышал осторожный отцовский шепот:
– Главное – не слушай ничьи советов. Особенно советов этой… соседки! Старайся ей вообще не попадаться на глаза!
Он понимал – кто-то же виноват в том, что случилось с отцом? И если он мужчина, он должен отомстить. Но кому?
И внезапно его словно осенило – это она во всем виновата, она, эта каменная женщина, которой он все детство боялся!
Как мог он, пятнадцатилетний паренек, понять, разобраться во всех сложностях жизни?! И вся сила мальчишеской, убежденной ненависти сфокусировалась на холодном лице этой женщины, на ее белых глазах и сжатых губах.
С этой минуты его инстинктивная ненависть осталась в нем навсегда. Она сопровождала его во сне, и наяву, и тогда, когда он, кончив восьмилетку, пошел работать, и тогда, когда служил в армии. Там, в сонной казарме, он часто просыпался, разбуженный сказанной над самым ухом фразой: «Я еще вчера договорилась – утром придет участковый и отвезет его в детский дом…»
Он никогда не задумывался, жива ли она еще, хотя и тогда она казалась ему старухой. Он просто ненавидел ее и ненависть давила его, как болезнь…
Действительную службу он отбывал на далеком Севере и по окончании остался там же – поступил на большую стройку шофером дальних рейсов. В отпуске он не был три года – накопил много свободных месяцев и довольно много денег.
Подумывал о том, чтобы поступить на заочный в Томский политехнический институт. Но раньше решил съездить домой, в Бийск.
Тетю Варю он застал уже на пенсии. Она сильно постарела, но была все такой же сдержанной и спокойной. В первый же вечер она усадила его за стол, села напротив и внимательно, даже придирчиво осмотрев его, заговорила:
– Оматерел ты, Юрий. Мужиком стал. Женился?
– Нет.
– Что собираешься с собой делать?
– Хочу попытаться на заочный в политехнический.
– Перезабыл, наверное, все.
– Нет. Занимался там. Попробую.
– Попробуй… Ну вот что, я хочу, чтобы ты, наконец, узнал, зачем я тогда, в пятьдесят шестом, ездила в Москву. Это ведь тебя вызывали, не меня. Да ты был еще слишком мал… Так я все узнала о Саше… об отце. Его сняли с работы и отправили на Крайний Север потому, что он отказался подписать заявление нескольких сотрудников газеты о главном редакторе. В этом заявлении они утверждали, что главный – бывший полицай, служил у немцев. Потом все выяснилось – это оказалось ложью, клеветой. Как раз отец и занялся выяснением истины. А пока он добывал документы и свидетельские показания, один из сотрудников редакции занялся так называемым исследованием литературной и общественной деятельности отца: на шестидесяти страницах на машинке, напечатанных через один интервал, этот сотрудник разобрал все отцовские статьи, даже те, что были напечатаны во фронтовой газете, его поведение, отношения с сотрудниками, его частную жизнь. Все эти страницы были полны передержек, вырванных из контекста цитат, сплетен. Мне дали прочитать. И выдали вот эту бумажку о полной реабилитации…
– Кто написал этот разбор? Мужчина? Женщина?
– Не знаю. Кажется, мужчина. Я фамилии не запомнила, только знаю, что кончается на «ович».
– На «ович»! Я узнаю, кто это! Я его найду! – сказал Юрий, поднимаясь.
– Я рассказала не для этого. Просто – ты должен знать…
Отложив все свои институтские планы, Юрий поехал в Москву. В газете, у старого сотрудника, он без труда выяснил, чья фамилия кончается на эти буквы…
…Из незанавешенного окна свет падал на влажную траву.
Он хорошо помнил – это было окно их комнаты.
На подоконнике горела любимая отцовская лампа под зеленым стеклянным абажуром.
Кто-то вошел в комнату, уселся у стола.
Он не сразу узнал ее – она сильно пополнела, стала как будто ниже ростом. Но это было ее лицо – тупой нос, безгубый рот; только стриженые волосы из пепельных стали серыми.
Он вошел в дом через незапертую кухню, по узкому коридору прошел мимо ее комнаты. Там горел свет. За неплотно прикрытыми дверями он увидел кровать, ночной столик, шкаф – все стояло на прежних местах.
«Значит, теперь она занимает весь дом», – мельком подумал Юрий и, не стучась, вошел в их бывшее жилище.
Не оборачиваясь, она сказала недовольно:
– Вы опять опоздали. Я же просила вас прийти пораньше, наладить изображение. Передача вот-вот начнется.
Он молчал.
– Что же вы?
Он не ответил.
Она обернулась и, видно, тот час его узнала, хотя перед нею был не мальчишка, а давно отслуживший службу солдат.
Она испуганно вскочила, подняла руки, словно защищая лицо от удара.
– Успокойтесь! – сказал он брезгливо. – Бить я вас не собираюсь. Сядьте.
Она послушно опустилась на стул, но страх не исчез с ее лица.
– Я сказал – успокойтесь! Мне только важно узнать, за что вы ненавидели моего отца?
– Вы сошли с ума!
Он подошел к столу, пристально взглянул в ее белесые глаза, беспокойно плававшие меж покрасневших век.
– Неправда! Это он меня ненавидел. А я… хотела его спасти! Я умоляла его подписать наше заявление о главном редакторе…Вы были мальчишкой тогда и ничего не знали… не понимали…
– А ваш донос вы тоже писали из желания его спасти?
– Это ложь, ложь!
Его охватило удушливое чувство гадливости. С трудом преодолев желание ударить ее, он стремительно выбежал из дома.
Мелкий кустарничек шелестел по листьям разросшихся у крыльца жасминных кустов.
Юрий сбежал на дорожку.
В конце ее, в длинной луже, колебался, извиваясь, фонарь.
А за ним, за кругом белого света, неплотно стояла темнота и манила его как что-то давно желанное, как освобождение…
ПЕРВЫЕ ЯБЛОКИ
На свадьбе дочери она не была – сильно простудилась, с месяц перемогалась, а за день угодила в больницу с двусторонним воспалением легких и выписалась уже зимой, да такая слабая и худущая, что ни о какой поездке и думать не могла.
Дочка жила по ее тогдашним представлениям на том конце света: от ее деревни надо было ехать до Луги часа полтора автобусом, из Луги до Ленинграда на поезде, оттуда опять на автобусе до Белозерска, да там – километра три пешком до поселка Озерки.
Все это подробно ей описал зять в своем письме и даже нарисовал карту с точными определениями: вокзал, номер автобуса, улица, где лучше всего сесть на автобус до Белозерска, проселок, лес – ну, словом, заблудиться было невозможно.
Письмо было любезное, приглашение «приехать, погостить, как только соберетесь с силами», как будто искреннее. Не понравилось только обращение:
«Уважаемая теща Анастасия Ивановна!»
Конечно, обращение «мама» или «мамаша» как будто бы и не к лицу ему – он человек уже солидный, всего на десять лет моложе нее, Анастасии Ивановны, но все-таки ей стало как-то не по себе от короткого и неласкового слова «теща». И подписался он больно официально: «Ваш зять Вятич, Виктор Степанович».
За время ее болезни дочка с мужем побывали у нее дважды – раз еще в больнице, второй, когда она уже выписалась и с трудом обживала свой нетопленый, неприбранный дом.
В больницу они принесли две бутылки вишневого сиропа. Ставя их на тумбочку у кровати, зять сказал солидно: «Пейте с водой. Витамины. Полезно. Вам надо сил набираться, а витамины для этого – первое дело».
А у нее дома, когда они попили чаю и отдохнули с дороги, зять вытащил из внутреннего кармана пиджака небольшой, яркий, атласно блеснувший головной платок и словно купец, встряхнул его и развернул перед Анастасией Ивановной. Мелькнули лошади, впряженные в какие-то странные двухколесные повозки, кучера в ярчайших камзолах, башни, дома, непонятные надписи.
– Носите на здоровье, – сказал зять. – Французский. По случаю купил.
Но она не решалась все же взять в руки платок.
– Ну, зачем же такой дорогой? – смущенно откликнулась Анастасия Ивановна.
– Ничего, – солидно кивнул зять. – Ведь не в чужие руки.
– Берите, мама, берите, почему-то тоже смущенно сказала дочь. – Берите. Он вообще любит подарки дарить.
– Ну, спасибо, коли так.
Она взяла, наконец, подарок, разгладила его на коленях; кожа руки неприятно зацепилась за гладкую поверхность. Она торопливо сложила его и положила рядом на стол.
Дочь почувствовала, что мать не радует этот странный подарок.
– Смотрите, мама, вот. Это колечко он мне на свадьбу подарил. – Она протянула руку: на безымянном пальце блеснул яркий, прозрачный камушек.
– Гляди, – удивилась мать. – Даже светится.
– Еще бы! – самодовольно произнес зять. – Три с половиной карата!
Карата? – подумала Анастасия Ивановна. – Я такого камня не знаю. Яхонт знаю, коралл. А может, коралл? Нет, тот розовый.
– Материново наследство, – сказал Виктор Степанович. – Она в блокаду выменяла. Вот, берег для будущей жены. Пригодилось, – улыбнулся он.
Первое время дочь писала много. Письма были длинные, подробные. Все у нее как будто хорошо: работала она там же, в птицеводческом совхозе, в шести километрах от Озерков. Муж купил ей мотоцикл, научил ездить, теперь на дорогу с работы и на работу тратила не более сорока минут.
«Успеваю, – писала дочь, – и с хозяйством справиться, и Виктору помочь – ведь он сам отделывает комнаты на втором этаже – рамы и двери вставляет, штукатурит, красит, он все умеет! А дом у нас лучший во всем поселке – кирпичный, комнат много. Виктор говорит, как кончим, летом дачников пустим. Правда, от моря далековато, да ничего, если дачники попадутся с машиной…»
«Хозяйственная стала, – с одобрением подумала Анастасия Ивановна. – А раньше-то об домашних делах и мыслей у нее не было. То школа, то ферма, то вот потом техникум, то на работу согласилась в дальний совхоз. Да и вправду сказать – баловал ее отец, одна ведь у нас. Что захочет, то разрешал. Пусть, говорил, как уроки сделает, бежит на ферму, ежели тянет ее туда. Пусть учится. Вырастет – в техникум пойдет, зоотехником будет. Плохо ли? А по дому мы с тобой вдвоем справимся, какое у нас хозяйство?»
И верно, хозяйство их было небольшое – корову они не держали, свиней тоже, только что куры по двору бегали. С фронта муж вернулся хромым и с глубокой впадиной за ухом – раздробило кость, да осколки выбрали, видно, не все – голова часто болела, отекало лицо. Сперва люди думали – он начал пить, оттого и пухнет, но потом разобрались, что от ранения. Отдохнув с неделю, он снова взялся за старое, любимое свое дело – садоводство. Колхоз их так и назывался – плодоягодный имени Первой пятилетки. Да какие там ягоды на севере? Смородина. А вот яблоки были действительно замечательные – и ранний белый налив, и анисовка, и даже шафран. За всем этим тщательно следил и ухаживал Никита Антонович Худяков. Спокойный, ровный с людьми, неразговорчивый, из-за своей хромоты, ранней болезни он был робок с женщинами и все, даже он сам, привыкли к мысли, что так и останется Худяков бобылем. Но неожиданно в пятьдесят втором году он женился на своей помощнице, незаметной малорослой Тасе. Как привыкла она слушаться его на работе, так стала во всем подчиняться и дома, в семье. Жили они спокойно, согласно. В пятьдесят четвертом родилась Анюта, крепенькая, тоже на редкость спокойная и сговорчивая девочка. Росла, пошла в школу, училась ровно, ничем особенно не выделяясь и не отставая. Когда перешла в седьмой класс, летом, чтобы помочь отцу, который часто болел и подолгу не поднимался с постели, нанялась на птицеферму ухаживать за цыплятами, да увлеклась, полюбила веселый, шумный, вечно щебечущий и дерущийся народ; вместе с отцом они решили, что после восьмилетки она постарается сдать экзамен в зоотехникум и станет птицеводом. Мать не очень довольна была этим, ей не хотелось отпускать девочку в город на долгие четыре года. Особого достатка в семье никогда не было, теперь, когда отец почти совсем не работал и все забота о колхозном саде пала на руки Таси, Анастасии Ивановны, в доме была нужна помощница, хозяйка, работница. И хотя в семье все как будто переменилось, и головой дома стала мать, Анюта на все уговоры ее отвечала молчанием, все свое время посвящала своим пушистым любимцам и упорно готовилась к экзаменам в техникум. Отец тоже молчал, словно бы и не слушал воркотню жены.
Получив свидетельство об окончании восьмилетки, Анюта уехала в город подавать документы в техникум. Пробыла там два дня, а когда вернулась, не застала отца в живых – ночью он встал, чтобы напиться, зачерпнул ковшиком из ведра, да так и не успел поднести его ко рту – упал. Анастасия Ивановна проснулась от звона, катящегося по полу ковша, вскочила, впотьмах натолкнулась на тело мужа, – он уже не дышал…
Любила ли она своего Никиту? Она никогда не задавала себе этого вопроса. Поплакала, конечно, повыла на похоронах, выпила за помин его души, а наутро встала как всегда и собралась на работу.
Анюта не плакала, она словно застыла. Всю ночь просидела за неубранным после поминок столом – дом ей казался чужим и холодным, как могила, в которую вчера опустили отца.
Мать пристально поглядела на нее, вздохнула, сказала ласково:
– Приберись, дочка. Обед не стряпай – с поминок осталось, так, холодного поедим. Помолчала и прибавила негромко:
– И поплачь, поплачь, доченька, не то сердце закаменеет. Ничего. Поплачь, отойдешь. Остались мы теперь одни с тобой…
Анюта разогнулась и, не поднимаясь со стула, сказала каким-то не своим, застоявшимся голосом:
– Вот что, мама, вы на меня не обижайтесь. И не сердитесь. Но я уеду…
– Бросишь меня? – тихо откликнулась Анастасия Ивановна.
– Что вы?! Как можно?! Я приезжать буду, помогать вам, как смогу. Но я… нет, главное – отец тоже хотел. Не могу иначе. Я… я, как бы, должна ему осталась…
Мать долго молчала. Двинулась, было, к ней, но не дошла, остановилась, присела у противоположного конца стола. И сказала тем же согласным тоном, которым говорила когда-то с мужем:
– Что ж, Анна, ты всегда отца больше, чем меня, любила. И на него больше похожая. Езжай. Коли должна, – плати свой долг. Плати. А мать… Что ж мать? Она всегда – мать. Никого у тебя ближе теперь нет. И не будет. Это ты помни, доченька. А я уж как-нибудь…
Анюта уехала, поступила в техникум, исправно приезжала в каникулы помочь матери – то хату прибрать, то окучить и побелить четыре яблони в палисаднике перед домом, которые отец посадил незадолго до того, как слег и больше уже не поднимался, то дров напилить и наколоть на зиму. Каждый раз она привозила матери какой-нибудь маленький подарок – коробку печенья, банку сгущенного молока, кило дешевых конфет – на большее из своей стипендии она раскошелиться не могла.
Мать надеялась, что после окончания она получит направление к ним в колхоз; но маленькую их ферму вскоре ликвидировали – не выгодно было ради сотни-другой кур держать зоотехника с помощником и тратиться на корм.
Поэтому и направили Анюту в далекий от ее родных мест птицеводческий совхоз. Там она и познакомилась со своим будущим мужем, шофером расположенного неподалеку строительства большого курортного комплекса. В совхозе он бывал частенько – жил почти рядом, заезжал то в клуб потанцевать или кино посмотреть, то по каким-то своим делам к директору или дальнему своему родственнику, кладовщику.
Жениховство продолжалось недолго, с месяц, не больше. Анюта сама не понимала, почему так быстро согласилась выйти замуж за человека почти на двадцать лет старше ее. Может, потому что мать тоже была моложе отца. А может, ей понравились солидность, положительность Вятича, его стремительная напористость, с которой он чуть ли не в первый час знакомства стал уговаривать ее выйти за него замуж. Да еще то, что до самого дня свадьбы он не пытался ее поцеловать. Кажется, именно за эту, как ей казалось, скромность и чистоту она и полюбила его… Да еще за необыкновенную щедрость. Почти в каждом письме она писала матери: «Виктор купил телевизор. Большой. «Рубин» называется. Говорит – для меня, чтобы не скучала по вечерам и не бегала в клуб кино смотреть. И правда, почти каждый вечер смотрю разное кино и что там еще интересное показывают»… «Виктор купил мне на платье очень красивый материал, весь в цветках. Да еще на костюм. Платье, говорит, сейчас сшей, а костюм потом, как посолиднеешь. Смешной! Когда еще я посолиднею?! А материал хороший, чистая шерсть, темно-синий в черную полосочку, такую тоненькую, почти незаметную»… И еще: «Виктор велел мне всю зарплату не тратить, класть на сберегательную книжку. Он решил копить на машину «Жигули» называется. Но я своей книжки не завела. Зачем? Пусть у него. Не привыкла я книжку иметь. Еще потеряю…»
«И зачем ему эти самые «Жигули»! – недоуменно подумала Анастасия Ивановна. – И так дни-ночи на машине раскатывает, а нужно куда по частности – мотоцикл есть. Анюта писала – большой, с коляской. Сколько же лет надо Анютину зарплату собирать, чтобы такую уйму накопить?»
Что-то удерживало Анастасию Ивановну от рассказов соседкам о том, как зажиточно живет дочка, какие дорогие подарки получает, а уж про задумку зятя покупать машину и вовсе постеснялась упомянуть: ведь всем известно, что дочка, как вышла замуж, ни разу ей копейки не прислала. На все расспросы, каково Анне живется, отвечала:
– Ладно, как будто. Да и работа от дома недалеко…
Первые полгода письма приходили регулярно; по ним было видно, что дочка жизнью своей вполне довольна.
И вдруг – как отрезало: за три месяца ни одного письма.
Поначалу Анастасия Ивановна не беспокоилась, – занята, наверное: хозяйство, работа, дом. А потом стала думать, не случилось ли чего, не захворала ли, не разбилась ли, не дай бог, на своем мотоцикле.
Свободного времени теперь у Анастасии Ивановны было побольше – после болезни ее перевели в сторожа – зимой по ночам сторожила амбары да склады, а с весны перевели опять же ночным на ягодник и сад.
Лето в этом году наступило как-то сразу, будто весны и не было. Уже к концу июня поспел ранний белый налив, а на тех четырех яблонях, что незадолго до своей смерти посадил в палисаднике ее старик, налились и созрели первые яблоки, на диво крупные, золотистые, пахучие. Особенно на том дереве, что росло у самого окна. Может быть, тепло дома передалось им, думала Анастасия Ивановна, а может – любовь ее Никиты Ивановича: всю весну, что лежал, не поднимаясь с постели, глядел он на молодую листву принявшегося деревца; лежал, смотрел, молчал и улыбался.
Когда яблоки на нем появились и созрели, Анастасия Ивановна аккуратно собрала их, уложила в две небольшие корзинки и, договорившись с председателем, что кто-нибудь заменит ее на два дня, собралась к дочери.
Поднялась она на рассвете, надо было поспеть на первый автобус, а до остановки далеко; но пришла она рано и до прихода автобуса успела отдохнуть на скамеечке и даже позавтракать захваченным с собою хлебом, запив его молоком из припасенной бутылки.
Но вот, наконец, вдалеке на шоссе показался автобус. Анастасия Ивановна вынула из кармана подаренный зятем французский платок, повязала голову, туго затянув узел под подбородком, взвалила на плечи связанные вместе корзинки и стала ждать.
Автобус подкатил, остановился; зашипев, открылись двери, но ступенька была так высока, что Анастасия Ивановна не смогла на нее подняться – корзины оттягивали ее назад. Водитель, видя, что никто не входит, собрался уже закрыть дверь и тронуться, но в ту минуту единственный пассажир автобуса, пожилой дядя с усами щеточкой под длинным носом, дремавший у переднего окошка, очнулся, заметил неудачные попытки женщины взгромоздиться на ступеньку, крикнул водителю:
– Погоди!
И, подхватив корзины, помог Анастасии Ивановне войти.
– Что же ты такое бремя на себя взвалила? Чисто муравей, ей-богу! – засмеялся пассажир.
– Он, как ты, маленький, а шар катит во сто раз себя больше!
– Спасибо тебе, батюшка. Без тебя бы…
Она уселась почему-то рядом с ним, хотя все места были свободны.
– На рынок, что ли?
– Какое – на рынок! – К дочке еду. Вот зятю в подарок везу.
– Это как – в подарок?
– Так, видишь, он мне этот платок подарил. Французский, говорит, дорогой. А яблоки эти для меня дороже дорогого – первые с яблони, что муж мой перед смертью сажал. Вот и везу, Возьми, покушай.
Пассажир взял яблоко, понюхал, взвесил на руке.
– Ишь ты, какие! Таких теперь по всей России, пожалуй, не сыщешь! Красота. И запах! Как в старину!
– Так ведь не обмичурились, вот яблоки и родятся!
– Обмичурились! – рассмеялся пассажир. – Вострая, я вижу, ты, бабка!
Анастасия Ивановна тихонько засмеялась.
– Да какая я тебе бабка? Мне пятьдесят четвертый. Это я после болезни не оправилась, а так еще быстрая.
– Я к слову, как звать не знаю.
– Анастасия я.
– Уж больно платок у тебя, Анастасия, не того, необыкновенный.
– Говорю же – французский. Я его и не нашивала – неловко как-то по колхозу в нем расхаживать. А надела, чтоб зятя не обидеть.
– Далеко едешь?
– Аж чуть не до финнов, – снова усмехнулась Анастасия Ивановна.
То ли от дороги, то ли от доброго разговора, но тревога ее за дочь не то чтобы пропала совсем, но как бы поутихла. Она с интересом стала глядеть в окошко. Как давно она никуда не ездила! Даже в Луге не была уже года два – незачем было, да и не тянуло никуда. А вот, поди ты, – предстоящее путешествие показалось ей не только длинным, трудным и утомительным, но и интересным!
«А может, стоит по Ленинграду пешком пройтись? – неожиданно подумала она. – Я и была там всего-то три раза в жизни… Да нет, куда мне… не дойду… да и людям на смех – в эдаком платке, да с корзинами… И что это я раздумалась!? А Анюта? Что с ней? Не дай бог…»
И снова тревога забилась в ней, подступила к горлу.
«Случилось что-то. Нехорошее случилось. Иначе хоть зять написал бы… А может, за что-то обиделась на меня? Да за что?! Я ведь ничего никогда у них не просила, только чтоб погостить приезжали… Нет, какая обида? Не такой Анюта человек, чтобы из-за пустяка о матери позабыть… Что же, что за причина?…»
Она больше не откликалась на слова соседа и так, молча, доехали до Луги, только кивнула на прощание; дождалась поезда и как только села, неожиданно для себя тот час же задремала. Проснулась уже в Ленинграде.
Серая пелена заволокла небо. Было пасмурно и шумно. Показалось, что приближается вечер, и Анастасия Ивановна еще сильнее заволновалась. Она забыла о том, что хотела пройтись по городу, полюбоваться на него. Пересаживаясь с троллейбуса на трамвай, она, наконец, добралась до остановки автобуса, едущего в Белозерск. Кто-то уступил ей место у левого окошка. Она бездумно глядела на пробегающие мимо улицы, на пышную зелень садов, Неву, на отраженные в ее неспокойной глади дворцы и павильоны. И встрепенулась только тогда, когда перед ее глазами раскинулась бесконечная, серая плоскость воды.
– Это и есть море? – тихонько спросила она у сидевшей с нею рядом молоденькой женщины.
– Маркизова лужа, – чуть презрительно откликнулась та.
– Лужа? – удивилась и даже немного испугалась Анастасия Ивановна.
– Залив. Так называется. А настоящее море дальше.
– И что же, оно так до самых чужих стран идет? До финнов?
– И дальше! – смеясь, ответила соседка. – Балтика!
Море то появлялось, то скрывалось вновь и каждый раз, как оно исчезало, Анастасия Ивановна пугалась, что больше его не увидит.
До Белозерска она добралась уже часам к пяти. Дорога не утомила ее. Она была немного голодна. Выбравшись на шоссе, указанное на карте, что ей нарисовал зять, она присела у обочины, допила молоко, спрятала пустую бутылку, доела хлеб, закусила яблоком, поднялась и зашагала в Озерки.
По обе стороны гладкого, прямого шоссе высился когда-то давным-давно высаженный лес; куда ни глянь, далеко просматривались ровные, узкие аллеи высоченных стволов, пересеченные такими же ровными, по линейке высаженными деревьями.
Анастасия Ивановна никогда раньше не видела такого странного, скучного, унылого леса.
«Уж в таком не заплутаешь, как у нас», – подумала Анастасия Ивановна. – Чего это мне на шоссе ноги бить? Пойду лесом – мягче, там хвоя».
Углубилась в лес и быстро пошла вперед. Ей казалось, что идет она вдоль дороги, но когда оглянулась проверить себя, в недоумении остановилась: она оказалась как бы в центре какой-то странной геометрической фигуры, загадочного чертежа – вперед, назад и в стороны от нее радиусами расходились темные стволы. Легкий ветер покачивал далекие вершины, и все кругом скрипело и тихонько постанывало. Ей захотелось тот час же вернуться на дорогу, ступить на серую полосу асфальта. Но дороги не было видно. Она еще раз осмотрелась и поняла, что не знает, куда идти – лучи аллей были точны и одинаковы и куда ни направляла она взгляд, они сходились где-то очень далеко, как бы соединяясь в бесконечности гигантской разветвленной звезды. Ей стало неуютно и страшно, будто кто-то нарочно замкнул перед нею эти бесконечно длинные, далеко смыкающиеся прямые.
«Вот те на! – испуганно подумала она. Заблудилась. Да в эдаком-то лесу!»
Она постояла недолго, потом заставила себя встряхнуться, успокоиться, двинуться дальше.
– Чай лес-то саженный, – сказала она вслух. – Есть ему конец, раз его человек сажал. Куда-никуда выйду.
Минут через двадцать она вдруг услышала близкий треск едущего мотоцикла. Повернула на звук и очень скоро вышла на шоссе. Мотоциклист и она увидели друг друга одновременно. Она отчаянно замахала рукой. Мотоцикл остановился.
– Что вам, тетенька? Подвезти?
– Да не знаю, туда ли ты, в мою ли сторону.
– Вам куда?
– В Озерки, парень, в Озерки. Новая улица, семь.
– Это к Вятичу, что ли?
– А ты знаешь его? Здешний?
– Я совхозный, – не очень приветливо откликнулся парень. Тут с километр всего. Садитесь. Тяжело вам с корзинами.
Забравшись в коляску, Анастасия Ивановна, успокоилась и обрадованная, что скоро, наконец, доберется до цели, усмехнулась:
– И что у вас за лес такой? Ровнехонький, как солдаты в строю. Чуть я не заблудилась.
– Мачтовый, для кораблей.
Мотоцикл взял с места, корзины потряхивало, яблоки прыгали, и Анастасия Ивановна испуганно прижала их сверху руками.
– Тут недалеко, под Выборгом, есть лес, корабельная роща называется, – продолжал парень, стараясь перекричать шум мотора. – Так говорят, ее Петр Первый своими руками высаживал…
Мотоцикл неожиданно взревел, затрещал, зафыркал. Парень еще что-то говорил, Анастасия Ивановна его не слышала.
Так же круто, как сорвался с места, мотоцикл остановился у одинокого двухэтажного дома, выкрашенного в странный ядовито-лиловый цвет.
– Приехали, – бросил парень.
Дом стоял почти у самой дороги, отделенный от нее только кустами и таким же лиловым забором. На участке росли две высокие скучные сосны.
– Это улица Новая? – удивилась Анастасия Ивановна.
– Новая, семь, – ответил парень. Вятича домина.
– Да где же сама-то улица?
– А там, на горушке.
Пока парень снимал корзины и помогал ей выбраться из коляски, Анастасия Ивановна ошеломленно рассматривала дом.
– Не сомневайтесь, тетенька, приехали.
– Да почему он такой, ну… цветастый, что ли? – тихо сказала Анастасия Ивановна.
Парень непонятно усмехнулся.
– А кирпичик-то все разный, с бору да сосенки. Вот чтоб незаметно было… под один цвет… Ну, я поехал. Счастливо…
– Погоди… Спасибо тебе… Вот, яблочек возьми…
Но парень уже отъехал, и через мгновение она стояла одна на шоссе.
Перейдя по мостику через кювет, она попыталась открыть калитку, но на ней висел огромный, масляно блестевший замок.
– С работы, видно, еще не пришли, – тихо сказала Анастасия Ивановна.
Только сейчас она почувствовала, как устала, как хочется прилечь. Корзины оттягивали руки, ныла спина; обрадовалась скамейке, вбитой подле калитки, уселась и как-то сразу успокоилась.
«Раз оба на работе, значит, и не случилось ничего. – Погожу. Наверно придут скоро». Собралась немного подремать.
Ей показалось, что она успела только прикрыть глаза. Встрепенулась и увидела зятя.
Он стоял неподалеку и пристально глядел на нее. Что-то в его позе, в немного напряженном взгляде насторожило ее.
– Здравствуйте, – сказала она робко.
– Здравствуйте.
– Вот, приехала, – оправдывающимся тоном начала она. – Затревожилась – три месяца от дочки весточки нет. Случилось что?
– Напрасно беспокоились, – ответил Вятич сухо. – Ничего такого не случилось.
– Ну, слава тебе, господи! Анюта еще на работе? Скоро придет?
Вятич помолчал, потом ответил, мимолетно и недобро усмехнувшись:
– Нет. Не скоро. Точнее если – никогда…
– Ты что? Ты что? – испуганно вскрикнула Анастасия Ивановна.
– А ничего! Не живет она здесь больше, уважаемая Анастасия Ивановна.
– Как это – не живет?
– Да так. Другого нашла, побогаче и помоложе.
– Плохие шутки шутишь, Виктор Степанович! – сказала она тихо.
– Отправляйтесь-ка в совхоз, спросите у нее, почему это она в одночасье, ничего мужу не сказала, взяла свои старые платьишки и укатила. Я за ней на работу, а она – не хочу с тобой ни об чем разговаривать. Ушла, говорит, из дому и весь сказ!
– Как же так? Из своего дома? – сказала Анастасия Ивановна.
– А дом не ее, мой!
– Так жена-то тоже твоя…
Анастасия Ивановна поднялась, с трудом расправляя затекшие ноги, саднящую спину и больше ни слова не сказа Вятичу, перешагнула мостик и шагнула на шоссе.
– Постойте, – немного растерялся Вятич, – зайдите в дом, отдохните хотя бы. Ведь до совхоза шесть километров.
Анастасия Ивановна приостановилась, ответила негромко:
– Зачем я в дом пойду? Из него дочка моя ушла, вот и мне заходить ни к чему…
– Яблоки забыли, – сказал Вятич, глянув на корзины.
– Забыла. Это тебе, вам…
И больше не оборачиваясь, медленно пошла вперед…
Отошла она недалеко. Но крутой поворот шоссе скрыл от нее ядовито окрашенный дом, зятя, забор, калитку. Она почувствовала, что если не отдохнет как следует, попросту не в силах будет двигаться дальше и никогда не сможет пройти те долгие шесть километров, что отделяли ее от дочери. Она сошла с дороги и уже не думая, что снова может заблудиться, прилегла на землю за ближайшим кустом и тот час крепко уснула.
Когда проснулась, не мгла понять – ночь ли уже, или все еще длится пасмурный день – все вокруг было тускло-серым, чуть призрачным и каким-то необыкновенно легким, словно деревья отделились от земли и медленно плывут куда-то. По этой туманной легкости, она поняла, что день незаметно и просто перешел в обыкновенную белую ночь. Это ее не испугало – она отдохнула, а шоссе, на которое она снова вышла, ясно излучало серебристый свет, отражая, как вода, спокойное безразличие неба…
В совхоз она пришла, когда все еще спали. Контора была закрыта; она присела на крыльце, стала ждать, когда кто-нибудь появится. Было тихо, пустынно. В ее деревне в этот час хозяйки уже поднимались, выгоняли коров, затапливали печи, переговаривались через улицу. Да не похоже было, что все, что она видела кругом, когда кто-нибудь появиться, в ее деревне – длинный порядок двухэтажных белых домов без палисадников и приусадебных участков, заасфальтированные тротуары; зелень пробивалась только у самой проезжей части, замощенной крупной брусчаткой. В блеклом свете утра все вокруг казалось Анастасии Ивановне скучным, неуютным. Хотелось тотчас отправиться отыскивать дочь, да где тут ее найдешь? Не будешь же стучаться во все эти аккуратные домики подряд!
Наконец, на прямой улице показалась какая-то женщина с ведром и шваброй в руках. Она медленно, позевывая, приближалась к конторе.
Анастасия Ивановна поднялась и, не дожидаясь пока женщина подойдет ближе, спросила:
– Скажите, пожалуйста, не знаете, где мне найти старшего зоотехника по молодняку…
– Это Анну Вятич, что ли? Да они пока на ферме, в дежурке ночуют.
«Они! – дрогнула Анастасия Ивановна. – Значит, – не врал зять!»
А женщина словоохотливо продолжала:
– Вот так идите, до конца улицы, поверните направо, пройдете поляну, а там ферма видна. Да услышите, такой там шум-щебет идет! И как там спать, не понимаю. Я бы и глаз не сомкнула…
– Благодарствуйте, – не слушая, ответила Анастасия Ивановна и пошла по улице.
Ферму она нашла быстро и действительно по звукам, несшимся оттуда.
Подойдя ближе, она увидела молоденькую девушку в белом халате, стоя за загородкой, она, казалось, по щиколотку вросла в живую, колеблющуюся ярко-желтую массу и, набирая из прикрепленного к поясу короба тоже желтое, блестящее на свету зерно, кормила своих беспокойных питомцев.
– Скажи, милая зоотехник Вятич здесь? – крикнула Анастасия Ивановна.
– Анна Никитична? – откликнулась девушка. – Да спит она еще. Сегодня я с утра дежурю. Пройдите в дежурку. Идите так, не стучите, пора ей подниматься. Скоро за кормами ехать. А вы ей кто? – с любопытством прибавила она.
– Мать я ей, – почему-то робко и тихо ответила Анастасия Ивановна.
– О! Вот счастливая! А у меня мама в Ленинграде. И ни разу еще не приезжала…
С Анютой Анастасия Ивановна столкнулась в полутемном коридоре, как только приоткрыла дверь.
В одной юбке, накинутой на рубашку, Анюта умывалась над раковиной, приделанной к раскрытой двери в комнату, где рядом с большим канцелярским столом примостились две раскладушки. Одна была еще не застелена. За шумом текущей из крана воды, Анюта ничего не слышала и обернулась только на тихий отклик:
– Анюта!
Так с мокрыми руками, Анюта бросилась к матери, обняла ее, прижалась влажной щекой к ее запыленному лицу.
– Мама! Вы как здесь? Кто вас привез?
– А я пришла, не приехала.
– Пешком?!
– Вот, затревожилась. Не писала ты, дочка, думала – что случилось, больна ты, а ты, оказывается… ты мужа бросила…
Анюта молчала и ненужно-тщательно стала утираться лохматым полотенцем.
Анастасия Ивановна тоже молчала, ждала, что скажет дочь. Не дождалась, спросила сухо:
– Другой что ли полюбился? Так?
Анюта заправила за уши влажные волосы и негромко спросила:
– Вы у него были? Это он вам сказал, да?
– Он.
– Солгал он, мама. Никого у меня нет.
– Так что же свой-то дом бросила?
Дочь не ответила.
– В комнату зайдемте. Я оденусь. Мне скоро на работу. Она быстро скинула юбку, натянула платье, причесалась и только после этого сказала уже почти спокойно:
– Не мой это дом. Его. И все в этом доме – не мое.
– Так ведь жена ты ему…
Но дочь не дала себя перебить. Только чуть скорее продолжала:
– Не нужно мне ничего – ни дома, ни телевизора, ни мотоцикла, ни подарков его – ничего! Понимаете? Ничего!
– Поссорились вы? Так помиритесь! Чего в семейной-то жизни не бывает…
– Нет, не ссорились мы.
– Так и верно – другого полюбила?
– Нет! Нет! – крикнула Анюта. – Я же сказала вам – солгал он. Нет!
– Что же?
– Ничего! Не буду я с ним жить! Не буду! Не мучайте вы меня, мама, не расспрашивайте! Только я окончательно решила, – не хочу его больше видеть!
– Может, он тебя чем обидел? Может – это он другую завел?
– Нет, да нет же! И молчите вы, больше не говорите ничего!
– Да как же не говорить? Жизнь ты свою поломала, а я – молчи?!
– Я не сейчас, я ее в тот час поломала, когда, дура, замуж за него пошла! Не поймете вы ничего, мама!
– Как понять, когда я не знаю ничего! Таишься ты от матери, а коришь, что не понимаю…
Дочь вдруг присела на неубранную постель, укрыла лицо в подол платья и горько заплакала.
Анастасия Ивановна не помнит, когда Анна плакала в последний раз. Разве что давным-давно, в раннем детстве. И испугалась.
– Что ты, что ты, доченька! Не плачь! Ведь любишь ты его, вижу – любишь. Успокойся. Пройдет обида и снова все ладно будет. Ведь любишь?
Дочь перестала плакать.
Анастасия Ивановна присела рядом.
– Чего-то в бабьей жизни не бывает, – тихонько заговорила она. – Перетерпишь, помиритесь и все…
Анюта выпрямилась, отстранилась от матери, встала, подошла к окошку, помолчала, а когда повернулась заплаканным лицом, показалась ей повзрослевшей и злой. Такой мать ее никогда не видела.
– Ты что? – испугалась Анастасия Ивановна.
– Ничего-то вы не знаете, мама. И не понимаете. Я не вернусь к нему. Никогда!
– Да он, кажется, ничего, добрый. Сама говорила – подарки любит делать. Не скупой, значит… – робко заговорила Анастасия Ивановна.
– Добрый? Может и добрый…
– Так что ж случилось, скажи ради бога!
– Что? – крикнула Анюта, – обязательно хотите знать? Так вор он! Обыкновенный вор!
– Окстись! – испуганно зашептала Анастасия Ивановна. – Что ты такое собираешь? Какой он еще вор?
– Говорю – обыкновенный вор! Не хотела говорить – сами заставили.
Мать потерянно молчала.
– Думаете, откуда он кирпич на дом так дешево доставал? Да не платил он за него ни дешево, ни дорого – со стройки своей привозил. Воровал! А деньги на мотоцикл, телевизор, подарки всякие, да часы золотые – с его зарплаты? Как бы не так! Стройматериалы на сторону продавал, вот откуда!
– Господи! – выдохнула мать. – Да может люди напраслину возводят, а ты поверила!
– Люди! Сама я своими глазами видела! Видела и слышала!
– Чего видела-то?
– Приехал он как-то ночью с каким-то типом, сели в кухне выпивать, проснулась, слышу, – муж говорит: «Не все тут. Еще пять сотен с тебя. Давай, давай, не жидись!» – А тот – «Так ведь тебе эти материалы ничего не стоят, уступил бы малость». Муж ему: – «Как это не стоят? А голова моя что? Я ведь головой рискую».
– Ушел тот, а муж в горницу, спрашивает – чего, мол, не спишь? Радуйся, говорит, женушка, теперь на «Жигуленка» полностью насобирал. К осени и мы с машиной… Дождалась я утра, собрала свои платьишки и вот… Здесь я теперь жить буду…
Мать неуверенно сказала:
– Что ж, по-всякому в жизни люди устраиваются, жизнь, она, знаешь, не очень-то легкая штука…
Анюта резко поднялась.
– Как ты можешь! Как можешь такое! – крикнула она. – А отец? Отец, он что, тоже в жизни утраивался?
– То-то ты в одном школьном платьишке весь техникум пробегала! – ворчливо сказала мать.
– Ну и что? Мне ничего не надо, я тоже хочу не устраиваться, а жить. Что заработаю – то мое, а чужого…
– Неужто ты, – перебила ее мать, – и в милицию на него побежала говорить?
– Не смогла! – грустно сказала Анюта. – Хотела, да не смогла…
– Любишь ты его, дочка, – вздохнула Анастасия Ивановна. – Любишь…
Анюта снова присела рядом с матерью. Молчала.
– Ну, ничего, доченька, ничего. Ты молодая еще… Встретишь кого-нибудь, а его забудешь… Забудешь… Жизнь, она длинная…
Дочь долго молчала, невидяще уставившись куда-то в пространство. Потом сказала убежденно:
– Нет, мама, не забуду…
ПРОДАННАЯ ШИНЕЛЬ
Это был тысяча девятьсот тридцать пятый год, год обмена партийных билетов. У Юрия Николаевича Либединского (1898–1959 гг. Советский писатель. Член КПСС с 1920 года. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн), жившего тогда в Ленинграде, в связи с этим обменом возникли серьезные осложнения. О его намерении приехать в Москву хлопотать о возвращении партбилета, заручившись поддержкой сердечного друга и соратника Александра Александровича Фадеева (1901–1956 гг. Советский писатель, один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП, 1926-32). Генеральный секретарь Союза писателей СССР (1946-54). Член ЦК КПСС с 1939) мы ничего не знали. Как-то, идя с работы, муж встретил Юрия на Садовой. Оказалось, что в Москву он приехал утром этого дня.
Жили мы в то время не в своей комнате, а в полуразвалившемся деревянном домике в Зубовском проезде, на втором этаже, куда надо было взбираться по узкой, шатучей лестнице; дом был с печным отоплением и обширной кухней, в которой трещали примуса всех жильцов первого и второго этажей. Но нас это устраивало: недавно у нас родилась дочка, а наша комната в Брюсовском переулке была попросту обыкновенным школьным пеналом длиной в четыре метра, шириной в полтора: дочка начала уже ходить, но только… спиной, не решаясь, видимо, двинуться вперед, в узкую щель комнаты. Кроме того, приходящую няню в Москве найти было много труднее, чем живущую; оба мы работали, а о яслях тогда и нечего было мечтать. В этой же «вороньей слободке» было две довольно большие комнаты – в одну мы поселили дочку с няней, в другой жили сами.
Вот туда, в этот наш «новый» дом Юрий Николаевич проводил мужа. По дороге выяснилось и то, для чего он сегодня утром приехал в столицу, и то, что остановиться ему негде, так как Фадеев, кроме того, что говорил с ним официально, как секретарь Союза писателей, даже не поинтересовался, где он будет жить во время своих хлопотов.
Дойдя до ворот нашего дома, Юрий стал прощаться. Совершенно естественно, что муж предложил ему поселиться у нас на время, которое ему понадобится. Юрий растерянно сказал:
– Но ты, Илья, как бы не понял, вероятно. Я вроде бы – как бы исключен из партии…
Вот так и вышло, что Юрий Николаевич прожил в нашей развалюхе несколько месяцев. Раза два он ездил в Ленинград, но неизменно возвращался к нам на Зубовский.
Все тогда жили трудно, мы не были исключением: пшенная каша нечасто с маслом, да полумороженная картошка были нашим основным питанием, как, впрочем, и нашей полуторагодовалой дочери.
Мы с мужем часто уезжали в командировки – он по делам комитета кинематографии, я по своим журналистским делам – я работала в газете «Кино» (такая тогда существовала и, к сожалению, возродить ее после закрытия до сих пор не удалось).
Нянька наша была не очень надежным человеком – неопытная малограмотная девчонка. И если бы не Юрий, мы бы вряд ли смогли так часто отлучаться из дома.
Что касается воспитания ребят, Юрий был много опытнее нас: у него уже к тому времени было двое – дочь Наташа от первой жены и от тогдашней жены, Марии Федоровны Берггольц, сестры Ольги, сын Миша, старше моей Ляли на два с половиной года.
– Но не только опытность Юрия позволяла нам безбоязненно оставлять с ним дочку; Юрий поразительно нежно относился к детям, ко всем детям вообще. Он был с ними ласков, и требователен, и заботлив, и ненавязчив, словом, я искренне считала, что в нем пропадает великий воспитатель, как мы бы теперь сказали – второй доктор Спок![29]
– Мы работали и на службе, и дома, я, как и муж, много писала не только для заработка, а просто из потребности писать; тогда я еще не помышляла о прозе, занималась исключительно критикой. А Юрий, Юрий только ждал. И все мы чувствовали, как мучительно было для него это бесконечное, томительное ожидание. И еще одно мучило его – он искренне считал, что объедает нас. В то время хлеб насущный действительно был проблемой. Но мы были так молоды, на много лет моложе Юрия, и так беззаботны, что все эти материальные заботы попросту нас не волновали, мы только обижались на Юрия, когда он пытался об этом заговаривать. Но видно это его здорово мучило. Как он разрешил эту «проблему», я расскажу несколько позже.
– Жить с Юрием было легко и просто – он был необыкновенно мягок, деликатен, тих, улыбчив, и старался никому не навязывать своего общества, даже нашей маленькой дочке и возился с нею, занимал ее, читал ей только тогда, когда видел, что ей этого хочется.
– Он не был обидчив, но иногда смешно и неожиданно обижался, вызывая искренний смех «обидчика», на что обижался еще сильнее. Вспоминается мне такой случай. Однажды сидела я за машинкой, работала и не слышала стука в дверь. Не дождавшись приглашения и слыша машинку, Юрий вошел. Не обернувшись, я сказала:
– Здравствуй, Юрочка. Согрей себе кашу, она там, на примусе.
Юрий удивился:
– Откуда ты знаешь, что это я? Ты даже не обернулась.
– По запаху, – ответила я спокойно.
– Но я же только вчера был в бане! – обиженно воскликнул Юрий.
Несмотря на мои объяснения по поводу обостренного обоняния из-за астмы, о чем он, впрочем, прекрасно знал и раньше, он весь вечер на меня дулся и даже пытался пару раз вернуться к теме «вчерашней бани»; веря в мою абсолютную искренность, он все же никак не мог успокоиться.
И еще раз Юрий обиделся на меня уж совсем бессмысленно. Впоследствии он и сам смеялся по поводу этой мнимой обиды, но в тот день я впервые видела его таким сердитым. Ростом Юрий Николаевич был невысок, довольно широк в плечах, но, несмотря на полное сходство его фигуры с обликом Дон Кихота, каким мы помним его по работам Оноре Домье, да и по описаниям Сервантеса, Юрий Николаевич чем-то, вероятно, своей остроконечной бородкой, большими наивными и добрыми глазами, тонкой шеей, охваченной косовороткой с мелкими пуговками, сильно напоминал Рыцаря Печального Образа.
Я часто баловалась карикатурами на друзей и знакомых. Не избежал этой участи и Юрий. Из-за его небольшого роста я изобразила Россинанта непомерно высоким и тонконогим, а Юрия маленьким с узенькой головкой на тонкой шейке, взбирающимся на коня с подставленной табуретки.
– Вот уж нисколько не похож ни на меня, ни на Дон Кихота, сказал Юрий, обиженно насупившись.
– И вообще… я все-таки… в гражданскую… Совершенно ничего общего и даже… несколько оскорбительно!
Сердился он минут десять, не больше, потом, присмотревшись к рисунку, засмеялся и сказал:
– Черт, а может, действительно – похож?
Но вернусь к тому, о чем писала выше – к беспокойству Юрия по поводу того, что он считал непосильной для нас материальной нагрузкой. Началась весна, в этом году довольно теплая, но сырая, с частыми, необидными дождичками и утренними туманами. Надо сказать, что единственным Юриным верхним одеянием была заслуженная, сохраненная еще с гражданской войны длиннющая, буденовская шинель. Зимой она заменяла шубу, весной – демисезонное пальто, летом – плащ. Он не расставался с нею с двадцатого года. Была она ему немного длинновата, но зато делала его выше и стройнее.
Юрино ожидание подходило к концу: назавтра назначили ему явиться в ЦК. Сегодня же был выходной. С утра мы собирались съездить за город – день выдался ясный, почти жаркий. Но сразу после чая Юрий куда-то исчез. Мы ждали его до одиннадцати, потом решили, что он раздумал ехать с нами, и отправились одни. Вернулись после трех, смертельно голодные. Я с досадой думала, что нянька выходная и придется браться за готовку нашего, признаться, довольно примитивного обеда.
Но неожиданно оказалось, что обед, настоящий шикарный обед с жареным мясом, роскошной, рассыпчатой картошкой и даже солеными огурцами уже ждал нас на столе. А во главе стола сидел счастливый и загадочный Юрий.
– Откуда вся эта роскошь? – удивленно допытывались мы.
Но Юрий категорически заявил:
– Пообедаем – узнаете!
Мы с удовольствием и молниеносно уплели все, что было на столе, и только тогда Юрий признался, что… поскольку все равно уже тепло… и завтра, может быть, все будет решено по-хорошему… и вообще… надо же когда-нибудь… и т. д., словом, он продал свою историческую шинель! И там же, на Даниловском рынке накупил всю эту роскошную снедь. Соседка помогла приготовить обед…
Мне почему-то стало очень грустно. Я едва не разревелась. Шинель! Юрина знаменитая шинель! Да я его и не представляла без шинели!
– Дурак! – крикнула я сквозь слезы. – Какой же ты дурак! Ради этой дурацкой жратвы продать шинель! Такую шинель!
– Да она уже вся как решето была, – неловко начал оправдываться Юрий.
– Ее в музей надо было, а не спекулянту, в руки!
– Неправда, он не спекулянт, он очень симпатичного вида паренек, – сердито возразил Юрий. – И вообще, не смей на меня кричать! Я знаю, что делаю! И, наконец, я старше тебя! Может быть, я завтра уеду и мне хотелось хоть один раз накормить вас как следует! Вот!
Тут я разревелась уже не от огорчения, а от злости. Надо же! Он, видите ли, оплачивает нашу дружбу своей шинелью!
– Свинья! – выкрикнула я и ушла укладывать Ляльку спать. Я долго не выходила из ее комнаты, пока не услышала из соседней странно-взволнованные возгласы и растерянный Юрин голос:
– Кажется, я действительно последний болван – ведь паспорт был в шинели. Точно. В шинели. В левом кармане.
– Что теперь делать? – испуганно спросил муж. – Ведь тебе завтра в ЦК. А других документов у тебя нет? Ведь нет?
Юрий подавленно молчал.
Я поняла всё, всю безвыходность Юриного положения.
– Ты оставайся с Лялькой! – в приказном порядке обратилась я к мужу. – Пошли, Юра.
– Куда?
– На Даниловский рынок.
– Но пошло уже несколько часов! Где мы будем его искать, этого парня?
– А мы будем искать паспорт, а не парня! И изволь слушаться беспрекословно, ты уже достаточно начудил. Теперь только подчиняйся!..
Никаких такси тогда не было и до рынка мы тогда добрались за несколько минут до закрытия. Мы буквально ворвались в милицейский пункт. В маленьком, не очень опрятном помещении за столом, залитым чернилами, сидел пожилой очень усталый милиционер. Посмотрел он на нас не сказать, чтоб доброжелательно.
– Ну? – спросил он сухо.
И Юрий залепетал:
– Понимаете, я знаю, может быть, я и не должен был… я сегодня, часов в двенадцать… словом, я продал свою шинель… а мне завтра надо быть в очень важном месте… учреждении… там надо обязательно предъявить паспорт, иначе туда не пустят… а паспорт…
– Да вы не частите, товарищ дорогой, – устало перебил милиционер. – Ничего что-то я у вас не пойму – какая-то шинель, учреждение…
– Позвольте мне, – сказал я, решительно отстраняя Юрия. – Это писатель Юрий Николаевич Либединский. Сегодня утром он продал свою шинель, а в кармане, в левом, был его паспорт. Он забыл его вынуть и отдал шинель вместе с ним. Ясно?
– Стоп, стоп, стоп, – сказал милиционер, выпрямляясь на стуле.
Юрий Либединский? Это вы такую книжку написали – «Неделя»? – Ну, да, да, ответила я за Юрия.
– Как же! Я помню – мы на рабфаке ее проходили… то есть читали. Как же…
– Очень хорошо! – рассердилась я. – А как же паспорт?
Милиционер встал, торжественно обдернул свою форменную куртку, даже как будто вытянулся немного.
– Вам здорово повезло, товарищ Юрий Либединский! – сказал он радостно. – Вот как получилось! Я в паспорт и не думал заглянуть-то… Парень, что шинельку у вас купил, честным оказался. Пришел и говорит – вот, я в кармане нашел, может, хватится тот, что мне шинель продал. Такой интеллигентный, с бородкой. – Может, хватится, так отдайте… А я сунул в стол и не посмотрел… Надо же!
Когда измученные, но довольные, мы, наконец, пришли домой, Юрий, садясь на свою постеленную Ильей раскладушку, глубоко вздохнул и сказал укоризненно:
– Вот видишь, я был прав – парень-то… отличный парень оказался…
ПЕЙЗАЖ БЕЗ ТЕНЕЙ
Машину вел отец. Мать сидела рядом. На коленях у нее спал Геник.
Из-за поворота выскочила пятитонка. Испуганно вильнув, она кузовом прижала «Запорожец» к скале. Выровнялась и умчалась.
Мать была убита на месте. Отцу размозжило ногу. Геник продолжал спокойно спать. Матери было 22 года, отцу двадцать четыре, Генику – девять месяцев. Всю жизнь отец мучился – считал себя одним из виновников смерти жены. Он продолжал любить ее преданной, тоскливой любовью и никогда даже не помышлял о новой женитьбе.
По мнению врачей, раздробленную ногу необходимо было ампутировать. Ее спасла мать покойной жены, Вера Николаевна Зотова, главный хирург травматологического отделения тбилисского военного госпиталя, мама Вера, как называли ее за глаза, а часто и в глаза сотрудники, врачи и больные. Еще до женитьбы так называл ее отец Геника, Костя, Константин Геннадиевич, проходивший у Зотовой ординатуру. Теперь они жили вчетвером – мама Вера, Костя, Геник и старая грузинка, которую когда-то оперировала Вера Николаевна. Как и у себя в отделении, Вера Николаевна безраздельно царствовала дома. Она ничем не напоминала свою хрупкую покойную дочь. Вера Николаевна была массивна, решительна в суждениях и не терпела возражений. Движения ее были точны, словно бы геометрически рассчитаны; обычно она не говорила, а распоряжалась, но распоряжения эти выглядели не проявлением самодурства или самовластия – они всегда были разумны и как раз те, что нужны были в данный момент. Несмотря на категоричность тона, на нее редко обижались; сотрудники работали в ее отделении помногу лет. Это к ней привезли после катастрофы искалеченного зятя. Она оперировала его, уже зная о смерти дочери.
Всю войну она служила хирургом на фронте; это была первая практика двух только что окончивших 1-й Московский медицинский институт молодых врачей; они поженились за два месяца до окончания войны, уже на подступах к Берлину. На глазах у Веры муж ее был убит, в то время как они оба делали сложнейшую операцию такому же молоденькому, как они лейтенанту. Тогда она уже была беременна Леной. Вера Николаевна не вышла второй раз замуж, она бережно хранила память о муже. Может быть, не только любовью к ее дочери, но и примером и влиянием мамы Веры объясняется то, что зять ее сторонился женщин, даже как будто немного побаивался их. Возможно, немалую роль в этом играла его хромота. Нога у него болела всю жизнь, он не мог долго стоять у операционного стола и потому сменил первоначальную специальность – хирургию на терапию, хотя, как и его учитель – Вера Николаевна, относился к ней с некоторым недоверием: врач, мол, не может ничего знать точно, пока не заглянет внутрь человеческого организма…
После катастрофы, сразу по выписке из госпиталя, теща перевезла Константина Геннадиевича к себе, в свою обширную квартиру в старом доме, с множеством маленьких комнат и полутемных закомарков, где уже обосновался Геник и старая няня-грузинка.
Вера Николаевна разумно и рачительно начала воспитывать своих мужчин. Влияние ее воли, ума, убежденности было настолько велико, что никому из подвластных ей домочадцев не приходило в голову восставать. Когда изредка ей пытался возражать Константин Геннадиевич, она мягко осаживала его своей любимой сентенцией:
– Жена не воспитывает мужа своего. Ну, если жена погибает, ее место занимает теща. Так-то! – говорила она, грустно улыбаясь.
Но в последнее время она стала как будто помягче. И быстрее уставала. Да начали побаливать ноги от постоянного стояния у операционного стола и беготни по палатам.
Реже ходила она в театры, на концерты, куда раньше неизменно брала с собой зятя и внука. А в музеи, на выставки, где когда-то подолгу простаивала у картин своего любимого Пиросмани или подле современных полотен репатриированных художников, прививая Генику любовь к живописи, объясняя внуку, как могла, все, что было ему непонятно, она теперь почти не ходила. По вечерам, придя из госпиталя, она усаживалась в свое мягкое, потрепанное кресло, которое ни за что не позволила перебить, читала французские и английские детективы. Иногда в самые неподходящие моменты она низким голосом вопрошала:
– Геник, что ты там делаешь?
– Да я ничего не делаю, бабушка! – из какого-нибудь чулана, полного таинственных и необходимых мальчишке вещей, откликался Геник.
– Так делай что-нибудь! – приказывала мама Вера.
И тут же из комнаты Константина Геннадиевича раздавалось смех.
– Ну, ладно, ладно! – возмущалась мама Вера. – Ничего тут нет смешного, я терпеть не могу, когда ребенок бездельничает! И вообще – не мешайте мне читать!..
И все же, несмотря на любовь к распоряжениям и приказам, Вера Николаевна была до скрупулезности справедлива. Больше всего она боялась обидеть человека зря – неважно, был ли это взрослый, или маленький ребенок. И остро, до болезненности ненавидела ложь. Что бы ни натворил Геник, она на него не сердилась, если он признавался в своей проделке, часто, как это свойственно мальчишкам, даже не очень безобидной. Но правда искупала любую вину.
А Геник рос в кристаллической атмосфере этого дома, сперва превратившись в Генку, потом в Гену, и, наконец, в Геннадия. По тбилисской моде он отпустил усики, говорил баском, ходил в теснейших джинсах и бренчал на гитаре. Благодаря жившей у них уже на покое старенькой няньке, он свободно говорил по-грузински и дружил со всеми мальчишками их узенькой окраинной улочки.
Окончил десятилетку. И, в общем, почти не отличался от всех своих сверстников. Разве только тем, что не завязывал скоропалительных знакомств с девушками, не заводил скоропроходящих романов, чем с удовольствием и ранней опытностью занимались его одноклассники. Хотя он нравился девушкам, да и они нравились ему, но он с некоторой опаской их сторонился. Не то, чтобы мама Вера или отец предостерегали его от легких связей. Нет. Просто, сам воздух родного дома, одиночество отца, правдивость, суровая чистоплотность мамы Веры, да и агрессивность девушек останавливали его. После окончания им десятилетки, Вера Николаевна, отчасти оберегая его от непрочности пылких, южных романов, отчасти по убеждению, настояла, чтобы Геннадий поехал учиться в Москву, в тот самый Первый медицинский, который в свое время окончила она и ее муж. Оба – и Константин Геннадиевич, и мама Вера – заранее тосковали, предвидя долгую разлуку, но старались убедить себя, что так будет лучше, что в Москве он приобретет более фундаментальные теоретические знания и что самостоятельность до сих пор никому в жизни не мешала. Только старая нянька не скрывала своего горя и не могла смотреть на Геника без слез. Она, словно, чувствовала, что никогда больше его, не увидит. Так и вышло – через два месяца после его отъезда в Москву, она тихо умерла просто-напросто от старости – ей было много больше восьмидесяти.
Геннадий прилетел на ее похороны, и долго потом стоял у могилы. Ведь эта старая, неграмотная грузинка, почти не говорившая по-русски, оказалась для него тем, чем для любого другого юноши была бы родная мать. Ему стало бесконечно тоскливо. И так не хотелось уезжать! Но мама Вера заметно одряхлела, и невозможно было огорчить ее своим нежеланием возвратиться в Москву…
Все каникулы он проводил дома, в Тбилиси. И уезжал обратно в институт с ощущением, что оба – и отец и мама Вера – быстро сдают, стареют. И странно, они как будто сравнялись для него в возрасте.
Наконец, институт окончен, направление получено. Но, к сожалению, – не в Тбилиси.
Месяц он провел со стариками. Почти не выходил из дому, только ежедневно по утрам гулял по еще пустому Тбилиси, забредал в духаны полакомиться огненным хашем, заедая его прохладными, влажными перьями лука и остро пахнущей кинзой; бродил по ступенчатым улочкам старого города, любовался горою Давида, освещенной молодым солнцем.
Погуляв, шел к отцу в поликлинику, потом отправлялся в госпиталь к маме Вере, где она теперь работала не главным хирургом, а только консультантом с двумя операционными днями в месяц.
Возвращался домой, лежал, читал, отдыхал. И почти не встречался со своими бывшими одноклассниками – многие разъехались, другие «достигли положения» и раздражали Геннадия самоуверенностью и показным легкомыслием; а некоторые обзавелись семьями и на него теперь смотрели как на мальчишку – несмышленыша. Среди дня он иногда отправлялся в музей, отыскивал картины, которые когда-то любил, и радовался новым полотнам и клеенкам Пиросмани, найденным либо в частных коллекциях, либо в кладовках бывших владельцев старых духанов. Отмытые и подреставрированные, они снова сияли темными тонами своих приглушенных красок.
А по вечерам, ложась в свою старую кровать, которая стала ему теперь коротка, он давал себе слово, что как только кончится трехлетний срок работы, обязательный для всех, оканчивающих институт, он вернется домой, в Тбилиси… Ему грустно было оставлять так надолго маму Веру, отца, жаркое солнце и густые тени своего родного города…
Месяц кончился. Он уехал. Сперва переехал из лета в осень, потом из осени в холодную жесткую зиму…
Поселок, куда он, наконец, добрался, был занесен снегом. Он с трудом разыскал дом, в котором должен был некоторое время жить…
Первое, что он увидел, войдя в комнату, была большая, квадратная картина. Она висела прямо напротив окна, и зимнее солнце делало ее особенно яркой.
Геннадий скинул сапоги и, не снимая дубленки, подошел поближе. Сперва ему показалось, что перед ним вырезанные и наклеенные на что-то разноцветные куски бумаги. Но нет – это была живопись – сквозь легкий слой краски кое-где проступала легкая сетка полотна.
Зеленый луг с копнами пожелтевшего сена, синий лес вдали, а посередине – коричневая корова в белых пятнах. Корова как бы царствовала над лугом, над гладким голубым небом – она была большая, дородная и мощно стояла на широко расставленных массивных ногах, распираемых набрякшим выменем. Повернув голову, она смотрела на зрителя непомерно большими глазами с опущенными кукольно-стрельчатыми ресницами. Но глаза не кукольные, а на удивление живые и печальные.
«Странный свет, – подумал Геннадий. – Будто солнце висит над головой – ни одной тени. Полдень, что ли?»
Оторвавшись, наконец, от картины, он начал осматриваться. Здесь ему предстояло прожить несколько месяцев, пока не кончится строительство дома, где ему должны были выделить комнату.
Помещение, куда он вошел, разделяло на две неравные части удивившее его сооружение; впоследствии он узнал, что оно называется заборкой. Это было что-то вроде не доходящей до потолка стены, соединенной из отдельных квадратов светлого, отполированного дерева. На каждом квадрате – написанное маслом изображение. Здесь были геральдические звери, и стилизованные цветы, и домашние животные: рядом со львом с огромной головой – ярко расцвеченный петух, снова лев с единственным глазом во лбу и рядом полосатая домашняя кошка. Но странное дело – у всех этих животных глаза были точно такие же, как у коровы – мудрые и грустные. Даже всевидящее око льва было хоть и грозным, но печальным.
– Любуисси? – раздался за его спиной высокий старушечий голос.
– Здравствуйте, – смущенно обернулся Геннадий. – Извините, я стучал, но никто не ответил. Мне сказали, что я…
– Чего извиняешься? Никого и не было. Я только с работы, а старик придет еще не скоро. Насчет тебя мне директор говорил – живи пока. Веселее будет. Да и тебе спокойно – ребят у нас нет, ни малых, ни больших. Одинокие мы со стариком.
– Спасибо. Я только пока дом закончат.
– Да знаю, знаю. Иди, умойся! Вон твоя постель будет, а за заборкой – печь. У нас тепло.
– Заборка?
– Ну да, мы так зовем. Топку да готовку от зальца отделяет. Ну, устраивайся, а я пока ужин схлопочу. В горницу заходи – там и спим, там и питаемся…
Когда он помылся, развесил одежду на гвоздиках за занавеской, хозяйка позвала его к столу.
На пороге он остановился, пораженный: стены почти сплошь были увешаны ярчайшими картинами: здесь было множество лиц и множество удивительных зверей; лица людей одинаково круглые и плоские, странным образом не походили друг на друга. Он сразу узнал на одном из портретов хозяйку. Хотя лицо на картине было совершенно гладкое, без морщин, две темные полосы, бегущие к узким губам, четко обозначили ее возраст. И рядом – тонкошеий жираф, изящно изогнувшись, объедал листья пальмы, едва достигавшей ему до колен. На картине рядом грациозно прижимался к красной земле желтый ягуар в красных пятнах.
– Заходи, заходи, садись, – приветливо позвала его хозяйка. – Тебя, я слышала, Геннадием зовут?
– Да.
– Меня Матвеевна, а старика моего – Степановичем.
– А по имени?
– По имени меня, почитай, пятьдесят годов по имени не зовет. Старик, и тот, верно, забыл, что когда-то Дусей, Евдокией, называл, а я его Пашей, Павлом!
Геннадий снова бегло осмотрел картины на стенах. И здесь, как и на картине с коровой, ни дома, ни деревья не отбрасывали теней. Все было похоже на наивные детские иллюстрации к сказкам. Но это впечатление тут же исчезало – уже через мгновение зритель понимал: автор этих странных картин не излагал сюжетов, не иллюстрировал – он жил внутри самой сказки и там, в ее сердцевине ему свободно и открыто. Он дружил со своими чудо-зверями, он любил нарисованных людей, вовлекал их в свой удивительный мир. Всем, кто смотрел на его работы, он предлагал взглянуть по ту сторону ярких плоскостей своих картин.
«Почему искусствоведы называют такое примитивом? – подумал Геннадий. Здесь все сложно и необыкновенно! Это мастер делал, художник».
– Откуда у вас все эти картины?
– Да все оттуда же – старик балуется. Как минута свободная, сейчас за краски. В дому я ему пакостить не даю, так он себе в сараюшке ателью устроил. Там у него и верстак, и ящики со всякими красками. Есть даже такие, что на яйцах разводят. Сперва сидит и вот трет, все себе трет, чуть ли не с месяц, а уж потом малюет. И радуется – хороша, мол, краска. Чистый ребенок, право слово!
– И заборку – так я сказал? – тоже расписывал?
– Он, он, конечное дело, он. Раньше, в колхозе, он, почитай, всем жителям эти заборки разрисовывал. Да что, как сюда переезжали – почти все дома поломали, вместе с заборками этими. Только вот мы сюда перенесли, да еще у соседей выпросили несколько, в сараюшке они у него хранятся. И еще иконы. По мне, хоть бы их не было икон – неверующая я стала. А он говорит – как можно их бросать, старого, говорит, письма они, их пуще золота беречь надо! А пусть бережет, мне не жалко!..
– Вы давно здесь в совхозе живете?
– Как возник он, так и переехали. Сами, можно сказать, и строили его. У меня старик на все руки – и механизатором в колхозе работал, а когда и плотником, и столяром, и ремонтником. Какую хочешь механизму соберет – разберет, хоть трактор, хоть часики ручные, хоть ходики. Руки-то у него умные, да сам как дитя. Думаешь, с людей за работу берет? Ни боже мой! Стыд, говорит, – мы зарплату получаем, нам хватает, что ж людей обижать? Ему ведь это в радость. Вот он у меня какой! – с гордостью закончила старуха, хоть только что укоряла за бескорыстие.
– Ну, спасибо за ужин и за беседу. Давайте помогу вам посуду помыть.
– Ты что это, за бабью работу?
– А я маме вере всегда помогал.
– Не женат еще, видно.
– Не женат.
– Невеста, небось, есть?
– И невесты нет.
– Ну, мы тебя быстро окрутим. У нас девушки всякие есть – и ученые, и хозяйки хорошие, и на лицо – баские. А ты сюда какую работу работать приехал?
– Я врач, хирург.
– Во как! А умеешь?
– Да пока не очень. Я ведь только что институт окончил.
– А сам-то откуда?
– Учился в Москве, а сам из Тбилиси.
– Грузин, значит?
– Нет, почему. В Тбилиси не одни грузины живут. Родители мои там всю жизнь работают. Врачи они.
– Что же тебя в такую даль занесло? Небось, от твоего Тбилиси тысячу километров будет.
– Больше! – засмеялся Геннадий.
– За что тебя сюда повыслали? Али учился плохо?
– Почему плохо? Хорошо учился. Это ведь так полагается – выучился и отработай три года, куда пошлют.
– Ну, за три года я тебя обязательно посватаю! – тоненько засмеялась хозяйка.
– Только я сваха особенная.
Она помолчала, опять чему-то засмеялась, отодвинула немытую посуду на другой конец стола, оперлась о него локтями, положила лицо на темные, сухие ладони. Уже тускнеющий вечерний свет из окошка падал на нее сзади, лицо от этого как бы разгладилось, и в эту минуту она стала удивительно похожей на свой портрет. В полумраке видны были только глубокие две морщины, сбегающие от носа к подбородку.
– А хочешь, я тебе интересное расскажу? Да не побасенку, а правду. Про нашу со стариком жизнь. Хочешь?
– Хочу.
– Только это надо издалека начать. Слушай-ка. Мы с ним из одной деревни, на одном порядке жили, забор в забор. С измальства как бы дружились – сестры его, он да я. На речку вместе, за грибами. Подрос он и стал у отца проситься, чтобы отдал его к богомазам учиться. А отец-то ни в какую! Старшой он, а за ним еще шестеро, да все – девки. Кому работу работать? А рос он здоровый, красивый, кудрявый. Да он и сейчас кудрявый, несмотря, что за семьдесят. Почитай со всей деревни девки на него заглядывались. Ну, стало нам по двадцать. Жениться, замуж идти пора. А у меня подружка была сердечная, закадычная подружка. Настёнкой звали. Вот Настёнка и задумала за Павла замуж идти. Пристала ко мне – уговори Пашу сватов ко мне прислать. Ты, говорит, ему вроде сестра, он тебя послушается. А мне то-то так неохота, так неохота! Однако – подружка! Стала ему говорить – засылай, мол, к Настёнке сватов, не бойся, враз согласится. Он меня послушал, послушал, да и заслал сватов, ну не к Настёнке – ко мне. С тех пор мы живем с ним пятьдесят пять годов. А Настёнка на меня так больше и ни разу и не поглядела, – прибавила она грустно.
– Во! – прервала она себя. – Явился, не запылился. Идет.
– Признаться, Геннадий не услышал ничего до тех пор, пока в сенцах кто-то не зашаркал о половик, тщательно вытирая ноги. Потом – несколько неровных шагов и, наконец, в дверях появился высокий старик с седыми, вьющимися волосами. Если бы не заметная хромота, он выглядел бы попросту красавцем – богатырем, этаким постаревшим Добрыней Никитичем.
– Вежливо поклонился, негромко произнес:
– Доброго вам вечера. Уже отужинали? Не дождалась старика, жёнка? Понимаю, понимаю, гостя потчевала. Не побрезгуете со мною по рюмочке? Имени-отчества пока не знаю, да за столом познакомимся. Как?
– Благодарю вас, Павел Степанович, не пью я.
– Никогда?
– Никогда.
– Ну, что ж, в одиночку и я не интересуюсь. Так как же вас звать-то?
– Геннадием.
– Иди, мойся, я сейчас согрею, прервала их хозяйка.
Порозовевший, как бы отдохнувший после мытья, хозяин, наконец, покряхтывая, боком уселся за стол.
– Вон когда война кончилась, – пожаловался он, – а до сих пор о себе знать дает – как потеплеет на дворе, так разбаливается, мочи нет.
– Ранение?
– Ага. Уже под самым Берлином. Всю войну не царапнуло, а тут под самый конец. Жаль, так до Гитлера и не дошел! А хотелось. Так хотелось а него на мертвого поглядеть… Ну, поторопись, Матвеевна, проголодался я.
…Может быть, оттого что в комнате было жарко, может оттого, что он никак не мог упорядочить, уложить в определенный ряд все навалившиеся на него впечатления, Геннадий долго не мог уснуть. В темноте, когда ему казалось, что он, наконец, вот-вот заснет, перед закрытыми глазами возникали странные звери с грустными глазами, корова, не отбрасывающая тени на ярчайшую траву. И почему-то вспомнился узкий переулок в Тбилиси, где жил он ребенком, четко разделенный солнцем на две неравные части – черню и белую; и хотя черная часть была тенью, казалось, что это плоско нарисованные светлые и темные дома. И чуть-чуть сжималось сердце от неуверенности, сможет ли он ужиться с этими, не совсем понятными ему людьми, сможет ли заставить их поверить, что он все-таки чему-то научился и что-то сможет в жизни сделать самостоятельно…
…Ему казалось, что проснулся он очень рано. Но по тишине в доме понял, что хозяева уже ушли на работу. Испуганно вскочил, торопливо стал одеваться. Натянул новые, узкие джинсы, еще тбилисскую замшевую курточку, ставшую ему несколько тесноватой, розовую рубашку – в первый свой рабочий день, так ему казалось, он должен был одеться особенно модно и по-современному. Увидел на стуле подле своей кровати стопку прикрытых чистой тряпицей еще теплых шанежек и стакан молока. С удовольствием поел и вышел на сверкающую под солнцем заснеженную улицу.
«В Москве еще ни разу не выпадал снег, – подумал он, – а у нас, наверное, еще жара».
– Погодите, коллега, – окликнул его знакомый голос.
Полный, веселый доктор Василий Иванович Болотов, запыхавшись, догонял его. С Василием Ивановичем, главным врачом совхозной больницы, Геннадий познакомился еще в Москве. Это он на комиссии по распределению потребовал, чтобы молодого хирурга направили именно к нему в больницу, в совхоз. Себя Василий Иванович назвал шутливо «медхен фюр аллес», так как, кроме него, пока в больнице работали только фельдшер, его давний коллега, да две сестры, одна из которых совсем неопытная, только что из медучилища. Геннадий и новый кардиограф были завоеванием главврача в этой московской поездке.
– Сейчас покажу вам нашу больничку, познакомлю с персоналом. Вы уже завтракали?
– Да, благодарю вас.
– Вот и хорошо.
– Скажите, пожалуйста, а много у вас сейчас больных по нашей специальности?
– Давайте сразу с вами договоримся, голубчик: все больные по всем специальностям – наши с вами больные. Я, видите ли, придерживаюсь принципа моего батюшки, старого земского врача, всю жизнь прожившего в деревне километрах пятидесяти отсюда. Да он и сейчас там живет. Не практикует уже, правда, но иногда… Он меня так воспитал – деревенский врач должен уметь всё – и рода принять и в случае надобности сделать резекцию желудка, и вылечить от пневмонии… Так-то, мой юный друг. Тем более, что мы с вами пока единственные врачи на десятки километров вокруг. Содержит нас совхоз, но подчиняемся мы райздраву, и всяким другим здравам, так что если надо – катим, куда позовут.
«Больничка» оказалась новеньким двухэтажным зданием; внизу приемный покой и поликлинические кабинеты, наверху стационар на пять палат. Больных почти не было, только в женской лежала какая-то старуха, а мужской сидел на койке молодой парень с перевязанной рукой.
– Вот как раз по вашей специальности? Огнестрельная рана. Ночью поступил.
– Огнестрельная?
– Да. Дробь. Займитесь. Я выезжаю на вызов в дальнее отделение, так что с персоналом знакомьтесь сами. Будьте с ними построже. Особенно с Лидией Большой. Это она… впрочем, сами разберетесь. И помните – вы их начальство, а я ваше. Об этом тоже не следует забывать.
«А он вовсе не так добродушен, как кажется», – подумал Геннадий.
…Лидию Маленькую так и хотелось называть Лидочкой – это была худенькая коротышка с небольшими ямочками на розовых щеках; глаза постоянно прищурены в улыбке, так что нельзя разобрать, какого они цвета. И вдруг оказывалось, что они ярко черные, как две неосторожно оброненные на это светлое личико капли. Голос у нее был высокий и звонкий. Что-то в нем постоянно трепетало, казалось она вот-вот заливисто расхохочется. Знакомясь с Геннадием, она багрово покраснела от смущения, сказала излишне громко:
– Очень приятно, Лидия Васильевна.
И тут же, не удержавшись, фыркнула.
– Конечно, просто Лида.
Лидия Большая была полной противоположностью своей товарке: высокая, очень худая, с продолговатым, темным лицом, волосы по старинному разделены на прямой пробор и стянуты на затылке в небольшой узел; узкие, косо разрезанные глаза были того странного цвета, какой бывает у рыжих кошек – ярко желтые: взгляд их был такой же настороженно-пристальный, как у кошки, готовой к прыжку. Геннадия она осмотрела с ног до головы: губы ее чуть дрогнули и непонятно было, одобрила она молодого человека или осудила.
Протянув вялую руку, сказала холодно:
– Лидия Павловна.
«Да, такую Лидочкой не назовешь», – оторопело подумал Геннадий.
– Еще у нас лекпом есть, Асан Асанович, он сейчас на родах в дальнем, – пискнула Лидочка.
– Фельдшер Александр Александрович Соколов, – сухо поправила Лидия Большая.
– Так я же и говорю, – отозвалась Лидочка.
И опять сильно покраснела.
«Да она ее боится, этой Павловны?»
Прикосновение к влажной руке Лидии Большой, да и вся она, вызвали у Геннадия легкую неприязнь, но одновременно и странный интерес: хотелось заглянуть по ту сторону янтарной желтизны ее взгляда, так же, как за яркие плоскости картин без теней старика-хозяина.
– Вот вам халат, сказала Лидия Большая.
– Благодарю. Не поможете ли вы мне при осмотре раненого?
– Это моя обязанность. Идемте. Лидочка, если будут больные, – вызовите нас, мы в перевязочной.
Немного волнуясь, Геннадий осматривал слегка уже воспалившееся предплечье с множеством мелких, припухлых ранок. Большинство дробинок, видимо, пронзило руку насквозь, но несколько застряло в мягких тканях плеча.
– Почему не извлекли? – как можно строже спросил Геннадий.
– Явился ночью, решили ждать вас.
– Напрасно. Укол. Готовьте шприц.
– Готов уже.
– Как это вас угораздило? – обратился Геннадий к парню.
Тот не ответил. Он безучастно смотрел в окошко. Весь его вид говорил: «делай свое дело, а в мои не лезь!»
– Как вас зовут? – спросил Геннадий, пытаясь завязать хоть какие-то отношения с пациентом. – И как это с вами? На охоте, что ли?
– Какая сейчас охота? – неприятно рассмеялась Лидия. – Отец это его… Случайно.
– Врешь! – бросил парень, не отрывая взгляда от окна.
– Послушайте! – возмутился Геннадий.
– Сука! – тихо, но внятно произнес парень.
– Что такое? Вы понимаете, где находитесь?
– Понимает, понимает! – почти весело улыбнулась Лидия. – Не обращайте внимания, доктор. У нас с ним свои счеты, работайте спокойно.
Когда дробинки были благополучно извлечены, рука перевязана, парень, наконец, повернулся лицом к Геннадию.
– Отпустите меня домой, доктор! Я здесь не хочу!
– Вам бы следовало побыть у нас дня три, – неуверенно ответил Геннадий. – Не началось бы воспаление.
Но парень не отходил, и внезапно Геннадий заметил в глазах его слезы. Это не были, видимо, слезы боли, что-то другое угнетало парня.
– Что вы? – сочувственно спросил Геннадий.
– Отпустите! Не могу я! Все равно сбегу!
Закончив уборку, Лидия сказала спокойно:
– Велите ему ежедневно приходить на перевязку и пусть идет.
Когда раненный вышел, Геннадий спросил у Лидии:
– Отец действительно случайно его?
Снова нехорошо улыбнувшись, Лидия пожала плечами и, не ответив, вышла из перевязочной.
Чем-то встревожил Геннадия этот его первый пациент. Это не было беспокойство врача за его здоровье – он знал, что ранки обработаны правильно, нужные уколы сделаны, все должно обойтись благополучно, но инстинктивно чувствовал: короткая сцена в перевязочной была завершением чего-то гораздо более серьезного, чем просто неприязнь юноши к медицинской сестре. В воздухе словно витало что-то скрытое и нечистое.
Останавливаться на этих чувствах было некогда – день выдался хлопотливый. В отсутствие главного, Геннадий быстро и незаметно превратился в ту самую пресловутую «медхен фюр аллес», о который еще в Москве говорил ему Василий Иванович: выписывал рецепты от простуды, давал советы от радикулита, осматривал старуху, исследовал глазное дно, вскрывал панариций. Он очень устал, вечером, едва перекусив, свалился в постель и тот час уснул, как провалился…
Последующие дни и недели не принесли ничего нового, кроме уверенности в том, что он обманулся в главном враче. Василий Иванович и не собирался делиться медицинским опытом с коллегой. Наоборот, он с легкостью и удовольствием свалил на его плечи хозяйственные заботы, а медицину неукоснительно брал на себя и к помощи нового доктора прибегал очень редко. Долгое время самым «сложным» пациентом для молодого хирурга оставался тот самый парень, у которого он извлек дробинки из предплечья.
Как заметил Геннадий, больше всего любил Василий Иванович общаться с начальством, будь то директор совхоза, заврайздравом или председатель райисполкома. Тут он проявлял изворотливость и ум необыкновенные, убеждая всех в своей незаменимости. Очень быстро Геннадий разобрался во всех изгибах несложного характера главного, и все же чувствовал себя при нем неуверенно и скованно. Внешне главный относился к своему младшему коллеге придирчиво, но за этой придирчивостью крылось либо равнодушие, либо упорное желание доказать превосходство своего начальственного положения.
И все же, это не было главной причиной его подавленного настроения. Больше всего смущала и тревожила его напряженная атмосфера, царившая в больнице. Казалось, вот-вот вспыхнет искра и в душном воздухе вспыхнет сокрушительная ссора между сотрудниками. Подсознательно, он чувствовал, что напряженность эта аккумулируется вокруг Лидии Большой. Во взаимоотношениях этих людей он разобраться не мог, но остро ощущуал, как все они не любят друг друга. Старый фельдшер Александр Александрович был официально почтителен с главным, сух и часто резок с Лидией Павловной, молчаливо-равнодушен с ним, с Геннадием. Только Лидочка, видимо, пользовалась его благосклонностью и доверием. С нею он был разговорчив и добр. Впрочем, к ней все относились доброжелательно, даже Лидия Большая, которая разговаривала с остальными сотрудниками только в тех случаях, когда это было необходимо для дела. Часто, при осмотре больных или во время перевязки, Геннадий чувствовал на себе ее настороженный, изучающий и недобрый взгляд, от которого у него по всему телу пробегала дрожь. Она всякий раз замечала эту дрожь и на лице ее появлялась легкая усмешка самодовольства.
Эта усмешка и оскорбляла Геннадия, и вместе с тем притягивала. Что-то было в этой женщине тревожащее, заманивающее, – то ли зверино-горький запах, исходивший от ее всегда чуть влажных рук, то ли полынный запах ее гладко зачесанных волос, то ли затаенный взгляд узких глаз.
Он теперь не сваливался после работы сразу в постель, не вел вечерних бесед с болтливой хозяйкой, а до ночи бродил по опустевшим улочкам совхозного поселка, пытаясь разобраться в том странном беспокойстве, которое вызывала в нем Лидия Большая.
По ночам он долго не мог уснуть. То чувство отталкивания, которое она вызывала днем, исчезало; ему томительно хотелось тот час же, сию минуту увидеть ее, дотронуться до нее, услышать ее терпкий запах. Тогда ему казалось, что он начинает влюбляться. Но утром, в больнице, как только он видел ее, снова появлялась неприязнь, даже легкое отвращение. Весь день он бывал недоволен собой, раздражен, подавлен, а ночью снова возникало тоскливое ощущение ее отсутствия. Днем ему хотелось все бросить и бежать домой, в родной Тбилиси, в привычный, теплый, свой мир, а ночью он уже не мог себе представить, как сможет провести целый день, ни разу ее не увидев…
Наступил конец марта, а метели становились все злее. Хозяйка выговаривала ему:
– Что бродишь до поздней ночи? Холодно. Простынешь!
– А у нас уже миндаль цветет, – мечтательно отвечал Геннадий.
– Так то у вас… А у нас говорят: идет марток, надевай двое порток.
Но тосковал он не по цветению миндаля, хотя и это было бы приятно. Тосковал он по той внутренней раскованности, по душевной свободе, которой почему-то лишился, и как ему казалось, навсегда.
Ведь и раньше его тянуло к женщинам, и раньше он влюблялся. Правда, никогда еще не был близок ни с одной из своих знакомых девушек, но все равно, в те дни, когда думал, что влюблен, даже томление его было всегда счастливым, необременительным, легким. А сейчас все в нем было переворошено, возбуждено и сам себе он временами казался истрепанным и старым. Он содрогался при мысли, что все уже догадываются, что с ним происходит, и старый фельдшер смотрит на него с презрением, Лидочка – с жалостью, а хозяйка слишком внимательно. Только главный был с ним по-прежнему равнодушно строг.
Однажды за ужином Матвеевна сказала:
– Знаешь, Кирюха Петров из совхоза совсем навострился, говорят – на БАМ.
– Какой это Кирюха Петров?
– Тот, кого отец подстрелил.
– А, огнестрельная рана, дробь. Мой первый пациент.
– Ага.
– А за что он его?
Хозяйка хитренько прищурилась, помолчала, потом непривычно сдержанно ответила:
– А это их дела, семейные, не гоже в них встревать…
Наконец, закончилась внутренняя отделка дома, предназначенного для медработников. Геннадию вскорости предстояло переехать в собственную комнату. Весна медленно оттесняла метельный март. В один из туманно-теплых дней Геннадий выпросил машину у директора совхоза, чтобы съездить в районный городок купить кое-какую мебель. Грузовик отправлялся по хозяйственным делам, и директор распорядился прихватить Геннадия в город и обратно. Купленный им столик, два стула, раскладушку и электроплитку погрузили в кузов. Шофер отправился по своим делам, обещав часов в шесть заехать за Геннадием в привокзальную пивную. Там было жарко, шумно; пахло прокисшим пивом. Геннадий, которому некуда было деться в этом незнакомом городке, сидел здесь уже давно, не менее часа. Он с отвращением глядел на разлитую по клеенке пивную лужицу, в которой купалась жирная, радужная муха и с досадливой тоскою убеждал себя:
«Я сам себе скоро стану отвратителен! Надо кончать! Перестать о ней думать! Все равно это ни к чему не приведет!»
Шофер, наконец, пришел, и они поехали.
Расставив мебель, Геннадий вышел на вечернюю улицу. Еще пахло снегом, но сквозь этот зимний запах уже просачивался весенний, арбузный аромат талой воды и оттаявшей земли.
Вернулся в комнату. Очень хотелось есть.
«Хорошо, что догадался купить в городе хлеба и колбасы», – подумал он. И вдруг громко выругался:
– Черт! Какой дурак! Не купил ни чашки, ни чайника! Вот идиот! Придется всухомятку.
Пока во всем доме не было ни одного соседа – до лета никто не торопился переезжать.
Кое-как проспав не раздеваясь на голой раскладушке, он рано утром побежал к старым хозяевам просить их либо одолжить, либо продать ему кое-что из посуды, пару простынь, одеяло, подушку.
Матвеевна недовольно сказала:
– Еще чего! Купить! Да пользуйся, сколько хочешь. Хоть и навсегда бери.
– Конечно, – кивнул хозяин. – А, небось, скучно будет жить с голыми стенами?
– Там обои, – неловко ответил Геннадий, не понимая, к чему клонит старик.
– Обои-то обои, а все же голые. Хочешь, я тебе картинку подарю?
– Хочу! Конечно, хочу! – обрадовался Геннадий.
– Иди, выбери, какая понравится.
– А можно жирафа?
– Я же сказал, какая приглянется.
Так в его полупустой комнате поселился жираф, не отбрасывающий тени.
И странно, он действительно скрашивал одиночество. Когда бывало особенно не по себе, Геннадий заглядывал в грустные глаза животного и почему-то ему начинали вспоминаться кривые, ступенчатые улочки родного Тбилиси, винные погребки, Густые жаркие ночи; становилось как бы свободнее и что-то грустное и теплое оседало на сердце. Он долго не мог понять почему, но, в конце концов, догадался: стариковский жираф напоминал ему картины великого Пиросмани. Теперь каждое утро он улыбался своему длинношеему сожителю, словно говорил ему «доброе утро», и тяжелые ночные томления отступали, легче было начинать день и сдерживать нетерпение перед встречей с Лидией. Но тем дальше шли дни, тем труднее ему было скрывать свое нетерпение. Чего он, собственно, ждал? Хотел ли он увидеть ответное нетерпение Лидии? Он чувствовал – она все понимает и только ждет удобного момента, чтобы сказать: решись же ты, наконец!
Но этого он как раз боялся больше всего. В такие минуты сила отталкивания брала в нем верх; он тут же хватался за какое-нибудь неотложное дело, если это было возможно, попросту сбегал. Время, однако, шло и нетерпение его возрастало, сопротивление слабело. Он знал, что первый ни на что не решится, приказ должен исходить от нее. Она тоже это понимала и откровенно забавлялась его робостью и неопытностью.
А серьезная, настоящая хирургическая работа так и не шла ему в руки. Василий Иванович не подпускал его к операционному столу.
Но, наконец, он пришел, этот долгожданный день. В больницу привезли мальчика лет девяти с острыми болями внизу живота. Василий Иванович, как всегда, «представительствовал» в районе, и Геннадий самолично должен был поставить диагноз и принять решение. Он без труда установил: приступ аппендицита, операция показана, и немедленная. Что делать? Ждать, пока вернется главный? Но может оказаться поздно – у мальчика появились уже первые признаки перитонита.
Оперировать! Единственный выход – немедленно оперировать!
Геннадий решился. И больше уже ни о чем не думал. Только отдавал ясные, четкие распоряжения: готовить операционную, малыша, вызвать Александра Александровича, будет ассистировать. На протестующий жест Лидии, бросил сухо:
– Вы операционная сестра, у вас свои обязанности. Он будет ассистировать, потом останется дежурить. На ночь.
– Здесь мать.
– Хорошо. Пусть не уходит. Поможет Александру Александровичу. За всем проследит. Действуйте поскорее. Ждать дольше опасно…
Радость и волнение первой удачи были так велики, что Геннадий до поздней ночи не мог заставить себя уйти из больницы. Каждые 10–15 минут заходил в палату, щупал у малыша пульс, заглядывал в глаза, сам смачивал ему влажной ваткой запекшиеся губы, пока не дождался резкого замечания старого фельдшера:
– Дайте же ему отдохнуть, доктор! Все идет нормально. Что же вы суетитесь?
Пристыженный, Геннадий почти побежал к выходу. В полутемном коридоре лицом к лицу столкнулся с Лидией. Откровенно прильнув к нему, она прошептала:
– Не запирайся… я приду…
И тот час скрылась в одном из кабинетов.
Правда ли это? Или шепот ему только послышался? Но он был так счастлив, так горд собой, что не усомнился – все правда, она придет!
Он заторопился – надо хоть немного прибрать в комнате. Но там оказалось чисто – видно, старая Матвеевна опять приходила наводить у него порядок. Не зная, чем себя занять, он начал просто ходить из угла в угол, ему казалось, так быстрее проходит время.
Уже совсем стемнело, а она все не шла. Он забыл включить свет и продолжал метаться по комнате, непрестанно натыкаясь то на стол, то на стул. Так бродил он до полуночи, измученный сомнениями и этим нелепым хождением. Иногда он радостно взбудораживался: она обязательно придет, зачем ей надо было обещать? Но уже через секунду приходил то в отчаяние, то в бешенство, то начинал мысленно умолять ее выполнить свое обещание. В иные минуты он мечтал о том, чтобы она не приходила, ему остро хотелось спрятаться, затеряться, плотно занавесить окошко, чтобы никто, а прежде всего – она, не смог проникнуть в его одиночество. Он сорвал с постели одеяло и растерялся – бесстыдная белизна оголившейся простыни заставила его содрогнуться от легкого, необъяснимого отвращения. Торопливо занавесил окошки. От перенапряжения, от этой внезапно заполнившей комнату темноты, он как бы весь внутри опустел и в изнеможении опустился на кровать. Через минуту он уже крепко спал.
Разбудил его яркий свет загоревшейся под потолком лампочки.
– Занавесился? – не снижая голоса, спросила Лидия. – От кого? Прятаться-то не от кого!
Он с трудом выкарабкивался из сна; то, что увидел, казалось его продолжением; волнообразные движения змеи, меняющей кожу, Лидия заставила платье мягко сползти на пол. Под платьем не было ничего. Влажно поблескивала отливающая желтизной кожа.
Геннадий медленно поднялся, встал подле кровати, стремясь и не решаясь подойти к Лидии поближе.
«Во мне словно двое живут – я и еще кто-то», мимолетно подумал он.
Лидия протянула назад руку, нащупала выключатель; комната окунулась в плотную тьму. Геннадий шагнул вперед, обнял узкое, чуть влажное тело, ощутил его раздражающий, звериный запах…
Она стала приходить почти каждую ночь. Днем она была все так же суха и молчалива. Да и ночью почти с ним не разговаривала. Молчал и он.
В начале, правда, он говорил какие-то казавшиеся ему обязательными слова, но вскоре понял, что они ей не нужны, да и ему, по существу, тоже. Приходила она всегда неожиданно, оставалась недолго и уходила, не попрощавшись. Он никогда не был уверен, придет ли она к нему еще когда-нибудь, и потому всегда был напряженно раздражен – и когда не видел ее, и когда она была рядом.
Боясь, что Евдокия Матвеевна когда-нибудь во время уборки его комнаты, столкнется там с Лидией, он просил ее больше не заботиться о его несолидном хозяйстве – сам, мол, справлюсь.
– Сам? – усмехнулась старуха. – А может Лидия тебе поможет?
Он растерянно промолчал.
А старуха вздохнула и сказала добро и печально:
– Несчастливая она бабенка. Жаль мне ее.
– Несчастливая? – удивился Геннадий.
– Ага. Сын у нее дурачок.
– Сын? Я не знал…
– Сынишка, говорю, дурачок. От роду и до самой смерти такой будет…
«Как же так? – подумал Геннадий. – Она никогда ни слова…»
Матвеевна продолжала:
– Лидия здешняя, из здешней деревни. Пока отец-мать живы были – училась. Восьмилетку кончила и в район подалась, на курсы медицинские. Шесть годов, как вернулась, а тут у нее в дому сразу два несчастья – отца на шоссе машина столкнула, через неделю в больнице помер, а вскорости мать паралич разбил. С месяц помаялась – ни рукой, ни ногой, ни слова вымолвить, да и померла. Тут видим, – брюхата наша Лидия. Ну, срок ей пришел – родила. А ребеночек дурачком оказался. Сразу не приметили, а как убедились, стали ее бабы уговаривать отвезти в город, в дом ребенка, где таких держат. А она – ни в какую! И про отца, кто отец ребеночка – никому ни слова. Переехала в другую деревню, что от нас километров за тридцать ко вдóвой и бездетной своей тетке, поселилась там с сыночком; а тут как раз совхозную больницу отстроили, стала у нас работать, а всю, почитай, зарплату тетке на мальчонку шлет; как свободный день – и в дождь, и в снег, и вёдро – туда. Когда на попутной, а когда и пешим ходом. Парнишке уже шестой годок, а все только ползает да мычит… По мне так большего горя у матери и быть не может. Умер бы уж лучше, что ли…
Геннадий подавленно молчал. Неужели только он один не знал об этом несчастье. Не может быть! А он? Что же он?
«Не догадывался, не чувствовал, что ее гложет!» – корил он себя.
Только расставшись со старухой, сообразил, что о нем с Лидией, вероятно, знает весь совхоз. Сплетня дошла, конечно, уже и до главного, до Василия Ивановича.
«Да почему же, собственно, сплетня? – одернул он себя. – Это же правда!»
Как вести себя теперь, когда ночные посещения Лидии из скрытых и таинственных стали для всех просто бытовым обыденным происшествием?
Но больше всего волновало его другое – как встретиться с Лидией, как посмотреть ей в глаза? Даже себе не решался он признаться, что боится этой встречи. Стыдился этого страха, и все равно – боялся. Стыдился он еще того, что за все время их близости ни разу не почувствовал, что Лидия что-то от него скрывает, что она несчастлива. Значит, не она сама, не ее жизни были важны ему, а только физическая близость с нею? Какое же он имеет право считать себя порядочным человеком? Как он мог когда-то осуждать своих сверстников за то, что они вот так же, с чисто мужским эгоизмом относились к своим временным подругам? Чем он лучше их?
«Нет, нет, теперь все будет у нас по-иному!» – давал он себе слово.
Но ничего, совершенно ничего не переменилось. И виною тому был не он, а Лидия: не он, а она не желала ничего менять, не желала подпускать его близко к себе, к своим мыслям, к своей жизни. Так же молча приходила и уходила, ничего не отдавая, ничего не требуя.
А Геннадий не решался заговорить с нею о сыне.
Через несколько дней после того, как он узнал о несчастии Лидии, Василий Иванович на три месяца уехал в Московский институт усовершенствования врачей, со спокойной совестью свалив на плечи своего молодого коллеги больницу, больных, хозяйственные хлопоты и сложнейшие дипломатические отношения с райздравом и директором совхоза, ничуть не заботясь о том, сможет ли тот со всем этим справиться.
Геннадию надо было радоваться – наконец, в делах медицинских не будет над ним мелочной опеки главного. Но он только злился. Ему казалось, что все благородные разговоры о земских врачах, обязанных уметь все, только камуфляж и подготовка к этой длительной и приятной поездке – ведь вся семья Василия Ивановича все еще жила в Москве и пока что, как будто не собиралась переезжать в этот северный совхоз не собиралась.
Он понимал, что несправедлив к главному – тот и, правда был неплохим врачом и действительно «умел все».
Но сейчас, в этом подавленном, напряженном состоянии с самим собой, Геннадий раздражался на всех и на всё. Если бы не отсутствие главврач, он бы наверняка постарался уговорить райздрав перебросить его куда-нибудь в другую больницу или в любой медпункт, лишь бы уехать отсюда подальше.
Но это было невозможно.
Как невозможно было разрушить стену, которая возникла между ним и Лидией.
Как невозможно было и порвать с нею…
В первый по-настоящему теплый день середины апреля Геннадий снова оказался в районном городе. Как и в первый свой приезд, он поджидал шофера в привокзальной пивной. Промотавшись целый день по учреждениям, он не успел пообедать. С трудом уговорил буфетчицу продать ему порцию неаппетитной колбасы, подававшейся только к пиву. Но пиво он терпеть не моги, сидя за неприбранным столиком, жевал ее всухомятку. По облезлой клеенке, как и в тот раз, ползла радужная муха.
Кто-то поставил две наполненные пивом кружки прямо перед Геннадием.
– Здорово, доктор!
За столик уселся изрядно выпивший рыжеватый парень.
– Не узнаешь? – спросил.
– Простите, нет.
– Да как же? Ведь это ты из меня дробинки выковыривал. Кирилл я, Петров моя фамилия. Ну?
– А-а. Да, да.
– Выпьешь? Я еще принесу.
– Благодарю вас, нет.
Парень вдруг приблизил к нему потное лицо и прошептал, обдавая запахом пива:
– Она ведь тогда и правду соврала, что отец меня случайно. Она-то лучше всех знала, что не случайно!
У Геннадия почему-то сразу пересохло во рту. Он хотел встать и уйти, не слушать того, что сейчас расскажет этот пьяный парень, что-то наверняка нехорошее, стыдное о Лидии. Но он только сильно побледнел и продолжал сидеть, испуганно глядя в разбегавшиеся бледно-голубые глаза.
– Ты послушай, послушай, именно ты должен все знать… Она ведь у меня была первая…
«И у меня она первая!» – вздрогнув, подумал Геннадий.
Опустил, наконец, глаза и увидел, как муха остановилась и начала чистить лапки.
«Господи! – гадливо передернулся Геннадий. – Та же муха!»
А парень вдруг как бы протрезвел.
– Ты слушай, – сказал он тихо и грустно. – Я ведь жениться хотел. Три месяца мы с нею жили. Просил ее замуж, а она все молчит. Нет, думаю, уговорю, согласится! Ведь любил я ее. Крепко любил.
Он задумался, глядя на то, как медленно оседает в кружке пена.
– В этот день я вечерней работал. Только начал, оказывается – забыл дома разводной ключ. Побежал за ним, свет зажег, гляжу – она со стариком моим, с отцом в постели лежит. Сердце у меня зашлось, схватил ключ со стола и к ним. Замахнулся, а батька сорвал со стены дробовой и стрельнул. Думал, может, что я на него, а я не на него, я на нее замахнулся… Я отца не осуждаю. Он седьмой год вдовеет. Но она? Она еще вчера со мной…
Геннадий не в силах был снова поглядеть в лицо парню. А тот продолжал также тихо и серьезно.
– Ее-то… ее я всерьез возненавидел. С того дня так ни разу и не встретились. А с отцом все молчком, да молчком, как все равно чужие. Немного сердце отходить начало, а тут узнаю – с тобой она. Ну, не могу я стерпеть! Не могу! Вот уезжаю. На БАМ. Сегодня уезжаю…
Как хорошо понимал Геннадий этого парня! Не так давно сам он мечтал все бросить и бежать отсюда.
А парень вдруг положил свою тяжелую руку на узкую ладонь Геннадия и сказал с тихой тоской:
– А все равно – ежели меня она хоть пальчиком поманила, сейчас женился, несмотря, что… Да ладно, прощай доктор. Жалко мне всех. И отца. И ее. Да и тебя… Так что…
В поселок Геннадий возвратился уже ночью, Измученный, словно перемолотый весь, отворил двери в свою комнату. За порогом, на улице матово светила луна, здесь же было совершенно темно. Ни звука, ни дыхания, но он тот час почувствовал – Лидия здесь. Спит? Как она может спокойно спать?!
В нем все кипело, клубилось, казалось ему, что он слышит тихий, беспрерывный свист собственной крови. Ему мучительно захотелось узнать, какая она, когда его нет рядом, когда не знает, что на нее смотрят.
Крадучись, подошел к окошку, сдернул с него одеяло. Лунный свет упал на постель – на белой простыне плоско лежало длинное тело. Оно было словно вырезано из бумаги и вставлено в светлое обрамление.
«Она похожа… она похожа на те стариковские картинки, плоская…» – подумал Геннадий.
Отвратительная тошнота подступила к горлу. Не таясь больше, не боясь ее разбудить, он выбежал из комнаты, громко хлопнув дверью.
Он вышел на по-особенному пустынную под луной улицу, с наслаждением вдохнул острый запах земли и бессознательно повернул в сторону недавно вспаханного огромного поля.
Остановился только тогда, когда перед ним открылась распахнутая под высоким небом земля. Вблизи, у его ног бугрились темные комья; от них исходил густой, тревожный запах. А там, вдалеке, поле казалось гладким и шелковистым, Оно, плавно приподнявшись, снова опускалось туда, за горизонт. И небо над ним было светлым и легким, он отдавало земле свой последний дневной свет; Геннадий долго смотрел, как он меркнет, колеблясь и угасая.
Ему казалось – это слабое мерцание освобождает его от тоскливого и горестного отвращения к Лидии, к себе.
И где-то в нем, в самой его глубине возрождалась вера, что любовь, та первая, настоящая, еще придет.
Может быть, ему придется ждать ее долго, но она обязательно придет – широкая и свободная, как эта прекрасная весенняя ночь…
СВАТОВСТВО
За два года до войны Софья разошлась с мужем. Собственно не разошлась – зарегистрированы они не были – кто в те годы придавал этому значение? Просто ушла от него.
«Гуляли» они с Василием давно, еще в родной деревне. Сюда, по их представлениям, южный город, приехали вместе, поступили на стройку; в мужской комнате общежития им отвели семейный угол – отгородили койку ситцевой занавеской; так и зажили они как муж и жена.
Софья быстро приобрела специальность, стала хорошим моляром и очень неплохо зарабатывала; после работы ходила с товарками по квартирам, подновляла, красила, ремонтировала.
Василий же, изрядно ленивый мужик, так и остался разнорабочим.
Пил он не больше других мужчин в общежитии, Софью не бил, не обижал; но чем дольше они жили вместе, тем плотнее ее охватывало чувство томительной скуки. Может быть, тосковала она по своей далекой деревне, может быть, соскучилась по городку, где уже несколько лет жила с мужем ее старшая сестра; городок казался Софье большим, оживленным; на центральной площади стояло несколько трехэтажных каменных домов – железнодорожный техникум с интернатом, универмаг, райисполком, кинотеатр. Дома были старые, построенные еще богачами-прасолами; от площади отходили два автобуса – один до станции и железнодорожных ремонтных мастерских, другой на ту сторону реки, до завода минеральных удобрений, где работали сестра и ее муж.
Поездка в город всегда была для Софьи праздником – она успевала побывать у сестры с деревенскими гостинцами, сбегать в кино и на танцплощадку в городской сквер; словом, день был полон удовольствий; домой она приезжала на попутке усталая, сонная, но очень довольная. Тогда она не замечала, что Василий, обязательно увязывающийся за нею, ходил всюду молча, со скучно-равнодушным лицом человека, у которого никто и ничто не может вызвать интереса. Сейчас же молчаливое равнодушие мужа ко всему на свете стало раздражать Софью, вызывало в ней сосущее чувство тоски.
Однажды она прибежала домой пораньше – переодеться и отправиться с подругами в клуб на концерт самодеятельности. Откинув занавеску своего супружеского закутка, увидела неубранную постель, а на подушке пропотевшие рваные портянки. Это грязное тряпье на белой наволочке так обидело, словно ее кто-то ни за что ни про что ударил по лицу. Но она не заплакала. Торопливо собрала свои нехитрые пожитки, увязала в пуховый платок и вышла из общежития.
А через несколько часов сидела в полутемном вагоне и тихо плакала о своей неудавшейся семейной жизни, о том, что теперь она ни мужняя жена, ни девка, ни вдова, а так не поймешь, кто. И все-таки она не жалела о своем внезапном решении расстаться с Василием. С ним она не повидалась и даже записки ему не оставила – рассчиталась в конторе, купила билет и вот едет.
Сестре она так и не могла объяснить, почему разошлась с мужем. Ушла, и все. Да было и не до душевных разговоров – та только что родила недоношенного, слабенького мальчонку и ни о чем, кроме его здоровья, не могла сейчас ни думать, ни говорить. Софью встретила довольно холодно, даже не предложила переночевать и сухо сказала, что неподалеку от речки у Наследницы сдается угол; дом, конечно, развалюха, да первое время поживешь, а там найдешь, что получше.
Домик действительно имел довольно жалкий вид, хозяйка его, высокая, костистая и удивительно некрасивая женщина показалась Софье неприветливой; она копалась в крошечном огородике перед кособокой хаткой и, не разгибаясь, махнула на дверь:
– Иди, погляди, может, и не захочешь.
Софья поднялась на крыльцо, вошла в сени, оттуда в комнату и удивленно остановилась – здесь было светло, необыкновенно чисто и уютно; посередине комнаты возвышалась свежепобеленная русская печь, какую теперь можно увидеть только в самой отдаленной северной деревне. Полы были застелены точно такими же, как и в родной Софьиной хате, полосатыми домоткаными половиками.
Пока Софья осматривалась, вошла хозяйка.
– Притульну у вас, – робко сказала Софья.
– Нравится? Ну и живи на здоровье.
Хозяйка улыбнулась, и Софья тотчас забыла о ее некрасивости – улыбка была ясная, добрая, лицо сразу стало милым и приветливым.
– Меня Софьей зовут, – легко сказала Софья. – А вас?
– Улица Наследницей кличет. Раньше дразнили – Богатая наследница, – я ведь этот домик от дядьки-печника действительно в наследство получила. Отца-мать не помню, дядя меня в дети взял. Пьяница, верно, да необыкновенной доброты человек, он мне и за мать и за отца был, а перед смертью дом отписал. Вот и живу…
Несмотря на то, что хозяйка была старше Софьи лет на восемь, они быстро подружились и зажили даже не как товарки, а как сестры. Софья не помышляла о другой квартире, она чувствовала себя здесь хорошо и спокойно. Одна была беда – городок в малярах не нуждался; ни домов, ни заводов здесь не строили, а белили и красили жители все, что им надо было, сами.
Хозяйка уже много лет работала в железнодорожных мастерских на старомодном, неповоротливом обдирочном станке, но как-то умудрялась быстро и точно выполнять все заданные мастером уроки. Она и устроила Софью в мастерские, она же обучила ее несложной технике обдирки.
Вскоре они стали класть свою зарплату на комод, в коробку, оклеенную разноцветными ракушками. Софье эта базарная коробочка казалась верхом изящества и красоты. Она подолгу рассматривала каждую ракушку, умилялась:
– Гляди-ка, такие маленькие и каждая свой колер имеет. Натуральный, не крашеный! Как цветки в поле. Вот, поди, там, у моря красиво! Повидать бы!
Что ж, может, и поедешь когда. Отпуск возьмешь и съездишь.
Но Софья считала это несбыточной, немного стыдной мечтой и только потихоньку вздыхала. У сестры она почти не бывала. Мальчишка-племянник со времени Софьиного приезда научился произносить только «ма, да и нет». Он часто болел, и сестра вынуждена была бросить работу.
Чтобы хозяйство в деревне окончательно не заглохло, в доме сестер поселилась их старая одинокая тетка и, как могла, управлялась. Изредка присылала для мальчика то крынку масла, то мешок картошки, то десяток яиц. Но мальчишке все это шло не в прок, он был также худ, бледен и вял.
…Война, разразившаяся далеко от этого сибирского городка, постепенно захлестнула и его: взрослых мужчин почти не осталось; ушел на фронт и муж сестры. Тогда-то она и начала упрашивать Софью перейти к ней жить – она вернется на завод, будут они работать в разные смены и вместе пестовать мальчонку. Но Софья слишком сжилась семьей со своей хозяйкой, привыкла считать ее своей настоящей и единственной семьей, да и не могла простить своей сестре, что та даже на одну ночь не дала ей приюта, когда она, бросив мужа, приехала к ней.
Пришлось сестре увезти малыша в деревню; она сдала его на руки старой тетке, сама вернулась на завод. Старуха безропотно приняла малого – ведь она пользовалась столько лет хозяйством как своим собственным, да и деваться ей на старости лет все равно было некуда.
Софья и Наследница теперь работали по десять-двенадцать часов, а иногда и по неделям не приходили домой, спали в цеху за старыми ящиками, часто путая день и ночь, – вагонов надо было все больше и больше и гнать, гнать составы с техникой и людьми на запад, да и во все концы огромной страны. И на всем пути их следования жадно всматривались в проносящиеся лица, ища свое, родное, – женщины, женщины, будущие вдовы…
В конце сорок второго Софья узнала, что мать Василия получила похоронку.
Софья заплакала. Но, к стыду своему, не от горя и жалости, а скорее, от того, что никак не могла вспомнить ничего хорошего из недолгой их совместной жизни. Гораздо искренне и дольше горевала она, когда такое же извещение получила сестра.
Оплакав свое вдовье, та уволилась с завода, сдала казенную комнату и навсегда переселилась в деревню. Звала с собою и младшую сестру, но деревня, колхоз да и все далекое прошлое казались Софье чем-то чужим, словно и не с нею все это когда-то было; она не могла себе представить, что будет там делать, как жить…
Мужчин в мастерских оставалось все меньше; их заменили подростки и женщины всех возрастов – от молоденьких вдов, до пожилых, осиротевших матерей.
Вскоре Наследницу назначили бригадиром, а Софье отдали под начал четырех мальчишек для обучения. Она сначала сердилась, возмущалась, протестовала.
– Детский сад, ей-богу! Ну что я с ними буду делать?
Но ребята оказались смекалистыми, на удивление послушными; она легко подготовила их на разряд и сходу взялась за обучение следующей группы. Да так уж и пошло – всех новичков прикрепляли к ней. В конце концов, она не только привыкла к своим новым обязанностям, но даже полюбила возиться с ребятами, стала быстро и безошибочно распознавать их характеры и находить каждому особый подход.
Как в свое время к хозяйке прилипло прозвище Наследница, так и Софью все в мастерской стали называть Нянькой, а мальчишки с уважением няня Соня. Много времени спустя, то, чем она тогда занималась, стали называть наставничеством. Но пока ее работа не имела особого названия, да и какая разница – мальчишки ее слушались и даже любили.
А в это время Наследница вдруг приобрела имя. Даже старухи, соседки по кривой улочке, где стоял ее дом, начали называть ее не просто Ксения, а почтительно – Ксения Григорьевна.
Мальчишки взрослели, женщины катастрофически быстро старели, но некрасивое Ксенино лицо оставалось все таким же: гладко обтянутые темной кожей высокие скулы, хрящеватый, с горбинкой нос, маленькие, светлые глаза без ресниц. И только высокий, чистый лоб и красивого рисунка рот словно бы взятые напрокат у другого человека, соскользнули с чужого лица. Это странное несоответствие черт делало ее почти уродливой. Но когда она улыбалась, в углах рта появлялись ямочки, открывались крупные, великолепной формы белые зубы, она молодела и казалась тогда почти красивой. Да улыбалась она редко, говорила мало, и плохо знавшие ее люди считали ее недоброй и обращались к ней только в случае крайней необходимости.
Ну, а Софья тоже почти не изменилась. Она осталась все той же крепко сколоченной, круглолицей сибирской молодухой, словно и не уезжала из деревни, не жила до войны в большом городе и не работала несколько лет на стройке и в мастерской.
После работы они с Ксенией потихоньку копались в огороде; осенью они собрали необыкновенно обильный урожай картошки. Всю долгую, голодную зиму Софья подкармливала своих мальчишек картофельными шанежками из черной муки, которые с охотой и довольствием пекла Ксения. Да и самой было приятно с мороза придти в дом, где вкусно пахло хлебом и выпить горячего морковного чаю с шанежками! Какое ласковое, семейное тепло разливалось по комнате от только что вытопленной печки! Ненадолго забывались и усталость, и тревожные сообщения по радио, и то, что завтра надо снова вставать чуть свет и по трескучему морозу бежать в холодные мастерские… Нет, что ни говорите, а в общем, эти две женщины жили в войну хоть и трудно, но вполне благополучно – никого у них на фронте не было, бояться было не за кого, не голодали. Да и окончание войны мало в чем изменило их жизнь – работали они все там же, весной вкапывали огород, с удовольствием вдыхая запах разворошенной земли, и Софье тогда казалось, что она снова дома, в деревне, и рядом с ней не Ксения, а давно умершая мать.
Летом она получила первое письмо от сестры со дня отъезда той в деревню. Сестра писала, что решила выйти замуж за вдового соседа на двух детей. «Девочки уже большенькие, помощницы, смирненькие, Коленьку моего обижать не будут. Все легче с хозяйством, да и тошно одной-то. А про любови всякие поздно теперь думать. Так я решила». Звала на свадьбу, да Софья не поехала, она никогда не была особенно близка с сестрой – когда та вышла замуж и переехала в город, Софье было всего девять лет; да и все связанное с деревней было уже давно чуждо ей. Неловко ей как-то было за сестру – уж больно она откровенно высказалась о своей нелюбви к будущему мужу. Софья только «отбила» поздравительную телеграмму на красочном бланке и все.
А Ксения одобрила поступок Софьиной сестры.
Правильно сделала, – вздохнула она. – Плохо в старости одной жизнь доживать.
– Одной! Сын у нее.
– Что сын? Женится – о матери не вспомнит…
И, строго глянув на Софью, прибавила:
– Пока не поздно, советую и тебе об этом подумать. Сейчас ты еще, пожалуй, и дите родить сможешь, а погоди – опоздаешь. В года ты уже вошла, скоро с горки покатишься. Смотри!
– Да что ты – смотри, смотри! – засмеялась Софья. – На кого смотреть-то? Где они, мои женихи?
– Поискать можно…
– Да брось ты. Кому я нужна?
И снова засмеялась.
– Вот ты раньше выходи, а я уж вслед.
Ксения не ответила, только сердито нахмурилась. Она больше не заговаривала с Софьей о замужестве, но пыталась, как бы невзначай знакомить ее то с тем, то с другим холостяком. Софья делала вид, будто не понимает, к чему все эти «случайности», но старалась, не обижая подругу, избегать кандидатов в женихи; в конце концов, Ксения оставила свои попытки ее сосватать.
А время не щадило и Софью – она сильно располнела, округлились плечи, огрубело лицо и на шее появились поперечные складки. Это не было еще постарением, только вся она, прежде крепкая, быстрая, стала как бы тускнеть, гаснуть. А Ксения, которая в своей некрасивой сухости внешне почти не менялась, с досадой и сожалением поглядывала на товарку и только вздыхала втихомолку.
Зимними вечерами они засиживались теперь над вязанием; в тишине быстро мелькали спицы и копились, копились в сундуке платки, фуфайки, носки; часть отсылалась в деревню сестре для ее большого семейства, часть старой тетке, а часть так и валялась никому не нужная, ненадеванная. Бесконечное, монотонное вязание просто стало неотъемлемой частью их монотонной жизни.
Чтобы как-то сократить однообразие и скуку, Софья иногда тихонько напевала. Она пела всегда одно и то же: песню об отчаянном шофере Снегиреве, что ездил по Чуйскому тракту, а кончала длинным, в двенадцать строф, рассказом, как «одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра».
Ксения слушала ее внимательно, каждый раз словно впервые. Но однажды не выдержала, усмехнулась:
– Что ты все одно и то же? Скукота!
– А я других ни одной до конца не знаю. Только эти две запомнились.
Ксения на минуту задумалась и вдруг негромко запела низким, необыкновенно богатым и нежным голосом:
Что делать сердце мне с тобою? Как тайну мне, ту тайну мне скрывать? Куда пойду с моей тоскою? В моих ли силах не страдать?…– Ох, ты! – удивленно ахнула Софья, когда та замолчала. – Я таких не слыхивала.
Ксения вздохнула и снова запела:
Там в аллеях уснувшего сада…Кончила, задумалась.
Тут по соседству старичок один жил, теперь уж помер давно, – заговорила она. – Граммофон имел. Как выпьет, выставлял его, бывало, на подоконник, пускал во всю мочь, слушал и плакал. Я девчонка тогда была, память молодая, вот и заучила…
Голос у тебя! Прямо в театрах петь!
Скажешь тоже! – сердито огрызнулась Ксения. – С таким лицом и перед народом! Молчи уж!..
Больше они не пели. И снова по вечерам мелькали, мелькали спицы и лежало в их комнате плотное, нетрудное молчание.
Потом Ксения втыкала спицы торчком в клубок до завтра.
– Почаевничаем? – спрашивала, поднимаясь.
– Да что ж пустой-то чай хлебать? – откликалась Софья, но покорно складывала работу.
На ее слова Ксения неизменно отвечала той же шуткой:
– Да уж конечное дело – было бы мясо – пельмени бы налепила, да муки нет.
Так жили они спокойно и тихо, и, казалось, спокойной этой жизни не будет конца. Ксения давно сдала бригадирство бывшему Софьиному ученику и работала теперь на новом станке. Она искренне считала – работать на нем так легко, что устать просто невозможно. Однако все чаще к концу рабочего дня у нее разбаливались ноги и неприятно саднила спина. В такие дни она думала, что стареет, а до конца – до пенсии еще два года… потом год… И вот, наконец, пришел долгожданный день – пенсия! С этой минуты она больше в мастерские не заглядывала.
А Софья уже навсегда осталась Нянькой – учила мальчишек; оформили ее с официальным титулом – мастер-воспитатель. До пенсии было ей еще далеко, целых восемь лет, но ей тоже порядком поднадоело изо дня в день повторять одно и то же, учить одному и тому же. В тайне ей давно уже хотелось как-то изменить свою жизнь. Да как?
Внезапно их жизнь круто переменилась.
Дело в том, что за речкой, отделявшей городок от степи, стал разрастаться и отстраиваться эвакуированный сюда во время войны небольшой инструментальный завод. Лет через шесть-семь после окончания войны он постепенно начал превращаться в большой станкостроительный комбинат. Ширился комбинат, и вокруг него появлялись целые улицы жилых домов.
«Наследный дворец» Ксении все больше врастал в землю, кренился на бок, и хозяйка озабоченно говорила, что в одну прекрасную ночь они проснуться в речке, вблизи которой, на самом конце узкой, крутой улочки с красивым названием приречная и стоял дом.
Но до этого, к счастью, не дошло: комбинат все активнее поглощал, всасывая в себя городок – и не только его жителей, но и улицы, площади, скверы. Первой исчезла, была снесена с лица земли улица Приречная. Все жители поместились по ту сторону реки в двух пятиэтажных домах.
И тут-то Софья внезапно оживилась, Не сказав ничего Ксении, уволилась из мастерских и ушла на строительство, стала работать по старой своей специальности – маляром. Она очень быстро вспомнила все, чему научилась когда-то, и работала теперь с удовольствием, со вкусом. Она сильно и как-то ладно похудела и от этого сразу помолодела. Ей минуло сорок восемь, но никто, глядя на эту ловкую, веселую женщину не мог подумать, что ей столько лет.
– А что? – смеялась Софья. Конечное дело – сорок лет – бабий век, зато в сорок пять – баба ягодка опять!
Жили они теперь в малогабаритной двухкомнатной квартире. Весь уклад их жизни неузнаваемо изменился. Ксения хозяевала – готовила, убирала, стирала. Софья работала много и, как в старые времена, бегала по вечерам на «халтуру». Вовсе не потому, что была жадна до денег, ей просто нравилась работа, нравилось приходить домой усталой и, повалившись на кровать, вспоминать все, что было сделано за день. В глубине души она жалела Ксению, что та целый день сидит взаперти одна.
И как-то предложила подруге:
– Пошла бы ты к нам в бригаду. Я тебя быстро обучу. С полгода проработать подсобницей, а там, гляди, и самостоятельно начнешь.
– Да чего я там не видела? – огрызнулась Ксения. – В краске, да в воде весь день болтаться?!
– Глупая! – рассмеялась Софья. – Не понимаешь ты, как это здόрово: пришла в дом, перед тобою стена – грубая, шершавая, серая, что грязь на дороге, а ушла – она нежная, что ребячья кожа, а колеры такие, как тебе и хозяину мечталось, – то бирюзовая, то палевая, то розовая! А что есть такой – ультрамарин называется, говорят, такое море бывает к ночи. И все это ты сделала, твои глаза и руки! Знаешь, как приятно?
На уговоры Софьи Ксения не поддалась – стара, мол, не очень здорова, поздно за новое дело браться; да и пенсии хватает, чего же еще?
Чтобы Ксении не было так уж тоскливо одной по вечерам, Софья на скопленные от халтур деньги купила недорогой телевизор. В первый месяц после покупки она и сама увлеклась, никуда не уходила и смотрела вместе с Ксенией все подряд, всю программу до конца. Но последнее время Ксения стала замечать, что Софья как бы еще помолодела, стала более подвижной, оживленной, меньше бралась за левые работы, но по вечерам все-таки почти не сидела – прибежит с работы, помоется, переоденется в новое, цветастое платье и убегает, а вечером приходит, когда Ксения уже улеглась спать. Но бывали дни, когда она после работы никуда не торопилась и вид у нее был не очень веселый. Усевшись рядом с Ксенией у телевизора, она невнимательно смотрела на мелькавшие на экране картинки и едва ли обращала внимание на то, что видит. В один из таких вечеров Ксения, искоса поглядев на товарку, спросила:
– Ну, а он-то кто? Что за человек?
Нисколько не удивившись вопросу, Софья тотчас ответила:
– Майор. Отставник. Лет ему шестьдесят два.
– Отставник. Так. А сейчас чем занят?
– Весны ждет. Ему от начальства участок выделен. И деньги на строительство дома. За службу.
– Здесь?
– В том-то и дело – не здесь. В Крыму. У самого моря…
– Вот оно что! Ну и как он тебе?
– Сама не знаю.
– Человек-то хороший?
– И этого не знаю… Ей богу… Иногда кажется – ничего, а иногда – не пойму, может и не очень хороший.
– Чем не хорош? – с тревогой спросила Ксения.
– Не знаю.
– Как это?
– А так – не знаю и все. Зовет меня замуж, мол, одинокий, семьи нет, будешь хозяйкой. Решил, говорит, виноград разводить. Выгодная очень ягода – хоть курортникам на месте продавай, хоть вези в Москву или куда на север самолетом. Они с родителями когда-то виноградарями были, богато жили. Кругом колхозы с хлеба на воду, а их – миллионер. Да на личном участке имели тридцать-сорок лоз.
– Что ж, может, и правда.
– Научу, говорит, тебя этому делу, так мы в миллионеры подадимся. Смеется, конечно, а все ж таки как-то уверенно тянет: ба-а-льшие тысячи на этом заработать можно.
Обе недолго молчали.
– Как-то мне, знаешь, боязно окончательное согласие дать, хоть он и торопит.
– Почему торопит?
– Скоро уезжать. Им солдаты строят – наблюдать надо.
– Ну, а ты?
– Вот и не могу решиться. Раз как-то говорю ему – ну, тысячи вы заработаете, а дальше что? Как, говорит, что? Жить будем. Машину купим, мебель самую дорогую. Ну, я опять спрашиваю – а дальше-то что? Обиделся. Так, говорит, мы работать будем, не воровать! Ничего я на это не сказала, а сама думаю – ну, как это только на самих себя работать? Людям-то от нас что будет? Он же не о том заботится, чтоб людей сладкой ягодой накормить, а об себе одном… А так он на внешность ничего, аккуратный…
– Что ж, может и привыкнешь к богатой жизни…
– Не знаю… Подумаю…
Больше ни та, ни другая на эту тему не заговаривали. Софья продолжала приходить домой поздно, тихонько пробиралась к себе, укладывалась, но долго не могла уснуть – чем ближе была весна, чем пронзительнее тянуло в открытую форточку талым снегом, тем тревожнее становилось у нее на душе. Она засыпала под утро, так ничего и не решив, а на утро шла на работу с головной болью. Она стала замечать, что и сама работа уже не доставляет ей того удовольствия, что раньше.
Однажды ночью ее разбудили странные звуки, долетавшие из соседней комнаты. Она прислушалась и вдруг поняла – это плачет Ксения. Испуганно вскочила, бросилась в комнату подруги.
– Что ты? Что? – вскрикнула.
Ксения не ответила.
Софья присела на кровать, обняла трясущиеся плечи товарки и вдруг сама горестно расплакалась.
И тотчас же Ксения сказала сухо, будто и не плакала вовсе.
– Ты-то чего ревешь?
– Не знаю, – сквозь слезы ответила Софья. – Что-то не люб он мне. Пойду ли, не пойду за него – не знаю, да грустно мне, что обе мы с тобой, Ксюша, не очень счастливые, обе без любви жизнь свою прожили. А поздно теперь-то ее искать…
Ксения откликнулась не сразу.
– Без любви? – наконец сказала она. – Нет, я с любовью прожила.
– Как это? Я и не знала, что у тебя кто-то был.
– Не знала? – Ксения усмехнулась грустно и насмешливо. – Где ж тебе знать!
– Не пойму…
– Что ж тут непонятного? Тебя я всю жизнь за дочь считала, тебя и любила…
– Ксенюшка! – жалобно всхлипнула Софья.
– Так ты решай, – сухо перебила Ксения. – Ежели пойдешь за него, буду хлопотать, чтобы меня в дом престарелых. Квартиру сдам и перееду. Тут недалеко, под городом…
– Да ты что? – испуганно закричала Софья. – В уме? До конца жизни со старухами, до самой смерти… Да ты…
– А я и сама старуха. Так что мне там самое место. А ты езжай. К морю. Ведь всегда мечтала…
– Не знаю, не знаю, ничего я не знаю…
Продолжая плакать, Софья ушла в свою комнату, легла в остывшую постель. Ей казалось, она не сможет согреться, не сможет заснуть до утра, но, всхлипнув пару раз, она все-таки уснула.
Ей приснился сон. У берега полузаросшего пруда почти лежала прибитая ветром осока, а у кромки воды фонариком светилась кувшинка.
Ноздри защекотал запах влаги. Она глубоко втянула в себя этот запах и проснулась.
За отворенной форточкой тихонько бормотал первый весенний дождик… Шелестел на подоконнике смываемый им снег.
От этого шелеста, от прозрачной темноты комнаты внезапно возникло в ней счастливое чувство легкости и свободы. И тотчас пришло решение. То самое, единственное и правильное, к которому она шла все эти долгие зимние месяцы.
– Ни к чему это мне! – громко сказала она. – Ни к чему!
И снова быстро и крепко уснула, как засыпала давным-давно, в ранней юности…
НЕПОДАЛЕКУ ОТ ШОССЕ
Балконная дверь его палаты выходила в сторону, противоположную от входа в санаторий. Здесь не было ни клумб, ни дорожек – узкая полоска заросшей земли отделяла эту часть здания от невысокого забора. Одна ступенька, один шаг – и нога погружалась в спутанную, терпко пахнущую траву. По эту сторону была одна эта палата – одноместная, узкая, но очень светлая: а дальше, до самого угла, только матовые, всегда закрытые окна врачебных кабинетов и лабораторий. Возможно, когда-то это помещение было подсобкой для уборщиц, а вернее – ошибкой нерадивого строителя.
Впервые в жизни его радовала архитектурная недоделка – сюда, в неуютный и не очень опрятный тыл никто не заходил и по целым дням он оставался один.
Первое время после того, как его перевели из больницы в санаторий, ему разрешили только сидеть в кресле в крошечной затененной лоджии. Но вот с месяц, как доктор прописал ему прогулки.
– Скоро, Алексей Иванович, я вас по пять километров ходить заставлю; надо разрабатывать сердце, понятно? Сад у нас замечательный, есть очень симпатичные, культурные больные, так что скучать не будете…
Но он так ни разу и не заглянул в сад, а что касается «симпатичных и культурных» больных, он старался как можно реже с ними встречаться.
О приезде его в незнакомый город, обо всем, что непосредственно предшествовало этой минуте, когда он очнулся в больнице, Алексей Иванович старался вообще не думать; он как бы изъял этот отрезок времени из своей жизни и принимался перебирать давно прожитые годы, словно архивариус, занося в невидимый реестр полузабытые события, встречи, и ему казалось, вспоминает он не о своей жизни, а о жизни другого человека, не очень тому удавшейся. Тогда он невольно старался скорректировать, отредактировать прошлое.
«Неверно, – думал он в такие минуты, – будто время нельзя повернуть вспять. А как исчисляется время, скажем, до нашей эры? Назад – первый век, потом второй, десятый… Значит – вспять?…
Но эти мысли быстро сменялись раздражением на самого себя:
«Глупости в голову лезут! От старости, что ли? Суть-то не в том, что время уходит, а в том, что ничего уже нельзя исправить, переделать – всё, что было – было!
И снова уплывал назад, в тесный лабиринт воспоминаний…
Там, в глубине лет, все было как бы покрыто тусклым налетом пыли. И сквозь этот налет проступали резкими, яркими пятнами только несколько лиц. Почему именно они? Он не знал. Но помнил их настолько четко, что мог бы нарисовать, если бы захотел. Закрепленными на бумаге они были ему не нужны. Его память сохранила их более яркими, чем, возможно, они были в действительности: старуха-казашка в белом, повязанном по брови платке, треугольником, спускавшимся по спине до самой земли, и рядом с ней крошечная голая девчушка, вся в оранжевом, персиковом пуху, растрепанная, смешная и веселая. И лицо старого испанского художника, увиденной им на одной из забытых баррикад близ Мадрида, лицо с черными, глубокими тенями вокруг прищуренных, узких глаз, скептическим ртом и непокрытой совершенно лысой головой, рисовавшего в распухшем блокноте юношу-немца из Интернациональной бригады. И еще – некрасивая, худущая девчонка: розовые веснушки, почти невидимый, бледный рот, прозрачно-голубые, огромные глаза, в которых было такое напряженное ожидание радости, что невозможно было ее не запомнить…
Ни с кем из них он не был знаком, не обменялся ни единым словом, но первое, что он увидел, придя в сознание, когда после десятичасового провала его, наконец, вернули к жизни, была именно эта девочка с прозрачными глазами. Почему? Ведь даже не помнил он, когда и где встретился с нею…Ответ не приходил, и это его немного мучило…
…Закатное солнце косо освещало узкую лоджию. Он сидел в теплой тени, откинувшись на спинку соломенного стула, вытянув на солнце ноги.
По невидимому отсюда шоссе одна за другой с шумом проносились машины, но как только они миновали угол дома, шум обрывался, словно обрезанный ножом.
Это не мешало ему думать, только чуть тревожило, напоминая странный разговор с врачом «скорой помощи», привезшего его сюда, в санаторий больницы.
Помогая ему подняться в машину, врач сказал приветливо: – Здравствуйте. Вот как интересно получилось, мы вас на этой же машине привезли в больницу. Помнишь, Вася? – обратился он к шоферу.
Тот безразлично кивнул.
– Признаться, я не надеялся довезти вас живым. Вы тогда были в состоянии почти клинической смерти. А вот ходите же самостоятельно… Я очень рад…
Уселись. Машина тронулась.
– Помню, – неожиданно произнес Алексей Иванович.
Врач удивленно глянул на него, но промолчал.
– Я и дорогу помню. И вот эти деревья, что сплетаются над шоссе.
– Но, позвольте, – смущенно откликнулся врач. – Вы же тогда были без сознания… И к тому же…
– Да, нет, – отозвался шофер. – Мы из облисполкома, откуда вас взяли, по центру ехали, а не здесь.
– Ну, как же? Я прекрасно помню – сейчас будет поворот направо, там бензоколонка, а чуть дальше – толстая стрелка с надписью «шоссе»… вот какое – не помню…
– Да нет…
Но Алексей Иванович не дал себя перебить.
– На той стороне стоял разбитый троллейбус, подальше – мостик с разломанными перилами. Я отлично все помню!
– Вы когда в наш город приехали? – спросил шофер.
– За день до болезни… до того заседания в исполкоме…
– Ну, так вы, извините меня, – циркач-фокусник, – засмеялся шофер. – Эта трасса после аварии три месяца была закрыта. Ее только позавчера открыли!
– Разве я не точно все описываю? – раздражаясь, спросил Алексей Иванович.
– Точно. Я же говорю – фокусник вы. А может, вам кто рассказывал? Или фото видели?
– Какое фото? Мы ехали именно по этой дороге, я знаю!
– Не волнуйтесь, – начал успокаивать его врач. – Вам это кажется, наверное. Так сказать – аберрация памяти.
– Что за чушь? Какая еще аберрация? Я просто помню!
– Да я-то знаю, что мы ехать этой дорогой не могли! – сердито бросил шофер.
«…Возможно ли, – думал Алексей Иванович, прислушиваясь к резким перепадам звуков, долетавших от шоссе, – что человек почти уже умерший, больше чем наполовину там… по ту сторону, может видеть то, что не в состоянии увидеть в реальной, здоровой жизни? Да нет, это же мистика, черт возьми!.. Ну а почему – мистика? Мы же ничего решительно не знаем о том, что… там. Вот я вернулся оттуда, а разве могу вспомнить, что там было со мной? Я, наверное, действительно никогда не ехал по этой дороге, а описал ее правильно, даже нахал-шофер признал… Ерунда какая-то!»
Он не мог себе этого объяснить и, боясь раздражения, вызывавшего покалывание и легкую боль в сердце, старался как можно скорее оторваться от этих странных мыслей и возвратиться к сухой регистрации воспоминаний…
… Если не считать короткого пребывания в Испании – почти сразу по прибытии на место он был ранен и вскоре отправлен на родину, где многие месяцы пролежал в госпитале, – особо ярких событий в его жизни не было. Во время Отечественной войны на фронт его не взяли из-за последствий ранения; три года он прожил в эвакуации в Новосибирске, работал чертежником в конструкторском бюро. Там же, в Новосибирске, похоронил мать. Вернулся в Москву, поступил в архитектурный институт, был направлен на работу в точно такое же конструкторское бюро, в котором работал до окончания института; поселился вместе со своей рано овдовевшей бездетной сестрой в ее обширной квартире.
Он никогда не был женат. Может быть, не встретил женщины, с которой захотел бы связать свою судьбу. А может быть, замкнутый, суровый характер сестры, ее непримиримая аккуратность и подчеркнутая замкнутость помешали ему жениться?
Конечно, он не был монахом, но женщины вообще мало тревожили его – сходился с ними словно бы не по своей воле и, расставаясь, не слишком огорчался. Знакомые появлялись у них в доме редко, хотя, в общем, относились к нему неплохо. Может быть, их тоже связывало присутствие всегда насупленной, молчаливой сестры. А он не замечал ее отчужденности, привык к ней и просто не помнил, была ли сестра когда-нибудь иной. Ему она не мешала. С годами ее молчаливое присутствие стало для него тем необходимым дополнением, без которого он не представлял себе жизни. На работе он вынужден был общаться с людьми, иногда это даже доставляло ему удовольствие, но, придя домой, он вместе с домашней курткой надевал на себя плотный панцирь молчания. Это его нисколько не тяготило, он считал правильным, что в их удобной квартире всегда чисто, тихо и никто не мешает работать. Особенно радовался он этой плотной, застоявшейся тишине в последние годы. Никому, ни одному человеку он не рассказывал, что делает, чем занят длинными, тихими вечерами, склонившись над чертежным столом, – это была его отдельная затаенная жизнь.
Он работал.
Некрасивый, сутулый, худой, лысый человек под семьдесят лет не только работал – он мечтал!
На развешанных по стенам, разложенных на столах, на сработанном собственными руками кульмане вырисовывался, вырастал город его мечты – гармоничный, целостный, комплексный город, где каждое здание, каждая улица, каждое дерево органически дополняли друг друга.
Какой архитектор-строитель не мечтает о создании такого чуда?! Он думал о новом, необыкновенном городе еще до поступления в институт, потом, в институте, и, в общем, всю свою долгую и довольно однообразную жизнь. В юности не было ни опыта, ни смелости, потом, когда опыт пришел – было попросту страшно браться за это. Но вот года три назад, во время очередного сердечного приступа, которые стали повторяться все чаще, он вдруг понял, что если не возьмется за дело сейчас, немедленно, не успеет осуществить то, что, как он понял, было единственной целью всей его жизни.
Он ни в чем больше не сомневался. Он знал, точно знал, что должен делать и каким будет его великолепный, его сверкающий город!
В год, когда он закончил свой проект, ему минуло семьдесят.
В этом же году был объявлен международный конкурс ЮНЕСКО на проект города будущего.
Конечно, он не надеялся, что отборочная комиссия отправит его проект на конкурс, но все-таки отправил его на комиссию.
И был несказанно удивлен, когда узнал, что среди шестнадцати советских архитекторов, которых отборочная комиссия решила отправить в Рим на конкурс, была и его работа. В глубине души он считал это каким-то странным недоразумением.
Он не верил в чудеса, поэтому и не томился в ожидании решения международного конкурса жюри.
А чудо все-таки свершилось – его проект занял первое место. Никаких официальных сообщений он пока не получил и узнал обо всем из газеты. В «Правде» была напечатана заметка «Победа советского архитектора».
Никому из его сослуживцев и знакомых в голову не пришло, что первое место на конкурсе занял он, Алексей Иванович Морозов, тихий, молчаливый и… не хватающий с неба звезд. Однофамилец, наверное. Было немного обидно, но так никому ничего и не сказал. В тот день после работы, когда все уже собирались идти по домам, Людочка, самая молоденькая сотрудница бюро, со смехом обратилась к Алексею Ивановичу:
– Да, вы читали заметку в «Правде»? Смешно, правда, – у вашего однофамильца, получившего первое место на конкурсе ЮНЕСКО, даже имя-отчество совпало с вашим.
– Вы уверенны? – сухо спросил Алексей Иванович.
– Ну, как же! Вот прочтите – Алексей Иванович…
Алексей Иванович одно короткое мгновение смотрел в розовое, бездумное лицо Людочки и очень тихо сказал:
– Я вынужден вас разочаровать, Людочка, это не мой однофамилец, это… это я…
Людочка искренне, весело расхохоталась, будто услышала удачную остроту. Но Алексей Иванович этого уже не слышал – он торопливо вышел, плотно прикрыв за собою дверь…
…Солнце зашло. Стало прохладно. Но двигаться не хотелось. Алексей Иванович поставил ноги на кирпичную перекладину и поглубже устроился в кресле.
Перед ним, за забором расстилался участок ровными рядами посаженных низеньких деревьев. Отсюда он не мог разглядеть, что это были за деревья – то ли молодые дубки, то ли каштаны.
Направо, острым носом заслоняя поворот угадываемого с той стороны шоссе, разрастался уже настоящий, взрослый лес. Густой своей зеленью с пробелами березовых стволов, от кончика мыса до самого горизонта, он мягким полукругом огибал поле посадок, превращаясь вдалеке как бы в неровную, темно-синюю тучу, низко прижавшуюся к земле.
И этот темный лес, и низкие рядки молодых посадок, и синева горизонта – все было как материализованная тишина; короткие вскрики проносящихся по шоссе машин только подчеркивали ее.
Ему давно хотелось выйти туда, за забор, пройти до леса, проникнуть в его гущину. Но всякий раз его что-то удерживало: то ли неуверенность в своих силах, хотя вдоль забора он уже вышагивал по полтора-два часа, то ли боязнь отделиться от палаты, откуда он в любую минуту мог звонком вызвать сестру.
Но сегодня, глядя на то, как уплотнялся воздух, становился ощутимо сиреневым, словно аметистовый кристалл, он дал себе слово, как бы он себя ни чувствовал, завтра обязательно выйти за калитку.
Наутро все небо затянула скучная, серая пелена. Собирался дождь, но еще душно и сухо пахло пылью. И почему-то не слышно было машин на шоссе. В палату Алексея Ивановича загнал ветер; он пригибал к земле траву, серебрил ее, но делал это все неслышно, исподтишка. Как только войдя в палату, Алексей Иванович закрыл дверь балкона, странный, томительный, какой-то ночной звук заполнил комнату; будто жалобно заскулила собака или старый, больной волк. У Алексея Ивановича почему-то сжалось все внутри от тревожного предчувствия беды или приближения боли. Он старался успокоиться, взял со стола затрепанный номер «Юности», попытался читать. Но тревога не прошла до тех пор, пока он не догадался запахнуть балконную дверь. Тоскливый вой прекратился тотчас же.
Алексей Иванович облегченно рассмеялся.
– Ну, молодцы! – произнес он вслух. – Надо же так встроить рамы, чтоб они пели как эоловая арфа! Только арфа-то больше похожа на волчью глотку! Вот дурачье!
Он снова взялся за журнал. Но читать не хотелось.
«Придется поход в лес отложить на завтра, – думал он. – А может, даст бог, к полудню развиднеется?»
В дверь негромко постучали.
– Да. Открыто, – крикнул Алексей Иванович.
Не заходя, в палату заглянул врач. За ним, в полутьме коридора, маячила какая-то длинная фигура.
– Можно?
– Прошу.
– Я не один. Тут к вам приехали, Алексей Иванович.
– Ко мне? Ну, что ж, входите, – отозвался Алексей Иванович не очень приветливо. Двери закройте, сквозит.
– Я вас оставлю, – сказал врач и ушел.
– Здравствуйте, – шагнув в комнату, сказал посетитель.
«Я где-то уже его видел, – мельком подумал Алексей Иванович. – Какое неприятное лицо…»
– Слушаю вас, – сказал он поднимаясь.
– Простите, что вторгаюсь без предупреждения. Но доктор сказал, что вы уже… так сказать, – готовы к деловым переговорам…
– Допустим.
– Вы меня не помните?
– Нет.
Алексей Иванович продолжал стоять, не предлагая садиться и гостю.
– Слушаю вас.
– Разрешите представиться – главный архитектор города Самойленко Осип Михайлович.
– Так. Чем могу служить?
– Разрешите присесть? У нас, полагаю, разговор будет долгий…
– Садитесь, – холодно сказал Алексей Иванович, но сам садиться не собирался. – «Невежливо? Наплевать! Скорее уйдет!» – подумал он.
– Что же вам от меня нужно?
– Понимаете, время уходит, а мы так и не знаем вашего окончательного решения.
– Какого решения?
– Ну, как же – согласны ли вы на наши предложения?
– Предложения?
– Но позвольте, – начиная раздражаться, сказал посетитель. – Неужто вы забыли о наших… о споре, возникшем между нами на совещании?
– Постарался забыть…
– То есть как это? Ведь город ждет ответа!
Алексей Иванович словно и не слушал того, что говорил посетитель. Он отошел к балкону и, отвернувшись от гостя, стал смотреть на хлынувший, наконец, дождь; ветер, будто испугавшись его прямых потоков, мгновенно затих. Крупные, тяжелые капли прижали к земле траву; плотная пелена закрыла лес, изгиб дороги, деревца посадок. Но вскоре посветлело, дождь стал менее густым; влажная свежесть проникла в комнату, стало легче дышать.
Непонятно почему, но гость перестал его раздражать и чем больше нервничал посетитель, тем спокойнее становился Алексей Иванович.
– Мне весьма неприятно напоминать вам, уважаемый Алексей Иванович, все более раздражаясь, говорил главный архитектор, – то, что, возможно, явилось причиной вашего… заболевания, но обстоятельства заставляют нас настаивать на переработке вашего замечательного проекта…
– Если мой проект такой замечательный, как вы говорите, зачем же вы хотите во что бы то ни стало впихнуть в него ваши стандартные, типовые коробки, ваши расползшиеся по всему миру Черемушки?!
Вы снова за свое! Поймите, жилой комплекс уже построен! Построен! Неужели непонятно, что нельзя, преступно пренебрегать затраченными миллионами!
– Конечно, нельзя! Но…
Посетитель не дал Алексею Ивановичу договорить.
– Дорогой Алексей Иванович, – начал он, и Алексей Иванович заметил, как неуловимо изменилось его лицо, стало как будто суше и костистее, хотя тон его нисколько не переменился, а был все таким же вежливым, даже искательным: – Дорогой Алексей Иванович! Вы должны, вы просто обязаны нас понять…
– Я понимаю! Но никак не возьму в только – чем же я, именно я, могу вам помочь? Все, что мог – я сделал, и вы сами говорите – неплохо… Знаете ли, уж лучше я вовсе откажусь от осуществления проекта, чем заведомо дам его испоганить!
Нет, главный архитектор города явно не привык, чтобы ему возражали. Лицо его все явственнее принимало выражение начальственного нетерпения.
– Да выслушайте же меня, наконец! Вы же сами согласны, что место для строительства выбрано наилучшим образом; близость реки, озелененность, рельеф и так далее.
И тут опять в лице гостя что-то изменилось, словно он сменил одну маску на другую.
– Если бы вы, – заговорил он примирительно, если бы вы, наконец, согласились с нашими предложениями, мы бы реализовали затраченные миллионы, и ваш проект был бы осуществлен… почти полностью…
Алексей Иванович, молча пристально рассматривал сидящего перед ним человека. Тот ежился под этим взглядом.
«Только что передо мною был ответственный чиновник, а сейчас жалкий подхалим. Смешно!» – подумал Алексей Иванович и невольно улыбнулся.
– Вы согласны? – обрадовался этой улыбке посетитель.
– Нет, конечно, не согласен. Я ведь уже сказал.
Гость поднялся, наконец, со стула. Лицо его снова приобрело неколебимо-начальственное выражение.
– Позвольте, – начал он…
Но Алексей Иванович больше не стал его слушать. Он словно бы забыл о его присутствии: отвернулся, вышел на балкон, шагнул со ступеньки на влажную траву, зашагал вдоль забора к калитке, отворил ее и направился к лесной опушке.
Пока они вели этот неприятный разговор, верховой ветер разогнал тучи, очистил небо и, как после хорошей работы, улегся отдыхать. Стало солнечно и светло, словно в хорошо проветренном доме.
Неспешным размеренным шагом Алексей Иванович обогнул край поля и вскоре углубился в лес. Он вдохнул чуть кисловатый запах подгнившей прошлогодней травы, смешанной с ароматом нагретых березовых стволов. В плотном воздухе что-то непрерывно шелестело, поскрипывало, но Алексею Ивановичу казалось, что шелестит и поскрипывает сама тишина и не он слушает ее, а лес настороженно прислушивается к его шагам, к шороху палой листвы под ногами. Изредка сюда долетал ветровой звук проносящейся вдалеке машины и тут же гаснул. Полуденное солнце кое-где пронизывало сумрак, неожиданно ярко высвечивало то заросшую папоротником прогалину, то сверкнувший под лучами черно-белый ствол, то темную лапу ели. Вот мигнула и исчезла алая шляпка сыроежки, и Алексею Ивановичу показалось, будто лес улыбнулся ему.
Он забирался все глубже в чащу, совершенно не думая, как выберется отсюда.
Впервые за время болезни и жизни в санатории он вернулся к мыслям о проекте и обрадовался тому, что уже не боится этих мыслей, не отталкивает их от себя. В первый день приезда в этот незнакомый ему город, на совещании в облисполкоме, куда его срочно вызвали для обсуждения возможности реализации его проекта именно здесь, он горько недоумевал, к чему эти льстивые речи, восторги по поводу задуманного им будущего города, если все эти люди в корне, в самой основе не понимают его?
И снова у него заныло, заколотилось сердце, болью стянуло грудь.
Он испуганно остановился, торопливо нашаривая в кармане тюбик нитроглицерина. Почему он всегда так пугался этой боли? Ведь он не боялся смерти. Да, он совершенно твердо знал, что не боится. Но это он ЗНАЛ, а чувствовал другое – панический страх перед уничтожением, перед НИЧЕМ, перед ПУСТОТОЙ.
Бросил на язык таблетку, стал прислушиваться к себе. Глубоко вздохнул. Все спокойно, боль прошла, дышится свободно.
Двинулся дальше и вдруг совсем близко, будто вот там за деревом услышал несильный женский голос:
– По бугоркам, по низким косогорам, плывет большая сонная луна… – пела женщина.
Внезапно так же, как началась, песня оборвалась.
Женщина крикнула:
– Сень, а Сень! Погляди, какие они смешные! У них уже глазки прорезались! Сень!
– Ты их руками-то не особенно трогай, а то, гляди, кормить откажется.
– Да ты что! – засмеялась женщина. – Она меня любит, не боится…
Было в их голосах столько спокойной, легкой доброты, что Алексею Ивановичу остро захотелось увидеть их, поговорить с этими незнакомыми, невидимыми людьми.
Порыв легкого ветра донес до него запах горящих шишек, И тот час вспомнилось детство, дача, мать, растапливающая шишками самовар.
«Попить бы сейчас чаю. Крепкого, горячего. Под деревом, за деревянным столом, – почему-то с грустью подумал он. – С теплым хлебом с маслом…»
Он прошел еще несколько шагов и наткнулся на низкую изгородь из поставленных крест-накрест жердей. Густые кусты зреющей малины почти полностью заслоняли небольшой рубленый домик. Алексей Иванович обошел его слева и остановился перед распахнутой калиткой. На крыльце сидела женщина в ярко-зеленых брюках. На коленях его копошились два пушистых, почти круглых щенка. Женщина была немолода, полновата; светлые, прямые волосы стягивала сзади такая же зеленая тряпица, короткий хвостик спускался на шею.
– Нет, да ты посмотри, – смеясь говорила женщина. – Чернушка меня уже за палец кусает…
– Здравствуйте, – смущенно произнес Алексей Иванович.
Все так же смеясь, женщина сказала, ничуть, казалось, не удивившись неожиданному появлению незнакомого:
– Здравствуйте! Заходите. Поглядите, какая прелесть, верно? Сень! – крикнула она. Выйди. Это к тебе, наверное.
Да нет, – несмело отозвался Алексей Иванович. – Я просто гулял. Услышал, как вы пели… И еще – мне показалось, что кто-то здесь разжигает самовар… шишками…
– Он сейчас закипит, – сказал мужчина, появляясь на пороге. – Аня, – обратился он к женщине, – зови гостя чай пить. Я за домом накрыл.
– Нет, что вы, какой я гость? Я так, прохожий.
Мужчина улыбнулся, отчего по лицу его разбежались нестарящие морщинки.
– Что ж, – сказал он весело. – Зови прохожего…
…Чай был действительно необыкновенно вкусным и, как ему хотелось, – с теплым хлебом с маслом. И еще с густым темно-коричневым медом. Все трое молчали, откровенно наслаждаясь едой. Почаевничали. Женщина собрала посуду, отнесла в дом, вернулась, села напротив Алексея Ивановича, сказала:
– А теперь давайте знакомиться. Меня Анна Николаевна зовут, его Семен Николаевич.
– Брат и сестра?
– Да нет, – улыбнулся Семен Николаевич. – Муж и жена. Тридцать два года уже.
– А я с сестрой живу. Как овдовела в войну, так переехал к ней; с тех пор вдвоем и живем… Простите, я ведь так и не представился. Морозов, Алексей Иванович. Я здесь поблизости в санатории. Знаете?
– Знаем. Как же. Значит, недавно сильно болели?
– Болел.
– Говорят, хороший санаторий. Так и называется – реабилитационный…
– Да.
Женщина пристально посмотрела гостью в лицо.
– Скучаете там?
– Верно. Неужто в глаза бросается?
– Не то, чтобы бросалось, а видно…
Алексея Ивановича смутила прямота этой впервые увиденной им чужой женщины. Не захотелось продолжать разговор. Он поднялся, начал прощаться.
– Простите, что так бесцеремонно напросился к вам на чай. Пойду. Боюсь, меня там хватятся, влетит мне от доктора. Я еще ни разу так далеко не забирался…
Хозяин тоже поднялся.
– Тут неподалеку шоссе. Доберетесь не больше, чем за полчаса. Я покажу.
– Да нет, я лучше опять лесом… Спасибо вам за все!
– Ну, чего-то спасибо, – отмахнулась Анна Николаевна. – Приходите к нам еще. Теперь дорогу знаете. Придете, ладно? Мы рады, что вы к нам забрели, товарищ прохожий, – улыбнулась она ласково.
– Обязательно приходите!
Семен Николаевич проводил его до калитки и долго глядел вслед, пока тот не скрылся за деревьями.
– Что-то его здорово грызет, – сказал он жене, присаживаясь рядом с ней на крылечке. – Может и не придет больше. А жаль.
– Обязательно придет! – уверенно сказала Анна Николаевна. – Вот посмотришь!..
…Он действительно пришел.
…В лесу было очень жарко, и дорога утомила его.
Он выбрался на поляну – здесь было не так душно, как под деревьями. Легкий ветер шелестел в кустах, создавая ощущение прохлады.
Он присел на пенек и прищурился – солнце переливалось и блестело в траве, как в реке, даже стало больно глазам.
Он сидел долго, расслабленно отдыхая.
Вдруг ему показалось, что он спит и видит удивительный сон.
Может быть, это и вправду был сон?
Из затененной чащи леса бесшумно вышел лось, величаво неся свою уродливо-прекрасную голову, увенчанную закинутыми на спину темными рогами.
Да нет, он не шел, он выступал, выдвигая вперед то одно, то другое плечо, и при каждом шаге серая шкура на мощных выпуклостях вспыхивала и светлела.
Он прошел очень близко от Алексея Ивановича, но даже не взглянул в его сторону.
За ним, вытянув горбатую шею, покорно шла лосиха, легко переступая неравномерными ногами.
А за лосихой мелкими шажками бежал прелестный в своей детской неуклюжести гладкошерстный лосенок. Он был темнее родителей и, казалось, только что вышел на берег из быстрой реки.
Алексей Иванович, затаив дыхание, смотрел на то, как шла мимо него по своим звериным делам лосиная семья.
«Так близко от шоссе и так по-хозяйски» – подумал Алексей Иванович.
И самым удивительным, почти непостижимым было то, что лоси прошли совершенно бесшумно. Ни одна ветка не затрещала под их копытами, ни один листик не шелохнулся. Чаща расступилась, замкнулась за ними, поглотила их, словно все это Алексею Ивановичу действительно приснилось.
Он долго еще сидел, глядя им вслед.
И странно – все его волнения, тревоги, недовольства отступили куда-то, стали казаться незначительными, пустяковыми, вздорными.
Солнце ушло за деревья, стало сумеречно, прохладно.
Алексей Иванович поднялся и зашагал к знакомому дому…
Как и несколько дней назад, калитка была открыта. У крыльца, лениво растянувшись в тени, лежала белая в рыжих пятнах, собака. Подле нее копошились щенки.
Алексей Иванович крикнул:
– Есть кто? Войти можно?
Никто не отозвался. Только собака лениво приподняла голову, сонно поглядела на Алексея Ивановича и снова улеглась.
«Видно, далеко не ушли – дом открыт. Посижу, отдохну».
Вошел в ограду, опустился на крыльцо под тень козырька, прислонился головой к балясине и не заметил, как задремал.
Разбудил его щенок, неуверенно тыкавшийся холодным носом в руку. Второй, переваливаясь и срываясь, старался преодолеть две невысокие ступеньки. Не добравшись до верху, он поскользнулся и брякнулся спиной о землю. Алексей Иванович потянулся помочь ему, но тот перевалился на брюшко и храбро возобновил свои попытки.
– Молодчина, – засмеялся Алексей Иванович.
Щенок, наконец, взобрался наверх, уселся напротив гостя, забавно наклонил голову набок, приподнял ухо и серьезно уставился ему в лицо круглыми, пуговичными глазами.
Алексей Иванович подхватил его под брюшко, почувствовал, как под рукой поспешно колотится щенячье сердце, уложил к себе на колени. Щенок повозился, устроился поудобнее. И тот час же заскулил второй, пришлось взять на руки и его. Они потолкались немного и вскоре преспокойно уснули.
Солнце ушло за дом. На крыльце стало совсем прохладно. Щенки сладко посапывали во сне; незаметно вместе с ними задремал и Алексей Иванович.
Проснулся от возгласа Анны Николаевны:
– Глянь, Сень, а у нас гости! Здравствуйте, Алексей Иванович! Очень мы рады вам!
Алексей Иванович смущенно поднялся, неловко ссадив на землю щенят.
– Извините великодушно! Мы тут немного поспали…
– Устали? – спросил Семен Николаевич. – Отдыхайте, отдыхайте. Пока помоемся, самовар закипит.
– Я быстренько, только переоденусь, – сказала Анна Николаевна. – Мы все в пыли, как в песке. С пяти утра на участке копались. Жара, а деревца наши по их летоисчислению еще моложе этих щенят. За ними глаз, да глаз, как за новорожденными…
– Как это – по их летоисчислению?
– А так, – уже из сеней крикнула Анна Николаевна. – Каштаны ведь живут до тысячи лет! А нашим только пятый пошел. Вот и считайте…
– Тысячу лет!
На крыльцо вышел освеженный, уже в чистой, белой рубахе Семен Николаевич. Провел рукой по влажным волосам, сказал:
– Хорошо!
И обратившись к Алексею Ивановичу, спросил:
– Удивляетесь?
– Завидую!
– Ну, нет, я бы не хотел столько жить! Хлопотно, – засмеялся хозяин.
– Признаться, многовато… Я думал – это саженцы дубков.
– Не саженцы, сеянцы.
– Это что – конский каштан?
– Не конский! У него плоды несъедобные, он декоративный. Этот – съедобный, южно-европейский. Он не только плоды – древесину дает великолепную, крепкую и красивую. Только мы с Анной от этих подарков уже не дождемся. Если, конечно, не собираемся жить до ста. Первая наша плантация, пожалуй, лет через десять-пятнадцать выдаст, что полагается…
– Эй, мужики! – крикнула Анна. – Самовар скипел. И яичница готова. Скорее, а то остынет…
Разговор за столом как-то не очень клеился; Алексей Иванович заметно нервничал, на вопросы отвечал односложно, наконец, и вовсе замолчал. Задумавшись, он не отводил глаз от вытянутых по столу рук Анны Николаевны.
Может быть, когда-то они и были красивы, но сейчас это были тяжелые, рабочие руки немолодой, усталой женщины.
Заметив, куда так пристально смотрит гость, она смутилась, хотела, было убрать руки, но вдруг поняла, что Алексей Иванович не видит ни ее рук, ни ее саму, ни вообще ничего, что его в данную минуту окружает. Все трое молчали. Было очень тихо. Слышно было только, как далеко в лесу назойливо и тревожно стрекочет сойка.
Поежившись, как от холода, Анна Николаевна негромко сказала:
– Скажите, наконец, Алексей Иванович, что вас тревожит? Может, мы с Сеней что и присоветуем, а?
Алексей Иванович дрогнул, растерянно усмехнулся.
– Что тут можно присоветовать? Я сам должен…
– И все же. Иногда человек поговорит с кем-нибудь, и легче на душе станет.
– Да говорить-то я не мастер… Может, я лучше нарисую?
– Нарисуете? – удивилась Анна. Ну, что ж, Сеня, принеси, пожалуйста, пару листов бумаги. И фломастер где-то есть.
Расчистив место на столе, Алексей Иванович несколько минут что-то быстро и сосредоточенно рисовал, покрывая бумагу резкими, четкими линиями. Кончил. Сказал:
– Вот. Садитесь-ка поближе, я объясню.
– Что это? – спросила Анна.
– Ну, неужто не видите? Это город! Весь город в целом. Построенный по единому проекту. Ясно?
– Ну, не совсем…
Алексей Иванович, не отвечая, продолжал брать один листок за другим, набрасывая на них здания, площади, дома.
Красиво, – наконец задумчиво произнесла Анна. – А это что? Театр?
– Вот молодец! Догадалась! Конечно, театр. На центральной площади будущего города…
– Вот бы окружить эту площадь двойной аллеей розовых каштанов. А? Представляете – весной они все зацветут? Тысячи розовых каштановых свечей! И ни одной машины сюда не пускать! Тишина! А как пахнет все!
– Мечтательница ты у меня, Аннушка! – засмеялся Семен Николаевич.
– А что? Разве плохо?
– Замечательно! Замечательно! – повторил Алексей Иванович.
И тоже засмеялся.
– Смотрите же, – продолжал он. Это речной вокзал. Правда, красиво? Город будет спускаться террасами прямо к реке…
– А вокруг домов вишневые и яблоневые сады, да? – перебила Анна. – Господи, какие счастливые будут люди, что поселятся в таком городе!
– Верно?
И вдруг Алексей Иванович осекся, вроде как бы сразу постарел.
– Не будет этого города, – тихо сказал он. – Не будет… Я думал, они позвали меня сюда, чтобы начать строить, а они…
И он замолчал.
– Да кто они? Объясните, – спросил Семен Николаевич. – Я что-то не пойму…
– Не знаю, не знаю… может быть, они в чем-то правы…
Алексей Иванович задумался на минутку и вдруг решительно возразил самому себе:
– Нет, нет! Ерунда! Ваза, изваянная две тысячи лет назад, сохранилась! И тончайший рисунок на ней! Да мало ли осталось великолепных вещей, сработанных еще рабами Рима… И более древних! Прекрасных! А что сохранит для будущего наша цивилизация? Нет, я что-то не то… не туда…
Он замолчал, выжидательно глядя на своих слушателей, словно веря, что они вот тут же, сейчас разрешат все его недоумения. Но они молчали, стараясь понять, о чем, собственно, речь, что так волнует их гостя.
– Простите, – тихо сказал Алексей Иванович. – Если вам… если вы позволите, я… мне хотелось бы вам объяснить… рассказать.
– Мы вас об этом сразу попросили, – отозвалась Анна Николаевна. – Говорите. Мы слушаем…
…Солнце уже зашло за лес, когда Алексей Иванович кончил свой рассказ.
– И вы… согласились? – возмущенно воскликнула Анна Николаевна.
– Нет! Нет, конечно… Но я вот о чем… я хочу сказать, что я… мне ведь уже семьдесят второй. Поймите… я ведь никогда не увижу моего города… Даже если они согласятся, не впихивать в него уже построенный ими жилой массив, я все равно рискую не увидеть всего, что задумал…
– Погодите…
– Нет, нет, я же понимаю, что миллионы, потраченные на эти дома, нельзя выбросить на ветер! Я прекрасно это понимаю! Ведь я всю жизнь сам строил дома, дома… и люди ждали, когда смогут в них поселиться… Я все, все понимаю… Но я… я тоже всю жизнь мечтал о своем городе…
– Подождите, Алексей Иванович, – перебила его Анна, – я хочу спросить… Может, я, конечно, ничего не понимаю! Но почему нельзя строить ваш город где-нибудь не там, где уже что-то построено, а на новом, чистом месте?
– Господи! Так я же именно об этом и толкую!
– Ну?
– То-то и оно, что я не в силах этого от них добиться! Они не думают, не хотят или не умеют думать о тех, кто придет после нас, о тех, кому нужно будет не только место жительства, но и вся красота мира!
– Но, а вы-то, вы что для этого сделали, кроме того, что нарисовали ваш проект? – неожиданно сухо спросил Семен Николаевич.
– Я же говорил – отказался от их предложений, хотя… хотя это означает, что я никогда не увижу… Собственно, даже не отказался, а не сказал ни да, ни нет…
– Как же так? – спросила Анна. Вы сами только что говорили – те, кто придет после нас…
Говори, говори.
– Алексей Иванович, я не намного моложе вас. Мне шестьдесят восемь, Анне шестьдесят три. Мы, вероятно, тоже не дождемся того дня, когда наши каштаны повзрослеют. Но мы не перестаем их сеять и растить!
– Ваши каштаны, вы говорите, растут тысячу лет!
– Каштаны, не мы! Сколько поколений родится и умрет, пока им придет время погибнуть…
– Думаете, нам мало пришлось воевать за эти наши каштаны? – серьезно сказала Анна. – Можно сказать, мы всю жизнь воюем…
– А я воевать не умею! – сердито откликнулся Алексей Иванович. – Я архитектор, не боец! Я…
И вдруг осекся: явственно, будто крупный газетный заголовок, прочитал он в глазах Анны четкую мысль:
«Если ты не хочешь бороться за свое дело, зачем же тебе вообще жить? Да еще… дрожать за эту свою жалкую жизнь?»
Может быть, ничего такого она и не думала, может быть, это были его собственные мысли?
«Так что же, по-вашему, я просто жалкий трус? – мысленно возмутился он. – Не решаюсь вступить в борьбу из страха перед неудачей… перед новой болезнью? Неправда!..»
– Отступить, может быть, за час до победы! – сказал Алексей Николаевич.
– Какая там победа! Она мне и не снилась!..
И тут весело и громко рассмеялась Анна Николаевна.
– Знаете, что мне вспомнилось, – сказала она. – Нашему старшему внуку было тогда лет пять. Сломалась у него какая-то железная дорога, электрическая. Приходит он ко мне, просит: баба, почини. А я ему – не умею, как же я могу починить? А он мне серьезно так говорит: ты начни, баба, работа тебя научит!
– Правильно! – повернулся к Алексею Ивановичу хозяин. – Борьба это тоже работа. Да ещё какая тяжелая! Обязательно научит!
Анна с тревогой ждала ответа Алексея Ивановича: обидится, решит, что они его поучают?
Но, всмотревшись в него попристальнее, увидела, что в лице его появилось что-то новое, словно бы он прислушивался к чему-то такому, что слышно было ему одному. Поднял голову, настороженно посмотрел на Анну, потом на хозяина и вдруг медленно, неуверенно улыбнулся.
– А что если попробовать? – спросил он тихо, ни к кому специально не обращаясь. – Попробовать, а? Черт возьми, я же еще не окончательно умер, верно?
Он встал из-за стола, наклонился над Анной, неожиданно приобнял ее, спросил, заглянув в глаза:
– А можно я вас поцелую?
Анна смущенно засмеялась.
– Целуйте! Только скорее, пока Сеня не смотрит.
Он крепко поцеловал ее в щеку.
– Спасибо, храбрая женщина. А теперь я пойду, хорошо?
– Идите… Погодите, я вам адрес запишу. Будем ждать письма, да?
– Ладно. Напишу.
Выйдя за калитку, Алексей Иванович обернулся, посмотрел на двух пожилых людей, стоящих на пороге дома, на копошащихся возле крыльца щенят, крикнул:
– Как это он сказал: работа тебя научит? Так?
Анна только засмеялась в ответ.
Но она была почти уверена, что бороться он уже не сможет…
…И ВСЮ ЖИЗНЬ…
Она стояла в тамбуре, опустив свой легкий чемоданчик на пол. Ей казалось – все, что видно за стеклом, движется, плывет мимо, она же стоит на месте, не приближаясь к городу, из которого уехала больше 30 лет назад.
Она думала, что будет волноваться, может быть, даже заплачет в ожидании встречи с той давней жизнью, которую прожила здесь с самого рождения.
Но ничего такого не было – она глядела на все спокойно и удивлялась, что решительно ничего не узнает. Разве что тот, густо осыпанный чем-то пакгауз, стоял тут и раньше, но ведь подле каждой большой станции стоит такой же грязно-белый, длинный барак без окон.
Поезд медленно завернул, и ей открылся город, сбегавший с холма вниз к железнодорожному полотну.
Ее город.
Единственное, что было ей здесь знакомо, это уцелевшая с шестнадцатого века стремительно изящная башня костела давно исчезнувшего монастыря. Впервые сердце ее умилительно дрогнуло: ей вспомнилась чахлая березка, выросшая на покатой крыше башни из неведомо каким ветром и когда занесенного туда зернышка.
Конечно, отсюда, из поезда она не могла ее разглядеть, да может, ее уже и не было там?…
Поезд остановился. Она увидела стандартно-современный вокзал, широкое асфальтированное шоссе за ним, стайку красных «икарусов», ожидавших пассажиров, и почему-то все это вызывало в ней легкое раздражение.
Как глупо, что сама она вызвалась поехать сюда! Чего она, собственно ждала? Возвращение молодости?
Она стала торопливо выбираться из вокзальной толпы, словно боясь, что кто-то за ней наблюдает и посмеивается над ее сентиментальными мыслями. Но никто не обращал на нее ни малейшего внимания – она была чужаком, одним из многочисленных туристов, к которым все здесь за последние годы привыкли, как к плохой погоде.
Ей захотелось пройти туда, наверх, к ботаническому саду, свернуть налево к пруду, где неподалеку от мостика стоял двухэтажный дом с веселым крыльцом, украшенным витыми деревянными колонками, с широкой, скрипящей лестницей, ведущей на второй этаж. Там жил ученый смотритель сада с двумя детьми – ее отец. В квартире было множество маленьких комнат, заставленных книгами и ящиками с рассадой и луковицами, где всегда пахло землей, сыростью и крепким отцовским табаком. Но любимым местом игр были не комнаты, даже не сад, а тупичок на лестничной площадке. Там стоял огромный деревянный сундук покойной бабушки; при повороте ключа замок его издавал короткий, веселый мотивчик; стена над сундуком вся была исцарапана различными надписями, вроде «Вальдо плюс Эве равняется любовь», выцарапанные гвоздями буквы глубоко врезались в стену, окрашенную ядовито-лазоревой масляной краской…
Может, дом сохранился? И веселая Садовая улица, обсаженная липами и каштанами, тоже еще существует? Она только посмотрит на дом и вернется в центр, отыщет гостиницу, где ей был заказан номер.
Когда-то от вокзала до дома они пробегали за двадцать минут. Но, пройдя вверх по шоссе не более ста метров, она почувствовала, что дорога эта сейчас для нее длина и крута. Вернулась на площадь, села в автобус и приехала прямо в гостиницу.
Она напилась чаю в тесном прокуренном буфете на этаже, разложила в номере свои немногочисленные пожитки, скинула туфли с отекших ног и, не раздеваясь, прилегла на кровать. И тот час уснула крепко и сладко, как спала, наверное, в юности.
Когда проснулась, в номере было сумеречно и прохладно; что-то шелестело за открытым окном, занося в комнату запах прибитой дождем пыли и влажного железа.
Она заторопилась, словно боялась опоздать, хотя спешить ей было некуда – она нарочно приехала в субботу, чтобы за два свободных дня немного отдохнуть и побродить по городу.
Оделась, вышла из гостиницы, быстро перешла площадь и растерянно остановилась – поняла, что не знает, куда идти, даже, что надо спрашивать у прохожих: где ботанический сад, существует ли еще Садовая улица?
«У стариков надо спрашивать, – подумала она, – они еще могут помнить».
Но как назло мимо шли одни молодые, мельком взглядывая на растерянную пожилую женщину под дождем.
Наконец, она решилась обратиться к двум девочкам, пробегавшим мимо.
– Садовая? Вам надо спуститься по Центральной, перейти мост, там как раз начинается Садовая. Это близко.
– Спасибо, большое спасибо, девочки! Какой дождик славный, верно?
– Ой, вы промокнете, – сказала старшая.
– Конечно, промокну! Я зонтик забыла дома!
Она сказала это так радостно, что девочки засмеялись и, убегая, в один голос крикнули:
– Счастливо!
– Счастливо…
«Значит, и Садовая есть, и пруд, а может, и дом сохранился?»
Дом стоял. Такой же кряжисто-приземистый, только немного потускневший; дождевые подтеки на стенах напоминали морщины на знакомом лице.
«Интересно, кто живет в нашей квартире?»
Ей неудержимо захотелось подняться наверх, пройти по длинному, плохо освещенному коридору до поворота, где подле тусклого окна была их дверь, обитая серым дерматином, аккуратно простеганным гвоздями с блестящими медными шляпками. А дальше – тупичок и бабушкин поющий сундук.
Широкая деревянная лестница с резными, до черноты отполированными временем перилами, скрипела точно так же, как тогда. Чуть задыхаясь, она добралась наверх. Здесь было уже почти совсем темно. Механически нащупала выключатель; высоко под потолком вспыхнули поодаль одна от другой две яркие лампочки.
«Как светло!» – мельком подумала она.
Быстро прошла по коридору, завернула за угол; сквозь чисто вымытое стекло сверкнули фонари над лодочной пристанью. Дверь, окрашенная под дуб, с медной дощечкой над прорезью «почта» была чужая, не их дверь. Но стены были такими же, ядовито-лазоревыми; а там, в углу, где стоял когда-то бабушкин сундук с музыкой, они были исцарапаны и исписаны, как в былые дни.
«Не меняются дети», – с улыбкой подумала она.
Ей захотелось узнать, что же пишут нынешние дети? Все то же? «Вальдо плюс Эве равняется любовь?»
Она отыскала в сумочке очки, прошла в угол и едва не вскрикнула: чуть выше уровня ее глаз красовались выцарапанные гвоздем буквы и полустертые цифры.
Надпись гласила: «Некоторые странности в арифметике, замеченные мною».
Это же ее почерк, ее надпись! Сохранилась! Людей, которые жили здесь, давно уже нет, а надпись, глупая детская надпись сохранилась!
И стены блестели, как раньше. Их, видно, не перекрашивали, просто мыли. А надпись смыть нельзя было – она вросла в эту стену, как многие жизни вросли в эту землю и остались в ней навсегда…
… Она не любила вспоминать – слишком много потерь было в прошлом и слишком мало радостей в ее, как она иногда думала, неудавшейся жизни.
С мужем они жили неладно и недолго. Разошлись, не сорясь и не жалея о разлуке. С той поры она так и осталась одинокой. Правда, со многими она была связана по работе, со многими приятельствовала, но друзей у нее было мало – настоящая дружба не терпит многолюдья, а она большую часть времени проводила на людях.
Впрочем, свою многолетнюю работу в газете она любила, хотя в последнее время ей начали надоедать вечные разъезды, невеселые встречи с людьми для торопливой подготовки материалов «в номер», под рубрикой «Письмо позвало в дорогу». Она быстро уставала, а в одинокие вечера даже стали приходить мысли об одинокой старости. Впрочем, она одергивала себя: какая же это старость для журналиста – пятьдесят лет!
«Я всегда знала, что Илья Эренбург из меня не выйдет, но, ей-богу, надоело быть вечно «маленькой пользой», вроде чеховского героя. Время уходит, уходит, а я остаюсь все той же Евой Лариной, бывшей Эве Лаар.
Сюда, в свой родной городок она тоже приехала по письму. Конечно, она могла бы отказаться – только что вернулась из Новосибирска, где две недели ежедневно, вместе с директором неожиданно закрытой музыкальной школы часами просиживала то у председателя горсовета, то у секретаря горкома, обкома, пока не добилась отмены незаконного постановления.
Пакет, который пришел в редакцию со штампом ее родного города, был тяжелый, плотный; в нем оказались фотокопии каких-то чертежей, схем, смет.
Она ничего в этом всем не поняла и решила, как всегда с присылками такого рода, отослать в Комитет по изобретениям. Но письмо, приложенное к чертежам, было подписано редкой, но очень знакомой ей фамилией – Хейно Оямаа. Правда, того юношу, который был ей когда-то близок, звали не Хейно, а Вальдо. Но она забыла, как звали его младшего брата. Может, это он и есть?
Хейно Оямаа писал о том, что великолепный орган в костеле шестнадцатого века, самой значительной достопримечательности города, отмеченной во всех туристских маршрутах, приходит в упадок, ему грозит онемение.
«С незапамятных времен, – писал Хейно Оямаа, – наш город считался одним из самых музыкальных городов Республики. Уже десять лет у нас существует Общество любителей органной музыки. Мы все, члены этого общества, решили своими силами реставрировать орган. Подготовили чертежи, сметы, получили одобрение специалистов, строивших орган в зале Чайковского в Москве, но уговорить местные власти отпустить деньги на приобретение необходимых материалов (только на материалы, так как все работы будут нами проводиться на общественных началах) нам так и не удалось! Очень просим, пришлите вашего корреспондента, помогите нам уговорить «отцов города», что мы мечтаем пропагандировать не религию, а классическую музыку, доставлять наслаждение слушателям, способствовать эстетическому воспитанию граждан!»
Отец Вальдо был органистом! – взволновано подумала она. – Может, это действительно его младший брат?»
Она хорошо помнила старшего Оямаа, высокого строгого дядю Арво Оямаа; он с семьей жил по ту сторону моста; идя в костел и из костела, он всегда проходил мимо дома Лааров. Вальдо учился вместе с ее братом Юханом, они дружили с первого класса.
В сорок третьем Арво Оямаа расстреляли за то, что он отказался стать тапером в немецком публичном доме. А на следующий день Юхан с отцом принесли к ним в дом избитого Вальдо. Он был без сознания. Когда очнулся, рассказал, что ночью немцы ворвались в дом, вытащили из постели больного отца, били его; Вальдо бросился на защиту; его тоже начали бить прикладами по голове, он упал, кто-то наступил ему на спину, больше он ничего не помнил…
К Лаарам через сады пробралась соседка, рассказала, что старшего Оямаа расстреляли прямо там же, во дворе его дома, а Вальдо бросили в комнате, думали, верно, что он тоже мертв. Но когда немцы ушли, она услышала его стоны и прибежала за помощью. Ведь жена Арво за несколько дней до войны уехала с младшим сыном к родственникам в деревню, да так и не вернулась, а сама она боится… просто боится…
Так Вальдо попал к Лаарам и остался у них до конца войны, до возвращения его матери.
Ходить Вальдо уже никогда не смог – немцы перебили ему позвоночник.
В начале его пребывания у Лааров за ним ухаживал Юхан. Но в конце сорок третьего он вдруг исчез, как исчезло из города еще несколько знакомых Эве юношей. К тому времени Юхану и Вальдо было по семнадцать, и четырнадцатилетней Эве они казались уже совсем взрослыми. В день исчезновения Юхана она нашла у себя под подушкой письмо:
«Будь молодцом, сестренка! На твоем попечении теперь Вальдо и отец. Крепись, родная. Обнимаю. Юхан.»
На ее растерянный вопрос, где Юхан, отец строго ответил:
– Это я его послал. Вернется не скоро. И вообще – помалкивай…
С этого дня Эве, как настоящая медицинская сестра, ухаживала за Вальдо; вместе с отцом мыла его, меняла белье, перекладывала. Они подружились – молчаливый юноша и крепенькая, белобрысая девчонка. Так длилось несколько месяцев. Когда Вальдо стало немного лучше, старый Лаар где-то раздобыл и отремонтировал инвалидное кресло с высокими колесами; Вальдо полусидел в нем, перекатывая колеса руками, ездил по комнатам, даже выезжал по ночам на балкон. Он много читал и еще больше рисовал, но прятал свои рисунки и только изредка показывал Эве набранные по памяти улицы родного городка.
Она же от него ничего не скрывала. Даже сны свои рассказывала. Последнее время ей снились странные, цветные сны. Она не могла рассказать их содержания, а только описывала все, что видела. Один сон почему-то часто повторялся: ей снилась скрипка, просто скрипка. Она стояла на подоконнике, а сквозь стекло в комнату лился солнечный свет, образуя на паркете четкий рисунок оконного переплета. Небо за окном было синее-синее, рама окна белая, тень на паркете сиреневая, а скрипка ярко-коричневая. И все это вместе было так хорошо, что она просыпалась с замирающим от счастья сердцем.
А Вальдо говорил:
– Все это ты потом выдумываешь, когда просыпаешься. Цветных снов не бывает.
Она обижалась, сердилась, чуть не плакала, но юноша только усмехался.
Отец Эве заметно старел и слабел. Все труднее становилось ему добывать для семьи пропитание и топливо. Изредка он исчезал куда-то на день-два, возвращался то с куском сала, то с несколькими килограммами картошки, ведерком угля, а из дому исчезала либо любимая картина отца, либо его праздничный костюм, либо какая-нибудь памятная вещичка покойно матери. О Юхане они больше с отцом не говорили, но Эве знала, что он непрестанно думает о сыне.
В гимназию она не ходила – отец запретил ей выходить днем из дома; только по ночам она осторожно спускалась в их крошечный садик, заросший и заброшенный, нисколько не напоминающий тот, прежний, с розами, гладиолусами и удивительными цветами, названия которых она никогда не могла запомнить.
Вальдо взрослел и становился все более молчаливым и отчужденным. Ее начал смущать его пристальный взгляд, которым он провожал ее каждое движение, и даже редкая его улыбка. Но больше всего ее стесняло то, что у него выросла светлая, легкая, вьющаяся бородка, отчего он поразительно стал похож на дядю Арво. Оба они почему-то стали стесняться друг друга, и все заботы о юноше Эве постепенно передала отцу. А тот все слабел. Иногда он по целым дням не мог подняться с постели. Однажды позвал ее к себе в комнату, заставил сесть рядом, долго молчал и, наконец, сказал тихо и очень серьезно:
– Вот что, Эве, ты уже взрослая, должна понять меня правильно. Забудь, что ты девушка… Забудь… Ты для него теперь должна стать доктором, и нянькой, и матерью… Поняла меня? И еще одно – ты должна дать мне слово… честное слово – если Юхан не вернется, уезжай отсюда. Поняла?
– Почему Юхан не вернется? И зачем я должна уезжать? Куда?
Отец раздраженно сморщился.
– Не задавай детских вопросов!.. Если после войны Юхан не вернется, ты должна отсюда уехать… Поняла?
– Поняла… А ты? Как же ты?
– Иди! – окончательно рассердился отец. – Не торчи тут… Займись чем-нибудь…
Она побежала к Вальдо, рассказала ему об этом странном разговоре.
– Почему, почему отец хочет, чтоб я обязательно отсюда уехала? И откуда он знает, что Юхан не вернется? – плача, спрашивала она. – А как же он? Ты?
Но Вальдо молчал. Не смотрел на нее. И молчал…
…Война, наконец, окончилась. И Юхан не вернулся.
Приехала из деревни мать Вальдо и взяла его домой.
По настоянию отца, Эве вернулась в школу, снова в восьмой класс, а по вечерам стала работать корректором в русской газете.
Первое время она сильно тосковала без Вальдо. Но постепенно работа, учеба, забота об отце, который уже вовсе не вставал с постели, отвлекли ее, она заходила к Оямаам все реже, а вскоре и вовсе перестала.
Чем слабее становился отец, тем острее тосковал о сыне, хотя знал, что уже нечего ждать, все же напряженно ждал хоть какой-нибудь весточки.
Но новостей не было.
И однажды утром, зайдя перед уходом в школу к отцу, Эве не смогла его добудиться…
Уехала она не сразу, как обещала отцу, а только через месяц – кончала школу. Тогда, распродав все, что еще можно было продать, она вместе с подругой отправилась в Москву поступать в университет.
В день отъезда она зашла к Оямаам попрощаться. Ни матери, ни братишки Вальдо не было дома. Эве посидела немного молча, ни разу не взглянув на юношу. Ей было почему-то стыдно, хотелось плакать, просить у него за что-то прощения, но она не решалась заговорить. Он тоже молчал. Наконец, она поднялась, пробормотала:
– Я напишу…
И выбежала.
Она действительно написала. Первое письмо о том, что она держала экзамен не в университет, а в Институт философии, литературы и искусства имени Чернышевского в Сокольниках – «это тоже Москва; там поблизости самый лучший в городе парк!» Ее приняли. Второе письмо – восторженный рассказ о Москве. Третье – что она живет в общежитии и завтра начинаются занятия. Но ни на одно из этих писем Вальдо не ответил.
Больше она не писала.
А долго, долго спустя, после того, как она окончила институт, вышла замуж, развелась и несколько лет проработала в газете, она узнала, что в пятьдесят четвертом году Вальдо Оямаа умер от какой-то сложной почечной болезни. Она не плакала, узнав об этом от случайно встреченной на улице школьной подруги, приехавшей по каким-то делам ненадолго в Москву. Она не плакала и вечером, когда после работы пришла в свою одинокую, не очень уютную комнату. Только всю ночь и весь следующий день ей казалось, что она слышит его глуховатый голос и видит худые руки с длинными пальцами, праздно лежащими на ободах колес инвалидной коляски.
Лица его она вспомнить не могла…
Письмо Хейно Оямаа было первым письмом из ее города за все тридцать лет…
Редактор удивился ее желанию, не отдохнув, сразу пуститься в путь.
День она потратила на встречу со специалистами, что строили орган в зале Чайковского – они подтвердили свое полное одобрение планов, предложений и чертежей, присланных инженером Хейно Оямаа, и сообщили, что еще два года назад отправили в горисполком свое официальное заключение, копию которого она взяла собой.
И вот она здесь…
…Утром ее разбудила барабанная дробь дождя по железному подоконнику. Что же ей делать в такую погоду весь длинный свободный день? Пойти смотреть, как изменился город? Ну, уж нет, если она снова промокнет, как вчера – насморк гарантирован! Начало лета здесь всегда дождливое.
«Уж лучше проваляюсь целый день в постели и по-настоящему отдохну». Она устроилась поудобнее, попыталась уснуть. Но что-то ее все время беспокоило; она вертелась, перекладывала подушку, наконец, закурила и решительно поднялась.
«Зря теряю время. Скорее надо освободиться и уезжать. У меня есть адрес этого Хейно Оямаа. В воскресенье даже удобнее встретиться, чем в рабочий день».
Даже самой себе ей не хотелось признаваться, что не деловитость руководит ею сейчас, а неудержимое желание узнать хоть что-нибудь о годах, прожитых Вальдо Оямаа без нее. Конечно, если этот Хейно действительно его младший брат…
Автобус довез ее почти до самого подъезда шестиэтажного дома, неотличимо похожего на два ряда точно таких же, обрамлявших аккуратно заасфальтированную улицу. Даже деревца – по пяти подле каждой домовой коробки – были одного роста с одинаковым количеством постриженных веток. Лифт поднял ее на шестой этаж. Она нажала звонок, вызвав из тишины два коротеньких, музыкальных тона. Почти тот час же щелкнул замок.
«Как бабушкин сундук», – успела подумать она.
На пороге стоял невысокий, полноватый человек лет сорока.
– Здравствуйте, – сказала она. – Могу я видеть товарища Хейно Оямаа?
– Это я.
– Меня зовут Ева Ларина… то есть, Эве Лаар. Ларина мой псевдоним.
Хозяин удивленно смотрел на нее, не совсем понимая, кто перед ним.
– Мы получили ваше письмо… в газету…
– Ах ты, господи! Как это я сразу не догадался… Заходите, пожалуйста. Я ужасно рад…
– Сильный дождь. Может быть, вы дадите какие-нибудь тапочки?
– Ерунда! У нас линолеум.
– Идите, идите, не стесняйтесь… Мама! Иди сюда. К нам гости… то есть к нам корреспондент из Москвы!
В прихожую вошла высокая, костистая старуха, учтиво поклонилась:
– Очень приятно! Вы не откажетесь выпить с нами чашечку кофе? Проси к столу, Хейно, у меня все готово.
Хозяйка вслед за Эве вошла в небольшую, светлую столовую, достала из буфета третью чашку.
Прошу садиться, – сказал Хейно, пододвигая стул.
Пока Эве усаживалась, старуха не смотрела на нее; вынув из волос полукруглую гребенку, она подобрала волосы со лба, задержав гребень на макушке, отчего на голове ее остался торчать смешной хохолок, похожий на петушиный. Потом вынула из фартука очки, плотно насадила их на переносицу, подошла к гостье и принялась внимательно ее рассматривать.
– Я не ослышалась? – спросила она по-эстонски. – Вы Лаар?
– Да.
– Вы Эве Лаар?
– Да, да! – взволновано сказала Эве.
– Как вы переменились! – тихо произнесла старуха. – Да что я говорю! Переменились… Тогда вы были девочкой… Меня вы, конечно, не помните. Но сын мне много рассказывал о вас и вашем отце… о том, сколько вы для него… вы были для него тогда…
«Значит, правда, и это его мать, брат… его дом…» Что-то словно вскрикнуло у нее внутри, сдавило горло, она ничего не могла произнести, ничего… Протянула к старой женщине руки, обхватила ее, прижалась лицом к ее жесткому, полотняному фартуку и горько заплакала. Она почувствовала, как судорожно дрогнула сухая спина старухи, но не могла сдержаться, не могла перестать рыдать.
Она плакала о Вальдо, которого оставила в этом городе тридцать лет назад, о покойном отце, о матери, которой почти уже не помнила, обо всех тех, кто навсегда остался здесь. И о веселом брате Юхане, который сюда не вернулся. Обо всех потерях в своей жизни. О своем одиночестве и о том, что сюда, в свой родной город она больше уже никогда не приедет… Ей было очень стыдно перед этими людьми, но она не могла сдержаться, не могла…
Только через полчаса, помыв лицо и выпив кофе, она немного успокоилась.
– Простите меня… Я думаю, сегодня нам уже не удастся толково поговорить. Завтра после работы я жду вас в гостинице. Третий этаж, комната шестнадцать.
Оба – и инженер, и гостья чувствовали себя неловко. Только старуха спокойно и ласково смотрела на гостью.
Когда Эве вышла в прихожую, старая хозяйка подождала, пока та наденет плащ, легко погладила ее по щеке, сказала:
– Ты подожди тут. Я сейчас… Я хочу подарить тебе одну маленькую вещь. Пусть будет у тебя память о нем. Он тебя всегда помнил… пока жил…
Она вышла и через несколько минут вернулась с небольшим пакетом, тщательно завернутым в газету.
– Вот. Спрячь в сумку, а то дождь. Это его. Это он сделал. Возьми…
…В гостинице Эве не сразу развернула подарок. Она долго сидела у стола, так и не сняв мокрого плаща. Плотная тоска облепила ее всю, как эта дешевая, мокрая болонья. Ей было трудно пошевелиться, трудно поднять голову. Наконец, она заставила себя встать, сбросила плащ, развернула пакет.
Эта была рамка, в ней небольшая картинка.
Сперва она ничего не разглядела, кроме ярких, сияющих пятен. Но уже вся замерла от предчувствия чего-то необыкновенного, что вот-вот должно было с нею случиться.
Ей не понадобились очки, она увидела, узнала свою скрипку, свой давний детский сон, который с той поры больше никогда не повторялся: синее небо за окном, белый переплет, тень на паркете, а на подоконнике, прислонясь к раме, стояла и пела стройная скрипка.
И на мгновение мелькнуло перед ней худое лицо с золотистой бородкой.
Она засмеялась и сказала громко:
– Мой сон… Вот видишь! А ты говорил, что цветных снов не бывает!
Нет, ей не было грустно, что тот, к кому она обращалась, не мог ее услышать. Она была благодарна ему…
«А ведь я любила его тогда, – подумала она с радостным удивлением. – Любила тогда и, может быть, всю жизнь…»
ПАССАЖИРСКИЙ ВАГОН
В свой железнодорожный поселок он вернулся с войны в начале сорок пятого. На левой руке у него остались только два пальца – указательный и большой – она стала похожей на клешню огромного рака.
До войны он не успел даже толком влюбиться – сходил один раз с одной на танцы, промолчал весь вечер, на том знакомство и кончилось.
Еще тогда, когда, как говорится, он был справным парнем и все у него было в целости, он сторонился девушек, был с ними робок, неловок. И очень молод – в сороковом ему минуло восемнадцать, а в январе сорок второго он был уже на фронте. Теперь же после ранения ему казалось, что все девушки с отвращением отводят глаза от его изуродованной руки.
…Отступая, немцы почти полностью уничтожили поселок, станцию Узловую, пути, вокзал, привокзальные постройки. Только в трех километрах за речкой Ивоткой чудом сохранилось несколько строений. Сгорел и дом, в котором до войны жила его семья. Уходя на фронт, он оставил там только одну мать – отец был мобилизован на второй день войны, а через два месяца уже пришла похоронка.
Матери он в поселке не застал и о судьбе ее ничего не смог узнать. Возможно, она жива и скитается где-нибудь по вздыбленной войною земле, возможно, погибла, и могилой ее стал подожженный немцами дом…
В юности он никогда не задумывался, была ли мать молода, просто была – мать. Но сейчас, вспоминая залитое слезами лицо, когда мать провожала его из дома, она казалась ему совсем молодой.
Он не нашел никого, кто мог бы ему хоть что-нибудь рассказать о матери – знакомых в поселке не осталось, ни стариков, ни молодых. Сначала он подумывал перебраться куда-нибудь в другое место, все равно куда, ведь близких у него не было нигде; но слишком долго добирался он до родных мест, до дома. Так попал он в маленький домик за речкой, снял койку у еще не старой тридцатичетырехлетней вдовы Варвары Осиповны; жила вдова с сыном, пятнадцатилетним сумрачным, долговязым Пашей. Оба они подрядились работать на восстановлении железнодорожных путей. Чтобы иметь возможность оплачивать крышу над головой, тепло и харчи, солдат нанялся туда же, хоть и трудно ему было управляться одной рукой.
Пашка встретил жильца недружелюбно, сердито смотрел, как мать потчует его, делясь и без того скудной пищей, заботится и явно жалеет молодого солдата. А тот пытался всячески наладить отношения с мальчиком, но Пашка не поддавался, только злобно отфыркивался, а с матерью стал попросту груб. Сколько раз ни заговаривал с ним жилец, Пашка либо отмалчивался, либо тут же уходил и возвращался только тогда, когда солдат уже укладывался спать.
Но однажды вечером разговор у них все-таки состоялся; да нескладный, зряшный какой-то.
– Мы уж скоро месяц под одной крышей, – обратился солдат к пареньку, – а все как бы друг друга не знаем. Давай знакомится что ли…
– А зачем?
– Нехорошо. В одном доме, а как бы чужие.
– А вы и есть здесь чужой!
– Солдата смутила откровенная враждебность мальчика.
– Ну, пока живу, так нехорошо вроде…
– А кто вас сюда звал? Не живите…
– Ты чего… такой?
– Какой еще?
– Сердитый больно. Со всеми так?
– Нет.
– Со мной одним, значит. Почему это интересно?
– Потому!
– Мудро! Поговорку знаешь?
– Это, что на сердитых воду возят?
– Ага.
– А ты попробуй, повози! – откровенно грубо огрызнулся Паша.
– Скучный ты, брат, какой-то…
Мать не вмешивалась в их перепалку, но когда солдат вышел покурить, сказала:
– Что это ты собачишься? Видишь, одинокий он, калека, Пожалеть его надо, а не рычать, как пес цепной!
– Пожалеть? Еще чего. Он-то живой пришел, а нашего батьку убило!
– Волчонком ты, Паша, растешь! – вздохнула мать и расплакалась.
– Что-то ты больно жалостливая стала! – зло бросил Пашка. – Приблуду этого жалеешь, а по отцу давно плакать перестала!
– Из чего там у тебя нутро сделано? – сквозь слезы сказала мать. – Из кирпича да из крапивы, видно…
– А ты и к нему в нутро заглядывала? – съязвил парень.
Она молчала. И не глядела на сына. Что она могла ему сказать? Она ведь понимала, что резкость мальчика вызвана неосознанной, но горькой мальчишеской ревностью ко всем возвращающимся с войны. И еще боязнью, что мать начинает забывать его отца.
Но разве она не горевала о муже? Сколько вдовьих слез она пролила за эти годы! Даже самой себе, не только Пашке, не могла она признаться, что больше не в силах тосковать, что боль одиночества, в конце концов, задушит ее…
Безошибочное мальчишеское чутье подсказало Пашке, что она заботится о жильце не только как рачительная хозяйка, не только как мать об искалеченном сыне. В ее отношении к нему было что-то такое, что озлобляло Пашку и против жильца, и против матери.
Да, было что-то другое, более теплое. Варвара Осиповна знала – это так.
Ну и что же? – рассуждала она, стараясь оправдаться, – разве она обречена до конца дней томиться в одиночестве? Василий, этот инвалид, моложе ее на целых одиннадцать лет. Это правда, ну и что же? Она ему не навязывается, не лезет ему в постель, а просто… кажется ей, она начинает его любить. А Егор? Муж? Егору теперь ничего от нее не нужно. Егор теперь все ей простит…
«Лучшие свои годы я ему отдала, – горько думала она. – Он с меня сполна получил! А мне-то, мне-то тоже что-то причитается, ежели в живых осталась! Молодая я еще, а кому моя молодость достается? Дороге, да ветру, да пустым ночам, да озлившемуся на весь мир Пашке… Неужто весь мой век так и пройдет, пролетит в одиночку?…»
Она сочувствовала сыну, но вместе с тем тлела в ней досада на него.
«Не жалеет он меня, да и никого не жалеет. А ведь не я виновата, что война его сиротой сделала, что слишком рано стал мужиком, работником, сторожем дому своему. Война эта проклятая убила в нем доброту», – плакала она над сыном, над солдатом, да и над собой.
Месяца через три Василию, как учившемуся до войны в железнодорожном техникуме, предложили должность старшего обходчика на еще не до конца восстановленной дороге, Правда, мечтал он когда-то стать машинистом, как отец, но куда ему с такой рукой!
К весне восстановили в поселке полусгоревшую школу, и Пашка бросил работу – сейчас это было уже не так необходимо; Василий получал приличную зарплату. Поступить пришлось Пашке снова в четвертый класс, а мать вернулась на старое место – уборщицей в ту же школу. Жизнь в маленьком доме начала входить как бы в нормальную колею.
Но Пашка не стал добрее, не переменил отношения к жильцу.
А Варвара все крепче привязывалась к Василию и уже не могла себе представить жизни без него. Первое время ее преувеличенная заботливость смущала Василия, да и клешни своей он стеснялся. Однако когда понял, что она попросту не видит его изуродованной руки, возникло в нем чувство благодарности. И не только за это, не только за кров и заботу, но и за тщательно скрываемую нежность к нему.
Постепенно ему начало казаться, что и он испытывает к ней те же чувства, что и она к нему. Может быть, она просто напомнила ему мать? Но теперь он тоже не мог уже представить себе жизнь вне ее дома, без нее и ее забот. И сделалось неважно, что она так намного старше его. А Пашка? Ну что ж, Пашка подрастет, попривыкнет, поймет, что чужого места он, Василий, не занимает и заменить отца ему или его матери не собирается…
Так и получилось, что через год Василий и Варвара стали мужем и женой.
А Пашка рос еще более молчаливым, неласковым, резким. Василий старался не замечать открытой враждебности пасынка, был с ним всегда ровен, спокоен, называл его уважительным полным именем – Павел, а Варвару, видимо, из уважения к возрасту, неизменно величал по имени-отчеству. А она одинаково истово заботилась о своих мужчинах, следила, чтобы всегда были чисто одеты, сыты. Этим, впрочем, заботы ее и ограничивались; ее совершенно не интересовало, о чем они думают, как относятся друг к другу, с кем встречаются, лишь бы в доме было тихо. Там, за стенами его, слава богу, сейчас все тоже тихо, войны нет, а значит и не грозит опасность ее миру. Она была убеждена, что достигла в жизни всего, чего только можно хотеть, и была довольна и спокойна.
Есть люди, да таких, наверное, и большинство, которые, осуществив свою, пусть и не ближнюю, отдаленную мечту, тот час же создают себе новую, к которой начинают стремиться. Эти – всегда в пути.
Но Варвара была счастлива и больше ничего не просила у судьбы: попросишь лишку, а она возьмет и отберет, что уже дала в награду за долгое ожидание. Всю жизнь она ждала спокойной жизни, мужа, на которого она могла бы положиться, и прожить с ним до самой смерти. Это сбывается, так ей казалось, значит – все при ней и мечтать больше не о чем!
Павла раздражало спокойное довольство матери.
«Как она могла так все начисто забыть? – с обидой и возмущением думал он. – Хоть бы раз об отце вспомнила! Ну, я был сопляком, почти уже не помню его лица, голоса, ни как двигался, как говорил. Но она жена ему была! Говорит – любила. А теперь нарочно не вспоминает, все только приблуда этот у нее в голове… Все они, небось, такие!»
Конечно же, не нарочно Варвара не вспоминала о своем первом муже – она вообще не любила вспоминать. Прошлое для нее переставало существовать, как только становилось прошлым. Слишком долго длилось ее вдовство, чтобы возвращаться сейчас мыслями к прошедшей, растаявшей тоске тех дней. Ну, а о будущем она думать не умела. Сейчас ей хорошо, и, слава богу!
Поэтому она так плохо понимала своего сына. Не могла она его понять и тогда, когда по окончании семилетки, он вдруг сорвался из дома, уехал на целину, потом переехал оттуда в совхоз под Ставрополь, долго жил там один в совхозном общежитии, наконец, женился, отстроился, родил подряд троих сыновей и ни за что не соглашался приехать на побывку к матери в родной поселок. Писал ей редко, не больше трех-четырех раз в год, все больше хвалился своими заработками, новым домом, виноградником, сообщал о рождении очередного сына и никогда не передавал поклон отчиму. Да и писал, вероятно, только потому, что был уверен, что мать обязательно прочитает письмо Василию, а тот позавидует, должен позавидовать благополучию пасынка. Она действительно все письма читала Василию, а тому и в голову не приходило завидовать; он простодушно радовался успехам Павла и неизменно передавал приветы ему и его семейству.
В ожидании новых писем от сына Варвара иногда по несколько раз перечитывала старые. Василий слушал их также внимательно, как в первый раз.
Но вот одного письма она мужу читать не стала. И не сохранила его. Письмо было, как обычно, немного хвастливым, но последние фразы немного огорчили Варвару:
«Неужели все торчите в своей старой мазанке? – писал сын. – Дождетесь, она как-нибудь завалится вам на головы. Ежели муж твой за всю жизнь не накопил денег на новую хату, пусть попросит у меня, я дам, не поскуплюсь».
Варвара вздохнула и, боясь, что это письмо когда-нибудь может попасть мужу на глаза, тут же бросила его в печь.
«Видно, и сладкая жизнь не сделала его добрее к отчиму», – подумала она грустно.
Но долго грустить она не умела, Теперь, когда она ушла на пенсию, ее единственным делом была забота о муже, возня по хозяйству и вскармливание трех слепых котят, которых бросила мама-кошка.
Варвара сильно располнела, обрюзгла, но ни она сама, ни Василий не замечали этого – жизнь их была также однообразна, как тиканье ходиков на стене: дежурство сменялось сном, сон – едой, еда – мелкими домашними хлопотами, потом снова – дежурство и снова сон…
Все также ласково глядела на мужа Варвара едва видными из под отекших век глазами. Десятилетняя разница в возрасте теперь как бы стерлась для них. Уже подошло время и Василию собираться на пенсию.
Как раз в тот год, не успев даже поболеть, неожиданно умерла Варвара. Ночью ей стало плохо, а в одиннадцать часов утра она скончалась.
– Обширный инфаркт, – сказала молоденькая врачиха скорой помощи.
– Что это – инфаркт? – спросил растерявшийся Василий.
– По-старому – разрыв сердца, – объяснил ему сосед, вызывавший неотложку, да так и просидевший у них до конца.
– Как же так? Ведь никогда не болела и вдруг…
– Такая смерть добрая, – утешал его сосед. – Не болела, значит, и смерти не ждала. Хуже нет, ждать ее, проклятую…
Этот же сосед, старый товарищ Василия по работе, помог ему в тех тягостных хлопотах, что всегда влечет за собою смерть. Он же послал телеграмму Павлу:
«Мать скончалась. Похороны пятнадцатого».
Не зная, как подписать – отец, отчим, Василий, послал без подписи – и так яснее ясного.
Всю ночь перед похоронами сеял мелкий, холодный дождичек. К утру он отморосился, но все вокруг было пропитано липкой влагой.
Идя рядом с Василием, который вроде бы не слышал и не видел ничего кругом, Павел озадаченно думал:
«Народу сколько! Все больше мужики, почти все – железнодорожники. Друзья его? Я никого не узнаю… не помню… Значит, не такие они одинокие были?…»
Несшие гроб часто менялись – идти было трудно, грязь прилипала к сапогам.
На дне заранее вырытой могилы тоже стояла вода.
Когда опускали гроб, Василий чуть не крикнул:
«Что же вы ее в болото?!»
Его передернуло, когда первые комки раскисшей земли шлепнулись о крышку гроба, От этого хлопавшего звука еще больнее сжалось сердце.
…Все разошлись. Над могилой остались только Василий и Павел.
На холмике лежало несколько обмерзших астр. Василий неотрывно смотрел на них, и слезы медленно стекались по его темным щекам. Может быть, плакал он сейчас в первый раз в жизни. И плакал не только о Варваре, но и о матери своей. Где ее могила? Как умерла она? Вспоминала ли перед смертью сына? А часто ли он сам вспоминал о ней все эти долгие годы неизвестности и разлуки? Ну, а Варвара? Много ли видела она от него добра и ласки? Это она о нем всегда заботилась, а он только принимал ее заботу.
Что это было с ним сейчас? Угрызения совести или просто тоска по двум женщинам – только они и существовали в его долгой, однообразной жизни, – словно это были недавно погибшая, полузабытая мать и только что умершая жена, а слившийся воедино образ бесконечного женского всепрощения и доброты. И могила эта была могилой их обеих…
Павел смотрел на отчима и не решался к нему подойти. Стоял поодаль и удивлялся: неужто так сильно, так искренне любил мать? Что-то зашевелилось вдруг в самой глубине его сознания – то ли воспоминания, то ли стыд. Дрогнуло, смягчилось его сумрачное, огрубевшее лицо. Ему самому внезапно захотелось расплакаться. Но он сдержался. Подошел к Василию, нерешительно дотронулся до его вздрагивающего плеча и в первый раз в своей жизни назвал его:
– Отец!
– Василий не откликнулся.
– Пойдем, – уже смелее произнес Павел. – Надень шапку, простынешь. А, отец!
И Василий услышал.
Повернул к Павлу заплаканное лицо, сказал негромко:
– Пойдем. Соседки обещали все приготовить… Пойдем, помянем наших матерей…
На утро Василий провожал Павла; перед самой посадкой в вагон Павел смущенно сказал:
– Вот что… ты, как на пенсию выйдешь, – переезжай к нам. Места у нас замечательные. Что тебе одному маяться?
– Привык я здесь…
– Ты погоди, погоди, не отказывайся сразу. Ты подумай…
И неловко хмыкнув, добавил:
– Ты на меня зла не держи. Ладно? Не держи… я, может, по недомыслию так с тобой…
– Садиться пора… Прощай Паша. Домашним от меня поклон передай…
– Подумай, ладно? Обещаешь подумать?
– Что ж. Обещаю. Подумаю. А на побывку приеду обязательно… Прощай…
Теперь он жалел, что так рано вышел на пенсию. Дома одному было действительно тоскливо. Он все время старался что-то делать по хозяйству: переложил кое-где подгнивший пол, оклеил новыми обоями комнату, зашпаклевал двери, побелил печку. А зима все длилась, длилась, вьюжная, холодная. По ночам было особенно худо – устрашающе постукивала о стекло сухая ветка старого клена, которую вот уже несколько лет он собирался спилить, да так и не собрался. Чтобы как-то поторопить уныло тянущееся зимнее время, он сходил в управление, записался там, в станционную библиотеку. Проходя поселком, удивился, как он изменился. В сущности, это был уже не поселок, а небольшой районный городок; старый рынок окружали теперь пятиэтажные дома, железнодорожное училище, где он учился до войны, перенесли из Узловой сюда, в новое здание, построенное неподалеку от школы. Чуть подальше выстроился большой магазин, который торжественно называли Торговым центром. Словом – город и город.
Василий пристрастился к чтению. Все вечера просиживал над книгой, благо в их домик тоже провели электричество. Вскоре маленькая станционная библиотечка была прочитана вся от начала до конца. Пришлось записаться в городскую. Сначала читать ему было трудно – он медленно переползал со страницы на страницу, часто подолгу задумывался, не всегда понимая только что прочитанное. Но постепенно втянулся, стал читать быстрее и вдумывался уже не в сложение фразы и словосочетание, а в смысл и суть прочитанного. Он читал до позднего вечера, пока не начинали слезиться глаза. И было ему уже не так тоскливо в его пустом доме.
Наступила, наконец, весна. Теплая, но пасмурная, дождливая. Бледное северное солнце изредка пробивалось сквозь серую, тусклую пленку, затягивавшую небо, и тут же снова таяло в туманном мареве.
Но эта неласковая весна внесла всё же какое-то разнообразие в жизнь Василия: он вскопал в прилегавшем к дому крошечном палисаднике несколько грядок, посадил картошку, посеял лук, укроп. Для поливки этого «обширного» огорода хватало одной лейки, и все же было какое-то занятие. Когда, наконец, весна по-настоящему разгорелась и солнце начало подсушивать землю, пришло письмо от Павла. Он настоятельно приглашал Василия к себе:
«Приезжай, – писал он, – у нас скоро черешня поспеет, да и другие ягоды-фрукты пойдут. А летом и виноград-скороспелка нальется, Ты, небось, никогда его вдосталь не едал. Приезжай. Мы все тебя ждем. И ребятишки ждут деда, не дождутся».
Что-то неожиданно теплое шевельнулось в душе Василия от этих слов – «ждут деда».
«Поеду, – решил Василий. Поживу немного, погляжу, а вдруг да и…»
Поездка была долгая, неудобная и утомительная: от Узловой до Соснова, от Соснова до Ленинграда, от Ленинграда до Ставрополя, от Ставрополя до Низинки. Добирался он по старой железнодорожной привычке на паровозах и на товарных платформах – перегоны совершал в тамбурах дальних поездов; словом, пока добрался до места, порядочно устал.
Пожил он у Павла недолго. Черешни, правда, поел порядочно, но до винограда так и не дожил. Очень уж жаркие ветры дули со степи, да и шумные мальчишки донимали – то тащили ни свет, ни заря на речку порыбачить, то на ближний конезавод, то носились вокруг него загорелые и белозубые как цыганята.
И потянуло его домой, в тихое северное лето, где в серебристо белые ночи пахнет пылью и влажной травой.
В первый раз в жизни решил он ехать обратно не «на перекладных», как привык за свою многолетнюю железнодорожную службу, а купить нормальный билет в плацкартный вагон, тем более, что полагалось ему оплачивать только плацкарту.
Павел на своем мотоцикле довез его до Ставрополя. За несколько минут до поезда Павел сказал грустно:
– Не нравилось тебе у нас, отец… Ведь тут и зимы почти не бывает, а у вас…
– Почему не нравилось? Ничего. Хорошо ты живешь.
– Так переезжай, – обрадовался Павел.
– Подумаю… Ну, счастливо тебе. Давай обнимемся на прощание, что ли…
– В купе он застал только одного пассажира. Женщина сидела, опершись локтями о столик, смотрела в окно просто так, ни на кого – подле окна никто не стоял, люди равнодушно и торопливо проходили мимо.
– Здравствуйте, – сказал Василий.
Женщина оглянулась, приветливо кивнула. Лицо ее было серьезно, даже немного грустно, но в глубине глаз таилась как бы готовность к улыбке.
– Почему-то это выражение затаенной веселости смутило Василия.
– Соседи мы, – неловко сказал он.
– Соседи, – уже открыто улыбнулась женщина. – Да надолго ли?
– Вам далеко ехать?
– Далёко. До самого конца.
– О! – обрадовался Василий.
Сам не понимая, почему, ему стало хорошо на душе от известия, что женщина тоже едет до самого Ленинграда.
– И мне до конца!
Показалось ему или действительно это тоже обрадовало женщину?
– Что ж, – сказала она, – давайте знакомиться, коли так далёко вместе ехать.
– Василий Степанович меня зовут.
В его широкую, твердую ладонь она вложила такую же затвердевшую от работы руку.
– Клавдия я, – после паузы добавила – Алексеевна.
Василий поставил на стол небольшую плетеную корзинку, откинул чистую тряпицу, предложил:
– Угощайтесь. Пасынок на дорожку набрал. Говорят, лучшая черешня в районе из его села.
– Ой, какие красивые! Словно, каждую кто-то специально раскрасил – один бочок желтенький, другой алый! Даже есть жалко.
– Что вы. Ешьте, ешьте, сладкая, как мед!
Заглянула молоденькая проводница.
– Билетики, пожалуйста. А, у вас железнодорожный…
– Да. Решил раз в жизни попробовать, как это по-пассажирскому, – улыбнулся Василий.
– Ну и как, нравится? – засмеялась проводница. Еще не пробовал, – только отъехали. Пока – очень нравится.
Постели возьмете?
– А как же! Пассажирить, так пассажирить!
– А чайку желаете?
– Можно и чайку.
– Есть вафли, печенье.
– Ну, уж нет, эта пища детская. У меня и потяжелее найдется – пасынкова супруга напекла, нажарила… Ох, извините, Клавдия Алексеевна, может, вам желательно вафли?
– Спасибо, нет. Я ведь тоже на дорогу кое-что на дорогу припасла.
– Долго и истово пили они чай с пирожками, что напекла жена Павла, и говорили так, ни о чем.
– Напились. Помолчали. И вдруг неожиданно для самого себя Василий сказал:
– А у меня прошлой осенью жена померла.
Клавдия молча, сочувственно покачала головой.
– И не болела нисколько – ночью стало плохо, а утром скончалась.
– Такая смерть счастливая…
– А по мне, никакая смерть не счастливая…
– Так это для тех, кто в живых остается.
– Может…
Клавдия убрала на столике и опять бездумно уставилась в окно. Стемнело. Проносился мимо неяркий отблеск далеких станиц, в одну линию сливались огни фонарей у шоссе.
В купе зажегся свет, и за окном все исчезло. На стекле, как в старом потускневшем зеркале, отразилось лицо Клавдии. Привычным движением она поправила волосы, обернулась к Василию.
– Будто и нет там за стеклом ничего. Заперли нас тут, и несемся невесть куда, – сказала она и улыбнулась широко и весело. – Будем стелиться?
– Что-то спать нет охоты, – чуть смущенно сказал Василий.
– И мне! – обрадовано откликнулась Клавдия.
– Вот и ладно. Поговорим еще… Вы сами откуда родом?
– Гатчинская я.
– Так мы ж почти земляки с вами. Знаете, нет? – Станция есть такая в Ленинградской области – Узловая. Неподалеку от Белгорода, ближе к Сосново. Бывшая Финляндия. Не слыхали?
– Нет.
– У нас раньше просто поселок был, до войны. А теперь уже целый город. Районный.
– Я тех краев не знаю. Еще совсем маленькую родители в Ленинград вывезли.
– Живы родители?
– В блокаду померли. Меня чуть живую соседи пристроили в детдом, что по Дороге жизни эвакуировали в Вологду. В сорок шестом мы обратно вернулись. Я долго еще болела. Училась кое-как. Семилетку все же закончила. Работать пошла. Там своего будущего мужа встретила.
– Вы замужем? – почему-то неприятно задетый, спросил Василий.
– Была. Полгода года. Оказался человек нехороший. Пил, случалось – бил меня. Жили мы со свекровью. Она женщина очень хорошая, да слабая. Любила меня, жалела, а с сыном справиться не могла. Ушла я от них, а жить-то мне было негде. Свекровь, дай ей бог здоровья, устроила меня ночной нянечкой в детские ясельки, так там койку мне определили. Вот до сих пор там и живу…
– Значит и вы одинокая, Клавдия Алексеевна, как я.
Сам не понимая почему, ее одиночество обрадовало его.
– Да как сказать – одинокая, – задумчиво улыбнулась Клавдия. – Со свекровью мы и по сей день близкие. Я как раз от нее сейчас еду.
– Вот как?
– Ага. Она у дочке на покое жила, а дочка возьми да помри. С внуком теперь живет. Я, как на пенсию вышла, решила к ней съездить. Старенькая она, боюсь, больше не увидимся…
– Она где проживает?
– В Ставрополе, в городе. Внук ее в агрономическом техникуме преподает.
– Ученый, значит, человек.
– Молодой еще, а умный, образованный.
– Теперь молодых много образованных.
– Много.
Помолчали.
– И долго вы у нее гостили?
– Целый месяц. За всю жизнь столько не отдыхала, – засмеялась Клавдия. – Даже надоело бездельничать!
– Мы теперь с вами пенсионеры, нам полагается бездельничать…
– Да нет, Василий Степанович, мне другие мысли в голову вступили… – Примолкла, опять задумалась.
– Я всю жизнь горевала, – заговорила она, – что детишек своих не нажила. Люблю я их очень.
Оживилась и тихо засмеялась чему-то своему.
– И знаете. Ей богу, они меня тоже любили. В ясельках со своими делишками, с бедами – радостями – ко мне: мама Клава, да мама Клава…
– Видно, добрая вы, Клавдия Алексеевна. Ребятишки, они умные, сразу человека чуют. Это вроде как лошади или собаки – кто к ним добром – ни за что не обидят.
Клавдия громко рассмеялась.
– Ну, спасибо вам, с собакой меня сравнили!
Да что вы! Неужто обиделись? – смутился Василий. – Я же вроде в похвалу!
– Шучу я, – отмахнулась Клавдия. – А может, вам моя болтовня надоела?
– Нет, нет, слушаю.
– Я скоро к концу подойду, – серьезно заговорила Клавдия, но снова примолкла.
Василий ждал, внимательно вглядываясь в ее немолодое, но удивительно свежее лицо. Ему казалось, что она чем-то огорчена. Но нет, в глазах все та же готовность к улыбке, которая сразу так понравилась Василию. И еще что-то было в ее лице, чего он раньше не заметил, либо не обратил на это внимания – похоже было, что она приняла какое-то важное решение, но не уверена, стоит ли говорить о нем малознакомому человеку.
И Василию захотелось взять ее маленькую, твердую руку, подержать в своей широкой ладони… Пусть говорит, он одобрит любое ее решение, но пусть будет оно таким, чтобы в ее жизни осталось место и для него, Василия… Сказать ей об этом? Сейчас? Сию минуту? Но он совершенно не знал, как это сделать, какие для этого нужны слова. Может, она рассердится, не захочет вообще с ним разговаривать?
«Да и что я ей? Старый старик, калека, а она вон еще какая… красивая?»
А Клавдия продолжала молча глядеть в тусклое стекло окна.
И вдруг там, в стекле, встретилась с ним взглядом: он смотрел на нее пристально, напряженно, чуть сощурив глаза, словно издалека.
Этот взгляд смутил ее до слез. Не потому, что был недобрым, враждебным – совсем, наоборот: на обрубленном темноватом лице Василия светилось выражение такого откровенного, простодушного восхищения, что Клавдия невольно на мгновение зажмурилась.
«Господи, – подумала она, – разве так бывает? Еще даже суток нет, как мы знакомы, а будто знаем друг друга сто лет»…
Открыла глаза, снова встретила тот же взгляд и невольно радостно улыбнулась ему навстречу. И тут же ужаснулась:
«Стыд какой! Что он обо мне подумает!..»
«Чего это она? – всполошился Василий, видя, как резко изменилось выражение ее лица. – Плохо обо мне подумала? Да нет, не девчонка ведь, должна уж про людей понимать…»
Клавдия встала, взяла мыло, полотенце и, не глядя на Василия, вышла из купе.
«Рассердилась, – подумал Василий. – Да на что же?»
Клавдия вернулась умытая, посвежевшая, но тревожное ожидание чего-то непонятного продолжало волновать ее. Она уселась так, чтобы больше не отражаться в стекле окна, но в узком купе, конечно, невозможно было стать совсем невидимой или незаметной.
Василий понимал – ей не хочется, чтобы он на нее смотрел, но удержаться не мог и изредка, исподтишка все же поглядывал на нее.
«Вот как странно в жизни случается, – думал он. – Годами с человеком встречаешься, а не заденет он тебя, не тронет ни мысли, ни сердца, – так, прохожий. А бывает, несколько часов человека видишь, а мнится – всю-то жизнь с ним прожил. Как это так получается?»
Клавдия и Василий молчали, и почему-то обоим было неловко.
И оба понимали, что думают они сейчас об одном и том же.
«Вот дура, – корила себя Клавдия. – Про себя я все ему разболтала, а об нем знаю, что вдовый, да войну воевал… Ну и что? Пусть и не знаю… а вижу, какой он человек… Неужто все так и пройдет? Кончится дорога и все? Больше я его не увижу?!»
«Не научился я с женщинами по-хорошему разговаривать, – с грустью подумал Василий. – Неужто вот так – доедем до места и разойдемся? И больше не повстречаемся?»
«А вдруг он пьяница? – ужаснулась Клавдия. – Я ведь про мужа своего сперва не догадывалась, что пьет… А этот? Да нет, не похоже. Этот… надежный… Надежный? Мне-то к чему это знать? Что смотрит на меня эдак… ласково, так может, я все сама себе выдумала? Что это я? Старуха, а вот что в голову лезет!»
Она выпрямилась, сердито глянула на Василия, прихмурила почти невидимые, светлые брови, но, увидев его перетревоженное, взволнованное лицо, неожиданно для себя самой доверчиво и открыто улыбнулась.
И тот час он отозвался на эту улыбку.
– Красивая вы, Клавдия Алексеевна, – радостно сказал он. – Когда вот так улыбаетесь…
Она вспыхнула. У нее покраснела даже шея.
– Скажете тоже! – прошептала она. – Старухе – такие слова!
– Да как вы можете?! Вы мне совсем молодой глядитесь.
– Мне пятьдесят шестой… Что это вы, право?
– Ну и что? Ну и что? Иной человек, если сердце у него доброе, до самой старости красив бывает, а вы…
– Скажете…
Замолчали, но в этом молчании уже не было той тяжести и смущения, что сковывали их минуту назад. Напряженность исчезла, словно легкий сквозняк пронесся по купе и очистил воздух.
– Хочу с вами посоветоваться, – неожиданно проговорила Клавдия. – Про жизнь… про свою будущую жизнь…
– Помилуйте, какой же я советчик. Я свою-то жизнь не знаю, правильно ли прожил.
– Так мужчина бабе всегда присоветует…
– Попробую, может, смогу.
– Я вот что… Нет, не так… Мне одна мысль в голову вступила. Думаете, меня с койки кто-то гонит? Да нет же. Говорят, живи, Клавдия, хоть до самой смерти! Да что ж, думаю, буду я как собака, всегда у чужого порога тулится?
Василий вдруг сильно заволновался, но не решался произнести то, что ему сейчас хотелось сказать.
Клавдия не заметила его волнения.
– Да так ли я решила, не знаю, – продолжала она задумчиво. – Хочу уехать на родину, под Гатчину, в деревню, купить какой-нибудь заброшенный дом. Я денег накопила, целых шесть сотен. Думаете, хватит? Теперь в деревнях, говорят, много домов брошенных… И хочу я в колхоз вступить. Как считаете – примут? Я ведь здоровая, еще годов десять проработать смогу… Примут? Не скажут – стара, мол, своих старух девать некуда?
– Как вы, право об себе понимаете. Какая же вы старуха! Можно сказать – невеста! – несмело улыбнулся Василий.
– Вам шуточки, а я всерьез посоветоваться хотела, – обиделась Клавдия.
– Так и всерьез.
– Ладно вам. Пора спать укладываться. Ночь.
– Хорошо, – покорно согласился Василий. – Я пойду, покурю, а вы тут располагайтесь.
Клавдии стало чуть-чуть неприятно, что он так быстро согласился закончить разговор. Она встала, начала разбирать постели.
Когда Василий вернулся, Клавдия все также сидела, опершись локтями о столик. Обе постели были разобраны, но ложиться, по-видимому, она не собиралась.
– Может, еще чайку попьем? – неловко предложила она.
– Спит проводница. Будить-то жалко, сон у них малый – на каждой станции подниматься надо. Пусть отдыхает…
– Ладно. Пусть.
Василий сидя пристроился на своей застеленной полке. Лампа в купе внезапно притемнилась, заголубела, лицо Клавдии в окне потускнело, стало едва видным. Свет придорожных огней как бы пронизывал ее отражение, и казалось порой, что оно уносится вслед за светом, исчезает, тает…
Незаметно Василий задремал, Очнулся, увидел, что Клавдия крепко спит на своей полке, до шеи прикрывшись одеялом. Губы полураскрыты, будто она вот-вот улыбнется. Лицо ее казалось Василию необыкновенно милым и таким своим, близким, словно он всю жизнь видел ее спящей и всегда оберегал ее сон.
«Снится, видно, что-то хорошее, – думал Василий. – Может, ребятишки, что звали ее мама Клава… А счастья-то она видела в жизни не так уж много. Одинокая…»
И в первый раз в жизни ему до боли захотелось сделать другого человека счастливым.
Он так и не прилег почти до самого утра. Все сидел и смотрел на спящую Клавдию. Ему почему-то казалось, что если он уснет, с ней обязательно случится что-нибудь нехорошее, какая-то неожиданная беда. И чем дольше он смотрел на нее, тем более ширилась в его сердце непривычная, непонятная жалость к этой малознакомой женщине.
На какой-то недолгой остановке она проснулась, тревожно приподнялась, спросила удивленно:
– Случилось что? Почему вы не спите, Василий Степанович?
– Нет, нет. Все ладно. Спите.
Успокоенная, она опустилась на подушку и сонно произнесла:
– Как тут спиться! Словно в коляске – мягко и качает. Хорошо…
…Утром они вели себя как давно знакомые, даже близкие люди.
В Ростове Василий купил на лотке вареную курицу, в киоске взял булочки и две бутылки пива. Клавдия принесла от проводницы стаканы, тарелку, накрыла столик своим суровым полотенцем. Делала она это так спокойно, весело, по-семейному, что Василий перестал стесняться. Он с удовольствием смотрел, с каким аппетитом, вкусно она ела, как заботливо потчевала его; с волнением думал он – вот так бы всегда! Ему казалось, что если он решится предложить ей никуда не ехать, не искать другого дома и поселиться у него, она не откажет, согласится…
На первой большой остановке после Ростова в купе заглянула женщина в белом халате с подносом в руках.
– Бутерброды с сыром не желаете? – спросила она Василия.
– Благодарствуйте, нет.
– Может супруга ваша желает?
Клавдия смущенно отвернулась.
А Василий весело сказал:
– И супруга моя не желает.
Двери купе с треском закрылись.
– Смешная! – сказала Клавдия.
– А почему? Не смешная вовсе… Если бы вы…
Клавдия опять, как и в первый раз, сильно покраснела. Кровь залила сначала шею, поднялась выше, ярко запылали щеки, лоб, даже уши. Так краснеют очень молодые и неопытные женщины. Она низко опустила голову, и Василий заметил в ее темных волосах несколько седых прядей.
И почему-то эта седина внезапно придала ему решимости.
– Если бы, Клавдия Алексеевна, – заговорил он сбивчиво, – если бы вы согласились… выйти за меня, я бы… я бы всю жизнь счастливый был, Клавдия Алексеевна…
Клавдия прижала ладони к горящим щекам. Подняла голову, смятенно смотрела в лицо Василия. Глаза у нее были странные, шалые какие-то. Непонятно было – рассмеется она сейчас или заплачет.
– Что вы так… сразу? – спросила она шепотом.
– А в моем возрасте и надо сразу… Да и не так уж сразу – я ведь ночь не спал, все про вас думал. Если бы… Может, и заслужу, чтобы стать вам по сердцу… Я бы… все… Будет у вас свой дом… свой порог до самой смерти…
В глазах Клавдии мелькнула та же готовность улыбки, которая так нравилась Василию.
Но Клавдия не улыбнулась, а неожиданно расплакалась. Не стирая слез, поглядела на Василия, вздохнула, сказала:
– Хороший вы человек Василий Степанович…
СТАРШИЙ БРАТ
Когда братишка появился в их узкой комнате, Андрею было двенадцать лет. Своего отца он не помнил, Валеркиного не знал. Мальчонка целыми днями тихонько попискивал в своей плетеной коляске, похожей на корзину для белья.
Сохнущие на батарее пеленки, непричесанная мать в неопрятном халате с пятнами на груди, исходивший от нее сладковатый запах, вызывали в Андрее легкое раздражение; но на братишку, виновника всего этого непорядка, оно не распространялось. Напротив, чем слабее был Валерка, тем большую ответственность за него чувствовал Андрей, его старший брат.
А то, что он был старшим да еще единственным мужчиной в семье, становилось все очевиднее. Ему казалось – он всегда знал – мать человек слабый, неуверенный и без поддержки его, Андрея, ни с чем в жизни справиться не сможет. Незаметно он начал относиться к матери покровительственно, к чему она быстро и прочно привыкла. Вот так и сделался он, еще не достигнув тринадцати лет, полновластным главою семью.
Валерка рос, набирался сил и уже ко второму месяцу у него прорезался свирепый и требовательный бас, за что их сосед по коммунальной квартире, старый моряк дядя Максим, прозвал его Боцманом. Так навсегда утвердилось за ним это прозвище и, в конце концов, почти заменило ему имя.
Подрастая, Валерка невольно перенял у Андрея ласково-снисходительный тон, с которым тот обращался к матери, с той только разницей, что Андрей действительно заботился о ней и старался либо помочь ей, либо заменить ее в трудных заботах о семье; Валерка же усвоил чисто внешнюю манеру поведения старшего брата.
Был Валерка вообще не по возрасту развит, всерьез увлекался школьным живым уголком, а дома организовал его филиал, докучая матери ужами, которых мать панически боялась, выращенными в глубоких тарелках головастиками, плавунцами, подобранными на улице бездомными щенками и котятами. Однажды он притащил с помойки полную кепку крошечных мышат из разоренного мальчишками мышиного гнезда. Мать возмущалась, но ничего поделать не могла – глава семьи Андрей одобрительно относился к хлопотливому увлечению младшего брата.
В первый же год после приема Валерки в пионеры, школа отправила его в лагерь под Одессу. Оттуда он приехал уже не таким тощим и привез аккуратно переписанную и заполненную не очень удачными, но подробными иллюстрациями тетрадь с надписью на обложке: «Научный реферат ученика четвертого класса «а» школы № 193 города Москвы Валерия Маркова «Поведение кошек под Одессой». За этот научный реферат его приняли в биологический кружок, хоть и был он там самым младшим. С этой минутой мать примирилась с наполнявшей комнату живностью и согласилась кормить молоком ужей; можно сказать, что она даже стала гордиться сыном и тайком спрятала его первый научный реферат. Но Валерка продолжал относиться к ней несколько свысока и никогда не разрешал приласкать себя, даже погладить по голове. Любил ли он мать? Вероятно, любил. Но настоящим отцом и матерью для него всегда был и оставался Андрей.
После рождения Валерки мать постоянно хворала и, не достигнув пенсионного возраста, вынуждена была перейти на инвалидность. Жить стало совсем трудно: Валерка был мал, Андрей поступил в мединститут, сперва работал по вечерам санитаром в клинической больнице, уверяя мать, что это наилучшая практика для будущего врача, после третьего курса – медбратом в инфарктной бригаде «Скорой помощи»; мать пробовала вязать, но ничего, кроме шарфов и носков связать не умела, поэтому зарабатывала мало и редко, а пять рублей в месяц, которые она получала от государства как мать-одиночка, естественно, никаких материальных затруднений решить не могли!
Наконец, Андрей закончил институт и был направлен в реанимацию той клиники, где когда-то работал санитаром.
А матери становилось все хуже. Кроме основных ее болезней начала мучить жестокая гипертония.
В год, когда умерла мать, Валерке минуло четырнадцать. Через два дня начались каникулы, он по праву считал себя уже восьмиклассником и через неделю должен был уехать в свой последний пионерский лагерь снова под Одессу.
… И в тот день он пришел из школы раньше обычного. Мать спала, Андрея еще не было дома. Покрутившись и положив в самом центре стола свой табель, он выбежал во двор, чувствуя себя уже совершенно свободным и счастливым.
Когда Андрей, наконец, пришел, Валерка гонял в футбол и не захотел подниматься с братом наверх. Он крикнул только:
– Эй, капитан, посмотри там на столе.
Минут через пятнадцать окно из комнаты резко распахнулось, Андрей позвал его:
– Иди домой, Валерий! Немедленно!
Что-то в голосе брата и необычное обращение «Валерий» испугало мальчишку. Он бросился наверх.
Дверь была открыта. Ширма, отгораживающая постель матери, отодвинута. Андрей сидел на стуле у кровати, низко согнувшись, и на тревожный вопрос Валерки ничего не ответил, ничего говорить и не надо было – Валерий понял – мать умерла.
Он как-то странно сухо всхлипнул, и неудержимая дрожь начала бить его нескладное, мальчишеское тело. Закрыл глаза, боялся посмотреть на мертвую мать.
А Андрей, не отрываясь, глядел в лицо умершей. Оно казалось ему сейчас значительным и мудрым, каким он раньше никогда не видел.
«Она что-то узнала о жизни… Или – о смерти» – подумал он с непонятным облегчением.
Валерка вдруг тихонько, совсем по-детски позвал:
– Мама…
И тогда Андрей заплакал. Он плакал о несчастливой ее жизни, об одинокой смерти, о своей беспомощности, о том, что против этого, неизбежного и самого страшного ничего, ничего сделать нельзя. Он плакал безутешно и громко, как не плакал никогда раньше, даже в детстве. И вдруг почувствовал на голове руку Валерия.
– Не надо, не плачь так, – бормотал мальчик утешающе. – Успокойся… не надо…
И Андрей постепенно начал затихать. Поднял опухшее, заплаканное лицо.
– А помнишь, боцман? – спросил он.
И неожиданно запел, запричитал на одной ноте:
– Андрей-воробей, не гоняй голубей, гоняй галочек из-под палочек…
– Не помню, – растерянно отозвался Валерка. – Ты что?
– Ну, как же, она всегда пела.
– Мне?
– И тебе. Неужели не помнишь?… Не клюй песок, не тупи носок, пригодится носок поклевать колосок…
И снова заплакал, но уже тихо, слезы текли и текли по щекам.
Валерка ни за что не хотел позволить себе расплакаться. Он просто стоял рядом. Стоял и молчал. Что-то подсказывало ему, что из них двоих он был сейчас старшим…
Первые дни после несчастья Андрей никак не мог ни на чем сосредоточиться; кто-то приходил, уходил, что-то делалось в комнате, но все проплывало мимо него, не оставляло следа.
Только однажды он мимолетно почувствовал присутствие никогда раньше не уделявшего ему особого внимания Сергея Борисовича Драгина.
«Что он здесь делает?» – удивился Андрей.
Назавтра он снова увидел в их опустевшей комнате Сергея Борисовича.
«Странно, опять он здесь. Что ему надо?» – с неудовольствием подумал Андрей, но тут же постарался внутренне отмахнуться. И все же что-то заставило его повнимательней присмотреться к молчаливому, сутулому доктору. И вдруг он заметил, что всегда ироничный, скептически настроенный Валерка, сознательно отстраняя старшего брата, не отходит от Драгина и слушается его во всем.
Как-то незаметно получилось, что все заботы о похоронах доктор Драгин взял на себя. И помогал ему во всем не Андрей – глава семьи, а Валерка, сознательно отстраняя старшего брата от всех горестных, но необходимых мелочей.
Проводить мать пришло довольно много народа; некоторых Андрей никогда раньше не видел. Когда все кончилось, Валерка подходил к каждому и негромко, солидно произносил:
– Пожалуйста, заедем к нам хоть ненадолго, помянем маму. Очень просим.
Сергей Борисович молча помогал всем подниматься в автобус.
В комнате уже был накрыт стол, материна кровать вынесена, в коридоре лежала сложенная, не нужная больше ширма.
И Андрею казалось, что все делалось само собой, без чьего бы то ни было участия…
Через два дня Андрей настоял, чтобы Валера все-таки уехал в лагерь; Андрей остался совершенно один. Это было ему необходимо. Он должен был и обязан был перед матерью и перед самим собой в тишине разобраться в своих мыслях и чувствах.
Раньше он никогда не задумывался, любит ли, любил ли мать. Легкое превосходство заслоняло от него не только чувство к ней, но и ее самое; он не привык ни приглядываться к ней, ни прислушиваться к ее робкому голосу.
Но сейчас, когда ее не стало, вокруг него и в душе у него образовалась великая пустота.
Его буквально душило тоскливое чувство вины перед нею. Ему мучительно хотелось что-то сделать для нее. Сейчас? Но это же бессмысленно, невозможно… Раньше, раньше надо было как-то оградить ее от горя, которого в ее жизни было так много, что, в конце концов, оно задушило ее. Вскрытие показало инфаркт, но доктор Марков знал, умерла она не от болезни – от горя… В эти дни он был не доктором, а покинутым матерью сыном…
Уже через два дня после отъезда Валерки он приступил к своим обычным дежурствам. Все в больнице было по-старому, ничего, решительно ничего не переменилось, и почему-то это удивляло Андрея, даже как будто обижало. Матери нет, а здесь все то же – те же врачи, те же сестры, те же десятиминутки, то же вырывание из аптеки нужных медикаментов, те же мелкие, незаметные для постороннего взгляда незначительные конфликты; менялись только больные.
Да, была еще новость, поначалу совершенно не заинтересовавшая Андрея: вместо ушедшего, наконец, на пенсию старого заведующего терапевтическим отделением в его кабинете, в который врачи реанимации старались заходить как можно реже, появилась новая заведующая – довольно молодая, очень эффектная, даже красивая женщина. Вернее, она держалась как красавица, поэтому никому не приходило в голову в этом сомневаться. На десятиминутках она высказывалась категорично и безапелляционно, хоть и не всегда точно ориентировалась в предмете. Пару раз она подчеркнула: перед рядовыми врачами она имеет преимущество – не так давно стала кандидатом медицинских наук и поэтому… Но и врачи, и заведующий кафедрой профессор Званцев поначалу делали вид, что этого просто не слышат и старались не вступать с нею в споры – пусть пока чистит свои яркие перышки, придет время, пообломает их, присмиреет. Лишь бы не мешала работать, а там…
Очень скоро Андрей втянулся в суровую больничную колею. Конечно, он не перестал думать о матери, терзаться запоздалыми сожалениями, но все это так глубоко осело в нем, что внешне казалось: он смирился с ее смертью, успокоился. Привычное чередование обязанностей – обходы, назначения, осмотры новых больных как бы легкой пáтиной покрыли его разлохмаченные чувства, они и вправду перестали быть такими режуще-яркими.
Единственное, что разнообразило больничные будни, это постоянно присутствие Сергея Борисовича Драгина. Раньше тоже бывало, что они работали в одну смену, но это была просто одна больничная смена – приход и уход в одно и то же время. Теперь же, особенно в тяжелых случаях они всегда оказывались рядом и вскоре настолько к этому привыкли, что стали понимать друг друга с полуслова – с полвзгляда. А в тихие ночи, когда тяжелых больных было мало и можно было просто отдохнуть в ординаторской, посидеть на диване, покурить, Андрей особенно был благодарен доктору Драгину за его молчаливое присутствие.
… Еще до смерти матери всякий, выражаясь медицинским языком, летальный исход Андрей воспринимал болезненно, но, конечно, не настолько остро, чтобы обвинять в этом самого себя.
Но вот матери не стало, и каждую смерть, даже безнадежного больного, Андрей воспринимал как обвинение ему, доктору Маркову лично. Особенно страдал он, если больной умирал от инфаркта.
Кто-то же должен найти способ, – думал он, – как избежать столь частых случаев трагического исхода этой распространенной болезни.
Однако больничная текучка мешала ему сосредоточиться и заинтересовать своей неясной идеей врачей.
Только с Сергеем Борисовичем он мог говорить о том, что его волновало: поначалу того мало занимали Андреевы проекты и мечта найти панацею от всех инфарктных бед.
Но постепенно упорство и страстное желание придумать что-то по-настоящему дельное и конкретное, помочь больным с разорванным и раненым сердцем убедило его, но пока что ни Андрей, ни доктор Драгин не знали, как к этому подступиться.
Андрей долго был уверен, что о его волнениях и заботах никто в клинике, кроме Сергея Борисовича, не имеет понятия. Но он ошибался.
Как-то на десятиминутке новая заведующая отделением своим категоричным тоном сказала:
– Кстати, доктор Марков, до меня дошли слухи, что вы собираетесь заняться какими-то экспериментами. Я попросила бы вас без моего разрешения ничего не предпринимать. Я ведь могу и не разрешить, – неожиданно улыбнулась она своей самой приятной из улыбок. – Верно?… Да, и еще одно – вы, кажется, собираетесь на этом материале защищать диссертацию? Так вот, поскольку я кандидат наук, предлагаю взять руководство вашей работой. Если, конечно, тема покажется мне интересной и перспективной… А пока…
– Но до экспериментов еще бесконечно далеко, – растерянно возразил Андрей. – А что касается диссертации, так я не думал об этом…
После этой десятиминутки Андрей долго не мог успокоиться.
«Еще ничего не начато, – злился он, – а уже все запрещено!»
Он понимал – в чем-то эта самоуверенная, красивая женщина права – он, доктор Марков, теоретически мало подготовлен для того дела, которое задумал. Что же касается экспериментов, то о них еще рано говорить: хирургическая методика будет, вероятно, так сложна, что без опытного хирурга обойтись невозможно. Но кто может запретить ему думать, копаться в немногочисленной инфарктной литературе, комбинировать и экспериментировать на бумаге? Однако продвигался он в своих исследованиях медленно.
Иногда ему казалось, что он попросту топчется на месте. Тогда, отчаявшись, он бросал все и погружался в суету ежедневных дел. По окончании дежурства, особенно если было много тяжелых больных, он, не заходя домой, в любую погоду отправлялся на дальнюю прогулку и долго бродил по Москве, пока голод и желание спать окончательно не затуманивали его усталую голову…
… Вот уж больше года жил он с Валеркой в новом доме неподалеку от больницы. Об этом они и не мечтали, все получилось как-то само собой: в их старом доме после капитального ремонта решено было разместить какое-то вновь возникшее министерство. И выпала братьям удача: одними из первых переселенцев получили они однокомнатную квартиру; кухня почему-то с балконом, оказалась чуть не вдвое больше комнаты, от которой застекленная лоджия отобрала большую часть площади. Они отгородили в кухне угол, где находился балкон, и получилась вполне приличная вторая комната, куда Валерка умудрился втиснуть не только диван, стол и книжные полки, но и свои многочисленные аквариумы.
Паренек сильно вытянулся за этот год – Андрея он перерос чуть ли не на голову, и выглядел уже почти взрослым. Повзрослел Валерка не только внешне; к Андрею он стал относиться чуть покровительственно, точно так же, как в былые дни Андрей относился к матери. Вообще-то не очень с ним считался и, даже не посоветовавшись с братом, самостоятельно решил свою судьбу. По-прежнему его шефом и советчиком оставался Сергей Борисович; по окончании девятого класса он помог Валерке подготовиться к экзаменам в медицинский техникум. Встречались братья еще реже, чем при матери, но оба жестко соблюдали дежурства по хозяйству и строго спрашивали друг с друга. Такого не могло быть, чтобы, уходя, кто-нибудь из них оставлял неубранным дом, не выстиранными замоченные рубашки или незагруженным холодильник.
Как-то убегая на занятия, Валерка крикнул с порога:
– А знаешь, дом-то наш как стоял, так и стоит. Ремонт и не думали начинать и никого, кроме нас, не пересилили.
– А ты откуда знаешь?
– Разведка донесла.
– Был там, что ли?
– Ну, вот! Делать мне больше нечего!
– Непонятно, что потянуло туда Андрея, но в его теперешнем настроении это было, пожалуй, самое лучшее. В первый же свободный вечер отправился поглядеть на свой старый дом.
– Вовсе не был он так уж к нему привязан. Кроме дяди Матвея, который еще до их отъезда перебрался на жительство к сыну, в Орел, он там никого особенно не любил. И все же длинная поездка сначала в троллейбусе, потом на тарахтящем автобусе, которые ходили теперь только по объездным трассам, не оттолкнула его, а только наполнила неясным, но нетерпеливым ожиданием.
Вот и остановка Химзавод, который давным-давно перевели за город, но остановка называлась по-прежнему. А вот и их переулок. Арка. Двор. Андрей немного волновался. Все-таки он прожил здесь ни много ни мало двадцать шесть лет! Здесь родился он, потом Валерка, здесь умерла мать. Только теперь, глядя на не очень чистые окна своей бывшей квартиры, он впервые подумал, что, в сущности, она умерла совсем молодой…
Он оглядел двор, обшарпанные краснокирпичные стены, единственное дерево, под которым он встречался со своей первой девчонкой, задиристой, смешливой Люськой из восьмого «Б»… Как это было давно! Люська давно замужем, у нее уже двое малышей…
Пожалуй, от этой встречи со своим детством Андрей ожидал большего, Ему казалось, что все здесь как будто уменьшилось: двор стал ′уже и темнее, дом сплющил свои этажи, сгорбился, окна потускнели.
Отчего это, а? Ведь не вырос же он за этот год, что тут не был!
Когда ехал сюда, думал обязательно зайти в свою старую квартиру, повидаться с соседями, разузнать, что в их жизни изменилось. Но ему почему-то не захотелось этого делать.
Не задерживаясь, не глядя больше ни на что, он вышел со двора и зашагал к остановке.
И всю длинную дорогу ему почему-то было немного грустно.
Валерке он не рассказал о посещении старого дома – не захотелось. Может быть, потому, что снова ожило в нем чувство вины перед матерью, словно возросла ответственность за каждого больного, которого не удалось спасти.
А в ту ночь ему показалось, что он, наконец, нашел что-то дельное, настоящее; может быть, это был только путь к решению, но путь этот сейчас, ночью, виделся ему единственно верным.
В третьем часу он позвонил Сергею Борисовичу.
На испуганный вопрос, «что стряслось»? он закричал:
– Если мы можем спасти не одну случайную жизнь… хотя и это… Нет, я не о том…
– Да что случилось? Ты знаешь, который час?
– Неважно! Ты пойми – я, кажется, что-то нашел. По-настоящему нашел! Мы не имеем права докопаться до конца. Ведь если появилась надежда, что мы можем спасать людей от смерти, и отступим, мы будем убийцами, пойми…
– Слушай, проспись, брат! Утром в больнице поговорим…
– Но я не могу до утра. Ты послушай…
– В трубке щелкнул отбой.
– А утром вся стройная система рухнула под напором им самим выдвинутых аргументов и сомнений. И что греха таить, откровенного страха, что в больнице при накалившейся после той памятной десятиминутки атмосферы спокойно делать им ничего не дадут, будут следить за каждым их шагом. Да, возможно, и Сергей отступится, кто его знает…
Но, словно и не было того ночного разговора и Сергей Борисович в сердцах не бросил трубку, он мимоходом бросил Андрею:
– А спать ты мне все-таки, чертяка, не дал до утра!
Эта шутливая фраза успокоила Андрея: значит, не сердится и можно рассчитывать на его помощь…
Да, но в чем доктор Драгин мог ему помочь, если по здравому размышлению вся его система, ночью выглядевшая такой стройной, рухнула, как только он попытался последовательно ее изложить, записать все свои мысли и предложения!
…Вечером, за ужином, видя, что брат чем-то расстроен, Валерка как бы невзначай спросил:
– Ну, как твои успехи, мой ученый брат?
– Какие там успехи?! Плохи дела-то, плохи! Только мне показалось, что, наконец, все стало ясно, как все снова запуталось.
А ты попробуй мне рассказать, что ты придумал, может, самому тебе станет все яснее…
– Если я сам не могу разобраться, где ошибка, как же ты-то сможешь понять?
– А ты попробуй. Если я не пойму, значит, просто ты плохо объясняешь! Авось в чем-нибудь и помогу тебе…
– Помогу! – усмехнулся Андрей. – От горшка два вершка, а туда же, в помощники лезешь!
– Положим, я тебя на три сантиметра уже выше! Ну, а чему-нибудь я все-таки научился в техникуме!
– То-то и есть – в техникуме…
– Не хвастайся очень-то! Через десять лет я тоже буду доктором!
– Ну, что ж, попробую – согласился Андрей.
– Он говорил долго, подробно, совершенно не думая о том, что Валерка может что-то действительно не понять.
– Он рассказывал не только о том, что казалось ему удачными находками, но и подробно о своих сомнениях, ошибках; о неоднократных возвращениях к началу поисков и медленном продвижении снова вперед. И о своей беспомощности теоретически обосновать маячившую перед ним систему, о неумении стройно и последовательно формулировать свои мысли.
– По внимательному, заинтересованному взгляду брата, он видел, что юноша понимает если не все, то, безусловно, ухватывает основное.
– Наконец, он устало замолчал.
– Ты кончил? – спросил Валерка. – Что ж, изложено ясно. Но, к сожалению, это пока еще только фольклор.
– Что, что?
– Ну, устное народное творчество. Разве не знаешь?
– Ах, это…
– Вот именно. Я считаю, пришла пора все, что вы там напридумывали, систематизировать. Все, все, даже ваши отступления и неудачи, все необходимо записать! Только тогда вы сможете убедиться, что дело, а что так, чепуха…
– Спасибо за совет, – огрызнулся Андрей. – Это-то и есть самое трудное…
– Но пока вы хотя бы самим себе не докажете, что все ваши идеи можно изложить логически и зафиксировать, вы ни на шаг не двинетесь вперед, так и будете толочься на месте!
– Как ты все легко решаешь!
– Да пойми ты, – перебил Валерик, – пока вы не обоснуете теоретически ваши идеи и планы, никто вам не разрешит экспериментировать! Фокусничать над живыми людьми?!
– Ничего ты не понял! Ведь без эксперимента, без опыта, грош цена всем нашим размышлениям и разговорам! Как мы можем, что бы то ни было доказать, не предъявляя никаких реальных доказательств?
– Как? Очень даже можно! Вот Ньютону, например, одно единственное яблоко на лоб стукнулось, а он из этого пустякового случая создал мировой закон притяжения земли! А Уатт! Всего на всего увидел, как прыгает крошка на кипящем чайнике и пошла отсюда паровая машина!
– Твои школьные примеры ничего не доказывают! – сердито одернул его Андрей. – Ведь до формулирования закона сколько было опытов!
– Неправда! – обиженным тоном ответил Валерка. Примеры-то школьные, верно, но ты забыл, что в тех же школьных учебниках сказано, что все это – и яблоко и чайник – все было случайностью, неожиданным открытием!
– Ерунда! В науке никогда не может быть никаких случайностей!
– Как раз в науке очень многое зависит от случайности!
– Ты рассуждаешь, как мальчишка!
– Как мальчишка? Если хочешь знать, это не мои слова, а Эйнштейна! Конечно, если бы у великих ученых предварительно не возникли теоретические прогнозы, никакие случайности не помогли бы им создать теорию притяжения земли или теорию относительности!
– Вот видишь, сам ты…
– Да, не перебивай меня! Я же не предлагаю тебе сразу создавать законы! Я только хочу, чтобы вы с Сергеем четко сформулировали свои предложения, понимаешь? – Предложения о возможности борьбы с болезнью. Те-о-ре-ти-ческое? Ясно? И не трепещи ты так перед вашей Прелестной Зоей! Ей-богу, смотреть на тебя противно!
– Замолчи! Замолчи сейчас же!
– Не замолчу! Она вам еще настоящую гадость подстроит, помяни мое слово! А оба вы ведете себя как мальчишки: заговоры, страшные тайны, а вся клиника про вас уже все знает…
– Выпалив все это, Валерка выскочил из комнаты и крикнул на ходу:
– Мы в кино. Ложись, не жди, у меня ключ…
«А ведь Валерка прав. Но уж больно менторски он со мною разговаривает. Словно, не я старший брат, а он… Ишь ты, воспитатель нашелся!» – недовольно подумал Андрей, но паренек вызвал в нем не только досаду, но и что-то вроде легкой гордости.
«Быстро же он вырос. И не только живет, но и думает уже самостоятельно… А вообще, по моему, мне с ним здорово повезло! Конечно, он прав, мой боцман; нужно срочно засесть за наши записки. Систематизировать их и, пожалуй, взяться, наконец, за статью…»
Но, несмотря на принятое решение, тревожные мысли, сомнения в своей научной подготовленности все время одолевали его.
Однажды утром, Андрей медленно поднимался по лестнице к себе в реанимацию; внезапно его что-то ударило: навстречу ему спускалась женщина; в это мгновение он готов был дать слово, что видит ее в первый раз.
Так бывает – встречаешь кого-нибудь чуть ли не каждый день и вдруг в какую-то особую минуту он покажется тебе совсем другим – то ли увидишь его в новом ракурсе, то ли человек в твоем восприятии обновится…
Навстречу Андрею, освещенная из верхнего окна солнцем, спускалась заведующая отделением Зоя Александровна, Прелестная Зоя, как окрестили ее в больнице.
Сейчас она, действительно, была прелестна. Солнечный луч словно заблудился в ее легко взбитых, рыжеватых волосах. Андрей даже остановился, так ошеломило его новое, ранее не виденное, не замеченное в ее облике.
Прелестная Зоя, не задерживаясь, прошла мимо, улыбнулась, кивнула, спустилась на несколько ступенек и посмотрела снизу на все еще замершего неподвижно Андрея.
Она прекрасно поняла, какое впечатление произвела на доктора Маркова, и внутренне отщелкнула еще одну костяшку на счетах своих побед.
Бывает так, что человек влюбляется сразу, в одно мгновение? Наверное, нет. Что-то должно подготовить его к вот такому нелогичному состоянию души. Но влюбленному кажется, что все произошло мгновенно, как взрыв, как удар молнии, и он томится и радуется, трепещет от страха в ожидании счастья.
Вот такое состояние налетело на Андрея. Он уже не помнил ни о ее безапелляционности, ни о разных выпадах против задуманной ими работы, о запрещениях, обидах. Он бродил как в тумане, вдыхая его сладостные и ядовитые пары. Все, все его изыскания и находки отступили куда-то далеко, на задний план его жизни.
А Прелестная Зоя все также ласково-лукаво улыбалась ему при встрече и однажды, после десятиминутки, непринужденно заговорила:
– Мы теперь с вами соседи. Доктор Марков, на днях я переехала в дом тридцать пять, как раз напротив вашего. Придется как-нибудь зайти, посмотреть, как мои доктора живут. Пустите?
Андрей даже задохнулся, так это было неожиданно и удивительно. Он не успел ничего ответить – Прелестная Зоя уже прошла мимо своей подчеркнуто легкой походкой, как будто совершенно не интересуясь реакцией доктора Маркова. Впрочем, она прекрасно знала, какова она…
… Несколько дежурств прошли довольно спокойно – особо трудных больных не привозили, и Андрей с Сергеем Борисовичем мирно отдыхали в ординаторской, пили кофе, курили и тихонько запускали магнитофон с любимыми ими обоими записями Окуджавы…
Андрей в последнее время словно бы переселился в иной космический слой и позабыл обо всем на свете, кроме своей внезапно поразившей его влюбленности. Сейчас она терзала его меньше, чем в начале, он маялся только тогда, когда Прелестная Зоя была рядом. В такие минуты он внутренне метался от самоуверенной надежды до полной безнадежности, не находил тона для общения с нею, мрачнел, дерзил ей и старался как можно скорее уйти, убежать, не видеть ее, не говорить ни о чем, кроме как о деле.
Все это она прекрасно замечала и сознательно старалась держать его в постоянном напряжении. Не то, чтобы она была особо заинтересована в докторе Маркове, нет, он даже как будто мало нравился ей; но Прелестная Зоя была из тех уверенных в своей неотразимости женщин, которые ни за что не упускали ни одного явного или тайного поклонника. Она спокойно нанизывала их скальпы на шнурок и всегда носила у пояса, как дикарь свой военный трофей. Она была уверена, что теперь-то доктор Марков наверняка позабудет о своих антиинфарктных затеях – у него просто не хватит душевных сил заниматься чем-нибудь, кроме своих безнадежных попыток покорить ее, Прелестную Зою…
Однако она ошибалась. Ошибалась, как многие женщины ее типа, слишком уверенные в своей неотразимости и уме.
Ей казалось, что Андрей выжидает момента, когда она снизойдет до его обожания и с удовольствием растягивала время и подстегивала и подстегивала, как могла, его кажущееся нетерпение.
Но внимательно наблюдавший за ним Сергей Борисович прекрасно понимал, что ждет Андрей не только победы над Прелестной Зоей, Казалось, он никогда еще не был так внутренне собран и сосредоточен, как сейчас. И, может быть, как раз отношение к Прелестной Зое и помогло ему.
Сергей Борисович давно понял прозрачную игру завотделением и относился к ней все более враждебно. Но Андрею не говорил о Зое ни плохого, ни хорошего, просто делал вид, что ее не существует. И Андрей не делился с Сергеем Борисовичем ничем, что касалось его отношения к Прелестной Зое. Вероятно, потому что где-то очень глубоко, в том эмоциональном слое, где гнездилась его влюбленность, что-то начало подспудно происходить; та настороженность, с которой он наблюдал за Прелестной Зоей первое время, та стесненность и боязнь показаться смешным в ее глазах, постепенно сменились более сознательной, более критической настороженностью и более беспристрастной наблюдательностью.
Не признаваясь открыто ни себе, ни Сергею, он пришел к выводу, что материалов для настоящей научной статьи у них уже вполне достаточно; ведь не даром же они оба работали в реанимации, куда большей частью поступали сердечники с самыми тяжелыми формами заболевания.
Теперь по ночам в свободные минуты они уже не тратили время на слушание песенок Окуджавы, а писали, чертили малопонятные схемы, спорили иногда так громко, что споры их вскоре, действительно, как предупреждал Андрея Валерка, стали достоянием чуть ли не всех врачей клиники.
Нечего говорить, что не все их коллеги доброжелательно относились к затеянной ими работе. Некоторые просто не верили в их научную эрудицию, а некоторые попросту завидовали им, хотя, конечно, завидовать было абсолютно нечему! Нашлись и такие, кто старался как можно подробнее информировать обо всем Прелестную Зою.
Однажды вечером – случайно или неслучайно, она сама не могла бы сказать точно, – она задержалась в клинике, и, проходя мимо двери, ведущей в реанимационную ординаторскую, приостановилась. Было так тихо, что она решила: никого там нет, врачи, видимо, в палатах. Но вдруг из-за двери раздался голос доктора Маркова. Он пел:
Андрей-воробей, Не гоняй голубей, Гони галочек Из-под палочек…И хриплым тенорком Сергей Борисович подхватил:
Не клюй песок, Не тупи носок, Пригодится носок Поклевать колосок.«Чепуха какая-то, – подумала Прелестная Зоя. – Что они пьяны, что ли?! Или в детство впали?». Эта монотонная глупенькая песенка убедила ее: никакой серьезной работой под такой аккомпанемент заниматься нельзя!..
…Устало склонившись над очередной схемой, Андрей мимолетно удивился:
«Он-то откуда знает эту нашу песенку?»
Но быстро сообразил – за время их совместной работы он просто сам подарил ее доктору Драгину. И почему-то ему стало от этого спокойней и теплее…
Но спокойствие пришло ненадолго.
Уже на утро стало известно, что у заведующего кафедрой профессора Званцева с Прелестной Зоей был крутой разговор.
Андрей не помнил, кто именно во всех подробностях информировал его об этом разговоре. Возможно, узнал он все детали от сестры Анны Андреевны, которая много лет работала с профессором и, чтобы быть всегда под рукой, неизменно сидела в его кабинете за не доходившей до потолка перегородкой. Но, может быть, рассказал ему о ссоре Званцева с заведующей терапевтическим отделением и кто-то другой. Во всяком случае, он понимал, что ему эта ссора ничего хорошего не сулит. Ни ему, ни их с Сергеем работе… Он знал, что Зоя Александровна уже не впервой пыталась «накапать» заведующему кафедрой на него и Сергея, но до сих пор ее нападки были настолько неконкретными, что Званцев попросту никак на них не реагировал. Но в этот раз, по-видимому, что-то его разозлило и он, всегда спокойный и тактичный, не стал особенно с нею церемониться.
На этот раз и она не стала сдерживаться, хотя с Андреем по-прежнему была заигрывающе-любезна; сходу, не приняв предложения присесть, принялась убеждать профессора в бессмысленности завиральных идей докторов Макарова и Драгина.
– Это не научные изыскания, которыми они кичатся, а пустое прожектерство! – резко сказала она.
– Кичатся? – удивился профессор Званцев. – Но, по-моему…
– Конечно, мне они не решаются показывать свои записи, но вся клиника уже о них знает, и многие попросту смеются над ними! Ученые! Да какая же наука без проведения сотен и сотен опытов!
– Скажем, вы в чем-то правы. Но, дорогая Зоя Александровна, при всей вашей административной власти, – иронически заметил Званцев, – вы не можете запретить им думать!
– Думать! А если эти их думы отвлекают докторов от основных обязанностей?
– У вас есть конкретные претензии?
Прелестная Зоя на минуту несколько приутихла. Но тут же снова взяла воинственный тон:
– Пока нет: я специально не занималась проверкой их практической деятельности, но совершенно не сомневаюсь, что я права! Это же ясно!
– Обычна сдержанность и вежливость вдруг покинули профессора. Он поднялся из-за стола и сказал почти таким же резким тоном, каким говорила Прелестная Зоя:
– Ну, а пока… пока вы не нашли ваших неопровержимых доказательств, – сказал он, – разрешите мне заняться моими очередными делами, дабы в ваши красивые ручки не попали доказательства моей, – подчеркнул он, недобросовестности…
Зоя Александровна вспыхнула и выскочила из кабинета.
«Пожалуй, я был с нею слишком резок, – подосадовал на себя Званцев, – Как бы это не повредило Андрею и Сергею Борисовичу. А впрочем, она и так не оставит их в покое. Но до чего же тщеславная и пустая особа! Никак не простит им, что не пожелали воспользоваться ее кандидатской степенью, не склонились перед ее научной эрудицией!.. Но ничего не скажешь – красива, черт ее дери! Бедняга доктор Марков без памяти в нее влюблен, это по всему видно… Но его Прелестная Зоя ни за что не уступит и обязательно им напакостит чем-нибудь, испортит им жизнь…»
…Так же, как и Званцев, Андрей и Сергей Борисович настороженно ждали, что вот-вот разразится скандал или на них обрушатся какие-нибудь другие неприятности.
И вот, наконец, произошло то, чего они опасались.
В тот день, вместо обычной десятиминутки, неожиданно было назначено расширенное заседание кафедры, Ни Андрея, ни Сергея Борисовича заранее об этом не предупредили, и Сергей сразу после дежурства уехал домой. Андрей ненадолго задержался в клинике. Он уже выходил, когда его догнала сестра Анна Андреевна и сообщила, что его и доктора Драгина вызывают на заседание кафедры для сообщения об их научной работе.
– Зоя Александровна велела торопиться, начнут через десять минут, – сочувственно вздохнула сестра.
– Андрей растерялся.
– Как же так? – пробормотал он. – Все материалы и статья у Сергея! – И бросился к телефону.
Доктора Драгина он не застал – видно еще не доехал до дома.
Тогда он без особой надежды набрал собственный телефон и обрадовался, услышав голос Валерки.
– Как хорошо, что ты дома! Слушай меня внимательно: возьми в левом ящике стола десятку и немедленно, слышишь, немедленно поезжай к Сергею. Пусть захватит все материалы, статью, схемы, все записи вместе с теми двумя историями болезни, он знает, и на том же такси едет сюда, в клинику. Сейчас же! Да, а почему ты дома?
– Я в ночь дежурю. А что случилось?
– Не предупредив, сегодня на кафедре поставили наш доклад. Понимаешь? А мы не готовы. И все материалы, все варианты статьи – у Сергея!
– Я же тебе говорил. Подложила-таки свинью ваша Прелестная Зоя!
– Ладно. Молчи. Лети за Сергеем. Не забудь, пусть захватит все, до последнего листочка. Я постараюсь изложить нашу идею, но, конечно, не смогу это сделать так последовательно и стройно, как в статье. Ты же знаешь, говорить я не умею…
…В ту же секунду, как Андрей закончил свое короткое, сбивчивое сообщение, раздался насмешливый голос Прелестной Зои:
– Все, что мы сейчас слышали, абсолютно бездоказательно и звучит попросту по-детски! Пока это только фантастические измышления, не больше!
– А я не согласен с вами, уважаемая Зоя Александровна, – вежливо, но достаточно холодно заговорил профессор Званцев. – Я знакомился с материалами, читал статью и должен сказать, что во многом согласен с Андреем Николаевичем и Сергеем Борисовичем. Я нахожу, что в их идее много здравого и интересного…
– А я не нахожу! – оборвала его Прелестная Зоя. – Наболтать, даже написать можно все, надо еще доказать…
В эту минуту в зал вошел Сергей Борисович. Он не стал ждать, пока Прелестная Зоя закончит свою гневную филиппику.
– Я все принес, – перебил он ее. – Андрей, помоги развесить схемы – так товарищам будет яснее…
Спокойно и деловито, совершенно не обращая внимания на реплики и язвительные замечания, полуворкотню Зои Александровны, он пояснял схемы, диаграммы, читал целые абзацы статьи. И не только Андрей – все присутствующие почувствовали, что Прелестная Зоя как-то неуловимо изменилась. Ее лицо перестало быть прелестным; словно она забыла, что надо за ним следить: из-под кожи, сразу ставшей немолодой, выглянуло другое – сухое, упрямое, жесткое.
Но по мере того, как она вслушивалась в объяснения Сергея Борисовича, хоть это и доставляло ей видимые усилия, лицо ее снова начало меняться – оно постепенно становилось прежним – красивым, гладким, любезным.
Но слишком хорошо за этот год узнал Андрей малейшие оттенки выражений этого лица, прежде казавшегося ему таким неотразимым! Может быть, он и не заметил, как в светлых глазах Прелестной Зои появилась тень расчета и примитивной хитрости, Он пристально глядел на нее и прикидывал: что еще она задумала, какой нанесет удар?
А она смотрела на него и поняла, что выдала себя.
И снова что-то изменилось в ней, во всем ее облике.
Как только Сергей Борисович замолчал, она заговорила, широко и открыто улыбнувшись:
– Я уже говорила, что не привыкла никому верить на слово. Вот вы меня, кажется, и убедили: в том, что вы нам рассказали определенно есть что-то любопытное… Да, определенно что-то есть интересное… Я попрошу вас, доктор Марков, – продолжала она, игнорируя Сергея Борисовича и обращаясь непосредственно к одному только Андрею, дать мне возможность подробно ознакомиться с вашей статьей и вообще с вашими материалами. Только после этого я смогу вынести окончательное суждение и… принять решение…
Нисколько не сомневаясь, что имеет на это законное право, – она вынула из рук Сергея Борисовича папку с материалами и положила себе в сумку.
– Я верну все во вторник, и, если, конечно, сочту это нужным, отдам своей машинистке перепечатать – уж очень у вас все небрежно оформлено…
– У выхода из клиники на них налетел Валерка.
– Ну, как? Что еще она напридумала, ваша Прелестная Зоя?
– Тише ты! – увернулся от ответа Андрей.
– Все опять неопределенно, – сумрачно сказал Сергей Борисович. – Что теперь она выкинет, совершенно неизвестно…
…Всю ночь металась над городом сухая гроза. Где-то на горизонте вспыхивали неяркие зарницы, высвечивая дальние дома.
Было тревожно, душно, сухо.
Андрей никак не мог уснуть. То ли от не разражавшейся никак грозы, то ли от того, что он утром узнал от профессора Званцева.
Ему не хотелось об этом вспоминать, не хотелось вообще ни о чем думать. Ему мучительно хотелось уснуть, забыть обо всем, стряхнуть с себя то странное наваждение, в котором он жил почти весь последний год…
…Под утро, наконец, обрушился ливень. Он раскатывался по крыше, перебегая то вправо, то влево, временами врывался в распахнутое окно лоджии, косой струей заливал ее бетонный пол и вдруг снова превращался в плотную, почти непроницаемую стену поблескивающих, как занавес из стекляруса, ровных струй.
Где-то в подсознании Андрея пошевелилась тусклая мысль: надо встать, закрыть окна, зальет все к черту, утром придется изрядно повозиться. Но подняться он был не в силах – простыня словно придавливала его тело к постели, он не мог сделать ни одного движения. Сутки дежурства были тому виной? Да нет, за годы работы он привык, если это было нужно, не спать по 20–30 часов кряду. Сбило его с ног совсем другое.
Во вторник, как только он пришел на дежурство, его вызвал к себе профессор Званцев.
– Вот, – сказал он, и, не поздоровавшись, протянул Андрею аккуратную прозрачную светло-зеленую папочку. – Ознакомьтесь.
– Статья? – обрадовался Андрей. – Значит, не подвела, перепечатала…
– Перепечатала…
– Молодец, спасибо ей…
– Да вы взгляните прежде… прежде чем благодарить…
– Андрей вытащил рукопись из папочки и ошеломленно уставился на заглавный лист.
– Как это может быть?
– А вот так.
– Но ведь она никакого отношения к нашей работе не имела! Она только мешала… совала нам палки в колеса… как же она посмела?!
– Посмела, как видите. И не только подписала вашу работу, но свою подпись поставила первой!..
Андрей торопливо полистал рукопись с уже вклеенными схемами. И неожиданно рассмеялся.
– Да вы поглядите, Георгий Иванович, – она ведь ничего, решительно ничего не поняла. Вы только посмотрите, как вставлены схемы. Она их даже прочитать не сумела! Что это такое, в самом деле?!
– Вот вам и ваша Прелестная Зоя, дорогой мой коллега!
– Что же нам делать?
– А ничего не делать. Ничто уже помочь не может – статья еще вчера отправлена в журнал…
– Как?
– Вы простите меня, старика, Андрей Николаевич, но вся клиника, а лучше всех – сама Прелестная Зоя знали о вашей… гм… влюбленности. Вот она ею и воспользовалась… Боюсь, это еще не конец…
Лежа без сна и прислушиваясь к грохоту ливня, Андрей бросался от одного крайнего решения к другому:
«Уйду к чертовой матери! Брошу все! Пойду снова на «скорую»! Не могу я с ней работать!»
Но уже через минуту это решение казалось ему предательством по отношению к Сергею. Да и к тем, кому он надеялся помочь – к больным…
В какую-то минуту он перестал злиться и неистовствовать, прислушался к себе и вдруг понял, что у него не осталось и тени прежнего восхищения Прелестной Зоей. Перед закрытыми глазами замаячило ее сухое, нагловатое лицо; он искренне удивился, как он мог когда-то считать ее прелестной, жаждать ее внимания!
Нет, то была совсем другая женщина! А может быть, он просто закрывал глаза на ее безапелляционность, на самоуверенность и видел только ее победительную манеру держаться и умение казаться неотразимо красивой? И все-таки что-то же было в ней, если целый год, целый год он только и делал, что думал о ней?!
Дождь хлестал и хлестал, в открытое окно вливалась влажная прохлада, и внезапно Андрей почувствовал, что смертельно, нечеловечески проголодался…
– Да ведь я со вчерашнего утра ничего не ел! – сказал он громко.
И почему-то от этого сознания ему стало гораздо легче.
Он вскочил с постели, не надевая тапочек, босиком прошлепал на кухню.
«Где Валерка? – подумал он мельком. – Ах, да, на дежурстве… Эх боцман, боцман, без шести лет доктор! Вот позаботился, сколько сырников напек, молодчина!»
От метавшегося напротив уличного фонаря в кухне было почти светло. С грохотом водрузил Андрей на стол огромную сковородку, взял ложку и, несмотря на то, что сметана подтаяла и расплылась, с жадностью стал есть. Он съел почти все, что приготовил Валерка.
Ежась от холода, побежал в комнату, улегся и сам не заметил, как мгновенно и крепко уснул…
Проснулся от Валеркиного ворчания.
– Что же ты окошки не закрыл? Я уже два ведра вынес, и все не конец!
– Ну, извини. Сейчас встану – помогу.
– Лежи уж. Я сам.
– Ты ж устал, с дежурства все-таки.
– Чепуха. Мы почти всю ночь с Пашкой проспали в ординаторской на диване. Девчонки за нас все делали.
– Практика называется!
– Подумаешь. В следующий раз мы за них…
– Сергей не заходил?
– Нет. Да я и так уже все знаю.
– Откуда?
– Откуда? Разведка донесла!..
– Так. Ну и…
Валерка вбежал в комнату и возбужденно сказал:
– Вставай, скорее, лодырь! Твоя Прелестная сюда шествует!
– Врешь, боцман!
– Валерка осторожно выглянул в лоджию.
– Чего вру? Уже в наш подъезд вошла. Беги, одевайся, я открою…
– Нет! – решительно сказал Андрей. – Я сам!
– Но ты же…
– Я сказал – сам.
– Он поднялся, неторопливо прошел в прихожую, остановился почти вплотную у двери и стал ждать, когда зазвонит звонок.
– Открыл не сразу, только когда раздался второй, более длинный и нетерпеливый звонок.
– Несколько секунд они молча стояли друг против друга – улыбающаяся и свежая, как всегда, Прелестная Зоя и заспанный неодетый, с нарочито удивленным лицом Андрей. Обычная самоуверенность покинула Прелестную Зою, но она быстро оправилась.
– Можно войти? – спросила она весело.
– Сделав вид, что смутился окончательно, Андрей негромко ответил:
– Простите, Зоя Александровна, простите… но… у меня женщина!
СТРЕКОЗА
Она никогда не бывала в этом городе, хотя по рассказам матери знала его так хорошо, словно прожила в нем всю свою юность.
Смутное, неопределенное желание побывать в нем томило ее так же, как героя рассказа Герберта Уэлльса «Зеленая калитка»: поехать туда, найти заветную калитку, открыть ее и увидеть за ней пантеру, играющую в мяч! Но она прекрасно знала, что чуда не будет, даже уэлльсовский министр не нашел за калиткой ничего, кроме тьмы.
А она ведь никогда не была министром. И не было в ее жизни ни почестей, ни власти, ни свободного времени, которое она могла бы посвятить праздной поездке в маленький городок, где родилась ее давно ушедшая мать…
В детстве она мечтала стать актрисой. Однажды ей показалось, что мечта осуществилась: незадолго до войны ее пригласили сниматься в картине о Грибоедове. Ей, как и ее героине Нине Чавчадзе, в ту пору было семнадцать лет. Многие считали ее красивой.
Но ни красавицей, ни настоящей актрисой она так и не стала. Год она прожила со своим первым режиссером и первым мужчиной. Надеялась, что в следующей его картине она сыграет главную роль. Но следующей картины не было – он оказался настолько слабым режиссером, что из кино ему пришлось уйти; стал работать помощником в небольшом передвижном театре, куда, на выходные роль, устроил также и ее. Вскоре из этого театра он также ушел. Расстались они легко. Больше она его не видела.
Некоторое время до начала войны она много ездила по стране, меняла театры, но так и не сыграла ни одной значительной роли; ее героини никогда не произносили на сцене более двух-трех фраз.
Как только началась война, она поступила в один из фронтовых театров. В начале сорок третьего театр ее в полном составе спустился на парашютах в расположение партизан. Все актеры были награждены боевыми медалями, и она в том числе. Но медаль не помогла ей получить ни одной более интересной роли. Да она и не мечтала об этом – была настолько умна, что сознавала – на большее она не способна.
После того, первого, были, конечно, в ее жизни и другие мужчины. Но ни с одним она не оставалась достаточно долго, чтобы привязаться к нему по-настоящему. Если уходила она – никогда потом не жалела, если покидали ее – не страдала. Не потому, что была холодна и равнодушна. Просто приучила себя к мысли, что длительного счастья в жизни быть не может. Да и не нужно было оно ей, как кукушке не нужно свое собственное гнездо. Может быть, гнездом для нее был тот далекий, никогда ею не виденный городок, о котором она так много слышала от матери?
Может быть…
…Служить она осталась в том же театре, с которым путешествовала по фронтам. После войны почти полностью сменился его состав. Она была единственной актрисой, кто остался в труппе после преобразования театра в Областной передвижной. Она уже не ждала перемен ни в своей театральной судьбе, ни в суетливой, беспокойной жизни. Она только все больше уставала и все чаще думала о том, как бы вырваться и съездить в мамин городок, чтобы хоть на день отделаться от мелких забот, которые занимали все ее время и все ее мысли…
… На завтра начинались гастроли ее театра в областном центре, расположенном в полутора часах езды от того городка, в который она всю жизнь стремилась попасть, да так ни разу туда и не съездила.
Сегодня она была совершенно свободна: выдался, наконец, ничем не занятый, просторный день.
В шесть утра она уже сидела в автобусе. Сперва с интересом смотрела в окошко, но вскоре ей это надоело; дорога была однообразной, она незаметно задремала. Проснулась, когда кто-то тронул ее за плечо: приехали. Вышла. Огляделась.
Перед нею была маленькая, почти замкнутая со всех сторон площадь, окруженная рыночными рундуками и одноэтажными домиками. На противоположной стороне площади стояло несколько мирно жующих лошадей с подвязанными к мордам торбами; рядом – телеги, нагруженные мешками, кочанами капусты, яблоками. Городок жил своей негромкой, деловитой жизнью: торговки раскладывали товар на рундуках; подле них уже собирались покупательницы; прокатил разболтанный грузовичок; беспрерывно и ненужно звеня, проехал бородатый велосипедист; спешили на автобус пассажиры…
Сквозь разомкнутый между домами проём она увидела деревья – там был не то парк, не то подступивший к домам ближний лес.
Но оказалось, это не лес, а просто маленький, запущенный сквер. Она пошла по негустой аллейке и в конце ее увидела полуразвалившийся бассейн; наверное, когда-то в центре его бил фонтан.
И вдруг она вспомнила – это то самое место, где давным-давно встречались влюбленные, где познакомились ее отец и мать.
Она подошла ближе. Где же голый бронзовый мальчик верхом на тритоне?
От мальчика осталась только одна толстая, неискусно сработанная нога. Но тритон был. Уродливый, позеленевший, весь в птичьи следах, с нелепо разинутым ртом – но был! Тот самый…
Солнце пробилось сквозь негустую листву, блеснуло на консервных банках, осколках стекла, заполнявших дно бассейна.
Она присела на край полуразрушенной стенки. Внутри бассейна, у самой стены росли желтые цветы – то ли одуванчики, то ли куриная слепота. А над ними, сухо потрескивая прозрачными крыльями, летала стрекоза. Она то стремительно и угловато снижалась почти до земли, то косо, резко взлетала вверх, на мгновение исчезая в солнечном луче. Потом снова устремлялась вниз, проскальзывала под цветами, отчего они радостно вздрагивали, и опять исчезала в луче, словно растворялась в воздухе. Ее полет, и неяркое небо, и эти ненарядные цветы, и даже зелено-медный тритон, – все показалось женщине таким прекрасным, что у нее сжалось сердце. Где-то в самой глубине ее сознания затеплилось что-то похожее на радость. Но и радостью это еще не было; только ощущение освобождения. Просто стало легче дышать. На одну только секунду. Но и этой секунды оказалось достаточно, чтобы отступила куда-то постоянно преследовавшая ее уверенность, что жизнь свою она прожила попусту, бездарно, ничего не добившись, никого не согрев; подходила старость, а с нею и тяжесть одиночества…
Она непрерывно следила за угловатым и вместе с тем поразительно изящным танцем стрекозы. Та иногда останавливалась в воздухе. Крылья ее начинали трепетать так стремительно, что казались пропеллером крошечного вертолета. Повисев неподвижно в воздухе, она устремлялась к земле и, не долетев до нее, опять взвивалась. Тогда, на просвет были видны сочленения ее прозрачных крыл, словно нарисованный в пространстве совершенный чертеж.
«Как жаль, что я не могу услышать ее мыслей, – подумала женщина, – ведь не зря же она отлетает от меня… Я где-то читала, что стрекозы передают приказы своим сородичам за одиннадцать километров. Значит, есть же у них свой, недоступный человеку язык»…
– Простите, пожалуйста… Не сочтите мои слова за назойливость, но я не могу отделаться от ощущения, что где-то уже видел вас…
– Женщина подняла голову – перед ней стоял человек с негустыми, седыми волосами, без улыбки глядел на нее.
– Она хотела, было, досадливо отмахнуться, но лицо у него было вовсе не нахальное, а умное и немного грустное. К тому же он был так же не молод, как и она.
– Возможно, – сказала он сдержанно.
– Вы сердитесь? Напрасно. Но если вам неприятно мое присутствие, я уйду…
Она промолчала, следя за трепетом стрекозьих крыльев, и вдруг доверчиво спросила:
– Вы не знаете, сколько живут стрекозы?
– Сколько живут стрекозы? – изумился он. – Не знаю, конечно…
– Жаль! Мне вдруг захотелось, чтобы люди, умирая, превращались именно в стрекоз… Может быть, моя мать…
– Вы думаете? – ошеломленно спросил он.
– Нет, конечно… Просто мне этого очень захотелось… Так вы говорите, что где-то видели меня? Давно?
– Не знаю. Но я определенно помню ваше лицо… Еще раз извините…
Он поклонился, собираясь, было, отойти.
Но ей не захотелось, чтобы он ушел. Она понимала: в ней заговорило пустое актерское бахвальство, которое она так не любила в своих товарищах по профессии, но все же…
– Меня зовут Валерия Николаевна Колосова. Вам ничего не говорит это имя?
– Простите, ничего… Но мы с вами, оказывается, тезки – мое имя тоже Валерий, и тоже – Николаевич!
– А в детстве меня называли Лера…
– Ну, тут мы разминулись – меня Валькой…
– Вы знаете этот городок?
– Я здесь родился.
– А я раньше никогда не была. Мать мне рассказывала. Он очень изменился с той поры… с довоенного времени?
– Немцы почти полностью уничтожили город, – заговорил он негромко. – Большинство жителей старшего поколения загнали в церковь и сожгли… Молодежь, что не успела уйти в лес, угнали в Германию. Меня с сестричкой тоже. Мне было шестнадцать, ей – тринадцать…
Валерия Николаевна молча смотрела ему в лицо.
– Нас было девять человек отсюда… из нашего городка. По дороге мы сговорились попробовать сбежать. Большинство не добралось до леса… Их перестреляли. Сестренку тоже. Трое спаслись. Куда делись остальные двое – не знаю. Я их больше не видел.
– Простите, – произнесла Валерия Николаевна, – Я тут со своими глупостями…
– Ну, что вы…
Стало тихо. В этой неловкой тишине было слышно только легкое потрескивание стрекозиных крыльев.
Чтобы прервать затянувшееся молчание, Валерия Николаевна сказала неуверенно, словно недостаточно выученную театральную реплику:
– Знаете, мать мне часто рассказывала об этом бассейне, о фонтане, о бронзовом мальчике. А от него остался только обрубок. Да этот страшный позеленевший тритон.
– Я помню, у него из ноздрей били две тонкие струйки, – сказал Валерий Николаевич. – И еще – учитель истории в школе рассказывал, что здесь когда-то был большой губернский город. В прошлом веке. И жил тут последний в России губернатор, плут и лихоимец. Чтобы скрыть растрату казенных сумм, собрал он с жителей так называемое добровольное пожертвование вроде бы для закладки городского парка и постройки фонтана. Купил где-то по дешевке этого бронзового мальчишку, а остальными деньгами попытался покрыть недостачу в казне. Да не успел – накрыли его, судили, сослали в Сибирь. А нового уже не назначили – как раз тогда ликвидировали губернаторство.
– Интересно. Об этом мама не рассказывала.
Валерия Николаевна встала.
– Вы не подскажете, где здесь можно поесть? – спросила она. – Я очень голодна – ничего не ела со вчерашнего обеда.
– Понятия не имею. Я тут тридцать лет не бывал. У меня здесь никого не осталось…
Валерии Николаевне стало неловко. Недавнее хорошее настроение куда-то улетучилось, и снова охватило ее то тяжелое чувство несвободы, какое всегда наползало на нее во время читки на труппе новой пьесы и распределения ролей.
«О, господи! – подумала она. – До чего же я бездарна! Вечно попадаю впросак!»
Они вышли на площадь, медленно, молча обошли ее; подле автостанции увидели вывеску над длинным одноэтажным бараком «Колхозная столовая».
– А нас покормят? – спросила Валерия Николаевна.
– Покормят. Я здесь вроде как в командировке…
…Выйдя из столовой, они остановились в нерешительности – оба не знали, не пора ли разойтись в разные стороны. И оба почувствовали, что им вовсе не хочется сейчас расставаться.
– Вы сюда надолго? – спросил Валерий Николаевич.
– До обратного автобуса… До семи вечера.
– Жаль – мой уходит в четыре тридцать…
– У нас еще целых пять часов, – сказала она и вдруг испугалась – он может подумать, что она навязывается!
– Да? Так мало, – сказал он, глядя куда-то в сторону.
– Хватит, чтобы осмотреть город, – облегченно ответила она.
– Даже изучить…
– Пошли…
– Отсюда я помню только дорогу к речке.
– Ведите…
Двух часов оказалось достаточно, чтобы осмотреть городок и даже посидеть в круглой беседке над рекой.
Наконец, они двинулись обратно к автобусной станции. По дороге, не сговариваясь, повернули к скверу, остановились над высохшим фонтаном. Оба присели на полуразрушенное обрамление.
Как будто стрекоза ожидала их здесь – над сухими листьями, битым стеклом и желтыми цветами она вилась, ни на мгновение не приседая.
– Смотрите! – сказала Валерия Николаевна. – Она еще тут! Знаете, на востоке люди верят в переселение душ.
– А вы? – спросил он.
– Не знаю… Почему бы и нет?
– Не очень это современно.
– Конечно.
– Вы поэтому спросили, сколько лет живут стрекозы?
– Да нет, конечно, ерунда это – переселение душ… Но во что я твердо верю, это в то, что души умерших живут до сих пор, пока о них помнят живые…
– Возможно…
– Мне кажется, душа моей матери жива. Она со мной и где-то здесь. А вот когда я умру, со мной умрет и она… Обо мне некому будет вспоминать – я совсем одна. Вы только не думайте, что я жалуюсь… я вам это просто так говорю. Надо же хоть раз в жизни с кем-то поговорить откровенно. Правда?
– Правда.
– Который час?
– Скоро четыре.
– Пора. Пошли?
Поднялись. Медленно направились к станции. Вышли на площадь. Автобус уже стоял, поджидал пассажиров.
Когда они подошли, почти все места были заняты.
– Давайте прощаться. Идите, а то не останется ни одного сидячего места.
– Ничего.
Они стояли молча, отвернувшись друг от друга, не зная, какие слова надо сказать на прощанье.
Шофер дал протяжный гудок.
Тогда он мягко повернул ее к себе, близко наклонился к ее лицу, серьезно посмотрел в глаза и негромко произнес:
– Вы сказали – никто вас не вспомнит… Я буду вас помнить… Прощайте…
Вскочил в автобус. И ни разу больше не поглядел в ее сторону.
Не дожидаясь, пока машина отойдет, она медленно направилась через площадь.
Спешить ей было некуда. Она успеет еще раз пройти к реке, пообедать в той же столовой. Но дойдя до бассейна, она устало присела на выщербленный холодный бетон.
Солнце ушло за деревья. Внутри бассейна стало тускло и грязно. Стрекоза улетела.
«Может быть, он – как раз то, что я упустила в жизни? – думала она. – Всегда я что-то упускала… Господи, до чего же я сентиментальная… Старая, глупая, бесталанная баба! Чуть ли не ревела от умиления, глядя на обыкновенную стрекозу… И эта чепуха о переселении душ!.. Всю жизнь повторяю чужие слова, чужие мысли!..»
Ей вдруг нестерпимо захотелось, чтобы солнце повернуло назад, осветило битые стекла внутри бассейна, чтобы вернулся этот странный негромкий человек, чтобы в лучах солнца заплясала, затрещала своими легкими крыльями стрекоза и чтобы опять пришло к ней то ожидание радости, которое она испытала утром…
…А может быть, это и есть талант – испытать радость от полета стрекозы в солнечном луче?…
Глядя на жизнь из сегодня, начала XXI века, иногда кажется, что лишь реалистическая литература и искусство смогут защитить Россию от надвигающегося снова морального разложения, социального и экономического неравенства. И если это так, то их лучшие, классические образцы и традиции наилучшим образом способны оказать сопротивление наступающему новому Средневековью. Предлагаемые рассказы созданы именно в такой традиции реализма, традиции Л. Толстого и А. Чехова, А. Куприна и И. Бунина.
Всем, кому не хватает сегодня воздуха культуры, найдут в рассказах Л. Л. Войтоловской умудренную простоту и чистоту человеческих отношений, порядочность и моральную надежность обыкновенных людей. Герои Л. Л. Войтоловской – самые что ни на есть рядовые россияне, для которых быть честным и добрым так же естественно, как дышать или любить природу и близких. В трудных условиях жизни они – настоящие стоики, потому что мужественно встречают удары судьбы, не ломаясь и не становясь высокомерными. Их опыт жизни и скромной, но неуклонной, борьбы за свое достоинство особенно ценен сегодня, когда в России дрогнули моральные и духовные основания жизни, когда вся шкала человеческих ценностей грозит перевернуться вверх ногами.
Предлагаемые произведения – хорошая возможность получить глоток чистой прозы, укрепляющий наш иммунитет против бесчеловечности и других старых и новых пороков. Эти рассказы – просвет на туманном небосклоне современной русской литературы. Как редактор этого сборника я с чистой совестью рекомендую его для неспешного прочтения, поскольку он несет в себе безыскусное добро и служит хорошей профилактикой нашей душевной жизни.
Валерий Кувакин, профессор МГУ,
президент Российского гуманистического общества.
Примечания
1
Она посвящена событиям первой мировой войны 1914–1918 гг., участником, которых был писатель.
(обратно)2
жаргона блатного мира столицы Франции
(обратно)3
Это было осенью 1941 года.
(обратно)4
Эйзен – Эзенштейн Сергей Михайлович – (1898–1948), известный советский режиссёр, сценарист, теоретик кино, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1941, 1946).
(обратно)5
Левин Ефим Самуилович (1935–1991) – киновед, зав. отделом в журнале «Искусство кино».
(обратно)6
Адда Львовна Войтоловская – сестра мамы, историк, писатель, во время войны была на свободе после первой отсидки в сталинских лагерях и перед вторым арестом в 1949 году как «повторница».
(обратно)7
Жалмерка – жена казака, который находится на военной службе.
(обратно)8
Исидор Владимирович Шток (1908–1980) – советский драматург, актёр, автор многих пьес и кинсценариев.
(обратно)9
Охлопков Николай Павлович – режиссер, сценарист, артист театра и кино, педагог, народный артист СССР, лауреат шести Сталинских премий, член КПСС с 1952 года, с 1947 года возглавлял Революционный театр (позже Театр Моссовета).
(обратно)10
Штраух максим Максимович – известный советский актер.
(обратно)11
Свердлин Лев Наумович – известный советский актер кино.
(обратно)12
Мейерхольд Всеволод Эмильевич – актер, режиссер, теоретик, создатель знаменитой актёрской системы, получившей название «биомеханика». Замучен и расстрелян в сталинской тюрьме (1940 год).
(обратно)13
Соседи по общей квартире.
(обратно)14
Ольга Обольник – не помню.
(обратно)15
Л. Новогрудский – сценарист.
(обратно)16
Долгополов М. – сценарист.
(обратно)17
Александр Ржешевский – известный кинодраматург, сотрудничал с С. М. Эзенштейном.
(обратно)18
Григорий Львович Рошаль – советский сценарист.
(обратно)19
Николай Павлович Акимов – актер, режиссер, художник, театральный деятель.
(обратно)20
Григорий Борисович Ягдфельд – сценарист, драматург, детский писатель. В постановлении 1946 года ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» резкой критике подвергалась пьеса Ягдфедьда «Дорога времени».
(обратно)21
Адда Львовна Войтоловская – сестра, о ней см. выше.
(обратно)22
Борис Дранов – друг семьи.
(обратно)23
Роза – его жена, актриса Московского ГОСЕТа, после закрытия театра в 1949 году во время антиеврейских репрессий осталась без работы.
(обратно)24
Григорий Львович Рошаль (1899–1983), советский режиссёр и сценарист. Народный артист СССР (1967). Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1950, 1951).
(обратно)25
Константин Исаев – сценарист.
(обратно)26
Николай Игнатьевич Карпов – муж Адды Львовны Войтоловской (см. ранние примечания. Эти события происходят до их повторного ареста с последующей ссылкой навечно).
(обратно)27
Григорий Борисович Ягдфельд – см. примечание выше.
(обратно)28
Семья: Адда Львовна Войтоловская и Лёна и Валя Карповы были в ссылке в Вологде.
(обратно)29
Benjamin McLane Spock, 1903-98 гг. Известный американский педиатр, известен по культовой книге «Ребенок и уход за ним».
(обратно)



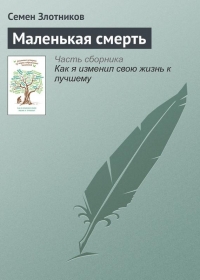
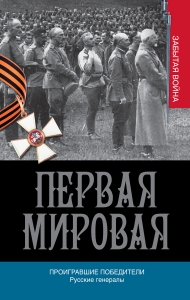

Комментарии к книге «Мемуары и рассказы», Лина Львовна Войтоловская
Всего 0 комментариев