Любовь Орлова О Сталине с любовью
Фотография на обложке: Архив РИА Новости
Во внутреннем оформлении использованы фотографии: Анатолий Гаранин, В. Малышев, Е. Стопалов / РИА Новости
© ООО «Яуза-пресс», 2015
От редакции
Товарищ Сталин и Любовь Орлова. Оба они были символами эпохи великих свершений. Ходили даже слухи об их романе…
Слухи подтвердились!
Подтвердила их сама Любовь Орлова!
В 1962 году, сразу же после выноса тела Сталина из Мавзолея, Орлова решила написать о своих отношениях с Вождем, которого его бывшие приспешники всячески пытались очернить. Ей хотелось восстановить справедливость.
Орлова понимала, что в тот период ее мемуары не могли быть опубликованы. Она писала не для современников, а для потомков, для грядущих поколений. Писала с надеждой на торжество справедливости и верой в то, что История в конечном итоге воздаст всем по заслугам.
Кто может узнать Вождя лучше, чем любящая женщина?
Кто может рассказать о Вожде правдивее, чем любящая женщина?
Кому же еще рассказывать о Вожде, как не любимой женщине?
Воспоминаниям Любови Петровны Орловой была уготована непростая судьба. Хорошо понимая, что в тогдашнем СССР они не могли быть напечатаны, Любовь Петровна решилась на смелый и нестандартный шаг. Летом 1974 года, узнав о своей неизлечимой болезни, великая актриса передала свои записки одному из сотрудников посольства Китайской Народной Республики для публикации в КНР.
«Мы были знакомы с Любовью Орловой, — писал в предисловии к изданию дипломат по фамилии Чжан[1]. — Встречались во время праздничных демонстраций, на приемах, дважды я присутствовал на ее выступлениях. Когда она сказала, что у нее есть ко мне личная просьба, я сначала подумал, что ей нужно что-то из китайских ценностей[2], которые нельзя было купить в Москве. Но оказалось, что просьба совершенно иного характера. «Я знаю, как в Китае относятся к памяти великих вождей, — сказала Орлова, — и поэтому доверяю вам самое ценное, что есть у меня». Я посоветовался с моим начальством, был сделан запрос в Пекин, и после одобрения одним из заместителей товарища Цзи[3] я принял у Орловой четыре тетради, исписанные ее красивым почерком. При желании эта талантливая женщина могла бы развить в себе каллиграфический талант. Тетради я отправил в Пекин дипломатической почтой. Мы договорились с товарищем Орловой, что я сообщу ей, как только будет принято окончательное решение о публикации. К моему глубокому сожалению, это решение было принято только в марте нынешнего года[4], уже после смерти Орловой».
Воспоминания Любови Петровны под названием «Светлый путь» были выпущены в 1975 году издательством Пекинского университета. Книга предназначалась для научных работников (историков, советологов) и имела гриф секретности, исключавший свободный доступ к ней. Тираж по китайским меркам был не просто крошечным, а микроскопическим — тысяча двести экземпляров. В то время набирали обороты очередные политические кампании — критика романа «Речные заводи» и борьба с эмпиризмом, поэтому все полиграфические ресурсы и мощности были отданы под выпуск пропагандистской литературы. Кроме того, ограниченность доступа не предполагала больших тиражей изначально.
Оригинальная рукопись, ценнейший документ, была утрачена безвозвратно. В то время в КНР бережно хранились автографы одного человека — Председателя Мао. Все прочие рукописи, после того как надобность в них утрачивалась, отправлялись на переработку. Стране была нужна бумага, много бумаги.
То, что один из экземпляров «Светлого пути» сохранился до нашего времени, можно объяснить только чудом. Но тем не менее чудеса иногда случаются. Один из профессоров, имя которого его внук, передавший нам книгу, просил не называть, скоропостижно скончался, не успев вернуть в университетскую библиотеку взятые им книги. Он умер в один день с Мао Цзэдуном 9 сентября 1976-го (родственники не исключают, что именно весть о кончине Председателя Мао могла послужить причиной смерти профессора). В суматохе тех дней родственники забыли вернуть книги, а университетские библиотекари не напомнили об этом. Кабинет профессора стал чем-то вроде домашней святыни. Полностью сохранилась не только обстановка, но и книги. В конфуцианском Китае, где почитанию родителей и предков вообще придается огромное значение, подобное отношение не редкость. Лишь в 2013 году, во время переезда, вызванного необходимостью реконструкции старого здания, родственники обратили внимание на пожелтевшую от времени книжечку в простом бумажном переплете. Ознакомившись с ней, они нашли в Интернете информацию о Любови Орловой и поняли всю важность своей находки, а также то, что эти воспоминания заслуживают того, чтобы быть опубликованными.
Как хорошо, что чудеса иногда случаются!
2 ноября 1961 года
Сегодня я поняла, что должна написать о том, что было. Не для публикации, для себя. Все равно больше я ничего не могу. Все равно никто моих записок никогда не опубликует. Разве что за границей, но там нельзя. Не столько потому, что все извратят и опошлят, а просто нельзя. Фарс! В детстве жизнь кажется сказкой, потом она превращается в комедию, которая становится трагичнее год от года. А потом ты понимаешь, что все это фарс. Только не смешной, а очень грустный.
Или справедливость восторжествует, и отношение к Сталину с клеветнического изменится на правильное, на то, которого заслуживает Сталин? Хотелось бы в это верить. Хотелось бы на это надеяться. Я надеюсь, иначе бы и не начинала вспоминать. То есть не начала бы записывать свои воспоминания. Вспоминать я люблю, но вспоминаю я для себя, а записывать собралась для других. Для кого именно? Честно говоря, не знаю. Но любой труд, любая работа делается в расчете на востребованность, в расчете на то, что это кому-то нужно.
Пишу с тяжелым сердцем. «Слезы — на глазах, камень — на душе», — говорила в таких случаях мама. Слез действительно много, надо взять себя в руки, иначе дела не сделаю, только проплачу зря. Слезы всегда напрасны, потому что горю ими не помочь. Облегчения они тоже не приносят. С детства знаю, что во всех тяжелых ситуациях есть только один правильный выход. Надо стиснуть зубы и действовать, делать дело. Работа помогает побороть беду. Хотя бы тем, что отвлекает от тяжелых дум и внушает уверенность. Пока я жива, пока я могу что-то делать, моя жизнь продолжается. Стиснуть зубы и действовать. Так — и только так. Делать то, что можешь.
Что я могу? Я бы поставила Ему памятник, только кто же мне даст это сделать? Подлые, подлые люди! Тысячу раз написать это слово, все равно будет мало для выражения их подлости. Всех ругательств мира недостаточно для того, чтобы выразить мое мнение о них, негодяях, предавших своего Вождя! Кем бы они были без Него. Когда Сталин был жив, не знали, как подольститься, пресмыкались перед ним, раболепствовали. А сейчас — торжествуют! Пытаются одолеть покойника после смерти. Подло и мерзко! Начали с осуждения, которому ханжески придали вид «секретного». Закрытый доклад! Это же смешно! Или нарочно так сделано, ведь все секреты распространяются у нас молниеносно. Опорочили, убрали памятники, постарались стереть имя отовсюду, где только возможно. Но этого им оказалось мало. Они боятся Его даже мертвого, иначе бы не вынесли из Мавзолея. Тайком! Яко тать в нощи. А.К.[5] любил повторять, что любое гнусное дело можно сделать двояко — по-людски и нет. Они сделали свое дело совсем не по-людски.
Я чувствую, что должна что-то сделать. Пусть мои воспоминания станут моим личным памятником Ему. Моим личным памятником Человеку, которому я обязана столь многим. Моим личным памятником преданному вождю.
Справедливость торжествует всегда. К сожалению, мы не всегда успеваем дождаться ее торжества. Но поздно не означает никогда. Я по многу раз на дню переношусь в прошлое. Можно сказать, что чем старше становлюсь, тем больше живу воспоминаниями. Наверное, это все так. Теперь стану записывать то, что вспоминаю. Не все подряд, а «избранные места». По месяцам. Память у меня хорошая. Ролей никогда не приходилось заучивать подолгу. Прочту один раз, и достаточно. Но помнить все события тридцатилетней давности по датам, это даже моей памяти не под силу. «Не ленись! — говорила мне в детстве мама. — Что не сделаешь в свое время, все равно придется делать потом». В свое время я не вела дневника. Никогда не было потребности доверять что-то бумаге. События моей жизни не казались мне заслуживающими увековечения, другое дело — роли. Но роли мои и без дневника «стали частью вечного», как шутит Г.В.[6] Никогда не вела дневника, так теперь вот придется писать мемуары, чтобы отдать долг памяти человека, которого сейчас всячески стараются забыть. Наивные люди! Это их забудут на второй день после отставки или смерти, как забыли Молотова, Маленкова, Кагановича, Булганина и прочих. А Сталина помнят и будут помнить всегда.
И может быть, кто-то когда-то смахнет пыль с моей ветхой тетради и вспомнит слова моего любимого поэта Тютчева:
Как этого посмертного альбома
Мне дороги заветные листы,
Как все на них так родственно-знакомо,
Как полно все душевной теплоты!
Как этих строк сочувственная сила
Всего меня обвеяла былым!
Храм опустел, потух огонь кадила,
Но жертвенный еще курится дым.
Январь 1935-го
Почти ко дню рождения (лучше раньше, чем позже, и лучше позже, чем никогда) я получила подарок — превратилась из обычной артистки в заслуженную. Положим, «обычной» и тем более «рядовой» я никогда не была. Для актрисы нет худшего оскорбления, чем «обычная», «рядовая», «простая», ведь все эти слова грани одного и того же слова — «посредственная». В.П.[7] предпочитает использовать выражения «актриса с маленькой буквы» и «актриса с большой буквы». Так, наверное, лучше.
В честь наших наград неделю шли застолья. Ограничиться одним было невозможно. Каждый день звонили новые люди, поздравляли, намекали на то, что «надо бы отметить». Хотелось бы верить, что хотя бы кто-то из поздравителей был искренен и на деле разделял нашу радость. Увы, наверное, только мы с Г.В. были искренни, поздравляя друг друга.
Г.В. не любит, когда его отвлекают от чего-то, будь то съемки или беседа с гостями, поэтому к телефону подходила я. Очередной звонок. Хотелось бы написать, что он прозвучал как-то необычно, особенно звонко, или что сердце мое вдруг начало биться чаще, но ничего такого не было. Самый обычный звонок. Звонили нам в то время раз по пятьдесят в день.
— Здравствуйте, — послышался в трубке приятный мужской голос. — Это квартира заслуженной артистки Орловой?
— Да, это квартира заслуженной артистки Орловой, — подтвердила я, с особенным удовольствием произнося вкусное слово «заслуженной», и, спохватившись, поздоровалась.
Голос был мне незнаком, но я никогда не спрашиваю, кто звонит. Это еще более бестактно, чем вести разговор, не представившись.
— С вами будет говорить товарищ Сталин, — сказал мой собеседник. — Не отходите от телефона и не кладите трубку.
Предупреждение показалось мне излишним. Как я могу отойти от телефона или положить трубку, если знаю, что со мной будут разговаривать?
Товарищ Сталин?! В квартире было шумно, и я подумала, что ослышалась. Может, Свердлин[8]? Он тогда играл у Мейерхольда, почти не снимался, но мы были знакомы, и Г.В. хотел снять его в одной из будущих картин. В результате снял в «Цирке» в эпизодической роли зрителя из Средней Азии и тем самым вывел, как принято говорить, «на большую киношную дорогу».
Но разве Свердлин стал бы звонить так, с помощью другого человека? Секретарей актерам не положено. Розыгрыш? Чей? Розыгрыши среди актеров не редкость, но все знают мою нелюбовь к ним, и никто меня не разыгрывает. Да еще таким беспардонным образом!
— Здравствуйте, Любовь Петровна! — по телефону Его голос звучал совсем иначе, но тогда мне еще не с чем было сравнивать. — Мы с товарищами поздравляем вас и желаем дальнейших успехов. И Григорию Васильевичу передайте наши поздравления. Ждем от вас новых достижений.
Возможно, Он сказал это другими словами, но смысл был таков. Слов я досконально не запомнила, настолько была ошеломлена. Слово в слово помню только последнюю фразу.
— Спасибо, товарищ Сталин, спасибо… — лепетала я.
— Плохо, что мы до сих пор не знакомы. Надо бы это исправить, — сказал Он и добавил после небольшой паузы (Он вообще любил делать паузы в речи): — До свидания, Любовь Петровна.
Это обычное и совершенно естественное «до свидания» прозвучало как «до скорого свидания». Не знаю почему, не скажу откуда, но именно такое мнение сложилось у меня.
Я никому не сказала о звонке, кроме Г.В. Зачем объявлять гостям, что мне сейчас звонил Сталин? Это выглядело бы бахвальством, а я ненавижу бахвальство во всех его проявлениях. Г.В. я передала поздравления, когда все гости разошлись. Он, как мне показалось, немного расстроился, что ему не довелось поговорить со Сталиным лично. Г.В., как и все творческие натуры, очень чувствителен и ревнив к чужой славе. Если в наших с ним отношениях где и присутствует ревность, то это место — слава. Когда Г.В. начал вспоминать свою встречу со Сталиным на даче у Горького, я выразительно посмотрела на часы. У нас это называется «каменный» взгляд, когда не просто смотришь в одну точку, но и замираешь всем телом. Получается крайне выразительно, особенно в кадре. Г.В. знает, что я не люблю слушать по сто раз обо одном и том же, и знает, как я устаю от гостей. Мало кто из людей бывает приятен настолько, чтобы в общении с ним можно было избежать напряжения, не думать постоянно о том, что сказать и как отвечать. Большинство же только и норовит укусить, ужалить, подпустить шпильку. Половина гостей говорила мне: «Любочка, наконец-то вас оценили по достоинству», а другая половина: «Любочка, какая вы счастливая, что вас заметили и оценили». Никто не сказал просто и честно, что разделяет мою радость. Обязательно хотели указать на то, что мне просто повезло или что обо мне наконец-то вспомнили. Повезло? Везения у меня всегда было на грош, а вот усердия на три рубля с полтиной. Как будто все приходит само собой, падает с неба! От природы могут достаться способности, но вот что выйдет из этих способностей, зависит только от их обладателя. Легче всего завидовать, поскольку это занятие не требует никаких усилий, ни душевных, ни физических, и сваливать свои неудачи на невезение или отсутствие нужных связей. «Ах, у Орловой муж режиссер, кого ж ему снимать, как не ее?!» Очень легко и просто объяснить успех актрисы ее замужеством за режиссером. А о Г.В. те же самые злопыхатели говорят: «Орлова, как жена, снималась только у него, и оттого его фильмы так популярны». Все спишут на что-то злые языки. Всему найдут гаденькое объяснение. Тошнит от таких «друзей»! Будь моя воля, так я общалась бы только с избранным кругом, пусть в нем два-три человека, но что с того. Однако нельзя. Скажут, что я окончательно зазналась. Меня и без того считают зазнайкой, потому что я знаю себе цену и не скрываю этого. К тому же наша жизнь устроена так, что без многих полезных людей просто не обойтись. Вот и приходится «блистать в обществе», а потом расплачиваться за это приступами мигрени. Странно, но, сколько бы я ни выступала перед зрителями, от общения с ними голова моя никогда не болит. Я могу устать физически, но душевный подъем от такого общения перекрывает эту усталость. Потому что это совсем другое — одна сплошная любовь, никакой злобы, никакой зависти, никакой ненависти. Я люблю зрителей, зрители любят меня, нам хорошо вместе.
«Хорошо» может быть разным. Это понятие имеет множество оттенков. Я воспринимаю чувства и настроения в цвете. Это мой маленький секрет, из которого я, собственно, никогда секрета не делала и не делаю. Очень сильно помогает в работе над образами. Стоит только «разложить» образ по цветам, как сразу же почувствуешь его весь, объемно, детально. Взять, к примеру, Анюту и Марион. У Анюты основной цвет оранжевый. Она яркая, словно апельсин, иногда аж смотреть больно, глаза режет. Порывистая, непосредственная, может быть и застенчивой, и робкой. Там еще много цветов, но долго все описывать, да и ни к чему. Я же для наглядности. А вот Марион — голубая, сдержанная. Она может даже показаться холодной. Но в глубине этой голубой холодности пульсирует красным ее сердце. И еще там лиловое — страх. Страх за ребенка, страх перед негодяем Кнейшицем, страх жизни в новой, незнакомой стране. Г.В. всегда восхищается тем, как я сыграла Марион. Говорит, что совершенно не узнает меня, настоящую, в этой роли. Наверное, это высшая похвала, которую жена-актриса может услышать от мужа-режиссера.
С Г.В. мне хорошо, но это хорошее спокойных тонов, ближе к розовому. Мы друзья и партнеры. А вот с Ним мне тоже было хорошо, но это уже было буйство красок. Багряный с золотым, и все переливается, пульсирует, живет. Невероятное по остроте ощущений чувство — быть рядом с великим человеком. Непередаваемое, неописуемое. Дело не в том, что ты постоянно ощущаешь его величие. И не в том, что на фоне его проблем твои собственные кажутся такими крошечными, прямо ничтожными. И не в том, что вам очень редко удается побыть наедине, а в том, что, взявшись за руки, прогуляться по ночным бульварам нельзя даже и мечтать. Я очень люблю гулять по бульварам ночью, когда там нет никого, только звезды и редкие милицейские патрули. Так приятно держать Г.В. под руку, идти и смотреть на звезды. Умение любоваться звездами очень важно. Для меня это один из главных признаков вкуса и умения понимать прекрасное.
Впрочем, не в звездах дело. И не в величии. Дело только в любви.
Со всем пристрастием, на которое я только способна, я спрашиваю себя: была ли между нами любовь? Или то было что-то другое? Приязнь? Взаимный интерес? Многое может быть между мужчиной и женщиной.
Сама спрашиваю и сама же отвечаю: была любовь. Она и сейчас живет в дальнем уголке моего сердца. А еще были восхищение и уважение. Г.В. я тоже восхищаюсь и уважаю его безмерно, но то было совершенно иное чувство. Ничего подобного я больше никогда не испытывала и вряд ли уже испытаю.
Любовь — это чудо, настоящее чудо. Как верно сказал поэт: «Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в чудеса»[9]. О любви столько сказано, столько написано, столько спето, что мне нечего добавить. Мама в детстве говорила мне: «Тебя назвали Любовью, и любовь будет сопутствовать тебе всю жизнь». Порой мне кажется, что лучше бы меня назвали Надеждой. Но что толку так думать? Назвали, так назвали, имя не дата рождения, его так вот просто не исправишь, уж слишком много всего с ним связано. Впрочем, мое имя всегда мне нравилось, а уж после того, как я его прославила, стало нравиться еще больше. Про Надежду это я так просто, кокетничаю сама с собой.
На следующий день Г.В. рассказал про сталинский звонок Эйзенштейну, своему бывшему другу. Их отношения окончательно охладели после выхода на экран «Веселых ребят», и виноват в том был Эйзенштейн, и только он один. Причем провинился он на свой манер, по-эйзенштейновски, иначе и не скажешь. Ради того чтобы побольнее пнуть Г.В., не пожалел даже себя. Впрочем, нет — это он кокетничал, бравировал тем, какой он прогрессивный. Но сделал все тонко, надо отдать ему должное. Унизил, уязвил, оскорбил Г.В. (в какой-то мере и меня тоже, но я тут так, сбоку припека), ухитрившись не сказать о нем ни слова.
История давняя, многими (ни я, ни Г.В. в их число не входим) уже забытая, поэтому вкратце расскажу о ней. Только для того, чтобы возможный читатель моих записок (не уверена, что не сожгу их по примеру Гоголя и прочих) понял, о чем идет речь. А то легко можно будет решить, что я к этому времени выжила из ума, и тогда не будет доверия ни к одному моему слову. Не сказал ни слова, но унизил — это как? Возможно ли такое?
Возможно. При определенных обстоятельствах возможно почти все. В 1934 году было снято несколько звуковых картин — «Чапаев», «Веселые ребята», «Гроза»… Первая звуковая картина, «Путевка в жизнь», была снята еще в 1931-м. Эйзенштейн написал для «Литературной газеты» очень бодрую статью (он вообще все делал очень бодро) под бодрым названием «Наконец!». Да, вот так, с восклицательным знаком. Статья эта была опубликована на второй странице (что само по себе показательно). Смысл ее был таков — наконец-то советский кинематограф разродился хорошим фильмом. Речь шла о «Чапаеве». Картина хороша, безусловно хороша, и никто с этим не спорит. Но нельзя же говорить, что, кроме этой картины, в советском кино больше ничего хорошего нет. Это неправильно. На «Чапаеве» белый свет клином не сошелся. Г.В. был очень оскорблен. Эйзенштейн отомстил ему за творческую самостоятельность, за умение настоять на своем. В начале создания «Веселых ребят», еще на уровне написания сценария, Эйзенштейн помогал Г.В., но помогал своеобразно, тоже по-эйзенштейновски. Не предлагал, а настаивал. Не советовал, а навязывал. Г.В. какое-то время терпел, а потом заметил, что снимать картину доверили ему, что он несет ответственность за весь процесс и станет поступать по своему усмотрению. Произошла безобразная сцена с криками, оскорблениями, демонстративным разрыванием написанного черновика в мелкие клочья и т. п. Г.В. после признался мне, что только благодаря его выдержке дело не дошло до драки (такое у них дважды случалось). Ругать «Веселых ребят» после такого скандала означало открытое сведение счетов и попахивало предвзятостью. Поэтому Эйзенштейн решил унизить Г.В., всячески превознося и возвеличивая работу «братьев»-однофамильцев Васильевых, которые, к слову будь сказано, все его «советы» принимали без возражений. Даже тогда, когда они шли во вред картине. Чего стоит сцена с денщиком, который, стоя перед полковником со связанными руками, пытается поднять с полу уроненный полковником платок. Великолепная сцена, показывающая, насколько укоренилось в денщике холуйское начало! Она могла бы стать классической, если бы Васильевы не выбросили ее по указанию Эйзенштейна. Он, видите ли, решил, что это слишком. Да, слишком! Слишком хорошо! Г.В. прав, когда говорит о том, что ни один консультант или советчик не может смириться с тем, чтобы его хоть в чем-то превзошли. Поэтому лучше обходиться без советчиков.
Но справедливость восторжествовала — в тот же день, одновременно с эйзенштейновской статьей, «Веселых ребят» похвалили в другой газете, но в какой! В самой главной газете, в «Правде»! Одно хорошее слово в главной советской газете стоит десяти статей в других. Эта статья особенно дорога мне тем, что в ней нашлось доброе слово и для меня лично. Я вырезала ее и наклеила в альбом, который украли вместе с чемоданом весной 1942 года, во время нашего переезда из Алма-Аты в Баку. О вещах, которые лежали в том чемодане не жалею, а вот альбома мне жаль. Долгое время ждала, надеялась, что, узнав, кого обворовал, вор вернет если не весь чемодан, то хотя бы альбом. Но напрасно надеялась, альбома так и не вернули. Г.В. потом хвалил меня за предусмотрительность, за то, что я не сложила все яйца в одну корзину (любимая его фразочка, привезенная из Америки). Иначе говоря, хвалил за то, что все четыре альбома с вырезками и фотографиями я разложила по разным чемоданам и в результате лишилась только одного из них. На самом деле альбомы у меня основательные, в кожаных переплетах, с «вечными» страницами из толстого картона, и чемодан с четырьмя ими был бы просто неподъемным. По мнению Г.В., именно переплет из настоящего сафьяна и мог стать причиной того, что вор не вернул альбом. Содрал кожу для своих нужд, а остальное выбросил, не возвращать же в таком виде.
Г.В. не мог не рассказать Эйзенштейну о таком важном звонке, вот и рассказал. Эйзенштейн поделился новостью с кем-то еще, и к следующему вечеру все уже знали об этом. Подающий надежды оператор Б.А. пришел к нам и с порога завел жалобные речи о своих крайне стесненных бытовых условиях. М.П.[10]высказала мне свою обиду. Сыграла, дескать, более значимую роль, а признания не получила. Я ей на это заметила, что значимость роли определяется не количеством реплик. Обменялись шпильками и разошлись. Примечательно, что, поздравляя меня с «заслуженной», М.П. шпилек не подпускала. Звонок для всех значил больше, чем награда.
Г.В. предсказал, что признание наших заслуг не угомонит, а только сильнее раззадорит завистников, и оказался совершенно прав. Он предсказывает обдуманно, опираясь на богатый жизненный опыт и великолепное знание людей, поэтому его предсказания почти всегда сбываются. Спустя месяц «Литературная газета» вновь «отличилась». Там был опубликован пасквиль, обвинявший создателей фильма ни много ни мало как в плагиате. Пасквиль вызвал целый шквал подобной же пошлой и грязной «критики». Злобствовали многие, я до сих пор помню все имена, но особенно отличился В.Я.[11], человек, постоянно менявший кожу, словно змея. Он написал огромную статью в которой разобрал «Веселых ребят» буквально по косточкам и «доказал», что все трюки взяты из западных капиталистических комедий. По некоторым признакам Г.В. угадал соавторство Эйзенштейна, имени которого под статьей не значилось. То было не простое обвинение в плагиате. Заимствования из капиталистических картин преподносились автором (или авторами) как политически незрелые и даже вредные. Досталось в статье и Б.З. [12], которого «уличили» в непрофессионализме. Руководит, мол, советским кино, совершенно не зная западного, азов, так сказать. И это В.Я.! Человек, считавшийся если не другом, то, во всяком случае, добрым нашим знакомым! Человек, которому Г.В. помог получить квартиру в доме писателей[13]! Г.В. просил за него Горького. И вот такая черная неблагодарность! Разумеется, после выхода этой статьи В.Я. перестал для нас существовать, и имя его больше никогда в нашем доме не упоминалось.
Ну а о том, что из Америки он привез десять чемоданов книг, а Г.В. — десять чемоданов костюмов, Эйзенштейн без стеснения говорил буквально на каждом углу, при любом удобном случае. Говорил, прекрасно понимая, что лжет. Но это было так образно, немного гротескно и очень язвительно. В его духе.
Была создана специальная комиссия по «Веселым ребятам». Вышла новая статья в «Правде», которая положила конец нападкам. Г.В. сказал мне, что в полемику вмешался Сталин, называвший «Веселых ребят» доброй и веселой картиной. Я решила, что при первой же возможности поблагодарю Сталина за это. Хотела даже написать письмо, но потом передумала, потому что это показалось мне бестактным, чересчур… не то чтобы фамильярным, но в какой-то мере да, фамильярным. К тому же не было уверенности, что Он прочтет мое письмо, ведь столько должно ежедневно приходить писем, что их разбирают и читают помощники, докладывая только о самом важном. Так и не написала. Но дала себе слово непременно поблагодарить Его, если мне представится такая возможность. И она представилась, правда, не сразу, не так скоро, но представилась.
Март 1935-го
В Москве прошел первый советский кинофестиваль. Международный и весьма представительный! Пусть для начала в нем приняло участие не так уж много стран, но среди них были Франция, Англия, Италия, Соединенные Штаты, Чехословакия и даже Китай. Китайское кино в ту пору только начало становиться на ноги, делало первые шаги. Но шаги эти были довольно впечатляющими. Китайский режиссер, трудное имя которого моя память не сохранила, привез на фестиваль очень хорошую картину «Песня рыбака», в которой рассказывалось о тяжелой доле бедной семьи рыбаков. Я, помнится, очень расстроилась, когда жюри предпочло дать приз не «Песне», а «Последнему миллиардеру» Рене Клера. На мой взгляд, это решение было совершенно необоснованным как с точки зрения искусства, так и с политической. Тогда я еще считала, что не слишком хорошо разбираюсь в кино, что более опытным товарищам виднее. Председателем жюри был Эйзенштейн, и в спорных вопросах его голос оказывался решающим.
Фаворитом фестиваля, разумеется, стал «Чапаев». Эта картина совершенно затмила «Юность Максима». Помню, как Г.М. и Л.З.[14] сокрушались по поводу того, что не сняли «Юность» годом раньше, тогда бы, по их мнению, картине досталось бы больше славы. Смешно было наблюдать за этими стенаниями. «Юность» тоже получила главный приз — чего же еще можно было желать? Но должна признаться, что эта картина проигрывала «Чапаеву» по всем статьям. Г.В. тоже так считает. И не только он, это общее мнение.
Стенаний вообще было много. Сказочник А.Л.[15] сильно переживал, что его «Гулливеру»[16] досталась всего лишь почетная грамота. Он сильно надеялся на приз, но приз дали Уолту Диснею (не исключаю, что это было сделано с подачи Эйзенштейна). «У меня куклы, целый полк кукол играли с живыми актерами, а там всего лишь картинки», — горько говорил А.Л.
Но, как бы то ни было, кинофестиваль всегда праздник. Особенно если это первый международный кинофестиваль. Помню, как волновались все мы, включая и тех, кто не имел отношения к организации фестиваля. Удастся ли? Не сорвется ли? Приедут ли иностранные гости? Все ли пройдет так, как надо? Не хотелось ударить в грязь лицом, ведь на карту был поставлен не только престиж советского кино, но и престиж нашей страны в целом.
Идея проведения фестиваля принадлежала Сталину. Это не оглашалось вслух, считалось, что идея коллективная, но все это знали. Вначале планировалось, что фестивали будут проводиться раз в два года. Ежегодное проведение сочли нецелесообразным, слишком частым. Велик был риск того, что будет представлено недостаточно картин для полноценного выбора. Но больше фестивалей не проводилось вплоть до недавнего времени[17]. Догадок по этому поводу существует много, но мне известна истинная причина. После фестиваля в американской прессе была развернута грязная клеветническая кампания. Создатели картин, оставшихся без приза на нашем фестивале (их было несколько таких), обвинили жюри в предвзятости, основываясь на том, что главный приз получили три советские картины. Получили совершенно заслуженно, поскольку превосходили остальные картины, но недаром говорится, что язык без костей, сказать можно что угодно. Кампания была шумной. Кто-то из сотрудников наркомата иностранных дел сделал доклад Сталину по этому поводу. Обстоятельный доклад, с цитатами из американских газет. Сталин рассердился и решил пока больше фестивалей не проводить. «Своих мы найдем, как отметить и чем наградить», — сказал он.
Вскоре после окончания кинофестиваля в Кремле состоялся прием, на который были приглашены многие работники кино. Из членов правительства присутствовали Сталин, Калинин, Молотов, Каганович и Микоян, недавно ставший членом Политбюро. Короткой речью открыл прием Сталин, затем слово перешло к Б.З., который, в отличие от Сталина, говорил долго, многословно. Не только о кино говорил, но и о политической обстановке и о разных других делах, не имевших отношения к кино, вплоть до готовившейся отмены карточек. Наконец, поняв, что изрядно утомил всех присутствующих, Б.З. свернул свое выступление буквально на полуслове. Очень коротко выступил Эйзенштейн, еще кто-то ненадолго взял слово, а потом уже от речей перешли к тостам. Г.В. шепнул мне на ушко, что речи способствуют разжиганию аппетита лучше любой прогулки. Эти слова, несмотря на то, что они были сказаны очень тихо, услышал один режиссер, сидевший слева от Г.В., и укоризненно покачал головой. Я легонько толкнула Г.В. локтем, давая понять, что шутки лучше оставить на потом. Мало ли как можно извратить или переврать самую невинную фразу. Г.В. никогда не позволял себе говорить лишнего, но ведь, как говорил Немирович-Данченко, «дело не столько в смысле, сколько в интерпретации».
Мне тоже пришлось сказать тост. К сожалению, я не могла поблагодарить в нем Сталина за защиту «Веселых ребят». Это было бы неуместно, ведь прием посвящен кинофестивалю, и вдобавок неделикатно, поскольку за длинными столами, составленными покоем (это выражение у меня от мамы, она никогда не скажет «в виде буквы «П», а только «покоем»), сидели те, кто нападал на нашу с Г.В. картину. Выглядело бы так, словно я подливаю масла в огонь и затеваю склоку. Поэтому я предложила выпить за дальнейшие успехи советского кино и за то, чтобы картин у нас снималось как можно больше.
— А Ленин говорил, что лучше меньше, да лучше, — сказал Сталин.
Тон его был серьезным, и выражение лица не позволяло заподозрить, что он шутит. Скорее можно было предположить, что Сталину захотелось осадить меня. Умерьте, мол, свой пылкий энтузиазм, Любовь Петровна, угомонитесь. Большинство так и поняло. Многие смотрели на меня с ехидцей, а в некоторых взглядах сквозило откровенное недружелюбие.
Г.В. едва заметно нахмурился, выражая недовольство моей оплошностью. Он всегда переживает, если у меня что-то получается не так. По-мелочи или по-крупному, все равно переживает.
Повисла пауза. Все молчат, даже жевать перестали, и смотрят на меня. Ждут, что будет дальше. К бокалам никто не притрагивается, потому что Сталин не спешит поднимать свой.
— «Лучше меньше, да лучше» — это лозунг начала двадцатых годов, — замирая внутренне от собственной дерзости, сказала я. — А в наше время надо и лучше, и больше!
Ничего умнее не придумала, но, несмотря на смятение, смогла ответить звонко, задорно, боевито. Не мямлила.
Тишина стала уже не просто тишиной, а какой-то давящей. Делать было нечего, тост сказан, надо выпить. Медленно, не глядя ни на кого, я поднесла свой бокал к губам. Щеки мои горели, сердце стучало в груди как кузнечный молот.
Я не успела сделать глотка, как все, как один, дружно встали, взяли бокалы и начали пить. Скосив глаза, я встретилась взглядом со Сталиным, который пил из своего бокала. Мне показалось, что он улыбается, хотя улыбки не было видно. Усы и бокал скрывали ее. Но по взгляду ведь тоже можно понять, что человек улыбается.
— Товарищ Орлова права! — сказал Сталин, ставя на стол опустевший бокал. — Времена меняются, и то, что годилось вчера, сегодня уже не подходит. Мы, советские люди, максималисты. Нам не пристало довольствоваться малым. Нам подавай как можно больше. И лучше!
Все зааплодировали. Я тоже аплодировала. Когда мы сели, Г.В. одобрительно подмигнул мне — молодец, с честью вышла из трудного положения. От волнения у меня разболелась голова. Есть я уже не могла, потому что вместе с головной болью подступила тошнота. Заставляя себя улыбаться, я просидела еще немного за столом, а потом тихонечко встала и вышла. Г.В. собрался было проводить меня, но я шепнула ему, что все хорошо и провожать меня не надо.
Впрочем, без провожатого я не осталась. Стоило мне выйти, как ко мне подошел чрезвычайно любезный человек в военной форме и проводил меня туда, куда мне было надо. Без него бы я заблудилась в незнакомом месте. Приведя себя в порядок, я вышла в коридор и немного удивилась, увидев вместо своего провожатого другого военного, пониже ростом и пошире в плечах.
— Товарищ Орлова! — громко сказал он. — С вами хотят поговорить. Я вас провожу.
— Кто? — спросила я, морщась от громкого голоса, прокатившегося гулким эхом по пустому коридору.
Не люблю шума, а уж когда голова разболится, то и подавно.
Он все понял и продолжил много тише:
— Сейчас вы все узнаете, товарищ Орлова. Пройдемте, это рядом.
Оказалось не совсем рядом. Во всяком случае, шли мы долго, дважды или трижды сворачивая. Мой спутник шагал впереди, то и дело оглядываясь, словно проверяя, иду ли я за ним. Мне почему-то подумалось, что со мной хочет поговорить наш «главком кино» (выражение Г.В.) Б.З. Сама не знаю, почему я так придумала, но вот придумала. Наверное, потому, что за столом несколько раз ловила взгляд Б.З., устремленный на меня. «Главком кино», несмотря на то что Г.В. имел о нем весьма невысокое мнение, был тогда в моих глазах большим начальником, вершителем судеб. Разумеется, я снова разволновалась, виски заломило, как будто их сдавило щипцами. Я терпела. А что еще делать? Терпеть, стиснув зубы, терпеть и не забывать улыбаться при этом. Стиснуть зубы и улыбаться.
Он привел меня в небольшую, скромно обставленную комнату. Кажется (уже не вспомню точно, да и не важно это), кроме трех кресел, стоявших вокруг небольшого круглого стола, там ничего не было. На столе стояла чугунная пепельница в виде листа. Я люблю все красивое, а пепельница эта была просто шедевром литейного мастерства. Лист выглядел, словно живой, мастер даже тончайшие прожилки на нем сделал. Я взяла пепельницу в руки и стала рассматривать.
Звук распахнувшейся двери застал меня врасплох. Я едва не выронила тяжелую пепельницу. Поспешно поставила ее на стол и хорошо, что поспешила, иначе бы непременно уронила ее. Почему непременно уронила бы? Потому что вместо ожидаемого мной Б.З. в комнату вошел Сталин.
Я вскочила и замерла, вытаращив глаза. Он шел ко мне, дверь за Его спиной закрылась сама собой. Подойдя к свободному креслу, он улыбнулся и сказал:
— Давайте присядем, Любовь Петровна. В ногах, как известно, правды нет. Правда вся в головах.
Я послушно села и попыталась взять себя в руки. Зажмурилась на мгновение и ущипнула себя за руку, проверяя, не сплю ли я. А когда открыла глаза, то увидела, как Сталин набивает трубку. Вспомнила о том, что хотела сказать Ему, поняла, что лучший случай вряд ли представится, и выпалила:
— Товарищ Сталин! Огромное вам спасибо за все, что вы для нас сделали! Без вашей помощи картина «Веселые ребята» была бы похоронена заживо!
— Зачем хоронить такую нужную, хорошую картину? — услышала я в ответ. — Не только мне одному она нравится. Всем членам нашего Политбюро нравится, народу нравится. Последнее слово всегда за народом.
Пока он раскуривал трубку, возникла пауза.
— Ваш сегодняшний тост, Любовь Петровна, я расцениваю как серьезное и очень ответственное заявление. Как можно больше хороших картин! Может быть, нам с товарищами стоит посоветоваться по поводу того, чтобы назначить вас начальником Главного управления кинопромышленности?
Все, кто имел отношение к кино, знали, что Сталин и Б.З. недолюбливают друг друга. Были у них в прошлом какие-то трения. Но Сталин никогда не позволял себе пренебрегать деловыми качествами человека. Мало ли, что были трения. Если человек может на этом посту приносить пользу стране, то пусть приносит. Подход умного, рачительного хозяина. Сталин был не только Вождем, но и Хозяином. Многие из окружения так называли Его за глаза. Он это знал и ничего не имел против.
Я смутилась. Не могла понять, серьезно ли говорит Сталин или шутит. Наконец выдавила из себя, что я не справлюсь и что мне больше хочется сниматься в кино, а не руководить им.
— Руководить тяжело, — согласился Сталин. — Но кто-то ведь должен делать это.
Помолчал, пыхнул трубкой и улыбнулся:
— Я пошутил, Любовь Петровна. Было бы непростительным расточительством запирать такую хорошую актрису в кабинете и загружать скучными начальственными делами…
Я облегченно вздохнула.
— Но задатки руководителя, настоящего руководителя, — продолжал Он, — у вас имеются. Вы верно чувствуете момент и умеете это выразить. Товарищу Шумяцкому стоило бы у вас поучиться.
Я смущенно улыбнулась. Он тоже улыбнулся и засыпал меня вопросами:
— Вам понравился фестиваль? А что понравилось больше всего? И т. д.
Вопросов было много, и чувствовалось, что Его в самом деле интересует мое мнение. В какой-то момент я поняла, что даже не столько мое мнение, сколько я сама. Это очень тонкое чувство — понимание того, что мужчина интересуется тобой как женщиной. Я говорю о понимании, которое возникает без признаний, без флирта, без каких-либо явных проявлений этой заинтересованности… Просто смотришь на человека и ощущаешь, как протянулась между ним и тобой тоненькая незримая ниточка.
Я была настолько ошеломлена происходящим, что не сразу разобралась в своих чувствах. У меня не было ни времени, ни возможности для того, чтобы в них разобраться. Вопросы сыпались один за другим, и все мое внимание было сосредоточено на них и на ответах. В глазах Сталина светился искренний интерес, и я очень боялась разочаровать Его, сказав необдуманно какую-нибудь глупость. А когда болит голова, глупость сказать совсем нетрудно.
Но не сказала, произвела хорошее впечатление. И чем дальше, тем больше, сильнее, отчетливее улавливала исходящие от Него «флюиды» (так сказала бы моя мама, увлекавшаяся в молодости, но недолго, произведениями Блаватской и прочей мистической белибердой).
Разговор был долгим. Сталин дважды набивал свою трубку. Под конец я так увлеклась, что позабыла о головной боли (или она прошла уже к тому времени?), совершенно раскрепостилась и, кажется, даже пыталась острить. Во всяком случае, пару раз мне удалось рассмешить Сталина. Разговор наш с кинофестиваля и кино перешел на другие темы. Ощущение было такое, что будто я разговариваю не с Вождем, а старшим товарищем или старшим братом. С умным, опытным, добрым человеком. Он ведь и был таким — умным, опытным, добрым. Это сейчас из Него пытаются сделать тирана, деспота, самодура. Увы, такова людская «благодарность»… Больно видеть! Больно слышать!
Пора было возвращаться на прием. На прощание Сталин сказал, что я интересный собеседник и что наш разговор непременно будет иметь продолжение. Я ничего не имела против. Он поинтересовался моими планами на ближайшее будущее. Ближайшим будущим было 8-е Марта, праздник, в который нам с Г.В. предстояло принимать гостей. Сталин тут же вспомнил слова Кости Потехина из «Веселых ребят»: «Что такой женщине Восьмого марта делать? Прямо зараз. Рук-то нету, голосовать нечем!» — и очень тепло попрощался со мной за руку. Он вышел первым. Поскольку наше прощание уже состоялось, мне было ясно, что не стоит выходить следом за ним, а надо выждать немного. Так я и сделала. В коридоре меня ждал широкоплечий военный. Он проводил меня до зала. Первое, что я увидела, войдя в зал, был встревоженный взгляд Г.В. Он обеспокоился моим долгим отсутствием. Дома я рассказала Г.В. о том, что разговаривала со Сталиным и что Сталин настолько хорошо знает «Веселых ребят», что к месту сразу же цитирует реплики из картины. Г.В. не успокоился, пока не выспросил у меня почти все подробности нашего разговора.
Ночью я долго не могла заснуть. Лежала с закрытыми глазами, но сон все никак не шел. Вместо сна меня одолевали мысли. Разные, светлые. Я то перебирала события минувшего дня, то принималась мечтать, то вдруг начинала укорять себя. Но разве можно укорять за то, что полюбила? (В покое ночной тишины я окончательно поняла это.) Любви покорны все возрасты, все сердца… Любовь прекрасна, и нет в нашей жизни большей ценности. Чем ценна жизнь, как не любовью? Заснула я лишь под утро. Плотные шторы не пропускали свет, циферблата часов не было видно, но у меня есть чувство времени. Внутреннее. Если оно и подводит меня, то не более чем на четверть часа.
Спала я мало, но, к своему удивлению, полностью выспалась. Утром встала бодрая, полная сил, окрыленная. Радость, а если говорить точнее, то предчувствие чего-то радостного, не покидала меня и в тот день, и в последующие дни.
Следующая наша встреча произошла уже после 8-го Марта. Утром вдруг раздался звонок. Обладатель выразительного баритона сообщил мне, что сегодня в половине одиннадцатого вечера за мной приедет машина, и спросил, где я буду в это время. Больше он ничего не сказал, но я и так все поняла. Я ответила, что буду уже дома, но попросила, чтобы машина ждала меня на бульваре, не сворачивая к нашему к дому. Помню, что на вопрос о марке и номере машины мне ответили: «Не волнуйтесь, вас узнают».
Весь день прошел как на иголках. Чем бы я ни занималась, думала я только о предстоящей встрече. Вечером битый час простояла перед зеркалом, меняя наряды, хотя подобное поведение мне совершенно несвойственно. Я заранее решаю, что мне надеть, продумываю все детали вплоть до брошки или бус. Это существенно экономит время. Но в тот день в голове моей был такой сумбур, что продумывать я ничего не могла. Наконец определилась, собралась и в десять двадцать пять вышла из дома. Медленным шагом дошла до бульвара и увидела ожидавшую меня машину. В том, что она ждет именно меня, не было никаких сомнений, потому что из нее вышел мужчина, поздоровался со мной, назвал по имени-отчеству и распахнул передо мной заднюю дверь.
Меня привезли на загородную дачу и провели на второй этаж, в кабинет Сталина. Он что-то писал, сидя за столом. Увидев меня, отложил перо и вышел мне навстречу.
Наше рукопожатие непонятным для меня образом перешло в объятие. От его кителя приятно пахло одеколоном и табаком. Будучи не в силах сдержать обуревавшие меня чувства, я разрыдалась, хотя повода для слез не было никакого. Он понял мое настроение, не удивился, не стал задавать вопросов, а усадил, погладил по голове и сказал, что сейчас мы будем пить чай. Когда чай принесли, он, не спрашивая, добавил в мой стакан немного коньяку из графина, положил сахару, размешал и сказал, что «чай хорош, пока горяч». Пока мы пили чай, Сталин хвалил загородную тишину, свежий загородный воздух и говорил о том, как хорошо ему здесь работается.
Потом произошло то, что должно было произойти… Никогда еще за всю свою жизнь я не была так счастлива, как тогда.
Как же ужасно говорить о счастье в прошедшем времени! Увы, время вспять не повернуть. А так иногда хочется… Только память может ненадолго вернуть нас в прошлое, может помочь пережить ушедшее заново. Закрываю глаза, начинаю вспоминать и так увлекаюсь, что не обращаю внимание на слезы. В последнее время я часто плачу, когда меня никто не видит. Стала весьма щедра на слезы.
* * *
Сильно ли изменилась моя жизнь после марта 1935 года? Смотря с какой стороны посмотреть. С одной стороны, конечно же, изменилась, потому что ее озарило (пишу это слово, не боясь преувеличений, поскольку никаких преувеличений нет — то было именно озарение) светлое чувство любви. Открою секрет — я всегда очень осторожно влюблялась. Не то чтобы не позволяла себе влюбляться, сдерживала чувства или как-то еще ограничивала себя, нет. Просто мне не свойственны безумные порывы. Я человек трезвых взглядов и всегда смотрю на все трезво. Очертя голову бросаться в омут — это для меня неприемлемо. Я могла влюбляться быстро, но все равно делала это осторожно. Другого слова и не подберу. Рассматривала своего избранника со всех сторон. Пыталась составить целостное впечатление, понимала, что в каждом человеке есть не только хорошее, но и плохое. Я никогда не идеализировала тех, кого любила. Я была осторожной. Может, подобный рационализм в какой-то мере и обедняет жизнь, лишая ее чего-то яркого. Не знаю. Может, и обедняет. Но зато предохраняет от разочарований. Все, и людей, и явления, надо принимать такими, какие они есть на самом деле. Слова «не сотвори себе кумира» имеют гораздо более глубокий смысл. Дело-то приходится иметь не с сотворенным кумиром, не с образом, созданным своим воображением, а с живым человеком. Многогранным. Разносторонним. Разным.
Я очень осторожный человек. Во всем. Не столько расчетливый, сколько осторожный. Это свойство я получила не от рождения. Его привила мне жизнь. Привила достаточно рано. Многое пришлось пережить. Если кто-то думает, что мой жизненный путь был усыпан розами, то сильно ошибается. Шипов на нем было гораздо больше, чем роз. Много больше. Ничто в жизни не дается просто так, без усилий. Но и не бывает так, чтобы усилия оказались бесплодными. Если, конечно, это настоящие, самоотверженные усилия, серьезный труд. Когда я только начала получать письма от зрителей (и еще не успела привыкнуть к тому, что мне пишут совершенно незнакомые люди), то меня очень удивило мнение посторонних людей об актерской профессии. В представлении многих это какая-то сказка — аплодисменты, цветы, красивые наряды. Мне так и писали: «Хочу стать актрисой, хочу жить в сказке». Мало кто, кроме самих актеров, знает истинную сущность актерства, понимает, какой это тяжелый труд.
Но я отвлеклась. Не о труде сейчас речь, а о тех чувствах, которые я испытывала к Сталину. Несмотря на весь мой рационализм, тогда мне было очень сложно разобраться в себе. Любовь к Нему завладела мной всецело. Никакой осторожности, никакой оглядки. Только любовь. Любовь!
Почему так случилось? Ведь я уже была не юной девочкой, а взрослой женщиной. Впоследствии я много думала об этом и пришла к выводу, что у любви, вспыхнувшей в моем сердце, была основа, некий «фундамент». Этой основой были уважение, восхищение и чувство признательности. Зерно любви (ах, как цветисто хочется выражаться сегодня!) упало в подготовленную почву и тут же дало всходы. На самом деле я влюбилась в Сталина гораздо раньше, на расстоянии, а когда поняла, что это «далекое» чувство может стать «близким», то буквально потеряла голову от счастья. Действительно потеряла на какое-то время. Ходила сама не своя, старалась, чтобы никто этого не заметил, придумывала разные отговорки. Мама (разве что-то можно скрыть от матери?) обеспокоилась и дважды подступалась ко мне с расспросами.
Каким бы ни было мое тогдашнее состояние, я понимала, какое доверие мне оказано. Любовь Вождя не просто любовь, но и доверие. Такие люди не могут допустить в свой «ближний круг» человека, недостойного их расположения. Слишком велика может быть цена подобной ошибки. Если Сталин проявил свои чувства ко мне, то это означало, что он мне всецело доверяет и, разумеется, злоупотребить этим великим доверием я не могла. Сознавала ответственность. Я очень ответственный человек. И никогда не обманывала чужого доверия, никогда никого не подводила.
К слову замечу, что от меня никогда не требовали никаких подписок о неразглашении тайн, да и в устной форме меня не предупреждали о необходимости хранить наши отношения с Вождем в тайне. Это было ясно и так. Зачем слова? Какие могут быть подписки? Может показаться странным, что я завела речь об этом, но я сделала это не просто так. Не называя имен, расскажу один случай.
В гостях у одного из друзей, замечательного режиссера и прекрасного человека, чья внешность полностью гармонирует с красотой его души, я встретилась с одной актрисой, в свое время (в довоенную пору) довольно известной, подававшей определенные надежды. Надеждам этим не суждено было сбыться, потому что их перечеркнуло легкомыслие. Я говорю «легкомыслие», поскольку не хочу выражаться более резко. В самом конце войны эта актриса оказалась замешанной в шпионаже, за что и была осуждена, провела десять лет в заключении, а потом была амнистирована. Впрочем, сама она утверждает, что никакого шпионажа не было, а была только любовь к иностранцу, американцу. Но за любовь у нас не судят. Мне ли этого не знать? В моей жизни тоже был роман с иностранцем, но это был роман и ничего больше. Он был не шпионом, а инженером, приехавшим работать в Советский Союз, хорошим, порядочным человеком. Наши взаимные чувства быстро прошли, и мы расстались. Никто не осуждал меня за этот роман, никто не обвинял и не арестовывал. Потому что мой друг был инженером, а не шпионом.
Мне не нравится эта актриса. Как человек не нравится, хотя и актриса она не из лучших, по молодости лет брала больше бойкостью, нежели талантом, а сейчас скатилась до проходных эпизодических ролей. Поговаривают, что главным источником дохода для нее является спекуляция и прочие сомнительные дела. Неприятная женщина. Она вульгарна, много пьет, много врет, любит распространять гадкие слухи. Неприятная личность. Не понимаю, как можно приглашать подобных людей в дом? Впрочем, понимаю. Наш друг-режиссер, о котором идет речь, человек очень добрый, деликатный, интеллигентный. Резкость несвойственна ему совершенно. Он не способен отказать кому-то от дома, закрыть дверь перед кем-то. Этим и пользуются бессовестные, наглые люди.
Итак, вечер, застолье в самом разгаре. Актриса, о которой я рассказываю, уже пьяна в стельку. А как же может быть иначе, если пить водку не из рюмок, а из бокалов для вина, да требовать всякий раз, чтобы налили «до краев»? Заплетающимся языком она вдруг начинает рассказывать очередную «правдивую» историю о своей жизни. Да такую, что все приходят в замешательство. Оказывается, она была любовницей Сталина, родила от него дочь, а осудили ее за «разглашение тайны», то есть за то, что она где-то проговорилась об этом.
— Мне следователь на первом допросе подписку мою в лицо ткнул! — несколько раз повторила она, перемежая слова иканием и грязной бранью. — Давала подписку о неразглашении государственной тайны?! Проболталась?! Получи свой четвертак[18]!
Ранее она утверждала, что дочь свою родила от того самого американца, а теперь вдруг заявляет такое! Да еще и подписку о неразглашении государственной тайны выдумала!
Хозяин поспешил увести ее в другую комнату, где уложил спать. Один из гостей высказался в том смысле, что, дескать, Сталин из прихоти сломал жизнь человеку. Я не выдержала (сказать мне хотелось много, да всего не скажешь) и заметила, что жизнь этой глупой и бессовестной женщине сломали водка, легкомыслие и жадность. Пока она не связалась с иностранной разведкой, у нее не было поводов жаловаться на жизнь. Она была известна, имела награды (орден, две Сталинские премии). При чем тут Сталин? Да разве бы стал Он, прекрасно разбиравшийся в людях, приближать к себе такую особу? Пьющую водку бокалами? Напивающуюся до свинского состояния? Уж мне ли не знать, как Сталин относился к тем, кто терял ум от пьянства. Он таких людей презирал, говорил: «Кто пьян да глуп, того больше бьют». Как можно опуститься до такой бессовестной лжи? Как можно менять отцов своей дочери словно перчатки? У нее же есть настоящий, законный отец. Приятно ли ему, приятно ли дочери слышать такое? Ведь кто-то непременно постарается, донесет, расскажет. А может, она и дома городит всю эту чушь, с нее станется.
Возмутительный, неприятный случай. Вечер был испорчен. Но больше всего меня в этой грязной лжи возмутила подписка о неразглашении государственной тайны. Бред! Сущий бред! Любовь не требует никаких подписок! Чего только не выдумают люди! И сколько такой вот чуши сейчас рассказывают про Него!
Наши встречи были нерегулярными. Мы могли несколько раз встречаться через день, а затем не встречаться месяц или больше. Иначе и быть не могло, ведь оба мы были очень занятыми людьми, хотя моя занятость не шла ни в какое сравнение с Его занятостью. У меня были съемки, репетиции, концерты — дела важные, но относительно небольшого масштаба. Судьба страны не зависела от моих решений. Уровень ответственности был несопоставим.
Я все понимала и не волновалась, когда в наших встречах наступал «продолжительный антракт». Понимала, что меня не забыли, понимала, что дела мешают нашим встречам. Скучала, конечно, и радовалась, когда раздавался долгожданный звонок. Наши встречи обычно происходили поздно вечером. «Поздно вечером» — с моей точки зрения, другие люди называют это время «глубокой ночью». Нескольких часов мне было мало. Очень хотелось провести вместе с Ним несколько дней, недель (на месяцы я даже в мечтах не замахивалась). Хотелось морского берега, долгих прогулок, неспешных бесед. Но, к сожалению, все это было неосуществимо. Ревновала ли я Его к работе? Никогда. Я все понимала. Я же не дура. Было очень приятно слышать, когда Он говорил, что в моем обществе не просто отдыхает, а начинает чувствовать себя молодым. Сталин не был щедр на комплименты, но зато ценность его комплиментов была огромна. От постоянного ношения изнашиваются не только одежда и обувь, но и слова. Комплименты, произносимые часто, становятся привычными, обыденными и уже совершенно не радуют. Или радуют, но очень мало.
Я была счастлива, и воспоминания об этом счастье согревают меня до сих пор.
* * *
Иногда Сталин пребывал не просто в хорошем, а в необыкновенно приподнятом настроении. К слову сказать, угнетенным, грустным я не видела его никогда. Он был настоящим мужчиной, а мужчинам не пристало распускаться. Да и женщинам, кстати говоря, тоже не стоит этого делать. Как бы плохо тебе ни было, бодрись! Соберись с силами и держи голову высоко. Стоит только опустить руки, как… Но я хочу написать не об этом, а о том, что в этом самом необыкновенно приподнятом настроении он любил петь. Не могу сказать, что пение его было оперным, но оно брало за душу своей искренностью. Он пел разные песни, русские и грузинские, знал их много, но мне больше нравились грузинские. Я любила, слушая пение, по голосу, по мелодии, по выражению лица догадываться о смысле песни. Он знал эту мою привычку и иногда подшучивал надо мной. Нарочно пел какую-нибудь веселую застольную песню на грустный лад и спрашивал:
— О чем я сейчас пел?
— О разлуке, — отвечала я, введенная в заблуждение грустной мелодией.
Грузинский язык очень «песенный», мелодичный. Наверное, поэтому грузины так любят петь.
— Какая разлука? — улыбался он. — Это песня о том, как весело пировать с друзьями. Послушай-ка другую…
И пел что-то бодрое, веселое.
— Это тоже, наверное, про пир с друзьями, — «угадывала» я.
— Нет. Девушка просит ласточку принести весть об ушедшем на войну брате.
Его очень забавляла эта игра. Он даже сделал из нее нечто вроде поговорки. Говоря о чем-то, суть чего оставалась неясной, вставлял: «Это все равно что угадывать смысл песни, не зная языка».
Несколько грузинских слов и выражений я выучила. Могу поздороваться, поблагодарить. Могу даже объясниться в любви, только вот кому?
* * *
Ревность была несвойственна Сталину совершенно. Когда я говорю о ревности, то не имею в виду какие-то дикие сцены, несправедливые обвинения, буйство страстей, иначе говоря, то, что Немирович-Данченко называл «отелловщиной». Нет, я имею в виду гораздо более сдержанные чувства, свойственные, наверное, каждому из нас. Ты любишь и не хочешь делить любимого человека ни с кем. Больно даже подумать об этом. Внезапные изменения планов, какие-то необъясненные отлучки, все непонятное волнует тебя, настораживает, заставляет задуматься. Ревность — это беспокойство, которое все равно проглянет, как ты его ни скрывай. Ревность проявляется во взглядах, в жестах, в голосе. Ревность очень легко изображать на сцене. Во-первых, потому что она многогранна, есть что играть, а во-вторых, находит горячий отклик у зрителей. Все мы ревнивцы, все мы ревнуем, только большинство из нас не дают своей ревности волю. Но желание того, чтобы любимый человек принадлежал тебе и только тебе, свойственно всем нам. Мой первый муж был крайне сдержанным человеком («холодная балтийская кровь», говорил он о себе), он всячески скрывал свою ревность, но она так и сквозила во взгляде. Легко читалась. Актриса, сама того не желая, дает множество поводов для ревности. Особенно если речь идет об оперетте. Легкий жанр, легкие настроения, легкость чувств. Выступления, поклонники, цветы… Он сам познакомился со мной в театре — пришел после спектакля в гримерную, чтобы выразить восхищение моей игрой. Слово за слово, улыбка в ответ на улыбку, так и состоялось наше знакомство, и его всегда терзала мысль о том, что кто-то другой столь же легко может со мной познакомиться. Я объясняла, что познакомиться, в сущности, несложно, но дело не в самом факте знакомства, а в том, к чему это знакомство приведет, во что оно выльется. Мало ли у меня знакомых! Он соглашался, говорил, что верит мне, что любит меня, но в глубине его красивых глаз таилось страдание. Я так жалела его, так страдала, оттого что он ревнует меня! Находить утешение в пошлой поговорке «ревнует — значит любит» я не могла. Глупо. Я его любила, а когда любишь, то и радость, и страдание любимого человека воспринимаются как свои собственные.
Сама стараюсь не ревновать. Не даю ревности взять над собой верх, обуздываю ее всячески, душу логикой. Ревности с логикой не по пути, стоит сесть да подумать, как все сразу же встает на свои места. Суть в том, чтобы дать себе труд подумать. «Подумай, — призывала я моего первого мужа, — если все так просто, легко и доступно, как ты себе представляешь, то почему я с тобой, а не с кем-то другим?»
Уже хотела вырвать лист, потому что собиралась писать не о ревности, а о том, что она была совершенно чужда Сталину, но перечла и решила, что раз написала гладко и без помарок, то пусть остается. Из дневника порой очень трудно вырывать листы. Кажется, что вырываешь и рвешь на клочки часть своего прошлого. Эх, если бы на самом деле все было так просто — вырвал, написал заново… О, сколько же всего в жизни хочется изменить, переделать, исправить! «Если бы так было можно, — сказал однажды Г.В., — то после тридцати лет некогда бы было жить. Только бы успевали исправлять да переделывать». Но тем не менее кое-что я бы изменила. Не все, не многое, а кое-что.
Но хватит отступлений. Пора написать о главном, о чем изначально собиралась написать. Сталин не был ревнив. Сталин не был ревнив совершенно. Ни разу за все время нашего с ним общения ревность никак не проявилась с его стороны. Ничем. А уж я-то, в силу моего жизненного опыта и моей наблюдательности, склонна надеяться, что умею чувствовать и подмечать. Вначале это меня удивляло. Грузин, южный темперамент, как же так? Потом я решила, что все чувства и переживания подобного рода Он тратит на государственные дела и на личное уже ничего не остается. Нечто вроде опустошенности, если так можно выразиться. И лишь спустя некоторое время я окончательно разобралась и поняла, что отсутствие ревности, полное отсутствие ревности, это качество по-настоящему сильной Личности. Уверенной в себе, знающей истинную цену всему, очень хорошо разбирающейся в людях и потому избавленной от сомнений. Что такое ревность, как не сомнение? Если очень хорошо разбираться в людях, то незачем в них сомневаться. Знаешь, что этому человеку можно верить, а тому нельзя. Мне Он верил. Случалось так, что я не могла приехать, и Он удовлетворялся моими объяснениями, сколь лаконичны бы они ни были. Никогда не задавал лишних вопросов. Лишних вопросов Он вообще не задавал. А вот задать неожиданный, обескураживающий вопрос мог. Было такое.
За то время, пока мы встречались, я никогда не чувствовала за собой слежки. За мной в самом деле никто не следил, во всяком случае, я этого не чувствовала. Я не заявляю, что настолько опытна, что могу обнаружить за собой искусную слежку (в этом деле, к счастью, у меня никакого опыта нет), но почувствовать, что за мной следят, я бы могла. Вне всякого сомнения. Чувству, что за тобой наблюдают, пока еще не придумали научного объяснения, но рано или поздно придумают, объяснят, потому что это чувство столь же объективно, как зрение, слух, обоняние.
Я чувствовала себя полностью свободной, Он не довлел надо мной, не подавлял меня. Огромное уважение к Нему не сковывало, а окрыляло, вдохновляло, побуждало открыться перед ним полностью, побуждало отдать Ему все, что я только могла отдать. Но при том, что я была готова принадлежать ему всецело, понимая и чувствуя это, Он никогда не ограничивал мою свободу, не навязывал мне никаких решений, ничего от меня не требовал, ничем меня не стеснял. Рядом с ним мне было хорошо, радостно. Рядом далеко не с каждым из мужчин женщина может чувствовать себя таким образом.
И никакой ревности. Никогда! Ни капельки! Будь я глупа, я бы, наверное, обиделась и решила, что он меня не любит. Но, к счастью, я умею понимать все правильно. Правильное понимание, ум, здравый смысл, назвать можно как угодно, — один из главных даров, которыми наградила меня природа. В отличие от красоты, с возрастом этот дар становится только лучше.
* * *
Я — актриса и умею притворяться. Во всяком случае, я склонна так думать. Притворяться приходится часто, ежедневно, порой так просто на каждом шагу. Если вместо огорчения мое притворство принесет человеку удовольствие или даже радость, то почему бы и не притвориться? Доводы в пользу притворства есть всегда. Мелкие, средние, крупные. Домработница хорошо убирает и вообще добросовестна и аккуратна, за все время работы ничего не разбила, ни чашки, ни блюдца. Кроме того, она порядочна. Не крадет, не сплетничает. Стоит ли давать ей понять, что мне не нравятся ее чересчур простецкие манеры? Разумеется, не стоит. Лучше притвориться, что все хорошо и что запредельная фамильярность мне по душе. Шофер прекрасно водит машину, содержит ее в наилучшем виде, но не подаст руки и не поможет донести тяжелый чемодан, если его об этом не попросить. Если попросить, то поможет, без вопросов, но сам не догадается. Есть ли смысл указывать сорокалетнему человеку на то, что он плохо воспитан. Нет, это бесполезно. Невозможно изменить что-то, пусть немногое, в характере зрелого, взрослого человека. В итоге придется искать нового шофера, и нет уверенности в том, что он будет лучше прежнего. Проще притвориться. Это называется уметь поддерживать хорошие отношения. «Умение поддерживать хорошие отношения» — основной синоним притворства. Притворяюсь в театре, притворяюсь с гостями, порой и с Г.В. притворяюсь, когда не хочу его расстраивать. Жить со мной непросто, и я это знаю. Иногда меня так и подмывает выговориться перед Г.В. (только перед ним и ни перед кем больше). Наболит, накипит, накопится, надо выплеснуть. Но вижу, что Г.В. устал или не в настроении. Увы, есть кому его огорчить. Я умею соизмерять свои желания с желаниями других. Улыбаюсь и вместо наболевшего рассказываю Г.В. что-нибудь веселое, смешное. В моей «копилке» всегда хранятся про запас две-три смешные истории как раз для таких случаев.
Я умею притворяться, но я никогда не могла (да и не хотела) изображать любовь. Оговорюсь: не играть (играть любовь актерам приходится часто), а изображать! Притворяться влюбленной, это не мое. Захочу изобразить любовь к другому человеку, так ведь ничего не получится. Это у меня не получается не потому, что сложно, а потому, что нехорошо. Нехорошо, некрасиво изображать любовь, пачкать притворством это высокое чувство. Так я думала в 16 лет, так же думаю и сейчас, несмотря на то, что с возрастом многие вещи видятся и воспринимаются иначе. Легче, проще. Я прекрасно понимаю тех, кто притворяется в любви. Не осуждаю их. У каждого есть право выбирать, как ему поступить. Некоторые из знакомых мне людей с удовольствием изображают любовь, причем зачастую не стесняются признаваться в этом. Заявляют, что им так проще. Наверное, в их жизни никогда не было этого великого чувства и потому они вынуждены довольствоваться таким вот эрзацем любви. Тому, кто испытал, что такое любовь, вкусил ее прелесть, притворяться не захочется. Незачем, глупо, безрадостно. Это все равно что пытаться есть бутафорские гипсовые фрукты из реквизита. Из зрительного зала они еще сойдут за настоящие, а вот вблизи, да если еще в руку взять… У меня не получилось бы притворяться влюбленной, любящей, делать вид, что все хорошо, улыбаться и изображать радость от встреч и общения. Не умею я этого. Притворяться, что мне приятно чье-то общество, умею великолепно, но это в том случае, когда речь не идет о любви. Должна признать, что умение изображать любовь могло бы существенно помочь мне в молодости, когда я только начинала пробиваться к славе. Иногда я даже слышала от других актрис, считавших себя моими подругами, советы насчет того, что легче уступить кому-то, притвориться влюбленной, чем простаивать ежедневно по нескольку часов у станка[19]. Я отвечала, что каждый сам решает, что ему легче — уступать или стоять у станка. Слов «уступать», «уступка» я не выношу. Это не мои слова.
* * *
— Как артистка Орлова познакомилась с режиссером Александровым? — спросил Сталин где-то на третьем или четвертом месяце нашего знакомства. — Кто кого выбрал — артистка режиссера или режиссер артистку? Как принято у вас в кино?
Вопрос мог показаться неожиданным или даже нескромным, но я поняла его правильно. Сталину было интересно все, что связано со мной, вот он и спрашивал.
— Как принято, я не знаю, — ответила я. — Наверное, никак не принято. А кто кого выбрал, мы так до сих пор и не решили…
Наше знакомство с Г.В. произошло именно тогда, когда мы оба нуждались друг в друге. Ему была нужна актриса, умеющая держаться перед камерой, петь, танцевать, «пленять и очаровывать», как он говорит, а мне нужен был режиссер, способный раскрыть все мои задатки. Не стану кривить душой — театральная сцена, тем более такая, на которой я тогда выступала[20], была мне тесна, мала. Настал день, когда я поняла, что больше уже ничего здесь не достигну, и стала поглядывать по сторонам. В этот самый момент судьба послала мне Г.В. Едва начавшись, это наше знакомство рисковало прекратиться навсегда. «Вы вылитая Марлен Дитрих!» — сказал мне Г.В. с таким видом, будто отпустил комплимент (так оно, впрочем, и было). Я вспыхнула, вскочила на ноги, да так резко, что опрокинула стул (мы сидели за столом), и со всей строгостью, на которую только была способна, заявила: «Потрудитесь, пожалуйста, запомнить, что я, Любовь Орлова, похожа только на саму себя и ни на кого больше!» Г.В. понял, какой пожар мог вспыхнуть от этой искры, и повел себя самым правильным образом — попросил прощения и сменил тему. Позже, упоминая о М.Д. в разговоре или когда мы натыкались на ее фотографию во время разглядывания альбомов, он опасливо косился на меня. И совершенно напрасно косился, потому что я хорошо отношусь к М.Д., это актриса, обладающая большим дарованием, только не надо сравнивать. Женщины не любят сравнений, а актрисы тем более. И не правы те, кто в Марион Диксон[21] пытается правдами и неправдами углядеть М.Д. Да, инициалы совпадают, но не более того. Имя Марион — звучное, характерное, иностранное, и в то же время оно созвучно русскому имени Мария. Фамилию Диксон Г.В. предпочел по созвучию с жаргонным словом «Дикси», которым в Америке называют южные штаты. Намек, аллюзия. Дикси — работорговля — черный ребенок — страх Марион. Кстати, в первоначальном варианте сценария (точнее — в одном из первоначальных) Марион в конце фильма заявляла, что желает сменить имя и фамилию. «Я больше не хочу быть Марион Диксон! — заявляла она. — Пусть старое имя останется в прошлом и с ним уйдет из моей жизни все плохое! Теперь я — Мария Денисова!» Лично мне эта сцена не понравилась. Зачем менять имя? «С ним уйдет из моей жизни все плохое»? Попахивает каким-то дремучим суеверием и вообще выглядит немного неестественно. СССР — многонациональная страна, у нас множество самых разнообразных имен и фамилий. Никто не переделывает их «под одну гребенку». Я сказала свое мнение Г.В., он задумался, но согласился со мной не сразу, а лишь после того, как кто-то (кажется, это был И.О.[22]) заметил ему, что имена обычно меняют преступники, желая избежать поимки, и что в случае с Марион сразу же возникают не самые лучшие ассоциации. Так она и осталась Марион Диксон.
Я — человек настроения. Если настроение у меня хорошее, то я смотрю картины со своим участием не без гордости. Горжусь хорошо сделанной ролью, подмечаю (пусть то будет даже сотый просмотр) какие-то новые детали, на которые раньше не обращала внимания. В роль надо вживаться, тогда взгляды, жесты, интонация, движения, все будет к месту, будет естественно. Подмечаю и мысленно ставлю себе «отлично». В свой личный актерский дневник. Если же настроение у меня не очень хорошее, то я начинаю придираться к себе на каждом шагу, и тогда мой дневник быстро заполняется «неудами»[23]. И тут я не «дотянула», и там оплошала. Я очень критично отношусь к себе. Лесть вообще плоха, но по отношению к самой себе она просто губительна. Расслабляешься и перестаешь стараться. Ах, все равно получится. Счастье, что судьба свела меня с Г.В. У него и захочешь, да не расслабишься. Он не позволит. Это кому-то другому жена-актриса может заявить, что она устала и больше повторять не станет. Такое случается, некоторые режиссеры находятся под каблуком у своих жен. Но у Г.В. ничего подобного и представить невозможно. Я и сама себе не позволю, но если бы вдруг позволила, то мгновенно лишилась бы роли. Несмотря на наши отношения и мои заслуги. Но если я хочу сыграть какую-то сцену повторно (пусть то будет даже в двадцатый раз), то Г.В. непременно идет мне навстречу. Он верит моему внутреннему чутью так же, как и себе, знает, что я во время работы способна «видеть» себя со стороны. Не все, к сожалению, подмечаю, но многое.
Рассказывала Сталину я не так, как написала сейчас, а более сумбурно. Пишешь, уже собравшись с мыслями, а отвечать на вопрос, заставший тебя немного врасплох, приходится без предварительной подготовки. Не сразу находишь нужные слова. Меня всегда поражал мой давний друг С.В.[24] (Г.В. зовет его «главным кукольником Советского Союза»), который никогда, ни при каких обстоятельствах за словом в карман не полезет. Кажется, разбуди его среди ночи и задай самый неожиданный вопрос, С.В. улыбнется (улыбка у него чудная) и начнет отвечать гладко, как по писаному. Я так могу не всегда, порой мне нужно собраться с мыслями, обдумать. Однажды во время выступления в Свердловске мне задали вопрос, над ответом на который я думала минут пять, если не больше. Милая розовощекая девчушка, несомненная отличница, спросила меня:
— Почему все театры еще не закрылись? Кино гораздо интереснее, да и актерам не надо по сто раз играть одно и то же. Сняли на пленку — и показывай сколько хочешь!
Что можно было ответить на такой вопрос? Смею надеяться, что мне все же удалось найти нужные слова. Ответ мой получился длинным (коротко тут не ответишь), но главную свою мысль я разъяснить смогла. Театр и кино не антагонисты, это два разных направления в искусстве. Каждое имеет свою ценность, каждое значимо и востребовано. Потом встал пожилой мужчина, по виду из рабочих и спросил, что я сама больше люблю — сниматься в кино или играть в театре… Трудным выдался для меня тот вечерок.
Декабрь 1935-го
Новый, 1936 год мы со Сталиным отметили чуть раньше положенного. Чуть-чуть, на какие-то несколько дней. Зато вдвоем. 31 декабря у нас бы не было такой возможности. Суеверные люди считают, что праздники не стоит отмечать заранее, но мы оба не были суеверными, и потому наш личный праздник получился замечательным. В тот год Новый год перестали считать буржуазным предрассудком и начали отмечать по всей стране. Очень правильно, ведь это никакой не буржуазный, а обычный человеческий праздник. Разумеется, с подарками. Какой же праздник без подарков?
Я долго мучилась с выбором подарка. Для того были причины. Совсем недавно, ко дню рождения, я подарила Ему серебряный стаканчик-карандашницу. Что подарить такому человеку? Скромному и в то же время обладающему большой властью, могущему получить многое из того, что ему захочется? Я решила, что мой подарок должен быть небольшим, но личным. Таким, чтобы постоянно находился на глазах и напоминал обо мне. Стаканчик был изящным, дореволюционной работы, на нем была выгравирована бегущая лошадь. Когда-то он принадлежал моему отцу. То был очень личный подарок, и, насколько я поняла, он понравился Сталину.
— Для чего такой? — пошутил он, заглядывая внутрь. — Для водки великоват, для вина маловат. А, это, наверное, для карандашей…
Хотелось, чтобы и второй подарок произвел бы столь хорошее впечатление, но по поводу него я ничего не могла придумать. Долго мучилась, а потом решила подарить другой «стаканчик» — грузинский рог для вина. Представила, как вручу его и скажу: «Предыдущий был маловат для вина, а этот в самый раз». Мне казалось, что подарок, имеющий отношение к Грузии, обрадует Сталина особенно.
Возможно, что так оно бы и получилось, не допусти я серьезной промашки при выборе рога. «Хороша была задумка, да вот осуществить не получилось», — говорит в таких случаях Г.В. Через друзей, у которых были знакомые в Тбилиси, мне удалось достать большой, оправленный в серебро и богато инкрустированный рог. Мне хотелось произвести впечатление, и поэтому на вопрос о том, какой рог мне нужен, я ответила: «Большой и красивый». Получила очень большой и просто роскошный, причем сделанный с большим вкусом. Чувствовалось, что у мастера, сделавшего рог, был художественный вкус. Мне рог очень понравился, и я нисколько не сомневалась, что Сталину он тоже понравится. Была уверена в этом. Но ошиблась.
— Прости, но я не могу принять этот подарок, — сказал Сталин, едва взглянув на рог.
— Почему? — опешила я, думая, что Он решил, что это слишком дорого для меня. — Я могу позволить себе…
— Зато я не могу! — резко перебил меня Сталин.
Я не могла понять, в чем дело. В чем я ошиблась? Что не так? Увидев, что я огорчена и растеряна, Сталин взял рог в руку, поднял его и спросил:
— Ничего не замечаешь?
Я подумала, что с рогом что-то не то. Какой-то он, видимо, бракованный. Вроде бы не худой, но я же не знаю грузинских обычаев. Может, он закручен не в ту сторону, или размер не тот. «Уж не женский ли рог мне прислали по ошибке?» — заволновалась было я, но, оценив вместимость рога, отогнала прочь эту мысль. Ни одна женщина не в силах выпить в один присест столько вина. А из рога всегда пьют до дна, ведь его нельзя поставить, можно только положить пустой на стол.
— Слишком роскошно для меня, — объяснил Сталин, так и не дождавшись ответа. — Из таких рогов раньше пили князья. Надо одеться в богатую чоху, подпоясаться серебряным поясом, надеть на каждый палец по перстню и тогда уже показываться людям с таким рогом в руках. А у меня нет ни богатой чохи, ни серебряного пояса, ни перстней с бриллиантами. Коммунисту эта «мишура» не нужна… Коммуниста встречают по делам и провожают по делам. Отдай этот рог в театр или на «Мосфильм». Пригодится, когда будут ставить пьесу или картину о старой жизни…
Не зная, куда деваться от смущения, я забрала свой подарок. Сделала, как было мне велено. Отдала рог моей тезке, Любочке[25], которая была ассистентом режиссера на съемках «Веселых ребят», и попросила передать его на «Мосфильм». Любочка незадолго до того развелась с мужем, с которым прожила (она говорила «промучилась») десять лет, и вышла замуж (по большой любви!) за директора «Мосфильма» Бабицкого. Он потом звонил мне и уточнял, не жалко ли мне отдавать «в общее пользование» такую красивую и явно дорогую вещь. Я ответила, что совсем не жалко, пусть товарищи пользуются им на здоровье хоть во время съемок, хоть во время застолий. Услышала в ответ, что отчаянные головы уже пробовали подступиться к рогу, но выпить его разом никто не смог. Не знаю, где теперь тот рог. Директора и сотрудники на «Мосфильме» менялись часто, уже и спросить не у кого. Ни в одной из картин я его не видела, а может, просто не заметила.
Сталин подарил мне белый пуховый платок, красивый и теплый. Сказал, что я в нем похожа на Зимушку-Зиму. Я поинтересовалась, как она выглядит, тогда он подвел меня к окну и показал на мое отражение (зеркала там не было, Сталин вообще не любил зеркал, ему было достаточно маленького). Праздник удался, несмотря на то что я так ужасно опростоволосилась с подарком. В душе моей словно пробудилось детство, всколыхнулись былые впечатления, и появилось ощущение настоящего праздника. Такое, как в детстве, когда праздник везде и во всем, когда даже самое обычное начинает казаться волшебным, необыкновенным.
Платок я храню до сих пор. Давно не ношу его, просто храню.
Из своей оплошности я сделала выводы и больше никогда не дарила Сталину ничего роскошного или близкого к тому. И Он больше никогда от моих подарков не отказывался. Что поделать, все мы время от времени совершаем ошибки. Важно не повторять их. Я стараюсь не повторять. Обожгусь на молоке и долго-долго дую на воду.
Я не спросила тогда, кто именно предложил вернуть советским людям Новый год (то был официальный возврат, даже постановление специальное выходило). Тогда меня это не интересовало, а когда задумалась, то и спрашивать уже было не у кого. Но мне почему-то кажется, что это была идея Сталина. Он очень любил праздники. Все хорошие люди любят праздники, смех, веселье.
Январь 1936-го
— Откуда у тебя этот платок? — спросила мама.
Когда-то, еще в девичестве, мама была непрактичной (так, во всяком случае, рассказывает она сама). Но обязанности по ведению хозяйства быстро изменили ее, а тяжелые времена закалили. Теперь мама добросовестно и тщательно вникает во все хозяйственные вопросы. Ей непременно надо знать, что где было куплено и за какую цену. Если подарок — то от кого и по какому поводу. К подаркам у мамы отношение настороженное. Она не любит оставаться в долгу. Непременно постарается «отдариться», то есть подарить взаимно нечто равноценное. Эту черту, как мне кажется, выработала в ней ее свекровь, моя бабушка Анастасия, которая отличалась непростым характером, любила «кольнуть глаз» своим благодеянием и требовала многократных выражений благодарности, признательности и т. п.
— Подарил один из поклонников, — ответила я.
Врать, что купила, не стала. Не люблю врать, лучше уж сказать не всю правду. К тому же мама начнет выспрашивать подробности, и я непременно запутаюсь. А еще она может попросить купить ей точно такой. Что тогда? Другой платок я ей отдала бы, а этот не могу. Нет, лучше сказать правду. Но не всю. Всего не скажешь.
Мама — мое счастье и мой вечный укор, праздник и боль моей жизни. Мой главный (и очень строгий) судья и мой преданный друг. Что бы я ни сделала (речь идет о хороших поступках), мама никогда не говорила, что это превосходно или замечательно. Между нами, разумеется, не на людях. То, что мама говорила на людях, она говорила для них, а не для меня. Никакого лицемерия, всего лишь тонкое понимание жизни, разделение личного и не личного, отделение зерен от плевел. Наедине со мной мама была совсем не такой, какой ее видели посторонние. (Г.В. для нее тоже был «посторонним», несмотря ни на что). На людях мама больше заботилась о том, какое впечатление она производит, а когда мы оставались вдвоем, мое впечатление ее уже не интересовало. Она могла сказать мне все, что думала, все, что считала нужным, сказать откровенно, прямо, и я ей за эту прямоту была признательна. Безгранично признательна. Каждую мою новую картину мы ходили смотреть вместе. Мама долго готовилась к выходу (она вообще весьма тщательно следила за собой), если кто-то звонил, то она сообщала с гордостью: «Мы идем смотреть новую Любочкину работу». В зале сидела с ровной прямой спиной, не откидываясь на спинку. Руки на подлокотниках, спина прямая, подбородок приподнят, брови слегка нахмурены — барыня. Ее многие за глаза звали «барыней», она это знала и нисколько не обижалась. Барыня так барыня. Не обращать внимания на то, что говорят о тебе люди, этому научила меня мама. «На чужой роток не накинешь платок» — вот ее любимое выражение. Когда на экране появлялись слова «конец фильма» и в зале включался свет, мама оборачивалась ко мне и говорила: «Неплохо, Любочка, весьма неплохо. Ты у меня молодец». «Ты у меня молодец» — высшая похвала и высшее признание. Если бы кто-то знал, как больно мне писать и думать о маме в прошедшем времени! Если бы кто-то знал! Десять лет, как мамы нет в живых, а я все никак не могу смириться, привыкнуть. Иногда лечу домой с каким-то радостным известием, предвкушаю, как обрадуется мама (ах, она так умела радоваться, как никто!), и вдруг вспоминаю, что мама умерла… Как ледяной водой облили.
— Поклонник? — нахмурилась мама. — Смотри, Люба, поклонники просто так ничего не дарят. Кто такой? Я его знаю?
— Ну как же ты можешь знать всех моих поклонников! — рассмеялась я. — Ты знаешь только тех, кого мы приглашаем домой…
Выкрутилась. Больше разговоров о платке не было.
* * *
Когда в кругу убийственных забот
Нам все мерзит — и жизнь, как камней груда,
Лежит на нас, — вдруг, знает бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.
Так иногда, осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее долы,
Вдруг ветр подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу нам обдаст как бы весною…
Когда пишу по памяти эти строки Тютчева, ненадолго, всего на минуту, чувствую себя поэтом. Эх, если бы я в самом деле умела бы так выражать свои чувства и мысли. Завидую, отчаянно завидую поэтам. И Г.В. завидую. У него есть и поэтический дар, он может сочинять экспромтом весьма складные смешные стишки. А если бы задался целью развить в себе этот дар (любой дар требует развития), то непременно бы стал известным поэтом. Одаренные люди имеют много разных талантов. Если уж природа награждает, то награждает щедро, полной мерой.
И душу нам обдаст как бы весною…
Как верно сказано! Как верно схвачена суть!
Нам на душу отрадное дохнет,
минувшим нас обвеет и обнимет…
Мне кажется, что я умру с этим стихотворением на устах. Оно — для всех, для каждого. Оно — обо всем. Нет человека, в чьей душе оно бы не нашло отклика.
Какая жалость, что Тютчев не писал пьес!
* * *
На разного рода правительственных мероприятиях в Кремле я бывала нечасто. Разве что тогда, когда просто невозможно было этого избежать. Например, если мероприятие было связано с кинематографом или если мне предстояло получать какую-то награду. Так установилось не сразу. С какого-то момента я начала получать приглашения чуть ли не каждую неделю. Звонили по телефону или же привозили приглашения и отдавали под расписку. Эта процедура неизменно меня смешила. «Здравствуйте, Любовь Петровна! Я вас сразу узнал, но нельзя ли предъявить какой-нибудь документ, удостоверяющий вашу личность?.. Спасибо. Распишитесь вот здесь…» Очень не люблю все эти бюрократические процедуры, стараюсь их избегать, насколько это вообще возможно. Никогда не позволяю себе извлекать какие-либо выгоды из собственной известности, но вот если известность помогает получить без «хождения по мукам» какую-то справку, то пользуюсь ею. Улыбаюсь, дарю подписанные фотографии, лишь бы сократить несносную бюрократическую канитель. Удивительное чудовище эта бюрократия. Гидра! Сказочное Чудо-юдо! Борьба с ней ведется едва ли не с окончания Гражданской войны, а справок с каждым годом становится все больше и больше. Страшно вспомнить, в какие мытарства вылилось оформление нашей дачи. Справки, разрешения, резолюции… И разбирательства по жалобам, ох уж эти жалобщики! Кому-то показалось, что мы незаконно прирезали к нашему участку чужой земли. Кому-то показалось, что наш дом слишком высок и что-то там ему заслоняет. Чего только не придумают люди!
Отвлеклась. Хотела написать о том, почему старалась избегать официальных мероприятий в Кремле. Тому сразу несколько причин. Первая — не люблю выступать в роли чеховской «свадебной генеральши». Присутствовать на мероприятии для галочки мне кажется не только неуместно, но и вовсе глупо. Сидеть, улыбаться, в общем — присутствовать. Зачем? Я не кукла. Вторая причина в том, что я не выношу яркого света и шума. Кто бы только знал, чего мне стоят съемки, но съемки — это работа, цель жизни, ее смысл. Но совсем не хочется заставлять себя терпеть мучения попусту. Тем более что есть много актрис и актеров, которые с удовольствием появляются на людях. По делу и не по делу, по поводу и без повода, лишь бы отметиться. Раз им это приятно, так пусть порадуются. Причина третья — меня начали активно приглашать в Кремль после того, как начался наш роман с Ним. Не знаю, что послужило причиной. Хотел ли Он сделать мне приятное, думая, что мне это приятно, или же кто-то из тех, кто организует мероприятия, узнал о наших отношениях и внес мое имя в какой-нибудь список, в графу «приглашать почаще».
Отказываться, когда тебя приглашают, неловко. Тем более неловко поступать так постоянно. Люди же по тем или иным причинам рассчитывают на меня. В президиуме или, к примеру, за обеденным столом не должно быть пустующих мест, все равно найдут, кого посадить вместо меня, но неловкость от понимания этого не уменьшается. Сначала я надеялась на то, что после нескольких отказов меня перестанут приглашать, но приглашения все продолжались. Более того, они становились все чаще и чаще, едва ли не еженедельными. Попросить, чтобы меня перестали приглашать? Но кому об этом сказать, я не знала. Спросила у Г.В., не знает ли он имени того, кто отвечает за организацию кремлевских мероприятий, но Г.В. такого человека не знал.
Масла в огонь подлила мама. Она, непонятно почему, решила, что я непременно должна идти, если меня приглашают, связывала участившиеся приглашения с ростом моей популярности и всякий раз корила меня за, как она выражалась, «прогулы». «Любочка, ты должна!» — строго говорила она, поджимая губы. «Это твой долг!» Какой долг? При чем здесь долг?
Однажды я не выдержала и пожаловалась (то есть не столько пожаловалась, сколько просто сказала) Ему. Он ответил, что раз так, то меня больше приглашать не станут, кроме тех случаев, когда без меня нельзя обойтись. И добавил, что если вдруг мне захочется, то… Но я заверила, что мне не захочется. А если вдруг и захочется, то я об этом скажу.
Приглашения закончились, как отрезало. Мама была этим обстоятельством недовольна. «Видишь, Любочка, — говорила она с укоризной, — ты выкаблучивалась-выкаблучивалась и довыкаблучивалась. Тебя больше никуда не зовут». «Вот и славно, что не зовут!» — отвечала я.
Май 1936-го
«Цирк» Сталин впервые посмотрел вместе со мной. Это случилось незадолго до премьеры. Г.В. не любит слова «премьера» применительно к кино. Он всегда говорит о картинах: «вышла на экраны», «была выпущена на экраны». А я, театральная актриса, люблю слово «премьера». Выражение «вышла на экраны» немного царапает мой слух.
Кстати, официальная премьера «Цирка» состоялась в день нашего знакомства с Г.В., 23 мая 1936 года в Зеленом театре парка Горького. Мы не подгадывали, просто так совпало. Получился двойной праздник.
Я смотрела не столько на экран, сколько косила глазом на Сталина, наблюдая за его реакцией на происходящее. Готовую картину я уже видела дважды, а уж сколько раз было просмотрено вместе с Г.В. по частям, и не сосчитать.
Сталин часто улыбался, а пару раз даже смеялся. Применительно к другому, менее сдержанному человеку подобное поведение можно было расценивать как восторг. Картина понравилась, и я была счастлива.
— Какой интересный американский акцент! — сказал Он, досмотрев до конца, и попробовал повторить: — Мэри вьерит в чудьеса…
Американский акцент мне ставил Г.В. Он был в Америке и не раз слышал, как американцы говорят на русском или хотя бы пытаются говорить. Бывало, весь вечер говорил с акцентом и требовал, чтобы я за ним повторяла. Г.В. очень хороший, а стало быть, очень требовательный режиссер. Ему было недостаточно, чтобы я просто заучила свои реплики «с акцентом». Ему непременно надо было, чтобы я научилась говорить, как американка. Кому-то это может показаться излишним, но это правильно. В роль следует вживаться. Надо не изображать человека, а становиться им. Только такое вот перевоплощение гарантирует успех. Пока работала камера, я была не Любовью Орловой, играющей Марион Диксон. Я была Марион, американкой, циркачкой, матерью маленького ребенка. Отбивала чечетку, а сама думала о том, как там мой малютка, спит он или не спит. В самом деле думала так. И П.В.[26], который играл Кнейшица, искренне ненавидела и боялась. То есть не самого П.В., доброго и веселого человека, а Кнейшица, которым П.В. становился перед камерой.
— Молодцы! — такова была оценка Сталина «Цирку».
А мне вдруг стало грустно. Почему-то из всей картины мне вдруг вспомнились Раечкины слова: «Я жертвую любовью для искусства!» — и я подумала о том, что я, что мы тоже жертвуем нашей любовью.
Чувства изменчивы, они вспыхивают, гаснут, превращаются в нечто другое, иногда в прямо противоположное. Все проходит, рано или поздно все проходит. У супругов на смену одним чувствам приходят другие, любовь может смениться взаимным уважением, расположением, приязнью, привычкой в конце концов, но это бывает у супругов. Романы, не приводящие к браку, редко когда длятся всю жизнь.
Мы прекрасно понимали, что нам невозможно быть вместе. Даже в мечтах я представляла, как мы живем где-то далеко, это мы, но в то же время не мы, не Вождь и Актриса. Представить же себя женой Сталина я не могла по целому ряду причин. Начиная с того, что это было просто невозможно, и заканчивая тем, что я не представляла и не представляю себе другого мужа, кроме Г.В. Никто на всем свете не знает и не понимает меня так, как Г.В. И как человека, и как актрису. И я его столь же хорошо знаю и столь же хорошо понимаю. Настолько, что могу назвать наш брак (не первый для обоих), крепким, нерушимым. С Г.В. нас может разлучить только смерть. Наш брак — это настоящий союз. Союз, союзники — какие прекрасные слова. Г.В. не просто мой супруг. Он — мой союзник. А ведь как часто мужья и жены не бывают союзниками или, что вообще ужасно, бывают врагами.
Мне стало грустно. Видимо, по лицу моему пробежала какая-то тень, потому что Сталин спросил:
— Что такое? Переволновалась?
Он, должно быть, решил, что это у меня от волнения. Впрочем, так оно и было. Конечно же, я волновалась. Мне, разумеется, хотелось, чтобы картина понравилась… От волнения и мысли ненужные приходят.
Я кивнула и попыталась улыбнуться.
— Товарищи из Телави прислали мне хорошее вино, — сказал Он. — В письме спросили, сколько у меня квеври и какого они объема. Наверно, хотели прислать мне виноград, чтобы я делал вино здесь. Ты знаешь, что такое квеври? Это глиняные грузинские кувшины, большие глиняные кувшины. Их зарывают в землю, кладут туда виноград и делают вино. Не знаю, что им отвечать. Боюсь, что если отвечу, что у меня нет квеври, то они и их мне пришлют. Что я стану с ними делать?
— Вино. Что же еще? — улыбнулась я.
Слово «квеври» я запомнила на всю жизнь. Дважды удивляла грузин, рассказывавших мне о виноделии, вопросом про квеври и незаслуженно заслужила славу знатока виноделия. Хотя на самом деле я могу приготовить только один-единственный хмельной напиток — ежевичную настойку, да и то готовлю ее не для питья, а для лечения. 1–2 ложечки этой настойки хорошо помогают при неладах с желудком.
Годом позже «Цирк» получил Гран-при на парижской международной выставке. В 1941-м я получила Сталинскую премию первой степени за «Цирк» и «Волгу-Волгу». Эту премию я расценила как прощальный подарок или что-то в этом духе. Премия оказалась для меня полной неожиданностью, ведь обе картины были сняты давно — «Волга-Волга» три года назад, а «Цирк» пять лет. Г.В. тоже получил Сталинскую премию первой степени за эти картины. Причуды фортуны — работая над «Светлым путем», мы с ним сильно надеялись на то, что получим премии за эту картину, а в результате получили за другую. Но со «Светлым путем» была своя история, возможно, я еще напишу об этом. Не знаю пока, но, возможно, напишу.
Пишу я с большими перерывами. Дела, настроение — все имеет значение. Иной раз вроде бы и время есть свободное, а раскрою тетрадь, и сразу же на глаза наворачиваются слезы. Делать записи о прошлом можно лишь в те редкие дни, когда воспоминания приходят без слез. Этого не предугадать, не предсказать, слишком уж тонкие настройки у моего внутреннего «приемника воспоминаний».
— А не лучше было бы назвать эту картину «Советский цирк»? — вдруг сказал Сталин.
Задумался на какое-то короткое время, потом сам же и ответил на свой вопрос:
— Нет, «Цирк» все же лучше.
Я рассказала ему, что Г.В. убежден, что название картины должно быть как можно короче. Одно-два слова, не больше. Да и книги, по его мнению, должны называться тоже коротко. Гоголевская «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» стала у Г.В. именем нарицательным, служит ему примером наихудшего из названий.
— А что за актер сыграл Чаплина? — спросил Сталин.
— Николай Отто, — ответила я. — Настоящая его фамилия Павловский, а Отто — псевдоним. Он снимался в «Весёлых ребятах», прекрасно сыграл в сцене драки на репетиции…
Рассказала все, что знала про Н.И.
— Хороший актер, — сказал Сталин. — Хорошо сыграл Чаплина. Может, стоит снять с ним не эпизод, а целую картину про Чаплина? Товарищ Александров, кажется, познакомился с Чаплином, когда был в Америке. Сможет он сделать такую картину?
Я не знала, что ответить. Г.В. был знаком с Чаплином, много рассказывал мне о нем, но знакомство знакомством, а картина — это совсем другое. Получится ли? Возьмется ли Г.В. за такое? Ведь, как ни старайся Н.И., Чаплина в большой картине, наверное, может сыграть только сам Чаплин.
— Я спрошу… — не очень уверенно начала я.
— Не надо, — остановил меня Сталин. — Я сам спрошу об этом у товарища Александрова. При случае.
Сталин говорил мало, был немногословен, но каждое его слово имело значение. Ни одного лишнего. Все со смыслом. «При случае» означало «эту идею я не считаю важной и обсуждать ее намерен именно при случае». Поэтому я ничего не сказала Г.В. об этом, даже не намекнула. Но идея картины о Чаплине вскоре всплыла. Как я и ожидала, Г.В. не захотел ее воплощать. Прямого распоряжения, какого-то приказа не было, был вопрос, а на вопрос можно ответить и «да», и «нет». Вопросы — это не приказы, которые, как известно, не обсуждаются. Да и сам сюжет такой картины вызывал много вопросов, был непонятен. Биографическая картина вряд ли бы была интересна советским зрителям, да и основа там была бы не совсем подходящей (не стану вдаваться в подробности). В представлении зрителей, как мне кажется, картина о Чаплине непременно должна была бы быть комедией, но тогда бы Н.И. пришлось в большой полнометражной картине соперничать с самим Чаплином. Вышел бы такой заочный актерский турнир, состязание в мастерстве. При всем моем хорошем отношении к Н.И. не уверена, что он смог бы соответствовать, т. е. играть на одном уровне с Чаплином. Эпизод в «Цирке» — одно дело, целая картина — другое. Сталин любил Чаплина, часто пересматривал картины с его участием и считал Чаплина «буржуазным актером с социалистическим мировоззрением». Это потому, что Чаплин преимущественно играл бедняков.
* * *
После просмотра Сталин не раз заговаривал о «Цирке». Чувствовалась, что картина произвела большое впечатление.
«Цирк» стал для нас с Г.В. чем-то вроде черты, вехи, разделившей наше творчество на два этапа — до «Цирка» и после «Цирка». Г.В. окончательно состоялся как режиссер во время съемок этой картины, достиг полного расцвета своего мастерства. Я тоже успела набраться кинематографического опыта и играла Марион совсем не так, как Анюту[27]. «Цирк» — музыкальная комедия, но главную скрипку, по выражению Г.В., играет музыка. Ставя музыку во главу всего, Г.В. подчиняет ей и сценарий, и актерскую игру. Он называет это «музыкальной драматургией». Кому-то подобный подход может показаться однобоким, а то и вовсе неверным, но я, как человек сведущий, утверждаю, что это есть единственно верный подход. Музыкальная картина должна выстраиваться под музыку, а не под сюжет! Так, и только так, получится хорошее кино, которое зрители будут смотреть с удовольствием! Г.В. придумал вести съемку под готовую фонограмму. Под готовую, окончательную, а не под рабочие, черновые варианты. Ох и намучился он с этими черновыми вариантами во время работы над «Веселыми ребятами». Звук поправить несложно в отличие от изображения. Рано или поздно начинаешь «танцевать» не от фонограммы, а от отснятого материала, пытаясь, насколько возможно, совместить изображение и звук. Впрочем, я увлеклась, подобные тонкости интересны лишь специалистам, а они и так все знают. Г.В. открытый человек. Всеми своими находками и изобретениями он щедро делится с коллегами. Поясняет, рассказывает, раскрывает сущность. Иначе и нельзя, ведь мы — советские люди.
И только специалисты знают, что такое сниматься под готовую фонограмму. Скажу без всякой рисовки, что это очень сложно. Рамки максимально сужены, выйти за них невозможно, от актеров требуется максимальная дисциплина и немалое мастерство. Время и темп заданы, товарищи актеры, извольте соответствовать! Но, с другой стороны, с таким режиссером, как Г.В., который в доступной форме разъясняет каждому актеру его задачу, очень легко и приятно работать. Легко в том смысле, что каждый актер (и не только актер, но и другие участники процесса) четко представляет, что от него требуется. Этим Г.В. выгодно отличается от многих других режиссеров. Однажды мне рассказали, что актриса М. жаловалась на своего мужа, говорила, что вынуждена по ночам выспрашивать (выпрашивать!) у него разъяснения по поводу роли[28]. Г.В., хорошо знающий мужа М. (теперь уже бывшего), выразился так: «Есть режиссеры, а есть дирижеры. Дирижерам кажется, что все делается по мановению их волшебной палочки, без слов». Г.В. — мастер точных высказываний, не в бровь, а в глаз. Так оно и есть, только по мановению волшебной палочки ничего в жизни не делается. В ходе работы над картиной Г.В. оценивает каждый день по количеству пересъемок тех или иных сцен. Ничего не пришлось переснимать — отлично. Что-то пересняли — хорошо. Пересняли не одну-две, а несколько сцен — удовлетворительно. Очень верный подход, государственный. Экономия сил и средств. Я и сама, бывало, шла на определенные жертвы, порой весьма значительные для меня, ради того, чтобы избежать повторной съемки. По поводу повторов, вернее — их отсутствия, Г.В. любит рассказывать одну историю.
Во время съемок «Потемкина»[29] Эйзенштейн хотел снять эпизод, имевший место в действительности. Во время встречи мятежного корабля с эскадрой Черноморского флота был дан устрашающий предупредительный залп из всех корабельных орудий, призывающий сдаться, но «Потемкин», наоборот, поднял красный флаг. Устроить подобный залп эскадры было нелегко. Г.В. получил разрешение у самого Фрунзе[30]. Разрешение было получено с оговоркой — только один залп, не больше. Очень уж дорогое это удовольствие, выстрелить из всех орудий флота. Наступил день съемки. Было условлено, что в нужный момент Эйзенштейн взмахнет белым флагом, который был у него в руке, и прозвучит залп. Но кто-то из посторонних, присутствовавших на съемках (Эйзенштейн в отличие от Г.В. любил работать «на публике», чем больше зрителей, тем лучше ему работалось), спросил, как будет дана команда для залпа. Эйзенштейн сказал как и для наглядности взмахнул флагом. И тут же прозвучал залп. «Такой кадр пропал!» — по сей день сокрушается Г.В., вспоминая этот случай. Не хочу злословить, но случай, на мой взгляд, весьма показательный для Эйзенштейна.
Когда заходил разговор о наших картинах, я, разумеется, рассказывала не только о себе, но и о Г.В. Сталин с интересом слушал и однажды сказал, что он всегда считал Г.В. талантливым режиссером, но только благодаря моим рассказам узнал, насколько он талантлив. Сказаны эти слова были искренне, без малейшей примеси иронии.
Г.В. постоянно находится в рабочем, творческом состоянии. Даже во сне он может увидеть решение того или иного вопроса, а уж наяву-то все, что происходит вокруг, может стать частью, а то и основой для будущей картины. Так, например, замысел «Волги-Волги» родился у него во время поиска актрисы на роль Анюты в «Веселых ребятах» (это было еще до знакомства со мной). Сказали, что где-то под Москвой есть одаренная девушка, трактористка и певунья, звезда местной самодеятельности. Г.В. нашел ее. Девушка и впрямь оказалась талантливой и хотела попробовать свои силы в кино, но вот директор МТС[31] не отпустил ее в Москву. Сказал, пусть лучше работает на тракторе, это важнее. Г.В. расстроился, но задумался на тему бюрократов и самодуров. Тот директор стал прообразом Бывалова[32]. Из одного случая, из одного эпизода родился целый фильм.
* * *
Все письма от зрителей я читаю сама. Пусть не сразу, не в тот же день, но читаю. Ни одно, сколько бы их ни было, не остается непрочитанным. А как же иначе? Ведь люди пишут мне. Как я могу оставить их письма без внимания? Отвечаю далеко не на каждое, это правда. Тому много причин. Не каждое письмо требует ответа. Большей частью люди выражают восхищение (или порицание — бывает и такое). Выразили и все, продолжения не требуется. Некоторые дают мне советы. При всей их наивности, они иногда оказываются полезными. Нередко меня критикуют, причем сейчас, почти через тридцать лет после выхода «Веселых ребят», могут указать на те или иные недочеты (недостатки) Анюты. Я люблю, когда меня критикуют, особенно если это делается наедине (письмо — это ведь тот же разговор с глазу на глаз) и деликатным образом. Никто из нас не застрахован от ошибок. Всегда есть над чем задуматься, что исправить. Критика Анюты помогает мне в работе над нынешними моими ролями. Связь со зрителями крайне ценна для меня, очень важна. Среди писем встречаются признания в любви (такие я сразу откладываю в сторону, потому что искренне не понимаю, как можно влюбиться в экранный образ, в самом деле не понимаю), обширные критические разборы (читаю их внимательно, если, конечно, они содержательны), нередко попадаются просьбы. Просьбы я стараюсь выполнить. Если могу чем-то помочь, то обязательно помогу. Но я ведь не всемогуща, и во многом мои возможности не отличаются от возможностей обычного советского человека, что бы там ни думали люди. «Вы такая счастливая, — пишут мне. — Вы все можете». Все? Эх, если бы я могла все… «Все», в полном понимании этого слова, не может ни один человек. Даже Сталин не мог «всего», хотя мог многое, очень многое. Мог больше других, но совсем не «все». Всемогущество — сказочная категория, только в сказках можно найти волшебную палочку или поймать золотую рыбку. Главное, потом не оказаться у разбитого корыта. Ох уж это «разбитое корыто», печальный итог множества стремлений, финал многих надежд!
* * *
— Какой была твоя первая роль? — спросил Сталин после того, как мы посмотрели комедию «Горячие денечки»[33].
Вместе мы смотрели ее во второй (и в последний раз). У Сталина была привычка пересматривать картины по нескольку раз. Редко о какой Он выносил суждение с первого раза и более ее не смотрел. Это должна была быть очень слабая картина со множеством недостатков. На моей памяти такое случалось всего два раза. Во второй раз Сталин даже не стал досматривать. Поднялся на середине (тут же показ прекратился, и включился свет) и предложил мне прогуляться (дело было на даче). Обе эти картины не называю нарочно. Незачем, ведь речь не о них. Да и «Горячие денечки» вспомнились только к слову. Мы с Ним часто смотрели разные картины.
— Первая роль? — задумалась я. — Первой моей ролью была Ромашка. Хлоп-хлоп глазами, и какая-то реплика вроде «Доброе утро!». Мне тогда было четыре года. Или пять. В детстве я переиграла едва ли не весь ботанический мир. Ромашка, Подсолнух, Роза, Редька, Вишенка… Даже Грушей успела побывать. У детских спектаклей свои особенности.
— Сильно волновалась?
Вопрос был задан тоном знатока, человека, который знает, что такое выступать на людях.
— Не очень, — честно ответила я. — Ведь все или почти все зрители были своими, знакомыми. Большая разница — выступать перед своими, знакомыми людьми или перед незнакомыми. Свои добрые, они в любом случае похвалят и станут аплодировать. А вот незнакомые…
Помню, никогда не забуду и всегда буду помнить, как у меня дрожали все поджилки, когда я впервые вышла играть Герсилью[34]. Три фразы! «Да!», «Нет!», «Слушаюсь!». Сколько чувства вкладывала я в эти простые слова! «Да» мое было каменным, оно падало в зал гулко, шумно, крепко. Да-а-а! «Нет» — как удар топора. Резко, отрывисто, коротко. Сказала, как отрезала. Нет! Я попробовала для пущего эффекта (глупая была мысль, но тогда казалась актерской находкой) удваивать букву «т» на конце, чтобы выходило «Нетт!». Так мне, по неопытности, нравилось больше, но Н.-Д.[35] резко высказался в том смысле, что моя Герсилья француженка, а не чухонка[36], и добавил, что никакой акцент не может выглядеть уместным в пьесе, переведенной на русский язык. А «Слушаюсь!» я кричала столь вдохновенно, что едва не выпрыгивала из своего костюма (не имевшего, кажется, ничего общего с одеждой французских женщин того времени), смотревшегося весьма «иностранно» — красный чепец, белая блузка, синяя сборчатая юбка и лапти, стараниями одного из театральных умельцев переделанные в некое подобие деревянных башмаков. Лапти эти были ужасно неудобными, я готова была выходить на сцену босиком (бедной девушке вполне уместно ходить босиком), но мне этого «самовольства» не разрешили. Подозреваю, что дело было не столько в образе, сколько в плохом состоянии сцены. Ее незадолго перед тем отремонтировали, но доски были плохо обструганы и таили в себе великое множество заноз.
— Незнакомые? — прищурился он. — А я вот думал, что перед чужими выступать легче. Их ведь не так страшно разочаровать, как своих? Или я ошибаюсь?
— Зрителей никогда нельзя разочаровывать! — убежденно (и нисколько не кривя душой) ответила я. — Ни своих, ни чужих. Это детские впечатления…
Я смутилась. Думала одно, а сказала другое. Почти то же самое, но смысл совершенно изменился. Детские впечатления, первая роль… Помню, как аплодировала мне мама. Жаль, что в то время не было небольших переносных фотоаппаратов, только ящики на трех ногах в ателье, и нас никто не фотографировал. Впрочем, может, оно и к лучшему. Не всегда приятно смотреть на себя в прошлом, ведь сравнения не в пользу меня, нынешней. Но первая роль — это Первая Роль.
— А в кино? — задал Он следующий вопрос. — Как было в кино? Так же, как на сцене, или по-другому?
Его интересует все. Такой уж это человек. Хочет знать все, во все вникает.
— В кино не так страшно, — честно призналась я. — Можно переиграть то, что получилось неудачно. Зритель видит только итоговый результат, смонтированный фильм…
Про то, насколько трудно привыкать к камере («мертвый глаз», называет ее Г.В.), я говорить не стала. И про то, на какие жертвы порой приходится идти ради экономии пленки или ради экономии времени, тоже не сказала. Не стала вспоминать и сбесившегося на съемках «Веселых ребят» быка… Театр, он камерный, уютный. Там все по-домашнему. А кино — это буйство фантазии, темп, масштаб, смешение всего со всем. Но говорить обо всем этом не хотелось. Чего доброго, Он подумает, что я хвастаюсь. Что такое мои актерские дела в сравнении с той ношей, которая лежит на плечах Вождя? Стоит только попытаться представить себе это величие, проникнуться им хоть частично, и все суетное отходит на второй план…
Самая большая загадка, которая так и осталась для меня загадкой, — это необыкновенное сочетание в Сталине неимоверного величия с душевной человеческой искренностью, простотой. Больше никогда не встречались мне люди, которые были и просты, и величественны одновременно. Семейные предания говорят о том, что оба этих свойства были присущи Льву Толстому, но я о том судить не могу. Я могу судить только о том, что видела своими глазами.
Июнь 1936-го
Смерть Алексея Максимовича Горького стала для нас с Г.В. большим ударом. Как и для многих советских людей. Не будучи знакома с ним лично, я читала его книги и слышала много хорошего о нем от Г.В. Алексей Максимович не раз помогал Г.В., причем мог помочь, не дожидаясь просьбы или намека. Видел, что нужно помочь, и помогал. Алексей Максимович обладал не только огромным талантом писателя, но и большой душевной щедростью.
Сталина тоже сильно огорчила смерть великого писателя.
— Жаль, очень жаль Горького, — сказал Он мне. — Настоящий был человек.
Да, действительно — настоящий.
Очень люблю горьковскую «Вассу». Надеюсь когда-нибудь сыграть Вассу[37]. Совершенно непохожий на меня, не близкий мне человек, но какой образ! Какая глубина!
* * *
Сталин спросил, насколько сильно изменило мою жизнь кино. Изменило? Я задумалась, а потом ответила:
— Не изменило, а просто перевернуло! Только не могу понять — с ног на голову или с головы на ноги!
Наверное, все же с головы на ноги, ведь именно с прихода в кино началась моя настоящая жизнь. Знакомство с Г.В., роли, известность, чувство того, что я делаю большое и нужное дело… Личное знакомство со Сталиным… Вряд ли я познакомилась бы с Вождем, будучи актрисой музыкального театра, пусть даже и столичного.
— Кино вывело меня на большую дорогу! — добавила я и прыснула, сообразив, что сказала двусмысленность — большая дорога, там разбойники с большой дороги.
Мы посмеялись, я еще что-то сказала, не помню уже и что, а потом ударилась в подробности. Давно накопилось, да не было случая поделиться. Я сказала, что известность иногда тяготит меня. Хочется волшебную шапку-невидимку, да где ж такую взять. Приятно, когда тебя узнают, но если буквально шагу нельзя ступить без того, чтобы не слышать за спиной: «Смотрите, Любовь Орлова! Какое на ней платье!..», то это начинает тяготить. Спасают парики, шляпки. В брюнетке трудно узнать Любовь Орлову, а правильно подобранная шляпка сильно меняет если не внешность, то впечатление о ней. Иногда завидую Г.В. Вся страна знает режиссера Александрова, но мало кто его узнает на людях. Г.В. любит рассказывать, как вскоре после выхода «Веселых ребят» на улице возле него остановилась женщина и воскликнула с радостью и восторгом:
— Глазам своим не верю! Неужели это вы!
— Да, это я, — скромно ответил Г.В., связав свою «узнаваемость» с фотографией (групповой!), появившейся недавно в одной из газет.
— Спасибо вам, дорогой вы наш! — Незнакомка схватила руку Г.В. и начала энергично (Г.В. говорит «ожесточенно») трясти ее. — Спасибо вам за все!
Дело было на улице Горького, днем. Вокруг них сразу же собралась небольшая толпа любопытных граждан.
— Товарищи! — обратилась к собравшимся незнакомка. — Давайте все вместе поблагодарим этого человека за его талант, за его труд!
Г.В., тогда еще совершенно не избалованному славой в отличие от Эйзенштейна, было чрезвычайно приятно слышать такие слова.
— Кто это? — спросили из толпы.
— Как?! — ужаснулась незнакомка. — Разве вы не знаете?! Как вам не стыдно?! Это же…
Она выдержала паузу. Г.В. приготовился услышать: «…кинорежиссер Александров, который снял “Веселых ребят”», но вместо этого услышал…
— Композитор Дунаевский! — выкрикнула незнакомка и снова стала трясти руку Г.В.
Г.В. совершенно не похож на Дунаевского. Как можно было их спутать? Сам И.О. смеялся до слез, услышав от Г.В. эту историю. Г.В. рассказывает замечательно, заслушаться можно, да и сама история хороша и в какой-то мере поучительна. Так и просится в басню.
Слава — это и награда, и бремя. Так же, как и дружба. Об этом я тоже сказала Сталину.
— Разве дружба может быть бременем? — удивился Сталин. — Это уже не дружба.
— Я неправильно выразилась, — ответила я. — Надо было сказать «знакомство» или «общение». Есть люди, общение с которыми доставляет радость, но есть и другие…
Для примера рассказала о трех людях из числа знакомых. Начала с Г.А.[38], замечательного балетмейстера и не менее замечательного педагога. Когда я слышу: «Любовь Петровна, как хорошо вы танцуете!», то всегда отвечаю, что это заслуга Г.А. С Г.А. мы дружим до сих пор. Я была ее ученицей, никому тогда еще не известной актрисой, потом ко мне пришла известность, но это ничего не изменило в нашей дружбе. А вот с одной из актрис музыкального театра мне пришлось прекратить знакомство еще в то время, когда снимался «Цирк». Не имея никаких особых талантов и совершенно не отличаясь трудолюбием, она мечтала о кино и одолевала меня просьбами о содействии. «Твой муж режиссер, скажи ему, чтобы дал мне какую-нибудь роль!» — просила, а скорее даже требовала она, и с каждым разом тон ее голоса становился все требовательнее и требовательнее. Что означает «скажи ему»? Как я могу прийти и сказать Г.В.: «В музыкальном театре есть одна ничем не выделяющаяся и ленивая актриса, надо дать ей роль в картине»? Что ответит Г.В.? Скорее всего рассмеется, решив, что я его разыгрываю. Я пыталась объяснить истинное положение вещей, советовала больше работать и т. п., но когда поняла, что голос разума не доходит до человека, вежливо, но строго попросила ее оставить меня в покое. Надо ли упоминать, что теперь она повсюду говорит, что я зазналась, не желаю видеть старых друзей… Друзей! Друзей я рада видеть всегда. В отличие от таких вот людей. Другая актриса действовала тоньше. Вилась вокруг меня, расточая комплименты, и все время говорила о своей любви к кино. Познакомилась с Г.В., который «взял ее на ум», то есть запомнил на всякий случай, что есть такая актриса, которую можно пригласить на роль. Но в «Цирк» не пригласил. Когда она узнала, что мы начали работу над новой картиной, а ее сниматься не позвали, то стала нашим врагом. Стала распускать сплетни, выдумывать какие-то небылицы, короче говоря — исходить злобой. И при этом, встречаясь со мной или с Г.В., делала умильное лицо и сыпала ласковыми словами. Неужели надеялась, что мы не узнаем, что говорила она про нас за глаза?
Сталин слушал меня внимательно, хоть я и говорила долго. Спохватившись, подумала, что Ему все это может быть неинтересно и слушает Он только из вежливости, и поспешно закончила свой рассказ.
Сентябрь 1936-го
О проекте Конституции, который был опубликован в июне, много говорили и писали. Мы с Г.В. прочли проект, обменялись мнениями и сошлись на том, что проект хорош. Его готовила несколько месяцев специальная комиссия, которую возглавлял Сталин. Обсуждался проект и на собраниях.
Я не ожидала, что Сталин поинтересуется моим мнением о проекте, а Он поинтересовался. Причем не просто спросил, хорош ли проект, а начал спрашивать, что называется, «по пунктам». Я впала в замешательство, потому что не была готова к столь строгому экзамену.
— Конституция не катехизис, чтобы учить ее наизусть, — строго сказал Сталин. — Но ознакомиться с ней — обязанность каждого советского человека. Ознакомиться вдумчиво, серьезно…
Слово «советского» Сталин произнес с особым выражением.
Мне было очень стыдно. Вдвойне стыдно. И как советскому человеку, и еще потому, что Сталин всегда интересовался моими ролями, картинами, а я не дала себе труда как следует ознакомиться с важным документом, подготовленным под его руководством. На следующий день я села за стол, положила перед собой обе Конституции, старую и новую, и принялась изучать и сравнивать. Через три дня я могла выступить с докладом о Конституции перед самыми строгими слушателями, так дотошно я во все вникла. Думала, что в одну из наших следующих встреч Сталин спросит меня, исправила ли я свою ошибку, но он больше к этой теме не возвращался до декабря. А в декабре, когда новая Конституция была принята, я приехала к Сталину с шампанским, провозгласила тост за нее и похвалилась (уместно было похвалиться) тем, что исправила свою ошибку. Сталин улыбнулся и спросил, не хочу ли я перейти на работу в ИМЭЛ[39]? Я ответила, что люблю свою профессию и не намерена менять ее. На том дело и закончилось.
Я, по складу своего характера, не склонна к работе с документами. Мне довольно трудно дается изучение законов и пр. Все время приходится возвращаться назад, перечитывать, осмысливать, делать заметки для лучшего запоминания. Но уж если я какой документ изучила, то запоминаю его на всю жизнь. У Г.В. дела обстоят иначе. Он схватывает суть буквально на лету, при беглом чтении, но на память свою особо не полагается, предпочитая всегда иметь под рукой справочный материал — книги, газеты. Архив его огромен и растет с каждым днем.
* * *
Все мы любим своих матерей, и Сталин не был исключением. О матери он неизменно вспоминал с теплотой и любовью. Говорил, что она всю жизнь служит для него примером стойкости. Сколько бы невзгод ни выпадало на ее долю, она их стойко переносила и никогда никому не жаловалась.
— Что толку жаловаться? — не раз повторял Сталин. — Чтобы пожалели? А дальше что?
В русской речи Сталина сохранялся грузинский акцент, и оттого «дальше» Он произносил как «далше», без мягкого знака.
— Жалость губительна, потому что она ослабляет человека. Пусть наши враги жалеют сами себя, пусть их кто-нибудь жалеет, а мы в жалости не нуждаемся! Мы, коммунисты, — люди действия!
Меня всегда поражала великая мощь, заключавшаяся в этом невысоком, простом на первый взгляд человеке. На первый взгляд! Только на первый! Но держался Сталин очень просто, без какой-то рисовки. Так, наверное, ведут себя все люди, обладающие внутренней мощью. Однажды мне довелось видеть Керенского[40]. Это был представительный, осанистый мужчина, с правильной речью, правильно поставленным голосом, правильными жестами. Но в нем не чувствовалось никакой силы. Он не мог повести за собой, он не внушал почтения, он был никем. Точнее, не никем, а обычным, ничем не примечательным человеком, волею судьбы вознесенным наверх. Ненадолго вознесенным, надолго такие люди наверху не задерживаются.
Другое дело Сталин. Он был прост в общении, нисколько не рисовался, но все сразу же видели в нем Вождя. Огромная сила исходила от Него, но эта сила не угнетала, не давила, а, наоборот, вдохновляла, окрыляла, побуждала делать что-то хорошее, побуждала к свершениям. То был совершенно особенный человек, человек исключительных дарований, исключительной силы. Такие рождаются редко, раз в сто лет, а то и реже. И при всех своих величайших (не побоюсь этого слова) достоинствах Сталин был исключительно, удивительно скромен. Культ, о котором нынче столько говорят, создавал не Он, а разные подхалимы. Сталину не очень-то нравилось, когда его именем называли города или заводы. «Ну раз народ хочет, так уж и быть», — говорил Он. Культ личности! Личность была, а никакого культа не было! О каком культе может идти речь? Смешно! Если бы люди, которые осуждают Сталина, знали бы Его так, как знаю я, то вместо осуждения они бы Сталиным восхищались.
Приведу один пример. Однажды мы разговорились на очень интересную тему. О том, насколько могут отдельные люди оказывать влияние на исторические события. Говорили о Чингисхане, Иване Грозном, Петре Первом, Наполеоне… Я сказала, что многое из того, что происходит сейчас в Советском Союзе, происходит благодаря Ему, Сталину. Он покачал головой, улыбнулся и поправил меня:
— Благодаря Марксу, Энгельсу и Ленину. Я только стараюсь, как могу, продолжать начатое ими.
Мужчинам свойственно рисоваться перед женщинами, особенно перед любимыми. Свойственно производить впечатление, показывать себя с лучшей стороны и т. п. Сталин не рисовался передо мной, напротив, отметал в сторону мои комплименты и неизменно подчеркивал, что сам он не совершил ничего, заслуживающего восхищения. Однажды зашел разговор о Гражданской войне, конкретно — об обороне Царицына. Я вспомнила, как мы тогда следили за новостями с фронтов, как переживали. Царицын переходил из рук в руки, обстановка была сложной.
— Трудно было, — сказал Сталин. — Порой казалось, что внутренних врагов было больше, чем внешних. Если бы не Клим и другие товарищи, то я бы, наверное, не справился.
Если бы не Клим и другие товарищи… Но я-то прекрасно знаю, и все знают, какова была роль Сталина в той войне и в обороне Царицына. Недаром же этот город назвали Сталинградом. Однако Сталин подчеркнул, что без помощи товарищей ничего не было бы сделано. Пример коммунистической скромности. У нас весьма часто забывают о скромности, и чем дальше, тем чаще забывают, а жаль… С некоторых пор появилась традиция приписывать себе как можно больше заслуг. Своих, чужих, без разбору. Меня подобное поведение коробило и коробит. Неужели люди не понимают, каким смешным выглядит в глазах окружающих их наивное бахвальство? Неужели не боятся показаться смешными, жалкими?
Было время, когда мне казалось, что у меня достаточно опыта для того, чтобы понимать людей. Сейчас я многого не понимаю, и дело тут совсем не в недостатке опыта…
Декабрь 1936-го
Об этом случае, произошедшем в Челябинске на тракторном заводе имени Сталина, я часто вспоминаю и много рассказываю. Не могу обойти его вниманием и здесь. После концерта рабочие завода пообещали мне увеличить выработку поршневых колец к следующей нашей встрече, которая должна была состояться очень скоро, после моего возвращения из Магнитогорска. Рабочие сдержали свое обещание и в память об этом подарили мне поршневое кольцо с надписью. Про этот случай даже стихотворение было написано.
Вернувшись в Москву, я показала это кольцо Сталину. Ему очень понравился такой подарок. Остроумная и очень правильная идея. Сталин внимательно прочел надпись на кольце и задумался. Я ждала, что Он мне скажет.
— Государственный подход у челябинских товарищей, — сказал Сталин и осторожно, словно боясь разбить, положил кольцо на стол. — Молодцы. Так и должны поступать советские люди. Артистке Орловой приятно, коллективу завода приятно, мне приятно знать, что есть в Челябинске такие люди, и еще государству польза. Наверное, надо запретить дарить артистам цветы? Пусть лучше такие подарки дарят…
Я улыбнулась, понимая, что Сталин шутит.
— Оставим цветы в покое, — продолжил Сталин после небольшой паузы. — Без цветов не обойтись, они создают праздничное настроение. Но почин хороший, надо распространять. Кто директор на Челябинском тракторном?
Он назвал какую-то фамилию, кажется, на букву «Л». Я снова поразилась феноменальной памяти Сталина. Так все помнить! Я только что вернулась из Челябинска, знакомилась на тракторном с заводским руководством, но половина фамилий вылетела из моей головы сразу же. Одно дело знакомство в спокойной обстановке и совсем другое, когда вокруг много людей, шум, имена и фамилии называются быстро, скороговоркой, одно за другим… Как тут всех запомнить? Путаница в голове, сумбур. Иногда со мной происходили такие казусы, что и вспомнить стыдно. Так, например, в Киеве одного руководителя по имени Климент Николаевич, я упорно называла Климентом Ефремовичем, как Ворошилова, а он из деликатности меня не поправлял. Поправил меня Г.В., присутствовавший при этом. Улучив момент, отвел в сторонку и шепнул: «Он не Ефремович, а Николаевич». Как же мне было стыдно! Я готова была провалиться сквозь землю.
Январь 1937-го
Сталин сказал, что хорошо бы было снять такую картину, в которой были бы показаны все республики Советского Союза. Чтобы у зрителя могло создаться полное, исчерпывающее впечатление о нашей стране, о ее величии, обо всех переменах, которые происходят в ней. Я уже давно поняла, что кое-что из того, что говорится мне, на самом деле предназначено Г.В. Сталину не всегда хотелось высказывать свои мысли напрямую (а то Он и просто избегал делать это), потому что всякая напрямую высказанная мысль Вождя расценивалась и воспринималась как прямое указание, приказ. Сталин же, в отличие от некоторых деятелей, прекрасно понимал, что в искусстве прямые указания помогают далеко не всегда. Порой они даже вредят, потому что творческий процесс имеет свои тонкости и не терпит грубого вмешательства. Сталин понимал это. Он все понимал. Не могу не привести противоположный пример — Жданова[41], который мнил себя величайшим знатоком искусств и грубо вмешивался во все, во что только получалось вмешаться.
Г.В. очень понравилась эта идея. Он начал прикидывать и так и эдак и в конце концов захотел снять современную сказку, в которой пионеры получали от доброй феи шапку-невидимку и ковер-самолет. С помощью этих волшебных предметов ребята побывали во всех республиках Советского Союза. Картина должна была называться «Счастливая родина».
Реализация идеи была неплохой, мне она понравилась. В роли феи Г.В. хотел снять меня. Я не возражала, в кино мне еще никогда не приходилось играть волшебниц. Г.В. взялся за сценарий и, поскольку сказка должна была быть музыкальной, обратился к И.О. с просьбой написать музыку к фильму. Одновременное написание сценария и фонограммы в правилах Г.В. Подобный подход себя оправдывает. При условии, что сценарий и музыку пишут люди, хорошо понимающие друг друга. Но с этим у Г.В. и И.О. проблем никогда не возникало. Они понимали друг друга буквально с полуслова. Мне доводилось присутствовать на их «производственных совещаниях». Разговоры там велись примерно такие:
— А вот здесь…
— Да-да! Именно здесь! Я тоже подумал…
— А в этой сцене…
— Согласен, здесь надо побравурнее…
— Темп!
— Легато на стакатто!
— Фортиссимо!
— И плавный переход…
— Конечно же, плавный! Никак иначе!
Послушает кто посторонний, так решит, что это общаются двое сумасшедших. Отрывистые фразы, отдельные слова, ничего не понять… А в результате рождается новая картина.
Г.В. был уверен, что его видение картины встретит понимание у руководства, но получилось иначе. Б.З. «сказочная» идея не понравилась.
— Что за чушь?! — грубо сказал он, прочитав начало сценария. — Феи, шапки-невидимки, ковры-самолеты! Только волшебного зеркальца не хватало! Вы что, забыли, в какой стране мы живем? Идея неплоха, но вот способ ее реализации выбран неверно. К чему вся эта мистика? Пионеров оставляйте, а фею с ее подарками долой!
Напрасно Г.В. пытался объяснить, что сказка помогает выстроить сюжет картины, оправдывает быстрые перемещения героев по стране, позволяет им наблюдать жизнь.
— Пусть летают на самолете! — заявил Б.З. — Самолет — это современно и реалистично!
Пять лет назад в Ленинграде сняли картину «Старик Хоттабыч». Перенесли сказку в наше время, и получилась весьма хорошая картина. Г.В., посмотрев ее, вспомнил «Счастливую родину». Он хотел сделать примерно то же самое, только двадцатью годами раньше. Жаль, что не удалось.
Если птице подрезать крылья, то она уже не сможет летать. Если творческому человеку сломать один замысел (грубо сломать!), то второго может и не появиться. Недаром же говорится, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Наткнувшись на непонимание руководства, Г.В. попытался было изменить концепцию картины, но это ему не удалось. Идея с феей и ее дарами была очень удачной, интересной, логичной. С самолетом было сложнее. Кто станет возить ребят по стране? Зачем? С какой целью? Излишний, чрезмерный реализм порой идет во вред творчеству. Хороший замысел рассыпался на глазах. Видя, как Г.В. мучается поисками, я предложила ему свою идею. Пусть ребята со всех республик соберутся в Москве на какой-нибудь пионерский слет и каждый расскажет о своей родине.
— Спасибо, но это будет не то, — грустно вздохнул Г.В. — Получится сборник новелл, а мне хочется снять цельную картину. Там вся соль в том, что ребята летают по всей стране, сравнивают, подмечают различия и в то же время видят то общее, что объединяет всех нас. Стоит только разбить картину на отдельные части, как вся соль пропадет.
Я согласилась с Г.В. Долго мы ломали голову. И.О., которому было жаль проделанной работы, тоже пытался помочь, но безуспешно. На обломках старого замысла новый так и не родился. Некоторое время Г.В. казалось, что главных героев можно «состарить» лет до 25 и сделать корреспондентами, но в конечном итоге он отказался от этой идеи. Дети в качестве главных героев привлекали его свежестью своего восприятия, оригинальностью суждений, любопытством и всем прочим, что свойственно детскому возрасту.
Я так сердилась на Б.З.! Самодурство! Типичный, классический пример самодурства! Даже мелькнула однажды мысль пожаловаться на Б.З. Сталину, но я ее сразу отогнала. Жаловаться не в моих правилах, к тому же у Сталина и без того хватало дел куда более значительных.
Советскому кинематографу, к огромному моему сожалению, поначалу не очень-то везло с руководителями. Дело было относительно новым, и у руководства оказывались, мягко говоря, случайные люди, не разбирающиеся в специфике кинопроизводства, привыкшие действовать грубыми методами, без учета тонкостей.
* * *
Г.В. часто вспоминает Голливуд. Делает сравнения, все они оказываются в нашу пользу, в пользу советского кинематографа. Кумир Голливуда — деньги. В капиталистическом мире не может быть иначе. Там все завязано на деньгах и им же подчинено. Художественные достоинства картины никого не интересуют, всех заботит только один вопрос — окупятся ли расходы на съемку картины, сколько прибыли принесет она?
— В Голливуде делают не искусство, а деньги! — это одно из любимых выражений Г.В., которое он услышал от Чарли Чаплина.
Чаплин искренне удивлялся тому, что кинематографисты из Советского Союза приехали перенимать опыт в Голливуд: «Чему здесь учиться? Разве что тому, как делать деньги?» Таково было мнение человека, наблюдавшего Голливуд изнутри, знавшего его досконально.
Очень сильно Г.В. поразило в Голливуде неравенство, разница в отношении к «звездам», знаменитым актерам, и тем, кто знаменитости не достиг. У нас существуют разные ставки, в зависимости от заслуг и опыта, но во всем остальном между актерами, независимо от их заслуг и известности, нет никаких различий. И не может быть. В Голливуде же все подчинено интересам «звезд», их прихотям и капризам. Только мнение «звезд» и продюсеров имеет значение, только к ним нужно прислушиваться. О каком искусстве может идти речь в обстановке подобного неравенства? Настоящее искусство есть форма самовыражения личности, которое не терпит неравенства. Никогда бы не хотела работать в Голливуде. Никогда бы не смогла там работать. Да что работать, я бы и жить там не смогла! Когда выезжаю за границу, чувство такое, будто мне постоянно не хватает воздуха. Возвращаюсь домой и начинаю дышать полной грудью.
* * *
«Могу я узнать, почему у тебя нет детей? — спросил Сталин. — Ведь ты такая… женственная». Это «женственная» прозвучало для меня наивысшим комплиментом. «Или актерская карьера и дети несовместимы?»
Я не знала, что ответить. Слишком трудный вопрос. Слишком много всего. Дети? Хотела ли я когда-то иметь детей? До сих пор не могу определиться — хотела ли или нет. Наверное, все-таки нет. Если бы хотела, то родила. Я умею добиваться желаемого и если уж чего-то хочу, так непременно получаю.
Когда-то в детстве, играя в куклы, я мечтала о том, как у меня будет ребенок (светловолосая голубоглазая девочка), как я стану с ней играть и т. п. Обычные детские мечты, не более того. Все девочки, наверное, мечтают о том же, когда играют в куклы. Потом… Потом я подросла, и у меня появились другие мечты… Потом была революция… Потом было не до детей, потому что жилось трудно, а когда жизнь моя наладилась, то как-то получилось так, что детям в ней уже не было места. Меня считают везучей, родившейся в рубашке, счастливой. Оглядываясь назад, скажу — да, я счастлива, но счастье мое особого рода. Желания мои начали исполняться далеко не сразу. Анюту, роль, с которой началась моя известность, я сыграла уже в зрелом возрасте. В «позднем пушкинском», как иногда говорит Ф.[42] Тут уже поневоле задумаешься — не поздно ли заводить детей?
Есть еще одна причина, она, должно быть, самая главная, и от нее уже исходит все остальное — страх. Я ужасная трусиха, боюсь плохо сыграть, боюсь не так сказать, боюсь, что меня задавит машина, много чего боюсь… Боюсь не только за себя, но и за близких. Если мы расстаемся с Г.В., то воображение мое сразу же начинает рисовать всякие ужасы. Пока была жива мама, я так же боялась за нее. Доходило до смешного (если слово «смешно» здесь уместно). Порой, когда мама впадала в меланхолию, с ней становилось тяжело. Мы с Г.В. притворялись, что уезжаем в командировку, а на самом деле селились в одной из московских гостиниц и пережидали там «черные дни». Мы жили рядом от дома, каких-то пять или десять минут ходьбы, я по два-три раза в день звонила маме и все равно волновалась, как она там. Г.В., глядя на меня, полушутя-полусерьезно предлагал мне сходить и проведать маму, но это бы означало конец всей затеи. Увы, даже близкие люди порой бывают настолько невыносимы, что хочется убежать от них на время. Единственное исключение — Г.В. С ним мне всегда ровно, спокойно, хорошо. Никогда не тянуло и не тянет избегать его общества, напротив, мне каждый раз приятно приходить домой и видеть там Г.В.
Страхи мои простительны, ведь я женщина и жила в трудное, весьма непростое время. Мой первый муж, занимавший руководящие посты в Наркомземе[43], не раз арестовывался, то по обвинению в причастности к какой-нибудь группировке, которых в этой системе было великое множество, то по обвинениям в перегибах или саботаже. Арестовывали, отпускали, приглашали на допрос, задерживали на несколько дней, снова отпускали… Такое сложное, неоднозначное было время. На руинах старого мира строился новый, и невозможно было обойтись без вредительства и перегибов. Муж мой занимался в Наркомземе самой «опасной» работой. Он ведал финансированием сельского хозяйства, а сельское хозяйство в чем-то сродни торговле. Как хорошо ни работай, сколько ни старайся, а все равно чего-то да нарушишь, где-то ошибешься. А ошибки зачастую не прощаются. Да и знакомства надо вести с разбором. Совместные и совершенно невинные застолья с кем-то из заговорщиков могу быть расценены как участие в заговоре. Осторожность прежде всего. Для моего первого мужа все закончилось тремя годами ссылки. Не самый худший вариант.
Можно ли было заводить детей в подобной обстановке вечного беспокойства, непрестанной тревоги? Вряд ли. Я, во всяком случае, о детях тогда даже не задумывалась, несмотря на то что любила мужа и… Не сложилось, так тому и быть.
Следующая причина, не главная, но и не самая последняя, стала ясна мне много позже, можно сказать, что недавно. До этого я чувствовала, но не осознавала. Причина эта мое вечное стремление к независимости, самостоятельности. В детстве «я сама» были моими любимыми словами. «Люба, не «ясамкай»!» — одергивала меня сестра. Рождение ребенка делает женщину зависимой. Еще один довод «против»…
Причины разворачиваются в какую-то картину, то есть становятся понятными лишь после долгого раздумья. Чтобы вырастить урожай, надо как следует покопаться в земле, чтобы разобраться в чем-то, надо как следует покопаться в себе. Но тогда я не знала, что ответить, поэтому долго молчала, а когда поняла, что дальше молчать невозможно (у Него была такая привычка — в ожидании ответа удивленно приподнимать бровь), то сказала просто:
— Не сложилось, упустила время.
— Какие твои годы? — усмехнулся он, и по взгляду его я поняла, что он знает мою маленькую тайну[44].
— Какие не есть, все мои! — не без вызова ответила я.
Больше мы с Ним никогда о детях не заговаривали. Впрочем, нет, однажды он сказал, что Светлана[45] его чаще радует, нежели огорчает. Сказал вскользь, просто к слову пришлось.
При всем моем нежелании (будем называть вещи своими именами) иметь детей, я тем не менее люблю этот непосредственный, еще не испорченный житейскими условностями народ. Я умею общаться с детьми, умею находить с ними общий язык. Так, во всяком случае, утверждают мои знакомые. Секрет мой прост. Я стараюсь общаться с детьми на равных, без снисходительного сюсюканья и прочих взрослых привычек. Дети это ценят.
У нас с Г.В. нет детей, таково наше обоюдное решение. Но у Г.В. есть сын от прежней жены. Не могу сказать, что сын часто радует Г.В. Скорее наоборот. Наблюдаешь за их взаимоотношениями и невольно задумываешься о том, стоит ли вообще заводить детей? Наверное, каждый сам должен ответить себе на этот вопрос. Это очень личное, сугубо интимное. Г.В. считает, что известная актриса, кумир миллионов, не может замыкаться в узких семейных рамках, ограничивать себя ими. Он шутит: «Надо быть выше бытовых оков». Согласна, надо. Все бытовое ужасно затягивает, словно болото. Отнимает время, которого и так не хватает.
Он однажды сказал мне: «Ты так торопишься жить!» Я не поняла, был ли то упрек или же простая констатация факта. Но ответила: «Не знаю, сколько осталось, вот и тороплюсь». Наверное, я в самом деле тороплюсь. Хочется успеть и то и это, столько всего хочется успеть сделать, а время идет, бежит, бежит… Помню, каким потрясением стало для меня мое двадцатилетие. Мне двадцать! Неужели?! Нет, это происходит не со мной! Это сон! Ведь совсем недавно, едва ли не позавчера мне было шестнадцать…
Двадцать… Тридцать… Сорок… Пятьдесят… Дальше считать не хочется. Дальше считать незачем. У любой женщины есть возраст, на котором отсчет годам останавливается, прекращается. Человеку столько лет, сколько он сам ощущает. Мой внутренний возраст находится примерно посередине между тридцатью и сорока годами. Лучшая пора жизни, сочетание сил и опыта.
«Лучше смотреть не в паспорт, а на календарь», — шутит Г.В.
Смотрю на календарь. На календаре февраль 1962 года. 1962-го! Невероятно! Непостижимо! Мне до сих пор иногда снится, что я маленькая девочка Любочка. Вот, думаю, открою сейчас глаза и услышу мамин голос: «Пора вставать, лежебоки!» Солнечный зайчик засверкает на потолке, любимая кукла Мальвина (о, как же маме не нравилось это имя, выбранное мной за звучность!) протянет ко мне руки, завтрак уже будет ждать на столе, и мы с сестрой станем есть быстро-быстро, наперегонки…
Я давно уже засыпаю и просыпаюсь в наглухо зашторенной комнате, потому что от яркого света мне становится нехорошо. Мамы и сестры уже нет в живых. Я уже давно не та девочка Любочка… Все изменилось. Только сны иногда снятся из прошлого…
* * *
Однажды я употребила при Сталине выражение «концертное пение». Сталин заинтересовался и попросил объяснить ему смысл. Это выражение, которое можно назвать и термином, я придумала сама. Может, оно звучит и не совсем верно, но я его часто использую, когда хочу подчеркнуть, что тот или иной актер или актриса исполняют песню в картине, не вкладывая в нее душу. Такое пение сродни исполнению музыкального номера в концерте. Вышла на сцену, спела, поклонилась и ушла. Безликое, пусть даже и талантливое, пение не может тронуть зрителей. Таким пением нельзя насладиться в полной мере. Песня, спетая таким образом, никогда не будет подхвачена, не уйдет в народ. Петь надо так, чтобы изливать в песне душу, передавать посредством ее свои мысли, свои чувства, свое настроение.
Перед тем как начать петь песню, я долго вхожу в образ. Создаю в душе настроение, схожее с настроением моей героини, и пою от ее имени. Даже не так, нет. Я становлюсь моей героиней, думаю о том, о чем думает она, чувствую то же, что и она, и тогда уже начинаю петь. Только так и никак иначе. Марион не может петь, как Анюта, а Анюта не может петь, как Стрелка. Все они мои героини, но все они очень разные.
Я всегда мечтала сыграть в кино близнецов. Это очень сложная задача для актера — явить в одной картине два образа, причем явить так, чтобы образы, при внешнем сходстве, различались, были бы узнаваемы. Г.В. знал об этой моей мечте и еще во время съемок «Цирка» «подбирался», по его выражению, к сценарию, думал, как можно воплотить ее на экране. Скоро мы уже начали обсуждать варианты. Но сначала нас отвлекли другие планы, потом была война, и только в 1947 году в картине «Весна» я сыграла актрису Веру Шатрову и учёную Ирину Никитину. Неожиданно оказалось, что директора института играть легче. Образ Никитиной мне удался сразу, Г.В. сказал, что я «вошла в него, не сняв перчаток». А вот с Верой пришлось помучиться. Поначалу она выходила какой-то серой, неинтересной, но потом я нашла кое-какие зацепки, изменила трактовку роли, и все пошло как по маслу.
* * *
Сталин очень интересовался всем, что было связано с кино, театром и вообще актерской профессией. Он, как мне казалось, знал все обо всем, во всяком случае, его поистине энциклопедические, без преувеличения, знания неизменно меня поражали. И не только меня, а всех. Но вот актерство в какой-то мере оставалось для Сталина неизведанной землей. Разумеется, сыграла свою роль и моя принадлежность к актерскому цеху. Наши отношения были близкими, доверительными, и он интересовался не только кино или театром вообще, но и моими делами.
Узнать, вникнуть, понять, сравнить, разложить все по полочкам и запомнить на всю жизнь — вот таков был Сталинский метод познания. Основательный, капитальный. При всем том знания Сталина были не мертвыми, а живыми. Поясню то, что имею в виду. Некоторые люди, изучив что-то, на всю жизнь остаются при одном и том же мнении, смотрят на вещи с одной точки зрения. Подобный подход неверен, потому что все меняется, развивается, переходит из одной формы в другую. Знания Сталина постоянно развивались, дополнялись, совершенствовались.
Кино и театр — что между ними общего и какая разница? Применительно к актерской профессии эти вопросы, как мне казалось, интересовали Сталина больше всего. Возможно, интерес этот имел под собой практическую основу. Сталин мог оценивать сравнительные перспективы кинематографа и театра с государственной точки зрения или иметь еще какие-то соображения государственного масштаба. Он всегда мыслил масштабно. А может, то было просто живое человеческое любопытство. Не могу сказать с уверенностью, поскольку никаких выводов, касающихся театра и кино, Сталин со мной не обсуждал.
Вопрос Сталина о том, рассчитываю ли я когда-то в будущем снова вернуться на театральную сцену, был задан между делом, во время обсуждения одной новой картины (не нашей с Г.В.), которую мы со Сталиным, так уж вышло, посмотрели порознь. Вопрос оказался сложным. Мне пришлось подумать, взвесить доводы и контрдоводы, прежде чем ответить.
— Наверное, мне бы хотелось вернуться на сцену, — наконец ответила я, — только уже в качестве драматической актрисы. Ну и, конечно же, расставаться с кинематографом навсегда я не собираюсь.
— Почему драматической? — спросил Сталин. — Надоели комедии? Может, товарищу Александрову пора сменить направление?
— Дело не в этом, — ответила я. — Комедии и вообще роли не могут «надоесть», это слово к ним совершенно неприменимо. Просто жизненный и актерский опыт, по мере накопления, рано или поздно побуждает к драматическим ролям. Взрослеешь, мудреешь, совершенствуешься…
— Некоторые взрослеют, но не мудреют, — усмехнулся Сталин.
— Со стороны виднее, — отшутилась я и продолжила развивать свою мысль.
Закончила я словами:
— Не могу сказать, когда именно я приду в театр и в какой театр, но когда-нибудь это непременно произойдет!
Фраза эта прозвучала немного пафосно, но то был естественный пафос. Пафос, с которым актриса говорит о театре.
Знала бы я тогда, каким будет мой приход в театр! Знала бы, насколько сложная задача сразу же встанет передо мной! Имя этой задачи — «Русский вопрос»[46]. Широко известная пьеса, да еще и экранизированная вдобавок. Талантливо экранизированная. За плохие картины Сталинские премии первой степени не дают.
Когда после войны (точнее, уже после окончания работы над «Весной»)[47] я поняла, что «созрела» для театра, для драмы, то сразу же озадачилась выбором. Театров в Москве много, меня бы с радостью приняли в любой, но сделать выбор было нелегко. Не легче, наверное, чем выбрать спутника жизни. А то и сложнее. В начале творческого пути проще. Ты никого и ничего не знаешь, не понимаешь нюансов, не представляешь своего места в искусстве, и тебя никто не знает. Выбор очень часто бывает не осмысленным, а случайным. Полностью или в какой-то мере. А то и просто вынужденным — куда возьмут. Начинающему актеру долго думать не приходится. А вот актеру состоявшемуся много сложнее…
Каждый театр хорош на свой лад. Я не выношу, когда при мне говорят «плохой театр». Всегда объясняю, что плохим может быть режиссер или актер, но театр, коллектив, плохим быть не может. Каждый театр имеет свое лицо, свой дух, свое направление… Куда-то меня тянуло сильнее, куда-то, можно сказать, совсем идти не хотелось. Я прислушивалась не только к себе, но и к мнению близких друзей.
Много хорошего довелось мне слышать о Театре имени Моссовета[48]. В конечном итоге у меня оказалось сразу несколько веских доводов в пользу именно этого театра — талантливый главный режиссер[49], не только режиссер, но и друг, близкие мне люди в коллективе, современная направленность театра. Я остановила свой выбор на Театре имени Моссовета и получила роль Джесси Смит в «Русском вопросе». Картина по этой пьесе тогда еще не шла в кинотеатрах, она только снималась, но пьеса шла одновременно в нескольких театрах Москвы. Ничего удивительного в том не было. Пьеса была острой, современной, затрагивала тему, близкую каждому советскому человеку[50]? Мы помним, что были союзниками с американцами и англичанами, и никому не удастся вбить клин между нашими народами.
Играть в пьесе, идущей одновременно во многих театрах, очень сложно. Нужна оригинальная трактовка роли, нельзя было допустить того, чтобы моя Джесси стала копией чьей-нибудь другой Джесси или же оказалась бы менее выразительной. Задача, поставленная передо мной Ю.А., была очень сложной, но она соответствовала моему опыту, и я не привыкла отступать перед трудностями. Я не испугалась и не огорчилась, напротив, я была даже рада. Приятно ведь сделать что-то лучше других, утвердить свое первенство. Я далека от бахвальства и зазнайства, пишу откровенно, как есть. Роль Джесси я рассматривала как состязание с другими актрисами, нечто вроде спортивного соревнования.
Над трактовкой роли пришлось поломать голову. Вроде бы и сложилось видение, но слишком уж моя Джесси напоминает «чужую». А если так? А что, если вот так? Или так?
Большинство актрис видели в Джесси жертву безжалостного капиталистического общества, сломленную, лишенную счастья женщину. Подобная трактовка представлялась мне неглубокой, поверхностной, однобокой. Она не показывала сути Джесси, не открывала перед зрителем ее характера. Вызывала жалость, и только. Я же в итоге поняла, что Джесси не очень-то заслуживает жалости. Ее любовь фальшива, чувства претенциозны, характер эгоистичен. Можно, конечно, посочувствовать ей, ведь стала она такой не по своей воле, так ее «исковеркало» капиталистическое общество, но в этом есть и часть ее собственной вины. Она оказалась слабой, пошла на поводу, сдалась и со временем уничтожила в себе все хорошее. Джесси не любит, а всего лишь изображает любовь, потому что настоящая любовь не может закончиться предательством. Ее слезы лицемерны, это слезы жалости к себе, выражение досады, а не горя. «Ты мог бы мне сказать, что я не смею бросать тебя в бедности и несчастье, но в бедности и несчастье я буду только еще одним твоим лишним несчастьем, — говорит Джесси мужу на прощание и добавляет: — И чем дальше, тем хуже». Да, именно так — чем дальше, тем хуже, потому что моральное падение Джесси, ее нравственное растление дошло до той точки, откуда уже нет возврата. Но в то же время любой человек, особенно женщина, какой бы плохой она ни была, испытывает потребность в любви. Нет-нет, а сверкнет в самой черной душе светлая искорка.
Такую вот Джесси я и сыграла — циничную, лживую, расчетливую, но в то же время с искорками. Искорки эти давались мне труднее всего, ведь их надо было показать очень тонко.
Сложная трактовка, сложная задача, но я с ней справилась. Газеты писали, что мне удалось создать лучший образ Джесси. А ведь было с кем сравнивать, Джесси играли хорошие, известные актрисы. Я горжусь этой ролью, моей первой драматической театральной ролью. Не могу сказать, что она у меня самая любимая, но она очень дорога мне. И творчество Симонова я полюбила после этой роли. Он очень хороший писатель, глубокий и тонкий.
* * *
Ох уж эти шаблоны! Не выношу шаблонов! Удивляюсь, как можно судить о чем-то «по шаблону». Слепое следование какому-то образцу, зачастую неверному… Суждение без понимания, тоже по «образцу»… Зачем? Сталкиваюсь я с этим явлением постоянно. Можно сказать, что шаблоны преследуют меня. И Г.В. тоже преследуют. Ему часто приходится слышать: «Режиссером быть хорошо и просто. Знай себе, командуй всеми…» Как бы не так! Г.В. в ответ на это рассказывает один-два случая из своей режиссерской жизни. Больше всего любит вспоминать один эпизод из «Веселых ребят», который сам же потом безжалостно выбросил из картины, потому что решил, что он «растягивает действие». По задумке, мать Елены, гуляя по скалистому берегу, видела, как ее дочь где-то там внизу обнимает незнакомый мужчина, теряла от ужаса сознание и падала со скалы в воду. Соль эпизода заключалась в дородной комплекции матери Елены. Море, приняв ее в свои воды, выходило из берегов. Очень смешной эпизод, мне до сих пор жаль, что он не вошел в картину.
Скалы и море были настоящими, снимали в Гаграх. Падать, а на самом деле ловко прыгать, пришлось Г.В. Леночка[51], игравшая роль матери Елены, прыгать не могла. Охотников исполнить этот довольно рискованный, надо сказать, трюк, не нашлось. Вызывать кого-то из Москвы означало потерять время (этот эпизод не входил в первоначальный план, Г.В. придумал его на ходу, уже в Гаграх). Что было делать Г.В.? Только одно — прыгать! И сколько раз так бывало. Это одна сторона режиссерской профессии. А дают ли себе те, кто считает эту профессию легкой, труд задуматься о том, что режиссер несет ответственность за картину?
То же можно сказать и об актерах. Жизнь актера — не сплошной праздник, а упорный ежедневный труд. Без труда, как известно, рыбку из пруда не вытащишь. Нельзя ни о ком судить «по шаблону»!
И тем более нельзя судить по шаблону о таком человеке, как Сталин! И по какому шаблону? Кем пытаются выставить Сталина некоторые «современники»? (Намеренно беру это слово в кавычки, чтобы подчеркнуть свое отношение к ним.) Откуда-то взялся образ, в котором собраны едва ли не все людские пороки. Придумано выражение «культ личности». Появилось множество клеветников… Обнаглевшая бездарь[52] (не помню уже, кто это сказал, но выражение точное). Им бы задуматься об отсутствии таланта, а они все валят на Сталина! Сталин помешал им состояться, реализовать себя! Как бы не так!
Порой не могу сдерживать себя. Знаю, что меня не поймут, что станут перешептываться за моей спиной, но тем не менее не могу не сказать то, что думаю, не могу не осадить клеветника. Вот и сегодня в театре после собрания, услышав, как В. разглагольствует о «культе личности» и своих «страданиях», я со всем ехидством, которое только смогла выжать из себя, поинтересовалась, что именно она имеет в виду под «страданиями»? Четыре Сталинские премии? Три ордена? Звание народной артистки? В. начала запальчиво говорить о своих родственниках, но я не позволила ей увести разговор в сторону и попросила ответить на мой вопрос. Ответа я так и не получила[53].
* * *
После выступления в доме-музее Чайковского в Клину у нас с Г.В. родилась идея снять картину о великом композиторе. Разумеется, серьезную биографическую картину, а не комедию. Я очень бы хотела сыграть Надежду фон Мекк, покровительницу и друга, с которой Чайковский общался исключительно по переписке. Почему они так решили? Каковы были истинные мотивы, вынудившие их дружить на расстоянии. Загадка. Загадочное всегда интересно играть. Поделилась своими мыслями со Сталиным. Он отнесся к идее картины о Чайковском весьма прохладно.
— Почему вдруг Чайковский? — спросил Сталин. — Почему не Глинка? Не Мусоргский? И что такого привлекательного может быть в роли баронессы фон Мекк, сын которой был отъявленным контрреволюционером[54]?
Возражать я не осмелилась. При первом же удобном случае в приемлемой форме передала мнение Сталина Г.В. Г.В. согласился, что кинорассказ о русских композиторах логичнее начинать с Глинки, как первого подлинно русского композитора, основоположника русской композиторской школы[55].
* * *
Слово «кустарщина» одно из любимых у нас с Г.В. Оно служит нам для обозначения всего плохого, некачественного, непрофессионального, что есть в кино. Увы, годы становления кинематографа давно миновали, а кустарщина все живет. Проявляется то здесь, то там. К сожалению.
Сталину этот наш «термин» не понравился. Услышав его от меня и получив объяснение, Сталин сказал:
— Не годится подменять одно другим. Не годится называть халтуру «кустарщиной». Кто такой кустарь? Единоличник, надомник. Разве картины у нас снимают единоличники? Нет уж, товарищ Орлова, давайте мы будем называть белое белым, черное черным, а халтурщика халтурщиком. Так будет правильнее.
Я нисколько не обиделась за сделанный мне «выговор», потому что знала Сталина. Четкость формулировок всегда была Сталинским коньком. Благодаря этой четкости речи и труды Сталина понятны всем, благодаря ей слова Сталина находили путь к любому сердцу.
Старые привычки живучи. Слово «кустарщина» иногда срывается с моего языка, но это случается очень редко. Невозможно сосчитать, сколько таких уроков преподал мне Сталин. Долгое общение с Вождем можно приравнять к учебе в университете. Без преувеличения.
Март 1937-го
— Недавно получил письмо от молодого рабочего из Саратова, — сказал Сталин и протянул мне тетрадный листок, исписанный красивым округлым почерком (чувствовалось, что писавший очень старался). — Интересное письмо…
Дословно содержание письма я не помню, но там было написано, что некий рабочий завода «Сотрудник революции» (название я запомнила, оно из редких, запомнила и фамилию — Воронов) хочет стать актером, активно участвует в самодеятельности и собирается «учиться на актера». Препятствовал этому секретарь заводской комсомольской организации, который считал подобный поступок (попытку рабочего стать актером) «дезертирством с трудового фронта и предательством интересов социализма». Товарищ Воронов обращался в райком комсомола и в партийную организацию завода, но не нашел там понимания. Тогда он решился написать Сталину.
Письмо, несмотря на некоторую его наивность, подкупало своей искренностью. Товарищ Воронов не просил Сталина устроить его судьбу, он просто хотел узнать, действительно ли рабочий, желающий стать актером, поступает плохо, становится дезертиром? Почему? Ведь актеры так же нужны народу, как и представители других профессий?
— Что скажет артистка Орлова по этому поводу? — спросил Сталин, когда я дочитала письмо до конца.
— Думаю, что у некоторых товарищей в Саратове от напряженной работы немного помутился разум! — сердито сказала я. — Доводилось мне слышать, что все актеры бездельники, но никто еще не называл нас «предателями интересов социализма». Если бы я могла ответить на это письмо, то…
— А почему бы и нет? — Сталин хитро прищурился. — Почему артистка Орлова не может ответить на это письмо?
— Но оно же адресовано не мне… — растерялась я.
— Что с того? Разве я не могу поручить ответить на письмо, которое адресовано мне, более компетентному в этом вопросе товарищу? Так и надо будет написать: отвечаю вам по поручению товарища Сталина. И пусть он покажет это письмо в райкоме, пусть всем его показывает… Дезертирство! Правильно говорит народ: «Заставь дурака богу молиться, он себе лоб расшибет». Никак не могут некоторые товарищи обходиться без перегибов.
Я переписывала это письмо раз пять, если не все семь. Все время казалось, что я выразила свои мысли не так, как надо — то слишком резко, то слишком заумно. Наконец письмо (длинное, на трех листах) было написано. Я начала с того, что у нас в стране любой труд почетен и важен, вкратце рассказала о том, какую пользу приносит народу искусство, объяснила, что актерский труд не менее сложен, чем труд рабочего, и что никакой речи о дезертирстве быть не может. В отдельном абзаце я посоветовала товарищам из Саратова употреблять слова «дезертирство» и «предательство» по их прямому назначению, потому что это очень значимые слова.
Сталину мой ответ очень понравился. Он сказал, что я нашла правильные слова и вообще все очень хорошо написала.
Товарищ Воронов (впоследствии, при знакомстве оказавшийся очень милым и крайне застенчивым молодым человеком) написал мне, что мое письмо произвело «настоящий взрыв» и что в этом году он приедет в Москву учиться на актера. Зимой того же года, после одного из концертов, он подошел ко мне с огромным букетом роз, представился и рассказал, что поступил учиться в институт им. Луначарского[56].
Больше мы не виделись. Черты его лица стерлись из моей памяти, осталось только общее впечатление, но фамилию я помню. Вдруг встретится в титрах или в театральной программке.
* * *
Дожив до определенного возраста, мы понимаем, что наша жизнь состоит из потерь. Мы теряем. Теряем любовь, теряем близких, теряем чувства, теряем способность радоваться, страдать, сопереживать… Если меня спросят «что такое возраст?», то я отвечу, что возраст — это равнодушие. Многое из того, что когда-то было важным, очень важным, невероятно важным, теряет свой смысл, утрачивает свое значение (некогда казавшееся не просто великим, но исключительным!), отходит на второй план. Но есть вечные ценности. Есть события, которые не меркнут. Есть то, что хочется вспоминать на протяжении всей жизни. Хочется, и я вспоминаю. Вспоминаю с удовольствием, с радостью, вспоминаю и подчас иногда не верю, что это было на самом деле. Было. Со мной. Со мной ли? С течением времени многое из прошлого кажется выдуманным, невероятным, сказочным. Без преувеличения сказочным. Вспоминаешь и удивляешься — разве со мной это было?
* * *
Наши встречи со Сталиным, по причинам, которые вряд ли нуждаются в объяснении, были тайными. Настолько тайными, насколько это возможно. Но слухи все равно пошли. Впрочем, не могу утверждать, имели ли они под собой какое-то основание или были в прямом смысле высосанными из пальца. Не думаю, что кто-то из посвященных в нашу тайну стал бы распускать язык, ведь то был ближний круг, самые доверенные, тщательно отобранные люди. Но почему бы не выдумать? «Ах, Орлову всего за одну картину сделали заслуженной артисткой?! Это неспроста! Не иначе как она…» И так далее. Вариантов может быть сколько угодно, смысл всегда один.
Никто из посторонних не мог ничего заметить или узнать. На людях мы вместе никогда не появлялись. Говоря «вместе», я имею в виду не какие-то мероприятия, на которых присутствовал Сталин и куда приглашали меня, а совсем другое.
Машина, приезжавшая за мной, никогда не забирала меня прямо от дома или от какого-то другого места, в котором я находилась, а ждала в некотором отдалении. Так захотела я. Меньше сплетен. Высаживали меня тоже поодаль. Машины приезжали разные, но никаких отличий, позволявших сделать какие-либо выводы, они не имели. Водители, а также люди, сидевшие рядом с ними на переднем сиденье (всегда кто-то там сидел), были одеты в обычные костюмы, а не в военную форму. Единственным отличием было лишь то, что ехали все машины очень быстро. Я очень боюсь быстрой езды. Это у меня с детства, с тех пор, как смирная с виду лошадь (мы ехали на извозчике) вдруг громко заржала и помчалась не разбирая дороги. Извозчику не сразу удалось с ней совладать, и страху мы с мамой и сестрой натерпелись предостаточно. Поэтому при быстрой езде я закрываю глаза и думаю о чем-то постороннем, отвлекаю себя.
По приезде меня встречал кто-то из охраны и проводил прямо к Сталину. Иногда мне приходилось ждать — полчаса, час, а то и больше. Во время ожидания мне непременно подавали чай с какой-нибудь снедью. Под рукой всегда были газеты или книги, так что мне было чем себя занять. Меня видело мало людей — те, кто привозил и отвозил, тот, кто встречал и провожал, и горничные. Привозившие и встречающие менялись довольно часто, а вот горничные были одни и те же. Одного из встречавших меня военных я много позже увидела во время концерта в клубе НКВД. Он сидел во втором ряду рядом с красивой брюнеткой в ярком цветастом платье. Сначала я, как и положено женщине, обратила внимание на платье брюнетки, а потом уже узнала ее спутника.
* * *
Близкое знакомство с Вождем никогда не использовалось мной для достижения каких-то личных, корыстных целей. Я никогда ни о чем не просила Его, что бы там ни утверждали злые языки. Это не в моих правилах, да и если бы я осмелилась, то скорее всего на том бы наше общение и закончилось. Сразу. Он не любил, когда к нему обращаются с личными просьбами. Все это знали, но тем не менее обращались, писали письма. Его это сильно раздражало. Он неоднократно с досадой говорил о том, как легко люди путают справедливость с личной выгодой.
Июнь 1937-го
На Всемирную выставку в Париж отправили несколько советских картин, среди которых оказался и «Цирк». Ни я, ни Г.В. не надеялись на какие-либо награды, поскольку считали (как, впрочем, и все остальные), что награжден будет ленфильмовский «Петр Первый» (тогда была снята только первая серия). Масштабная, серьезная, историческая картина, по общему мнению, должна была вызвать наибольший интерес. Принимался во внимание и тот фактор, что картина об одном из русских царей, снятая в Советской стране, привлечет внимание сама по себе. Нонсенс! Невероятно! Поразительно! Короче говоря, «Петру Первому» пророчили успех на выставке, но каково же было наше удивление (особенно мое), когда мы узнали, что первое место (гран-при) занял «Цирк»! Мы с Г.В. просто не могли в это поверить. Несерьезный же, в сущности, жанр, музыкальная комедия, и такое всемирное признание. Мы кричали «ура!» и смеялись, как дети. Вспоминаю сейчас через столько лет об этом, и радость теплом разливается по душе.
— Когда я впервые увидел товарища Александрова, то сразу понял, что передо мной настоящий режиссер, а не какой-нибудь халтурщик с взбитой шевелюрой, — сказал мне Сталин. — А стоило только нам поговорить, как мнение мое окрепло окончательно. Молодцы!
При первой же встрече с Г.В. Сталин повторил эти слова.
При упоминании «взбитой шевелюры» на ум мне пришел один режиссер[57], но позже я вспомнила стихотворение Маяковского о халтурщике[58].
* * *
В конце июня 1937-го я надолго уехала из Москвы. Не в одиночестве, а с Г.В. и всей киноэкспедицией картины «Волга-Волга». Плыли по воде целой эскадрой, на трех судах — одно рабочее и два «съемочных»: «Севрюга» и «Лесоруб». На местах нам еще выделяли буксир для «Севрюги» и «Лесоруба». Г.В. в шутку говорил, что чувствует себя адмиралом.
Домой мы вернулись уже осенью. Календарный план съемок был мне известен, и потому я заранее настроилась на долгую разлуку со Сталиным. Он же сказал, что как только соскучится, то пришлет за мной самолет. Я приняла эти слова всерьез (сказаны они были серьезным тоном) и испугалась. Самолет? Если за мной прилетит самолет куда-нибудь в Казань или в Горький, то можно представить, сколько внимания он к себе привлечет. И нельзя забывать про съемки. У Г.В. все спланировано заранее. С допуском и запасом времени, разумеется, потому что точно-преточно, день в день, съемки заранее не распишешь. Всегда что-то случается, да и погода может подвести. Но календарный план, в котором расписаны съемочные дни, — это наш съемочный закон, и никто из нас не может позволить себе вдруг взять и отлучиться на день или на больший срок. Это означает подвести весь коллектив.
Я даже привела один пример, вернее спросила у Сталина, как он может объяснить то, что в театре к актерам, страдающим запоями (увы, весьма нередкое явление), относятся снисходительнее, нежели в кино. Он не знал, что ответить, и тогда я объяснила, что «выпавшего из строя» театрального актера всегда найдется кем заменить. Сегодня один актер играет, скажем, Хлестакова, а завтра — другой. Ничего особенного. А на съемках план, график, замену найти сложно, особенно на выезде. Нет одного актера — и другие простаивают, пока не вернется он или не найдется ему замена. Что же касается замен, то замена актера на съемочной площадке чревата пересъемкой всего материала с участием его героя, лицо-то другое.
Я хорошо понимаю Г.В., у которого существует одно твердое правило — кто хоть раз подвел, с тем больше дела иметь нельзя. Это правило знают все, многие видели, как оно действует, и потому на съемочной площадке у Г.В. все работают очень ответственно. И, я бы даже сказала, самоотверженно.
Короче говоря, нельзя было посылать за мной самолет на Волгу или еще куда. С какой стороны ни посмотри, нельзя.
То, что Сталин пошутил, я поняла лишь тогда, когда он рассмеялся. Следом стала смеяться и я. Потом мы ужинали, и за ужином я вдруг заметила, что Сталин выглядит очень уставшим. То было очень трудное время. Недавно убили Кирова, убили дерзко, в Смольном! Оживились враги, до сих пор искусно скрывавшие свою сущность. Складывалось такое впечатление, что капиталистический мир пошел ва-банк, желая расправиться с ненавистным ему Советским государством. Открытую войну нам тогда объявить не решались, действовали изнутри, исподтишка, но действия эти были массовыми. Как выражаются военные, атака велась на всех фронтах. Каждый день приносил известие о разоблачении той или иной вражеской организации. Повторю — время было очень трудным, сравнимым, наверное, лишь с военным временем. Впрочем, нет — с военным временем никакое другое время сравнивать нельзя.
— Много работы? — сочувственно спросила я.
— Работы всегда много, — коротко и просто ответил Сталин.
На меня вдруг нашло нечто вроде озарения. Я всегда понимала, с каким великим человеком свела меня судьба, но только сейчас осознала это в полной мере. Дыхание перехватило. На глаза выступили слезы. Сердце застучало в груди требовательно, побуждая к действиям. Глоток воды помог мне если не справиться с волнением, то хотя бы немного обуздать его. В порыве обуявшего меня вдохновения я встала в позу декламатора и прочла Сталину из своего любимого Тютчева:
Вам выпало призванье роковое,
Но тот, кто призвал вас, и соблюдет.
Все лучшее в России, все живое
Глядит на вас, и верит вам, и ждет…
Спохватилась сразу же, как только закончила декламацию. Ведь это стихотворение Тютчев посвятил князю Горчакову, последнему канцлеру Российской империи, видному государственному деятелю, принесшему большую пользу своему отечеству, но все же князю, аристократу, реакционеру. Да и сам факт сравнения мог бы показаться обидным. Несмотря на то, что я и не думала сравнивать (как я могла сравнивать?). Я просто отыскала в памяти строки, созвучные моему настроению, моему восторгу, и прочла их.
Сталину мой поступок понравился. Он улыбнулся, негромко поаплодировал и сказал:
— Читать хорошие стихи — удовольствие. Слушать хорошие стихи в таком исполнении — двойное удовольствие.
— А хорошо читать хорошие стихи хорошему человеку — тройное удовольствие! — ответила я.
Хорошие слова вовремя пришли на ум. До сих пор с удовольствием вспоминаю эту свою фразу. Редко что из сказанного экспромтом можно вспомнить с удовольствием.
Несколько раз Сталин тоже читал мне стихи — поэму «Витязь в тигровой шкуре». Читал на русском и на грузинском. Прочтет отрывок на одном языке, затем повторит на другом. Когда Сталин читал или пел на грузинском, лицо его приобретало особое выражение. Немного торжественное, немного печальное и немного отрешенное. Он никогда не говорил, что скучает по Грузии, по родным краям, но я это чувствовала. Вспоминал про Грузию Сталин часто. Мог посмотреть в окно и сказать: «А у нас в Гори уже вишни цветут» — или еще что-то подобное. Но о тоске по родным краям впрямую не говорил, и я понимаю почему. Родиной для Сталина был весь Советский Союз. Он, должно быть, считал себя не вправе отдавать предпочтение какой-то части нашей необъятной страны, пусть даже то были и родные места. Так строго Сталин относился к себе. Разве можно было знать Сталина и не восхищаться им?
Разлука была долгой, но работа — съемки и концерты, которые мы давали по всему маршруту нашего следования, не оставляли много времени для печали («тоски-кручины», как говорит мама). За работой время пролетело быстро, но как приятна была встреча после разлуки!
— Скоро будет новая картина? — сразу же спросил меня Сталин. — Не терпится увидеть.
Сценарий я вкратце пересказала, и Сталину он понравился. Но что такое пересказ сценария в сравнении с картиной?
— Надеемся к лету успеть! — бодро сказала я, будучи в курсе планов Г.В.
— Будем ждать лета, — веско сказал Сталин.
Прозвучали эти слова как «не подведите!».
Премьера «Волги-Волги» состоялась весной 1938 года, в апреле. Мы не подвели. Мы никого никогда не подводили. Это не в наших с Г.В. привычках.
* * *
Я не злопамятна, предпочитаю помнить хорошее, а не плохое. Я — сторонница справедливости. Во всем. И знаю наверняка, что рано или поздно всем воздается по заслугам. За хорошее — добром, за плохое — наказанием, карой.
В августе 1937 года я узнала об аресте человека, некогда сильнее прочих недоброжелателей нападавшего на «Веселых ребят», я не испытала злорадства и не подумала: «Вот, поделом». Нет, я просто отметила про себя, что сколько веревочке ни виться, а конец будет всегда. Враг, притворявшийся другом, рано или поздно будет разоблачен. Когда-то мы с Г.В. недоумевали, будучи не в силах понять, почему уважаемый человек (в ту пору уважаемый), известный писатель, вдруг ополчился на нас, на нашу картину. Точнее, не на нас, а на Г.В. Меня тогда мало кто знал. Необъективность часто бывает следствием неприязни, ссоры, былых обид. Но ничего такого не было. Не было неприязни, никогда не пересекались жизненные пути… Почему же тогда понадобилось нападать, громить такую хорошую картину, как «Веселые ребята»? Да еще и с множеством обидных высказываний в адрес режиссера? В адрес Г.В., мягкого, деликатного, совершенно не склонного к конфликтам человека. Там, где другой разразится потоками брани и станет потрясать кулаками, Г.В. улыбнется и скажет: «Милочка (или «дорогой мой»), вы не совсем правы». За что можно не любить Г.В.?
Теперь стало ясно, что дело было не в Г.В. Задача врага — хаять хорошее и возносить плохое. Нападки на «Веселых ребят» были вызваны стремлением лишить советских людей этой веселой картины, хоть немного, да обеднить их духовную жизнь. Это единственное логичное объяснение. Вдруг кто-то из руководства пойдет на поводу и, не разобравшись в сути вопроса, прикажет снять картину с проката? Не раз случалось так, что не слишком дальновидные руководители шли на поводу у скрытых врагов.
Не злорадствую, не пылаю жаждой мести (вот ведь, всплыло выражение из дореволюционных мещанских пьес!). Просто понимаю причины, мотивы, которые прежде не могла понять[59].
Ноябрь 1937-го
Говорили со Сталиным о Шаляпине. Я рассказала, как он благословил меня маленькую на актерство.
— Сумел разглядеть талант! — одобрительно заметил Сталин.
Сталин хорошо относился к Шаляпину. Слышал его пение, ценил талант. Сталин считал, что в 1927 году поторопились лишить Шаляпина звания Народного артиста и советского гражданства.
— Троцкисты удружили, — с неприязнью сказал Сталин. — Шаляпин тоже наломал дров, но не таких, чтобы закрывать ему дорогу домой. Можно было объяснить, многим же объясняли. В этом и суть троцкизма, чтобы врагов представлять друзьями, а из любого оступившегося делать врага. Они и Горького хотели врагом объявить, но я вмешался и не дал этого сделать. Написал Алексею Максимовичу, пригласил его приехать, посмотреть, как мы живем. А с Шаляпиным нехорошо вышло.
В то время Шаляпин уже болел. В апреле 1938-го его не стало. Жаль его, очень жаль. И обидно за него, обидно, что он умер на чужбине, вдали от родины, вдали от тех, кто его так любил. В детстве Шаляпин казался мне сказочным богатырем. Он был таким огромным, добрым, веселым, шумным, как все богатыри. И немного наивным, в нем, взрослом, было что-то от ребенка. Этой наивностью нередко пользовались разные подлецы…
* * *
Люблю бывать в театрах, причем в разных. В те годы с удовольствием ходила на премьеры в Госцентюзе[60]. Помню все просмотренные спектакли, но особое впечатление на меня произвела замечательная постановка пушкинской «Русалки». Сталин, ввиду его великой занятости, очень редко посещал театры, но любил слушать мои рассказы о спектаклях. Эти рассказы превращались в спектакли, потому что, увлекаясь, я проигрывала в лицах особенно понравившиеся мне места. Сталин восхищался моей способностью к перевоплощению. Однажды сказал, что в Советском Союзе есть всего две актрисы, которых можно назвать «волшебницами», так хорошо они умеют превращаться в разных людей.
— Одна из них — Любовь Орлова, — сказал Сталин.
Я, разумеется, поинтересовалась, кто вторая. Сталин улыбнулся и ответил, что не хочет называть второе имя. Так для меня оно и осталось тайной. Могу только догадываться.
Но если уж говорить начистоту, то актрис, обладающих даром перевоплощения, у нас много. Во всяком случае, их больше, чем режиссеров, которые способны раскрыть актерский талант в полной мере, предъявить его зрителям в полном объеме. Огромную роль в моем развитии как актрисы сыграл Г.В. Без него я вряд ли бы смогла стать той, кем стала, вряд ли бы смогла достичь того, чего я достигла. Об этом я говорю часто, говорила и Сталину. Сталин высоко ценил Г.В., всегда отзывался о нем с уважением.
* * *
Как и все актеры, я очень наблюдательна. Актерам положено быть наблюдательными, подмечать в людях те или иные черты, которые впоследствии будут воплощаться в образы на экране или на сцене. Ну и вообще, в моем представлении, наблюдательность должна быть присуща каждому человеку. Это очень важное качество, не обладая которым, невозможно приобретать полноценный жизненный опыт.
Многое из того, что я поняла о Сталине, я поняла благодаря моей наблюдательности. Со временем отдельные штрихи сложились в тот образ, который живет в моей душе по сей день. И будет жить до тех пор, пока жива я.
Я замечала, с какой любовью, с каким уважением, смотрело на Сталина его окружение — охрана, водители, горничные. Их взгляды были преисполнены любовью. Чувствовалось, что все эти люди безмерно благодарны судьбе за то, что она свела их с Вождем.
Часто бывая за границей, я сравниваю те свои впечатления от Сталинского окружения с впечатлениями, которые получаю за рубежом. Мне довелось бывать во многих странах, встречаться со многими людьми, в том числе и с влиятельными политиками, посещать приемы, банкеты. Но нигде я не видела, чтобы на кого-то, будь то крупный руководитель, известный политик или какая-то знаменитость, окружающие смотрели теми же сияющими взглядами, как на Сталина. Говоря «сияющими», я нисколько не преувеличиваю, так оно и было. Как еще можно было смотреть на Сталина?
Декабрь 1937-го
Новый год, праздник, обмен подарками. На сей раз с учетом былой оплошности я была скромна в выборе. Подарила Сталину часы, карманные (Он предпочитал такие), с памятной гравировкой.
— Это очень правильный подарок! — сказал Сталин. — Что может быть полезнее часов? Не могу представить, как раньше люди жили без часов? Как они все успевали?
Впоследствии я не раз видела свой подарок в руке у Сталина. Часов у Него было много, настоящая коллекция, которой хватило бы для музея. Были там и наручные, и карманные, но Сталин по старой привычке предпочитал карманные.
Сталин подарил мне красивую деревянную шкатулку, даже не шкатулку, а целый ларец с хохломской росписью — большие красно-золотые цветы на черном фоне.
— Награды складывать, — пошутил Сталин, вручая мне подарок.
Для наград ларец был слишком велик. Я храню в нем документы и особо дорогие мне письма с фотографиями. Всякий раз, открывая крышку, вспоминаю Сталина, вижу его лицо. В моих воспоминаниях Сталин всегда предстает улыбающимся. Так, наверное, и положено вспоминать добрых людей — улыбающимися.
Недавно мы говорили с Г.В. о том, что нашей молодежи очень нужна картина или, скорее, цикл картин о Сталине. Таких, чтобы в них был отражен весь жизненный путь Вождя — юность, начало занятий революционной деятельностью, 1917 год, Гражданская война и т. д. Эти картины стали бы великолепным примером, ярким и поучительным уроком для молодого поколения. Вся жизнь Сталина — пример беззаветного служения народу.
Январь 1938-го
Не знаю, как другим, а мне новоселье не столько в радость, сколько в тягость. К новому месту я привыкаю очень долго, долго обживаюсь. Переезды во время командировок воспринимаются иначе, проще. Приехала и скоро уехала, какой смысл обживаться. А вот дом — это дом.
Новая квартира в Глинищевском переулке была больше и удобнее прежней, да вдобавок с видом на мой «родной» музыкальный театр. Я не слишком-то расположена к различного рода ностальгическим переживаниям, но видеть в окно или смотреть с балкона на театр, с которым связаны многие счастливые воспоминания, театр, где я многому научилась, мне приятно.
Уже тогда мы с Г.В. считали, что главным нашим домом будет загородный, строительство которого мы не так давно начали. За городом приволье, тишина, покой. Я очень люблю Москву, для меня этот город был и остается лучшим городом на свете, но порой так остро хочется тишины, спокойствия, свежего («природного», как говорит Г.В.) воздуха и пр. Но пока дом во Внукове не был построен, все эти удовольствия были мне малодоступны. Разве что кто-то из друзей приглашал к себе на дачу. Выезды на природу во время съемок в счет не шли. Во время этих выездов можно было наслаждаться только воздухом, но не покоем. Какой покой может быть во время съемок картины? О покое на съемках можно только мечтать. Любые съемки, даже столь хорошо (просто превосходно!) организованные, как у Г.В., все равно представляют собой нечто вроде вавилонского столпотворения. Окончательно освоилась я на новом месте только к маю. Проснулась утром и вдруг ощутила, как мне здесь все знакомо и привычно.
С переездом был связан один смешной, точнее — нелепый случай. Звонок. Машина за мной приедет в одиннадцать часов вечера. Выхожу в назначенное время и вижу, что машины нет. Немного удивляюсь, потому что машина за мной всегда приезжала чуть раньше назначенного времени. Ждать ее до сих пор никогда не приходилось. Я решила, что случилась какая-то поломка в пути, и стала неторопливо прогуливаться взад-вперед. Прошло пять минут, десять, пятнадцать… Машины нет. Я вернулась домой, к телефону. Вдруг планы внезапно изменились (мало ли что могло произойти), и до меня пытаются дозвониться. Так и вышло — мне уже звонили. Оказалось, что водитель и его напарник, уже приезжавшие за мной несколько раз, по ошибке ждали меня на прежнем месте, бульваре, возле нашего старого дома. «Бес попутал», — всю дорогу повторял водитель. И он, и его напарник выглядели очень расстроенными. Мне их стало жалко. Так переживают, значит, наказание грозит им суровое.
Приехав на место, я первым делом попросила Сталина не наказывать товарищей. Сказала, что совсем не сержусь, что, напротив, рада была прогуляться по тихой вечерней улице.
— Раз так, то сильно наказывать не станем, — улыбнулся Сталин. — Но скажем, чтобы впредь были внимательнее.
Впоследствии эти товарищи несколько раз приезжали за мной. Выглядели они при этом веселыми, из чего я заключила, что все у них хорошо и сильно их в самом деле не наказали. Впрочем, Сталин никогда не бросал слов на ветер. Как скажет, так и будет. У Него даже молчание было весьма многозначительным. Если промолчит когда-то, ничего не ответит, не скажет, то из этого тоже следовало делать определенные выводы.
Пытаюсь рассказать о Сталине, как умею, и понимаю, что не могу передать даже десятой доли того, чему была свидетелем. Не хватает слов, умения, таланта, всего не хватает. Полноценный, исчерпывающий рассказ о таком великом человеке, как Сталин, под силу только великому писателю, такому, наверное, как Лев Толстой. Не знаю, кто бы из наших современников мог бы справиться с подобной задачей. Знаю одно, что я справляюсь с ней не очень хорошо. Но что поделать? Я очень стараюсь. Пока пишу, мне кажется, что я смогла найти нужные слова, смогла передать все, что хотела передать. А стоит только перечитать написанное, как понимаю, сколько всего я упустила, сколько всего не смогла выразить… Вот написала про многозначительное молчание. Но это же не передать словами. Это надо было слышать, как молчит Сталин, когда он чем-то недоволен. Воздух становился тяжелым, свинцовым, давил на плечи. Пусть Сталин сердился не на меня (на меня Он, кажется, никогда не сердился всерьез), а на кого-то другого, я все равно ощущала некую подспудную вину. Это не передать, это надо было видеть, чувствовать.
* * *
Смерть отца застала меня врасплох. Смерть близкого человека всегда застает врасплох, даже если ей предшествует долгая болезнь. Как ни готовься к этому, а все равно надеешься, надеешься до самой последней минуты. Но…
Мама пережила отца на много лет, но не проходило дня, чтобы она не вспоминала о нем. И пока мама была жива, мне казалось, что отец где-то рядом, что он не оставил нас совсем. После смерти мамы было ощущение, что я потеряла обоих родителей.
На следующий день после смерти отца Сталин позвонил мне, и мы долго разговаривали. Точнее, говорил он, а я плакала и отвечала не словами, а всхлипами. Что говорил мне Сталин тогда, я не запомнила. Помню только теплое ощущение, оставшееся после этого разговора. Легче мне не стало, мне не могло тогда сразу стать легче, для этого нужно было время. Но когда у человека горе, настоящее большое горе, ему очень важно чувствовать, что он не одинок, что рядом есть друзья.
Февраль 1938-го
К писателям у меня отношение особое. Уважительное, почтительное. Разумеется, если это настоящий писатель, а не какой-нибудь графоман или пасквилянт. Бережно храню книгу «Кавказский пленник», подаренную мне Львом Толстым. Для меня это не просто подарок, а нечто несоизмеримо большее… Как будто невидимая нить протянута между мной и Львом Николаевичем. Глупо, наверное, так думать и писать. Какая может быть нить между маленькой девочкой и взрослым, уже пожилым человеком. Но мне очень приятно брать с полки эту книгу, раскрывать и видеть слова, написанные рукой Льва Николаевича. Когда сознаешь, какие великие люди жили и живут в одно время с тобой, начинаешь иначе относиться к себе. Строже. Требовательнее. Надо же соответствовать. Хотя бы немного, в меру своих возможностей.
Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков и его жена Елена Сергеевна были нашими с Г.В. друзьями. Познакомил нас И.О. Я очень уважала Булгакова как человека и как писателя. Сочувствовала ему. При всех своих талантах он был удивительно неприспособленным к жизни человеком, как раньше говорили, «не от мира сего». Жена, насколько могла, старалась сгладить этот его «недостаток» (намеренно беру это слово в кавычки). Должна заметить, что у Булгакова и в семейной жизни не все было гладко. Его отношения с Еленой Сергеевной, при всей взаимной любви (это сразу ж бросалось в глаза), несли некий болезненный отпечаток. Тщательно скрывалась эта болезненность от посторонних глаз, но тем не менее внимательному наблюдателю было несложно заметить ее проявление. В жестах, во взглядах, в обрывках фраз. При близком знакомстве чувствовалось (во всяком случае, я почувствовала это очень скоро), что эти два человека любят друг друга, сильно любят (любовь Елены Сергеевны я бы осмелилась назвать самоотверженной), но любовь приносит им не только радость, но и боль. Углубляться дальше не стану, поскольку хочу рассказать не об этом, а о том, как я попыталась помочь Булгакову.
Я читала многое из написанного Булгаковым. В том числе и то, что не было опубликовано. Не все мне нравилось, но нравилось многое, а чем-то я просто восхищалась.
Хороший человек, талантливый писатель, друг… Мое побуждение помочь Булгакову было естественным и объяснимым. Хорошо зная его щепетильность в подобных вопросах (порой она была чрезмерной), я решила посоветоваться не с ним, а с его женой. Е.С. всегда казалась мне более практичной. После неудачи с пьесой «Кабала святош» Булгаков сильно сдал. Он выглядел каким-то потерянным, потерявшим веру в себя, в свои силы. Да, не спорю, жизненный путь его не был усыпан цветами, скорее наоборот, но на мой взгляд, верить в себя надо всегда. Жизнь без веры в свои силы похожа на медленную смерть.
Дело было не столько в Булгакове и его пьесе, сколько во МХАТе и интриге, завязавшейся вокруг него. Кое-кому хотелось свести счеты с театром, и был найден удобный повод для этого. Отчасти виноват и сам Булгаков. Пьесу, которая ставится в одном из ведущих театров Советского Союза, надо редактировать очень тщательно, так, чтобы в ней не осталось ни единой двусмысленности, ни единой фразы, которую можно было бы превратно истолковать. «Гражданская война закончилась, а идеологическая продолжается», — говорит Г.В., и он, как всегда, прав. Фрондерство Булгакова, его подчеркнутая независимость, обособленность нередко выходили ему боком. Я видела этот его недостаток, видела и другие, но недостатки не мешали мне видеть талантливого писателя, который мог достигнуть большего. Не мешали видеть человека, друга, нуждавшегося в помощи. Деликатной помощи.
Мы поговорили с Е.С. по душам. Она даже прослезилась, когда говорила о преследующих их невзгодах. Пишу «даже», поскольку Е.С. не из плаксивых. У нее совершенно не женский характер.
— Чем я могла бы помочь Михаилу Афанасьевичу? — спросила я прямо.
— Нужна протекция, — не задумываясь, ответила она. — Без протекции воз наших проблем с места не сдвинуть. Уж слишком многие там, — последовал многозначительный взгляд вверх, — настроены против Миши. Если бы можно было устроить мне встречу с Н.[61] Он совсем недавно стал во главе комитета по делам искусств и вряд ли успел настроиться к Мише предвзято. Во всяком случае, я надеюсь, что новая метла начнет мести по-новому.
С Н. я не была знакома, но слышала о нем. Знала, что, перед тем как возглавить комитет, он работал в ЦК. Понимая, сколько дел обрушивается на человека с новым назначением, я решила не искать подходов к Н., а поступить иначе. Пообещала Е.С. подумать насчет Н., а сама при первой же встрече со Сталиным завела разговор о Булгакове. Сделала это тонко, словно невзначай, к слову, но сразу же сказала, что знакома с Булгаковыми и придерживаюсь о них хорошего мнения.
При упоминании Булгакова Сталин нахмурился.
— Каждый сам решает, с кем ему дружить, — сказал Он, — но мне не нравятся люди, держащие камень за пазухой.
— Булгаков не такой! — горячо возразила я. — У него нет за пазухой никакого камня. У него просто тяжелый характер. Но он хороший писатель и настоящий советский человек!
— Слов мало. Нужны доказательства, — ответил на это Сталин.
Я поняла эти слова как указание. Собственно, они и были указанием. Рассказала Е.С., что мне удалось (в подробности я, естественно, не вдавалась) поговорить о Булгакове с Вождем и что мне было сказано про то, что нужны доказательства. Е.С. долго и пространно благодарила меня, мне даже стало неловко, а потом спросила, какие именно, на мой взгляд, нужны доказательства. Подумав, я ответила, что решать здесь должен сам Булгаков, кроме него некому, но, несомненно, речь идет о книге или пьесе, и произведение это должно быть полностью советским, то есть таким, чтобы ни у кого, даже у самого предвзятого критика, не было бы повода обвинить Булгакова в чем-то реакционном, буржуазном и т. п.
— Пьеса! Конечно же, пьеса! — воскликнула Е.С. — Пьесы удаются Мише особенно хорошо, к тому же они меньше объемом, написать пьесу можно гораздо быстрее, чем роман, а еще пьесы имеют больший резонанс… Пьеса, и только пьеса! Тем более что он уже второй год обдумывает один замечательный замысел!
Признаюсь честно, что меня несколько удивило подобное высказывание. На мой взгляд, решать, что ему писать — роман, пьесу или поэму, мог только сам Булгаков. Мы давно уже живем вместе с Г.В., мы прекрасно знаем друг друга, но я не рискну, не возьму на себя ответственность решать что-то за Г.В. Особенно если речь идет о такой деликатной сфере, как творчество. Да и вообще, как можно решать за кого-то? В этом есть что-то неуважительное.
У Булгаковых первую скрипку во всем играла Е.С. Не собираюсь вмешиваться в чужие отношения, но позволю себе заметить, что временами эта скрипка начинала звучать чересчур громко. Есть такой метод подчинения, когда подчинение соседствует с восхищением, происходит при помощи восхищения. Безмерно восхищаясь человеком, его приучают к постоянным порциям этого восхищения, как к морфию, и подчиняют. Нет, не так — не приучают, чтобы подчинить, а отрывают похвалами от реальности и подчиняют. Человек витает в облаках и не видит, что творится вокруг. Более того, порой не до конца осознает, что творит сам.
Но как я могу вмешиваться в чужую жизнь? Захотела помочь, помогла, чем смогла, и все. Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen[62]. Пусть будет пьеса.
Если бы я в свое время узнала, какую именно пьесу собрался написать Булгаков, то непременно бы посоветовала ему изменить замысел. Пусть это выглядело бы неделикатным, но я бы непременно посоветовала. Если видишь, что друг готовится совершить ошибку, твой долг остановить его.
Но я не знала. Замысел до поры до времени держался в тайне или просто не оглашался. Когда же я узнала про пьесу «Батум» (к тому времени прошло больше года после нашего разговора с Е.С.), то советовать было уже поздно. Пьеса была окончена (какие-то мелкие правки не в счет), и на нее возлагались надежды. Большие надежды, просто огромные. Булгаков был уверен, что эта пьеса изменит отношение к нему на всех уровнях. Мыслил он в целом правильно, только не учел одного очень важного обстоятельства — личной скромности Сталина. Или не захотел учитывать, или решил, что кашу маслом не испортить, не знаю, не берусь судить. Знаю только, что мое мнение о пьесе полностью совпало с мнением Сталина. Он сам завел речь о «Батуме» и отозвался о пьесе в том смысле, что написана она хорошим стилем, но на этом ее достоинства заканчиваются. В ответ на мой вопрос о недостатках сказал, что не узнал себя в главном герое, что автор переборщил с романтикой в ущерб исторической правде и что у участников тех событий эта пьеса может вызвать смех или недоумение.
Сталин ожидал от Булгакова советского произведения, такого, например, как «Поднятая целина», а не «Батум». Шанс был упущен. Мнение о Булгакове составилось окончательное, не подлежащее изменению. Булгаков сильно переживал неудачу с «Батумом». Е.С. тоже переживала, возможно, даже сильнее, чем он. Если бы не болезнь, приведшая к смерти, то кто знает, что было бы потом, после того как страсти вокруг «Батума» улеглись бы. Жизнь могла бы предоставить Булгакову еще один шанс, и вдруг… Но что толку мечтать, если его давно уже нет в живых. От Булгакова мне остались воспоминания и книжечка рассказов с надписью: «Любови с любовью и уважением». Г.В. считает, что для подаренных авторами книг нужно завести особые полки, а я не соглашаюсь, храню их среди прочих книг, так мне почему-то хочется. Кажется, что так правильнее.
Кому-то судьба благоволит, кого-то жестоко преследует. Хорошо, когда чувствуешь в себе силы переломить судьбу, пойти наперекор обстоятельствам и одержать победу. Но это удается не всем и не всегда. Жаль… Очень жаль… Жаль Булгакова и много кого еще жаль…
— Чего тебе хочется больше всего на свете? — спрашивали меня в детстве.
— Чтобы всем всегда было хорошо, — отвечала я.
В моем детском представлении именно такой виделась счастливая жизнь, когда всем вокруг хорошо. Жаль, что так не бывает.
Как-то раз, когда у нас зашел разговор о сценаристах и сценариях, я спросила у Г.В., почему бы ему не привлечь к сотрудничеству Булгакова.
— Это никак невозможно, — не задумываясь, ответил Г.В. — Булгаков не уступит ни строчки, ни слова из написанного им. Это камень, а не человек! Он не согласится ни на какие правки, и в итоге мы рассоримся, не начав толком работы.
Я согласилась с Г.В. Булгаков и впрямь не отличался уступчивостью, готовностью идти на компромиссы. А во время работы над сценарием компромиссы неизбежны. Ни одно, даже самое лучшее литературное произведение не может быть экранизировано без правок. Многие совершенно необоснованно считают, что пьеса, раз уж она написана для театра, при экранизации правок не требует. Это неверно. Театр и кино сильно отличаются друг от друга. Просто так, без доработки, ни одну пьесу нельзя перенести на экран. Получится бессмыслица.
И еще о камне, к слову. Спустя много лет после смерти Булгакова Е.С. сильно удивила нас с Г.В. Она нашла какой-то камень, который, по ее мнению, когда-то лежал на могиле Гоголя, установила его на могиле М.А. и рассказывала всем об этом своем поступке как о некоем подвиге. Я не сочла нужным скрывать свое скептическое отношение к этому поступку. Моя прямота вызвала некоторое охлаждение в наших отношениях, но, встречаясь с Е.С., мы подолгу беседуем, вспоминаем прошлое.
Ах, как же много скопилось воспоминаний!
* * *
Узнав от Сталина о том, что в молодости он зачитывался произведениями грузинского писателя Александра Казбеги и даже взял себе кличку по имени одного из героев, я заинтересовалась и захотела почитать что-нибудь. Если хочешь лучше понять человека, то надо прочесть те книги, которые ему нравятся. Прочла и будто бы съездила в Грузию, не в ту, что сейчас, а в старую, дореволюционную. Совсем другая жизнь, не похожая на нашу. Другие обычаи, другие правила. Удивилась тому, что абреки могли скрываться от полиции годами.
— Горы и народная поддержка помогали, — объяснил мне Сталин. — Спрятаться в горах легко, а если еще и люди тебя поддерживают, то можно всю жизнь так прожить. Когда-то, в молодости, я восхищался абреками, а когда поумнел, то начал их жалеть.
— Да, тяжело им приходилось, — согласилась я.
— Не в этом дело, — возразил Сталин. — Трудности идут на пользу, потому что они закаляют характер. Жалел я их, потому что они понапрасну потратили свои жизни. Убьют исправника, купца ограбят — разве это борьба? Разменяли жизнь на копейки.
Я запомнила эти слова на всю жизнь. Как и многое другое из того, что было сказано Сталиным. С тех пор я часто присматриваюсь к себе, к тому, как я живу и что делаю. Уж не размениваю и я свою жизнь на копейки? Каждый раз убеждаюсь, что нет, не размениваю, и радуюсь. Страшно разменять жизнь на копейки. Потом захочется что-то исправить, да поздно будет.
* * *
«В одну воду нельзя войти дважды, но вот наступать на одни и те же грабли можно по многу раз», — шутит Г.В.
К сожалению, это так. Наблюдение за некоторыми режиссерами (и актерами тоже) служит наглядной иллюстрацией к этим словам. Из картины в картину одни и те же ошибки, одни и те же промахи. Создается впечатление, будто люди совершенно не учатся на собственных ошибках, не осмысливают накопленный опыт, не делают выводов. Не могу понять, в чем причина подобного поведения? Какие мотивы и соображения руководят ими? Это беспечность, упрямство или убежденность в собственной непогрешимости?
А иногда случается так, что хорошие режиссеры в следующую свою работу «переносят» одни только недостатки, а не достижения. Примером тому может служить картина бр. Васильевых «Волочаевские дни»[63]. От их новой работы все, в том числе и Сталин, ожидали многого. Если не повторения грандиозного успеха с «Чапаевым», то хотя бы чего-то близкого, равноценного.
Увы, надежды не оправдались. Картина вышла откровенно слабой. Чувствовалось, что ее создатели попытались объять необъятное, поставили перед собой слишком много задач и оттого «распылились», не выполнили толком ни одной.
— В Грузии говорят: «Оба колеса на месте, а арба не едет, потому что лошадь запрячь забыли», — так отозвался Сталин о «Волочаевских днях».
* * *
Не представляю себя живущей где-то в другом месте, кроме Советского Союза. Дореволюционную жизнь помню плохо, сохранились в памяти отдельные картины и впечатления, но все главное в моей жизни произошло в Советском Союзе. Это моя родина, моя страна, мой дом. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек![64]
* * *
Говорили со Сталиным о признании нашего искусства за границей. Зашла речь о главном призе, полученном «Цирком» на прошлогодней выставке в Париже. Сталин усмехнулся и сказал, что если уж говорить начистоту, то его совсем не радует, когда капиталистическое жюри присуждает награды нашим фильмам. Я удивилась (впервые слышала от Сталина такое, раньше Он выказывал радость по этому поводу). Сталин объяснил:
— Хотелось бы, чтобы наше советское искусство не вызывало восхищения у капиталистов, а разило их наповал.
— Ну не все же члены жюри капиталисты, — осторожно возразила я. — Среди них есть и наши друзья, с чьим мнением капиталистам приходится считаться. Иначе бы они никогда не дали бы никаких премий ни одной нашей картине.
— Мы существуем, и с этим им приходится считаться, — улыбнулся Сталин.
Март 1938-го
— Василий твердо решил стать летчиком, — сказал Сталин без каких-либо предисловий и повторил: — Летчиком.
До этого мы говорили о картине «Александр Невский», которую снимал на «Мосфильме» Эйзенштейн. Вернее, не столько о картине, сколько о самом Эйзенштейне. Сталин высоко ценил его талант, но несколько сомневался, удастся ли ему снять исторически верную картину, удастся ли воплотить образ князя-патриота в полном объеме. В исторической драме, да еще с таким главным героем, очень легко пойти на поводу у внешних эффектов в ущерб содержанию. Есть такое правило — чем известнее человек, тем сложнее снимать о нем картину (думаю, что и книгу писать тоже сложнее), образ рискует получиться броским, но поверхностным.
Сталин знал о моем отношении к Эйзенштейну, талант которого я уважала, а вот о человеческих качествах была не слишком высокого мнения, но тем не менее захотел обсудить со мной эту тему. Я честно ответила, что Эйзенштейн справится, подобная задача ему по плечу. Вдобавок в главных ролях снимались такие актеры, как Н.К.[65] и Н.П.[66] Актерское мастерство и несговорчивый характер Н.К. были дополнительной гарантией того, что картина выйдет хорошей. Если Эйзенштейн и увлечется и свернет с верного пути (с ним такое случалось), то Н.К. непременно это исправит. Своим успехом картина «Депутат Балтики»[67] обязана не столько режиссерам, сколько Н.К.
И вдруг Сталин заговорил о Василии. Видимо, что-то очень его волновало.
— Летчиком — это хорошо, — сказала я, не зная, что еще можно тут сказать, — за авиацией будущее.
— Дело не в будущем, дело в Василии, — ответил Сталин после недолгого молчания. — Не могу понять его. Почему авиация? Есть призвание или это нечто другое? Следование повальному увлечению? Не хотелось бы, чтобы впоследствии он разочаровался в своем выборе и впустую потерял несколько лет. Мне это знакомо, я окончил духовное училище, успел поучиться в семинарии, пока не нашел свой путь… Летчиком — это хорошо, но Василию недостает выдержки…
— Этот недостаток скоро пройдет, — сказала я. — Мне когда-то тоже недоставало выдержки. А теперь достает. Важно, чтобы человек сделал свой выбор самостоятельно, по своему желанию. Взять хотя бы меня. Мое желание стать актрисой было настолько велико, что никакой другой судьбы для себя я не представляла. Но со стороны могло казаться, что меня увлек внешний лоск актерской профессии. Допускаю, что какое-то время мои родители именно так и думали. Если Василий хочет стать летчиком, то он должен стать им. Хотя бы для того, чтобы понять правильность своего выбора.
Впоследствии, много позже, вспоминая этот разговор, я поняла то, что не поняла тогда. Сталин волновался за Василия. Авиация — дело опасное. Наверное, Сталину хотелось для сына чего-то более спокойного, более безопасного. Но даже мне Он не мог сказать об этом прямо. Это было бы нескромно. Получалось бы, что Василий чем-то отличается от других молодых людей. А для Сталина было очень важно, чтобы дети его воспитывались без каких-либо поблажек, росли неизбалованными. Он уделял этому вопросу очень большое внимание.
Я не была знакома с Василием. Видела его несколько раз на приемах и среди зрителей на концертах, но не разговаривала с ним. Его открытое улыбчивое лицо производило хорошее впечатление, и отзывы о нем были хорошими, как о добром, отзывчивом, совершенно незаносчивом человеке. Вот только выдержки ему действительно не хватало, даже в зрелые годы. Сталин не напрасно волновался. Он ничего не делал напрасно. Несдержанность в конечном итоге сломала жизнь Василию[68].
Добавлю относительно Эйзенштейна. Отношение Сталина к нему служило еще одним доказательством того, что к каждому человеку Сталин относился так, как тот того заслуживал. Он мог не любить кого-то за его человеческие качества, но уважать за профессиональное мастерство (например, как я Эйзенштейна). Если человек не оправдывал доверия, то он переставал существовать для Сталина. Напротив, если человек, заподозренный в чем-то нехорошем, доказывал своими делами обратное, то Сталин доверял ему. Когда Эйзенштейн с Г.В. и оператором Т.[69] ездили за границу изучать технику звукового кино и вообще учиться, то их поездка затянулась надолго, потому что они не только учились, но и работали там. Работа, практика есть необходимая составляющая любой учебы. В какой-то момент в Москве сочли, что их поездка чересчур затянулась. Была получена телеграмма от Сталина, в которой говорилось, что Эйзенштейн потерял расположение своих товарищей в Советском Союзе и что его считают дезертиром, который разорвал отношения со своей страной. Г.В. не раз цитировал телеграмму Сталина слово в слово. Заканчивалась она словами: «Я боюсь, что в СССР об Эйзенштейне скоро забудут». Подчеркну, что речь шла только об Эйзенштейне, а не о его спутниках. Не исключено, что сыграло свою роль и поведение отца Эйзенштейна, к тому времени уже покойного. Отец его[70], действительный статский советник[71], не принял революцию, эмигрировал, умер в Берлине. Когда же Эйзенштейн вернулся домой, доказав тем самым, что не собирался эмигрировать, доверие Сталина к нему восстановилось полностью. Подтверждением тому служат две Сталинские премии первой степени, орден Ленина и другие награды Эйзенштейна. Никто не может сказать, что его преследовали или как-то ущемляли.
Беседуя со мной, Сталин не раз упоминал о том, что о каждом человеке следует судить по его делам. Это и есть материалистический подход, свойственный всем коммунистам.
* * *
Однажды я услышала от Сталина необычную, неожиданную похвалу.
— Отсутствие головокружения от успехов[72] делает честь артистке Орловой, — сказал Сталин. — Молодец!
Головокружение от успехов? Оно мне совершенно не свойственно. Какими бы ни были успехи, зазнаваться не след. Не понимаю некоторых коллег, которые старательно изображают небожителей-олимпийцев. Советскому человеку подобное поведение не к лицу. Пришел к тебе журналист — так лучше удели ему несколько минут. Он же на работе, он хочет написать о тебе для советских людей. Так нет, журналиста отправят прочь, а сами битый час станут рассуждать о том, как им не хватает времени. Если бережно относиться к времени, то его на многое хватит. Но дело не во времени, а в гордыне, зазнайстве, желании продемонстрировать напоказ свою «великую занятость», выделиться, привлечь внимание.
Некрасивое поведение, недостойное советского человека. Характеры людские явственнее проявляются в мелочах. Крупные поступки люди взвешивают, продумывают, а продумыванием мелочей себя не утруждают. Вот и проявляется постепенно истинное лицо. Там штришок, тут мазок, там словечко — и вырисовывается неприглядная картина.
Некоторым достаточно дружеской критики для того, чтобы одуматься. Другие приходят в себя лишь «спустившись на землю». Зачастую этот спуск бывает весьма болезненным.
Голова, на мой взгляд, имеет право кружиться только от любви.
* * *
Услышав от меня выражение Г.В. «От хорошей картины глаза не устают» (иногда вместо «не устают» Г.В. говорит «не должны уставать»), Сталин попросил объяснить смысл. Не стану писать о том, какую картину мы тогда обсуждали (она нам обоим не понравилась), расскажу о смысле, который Г.В. вкладывает в эти слова. Я, к слову будь сказано, полностью с ним согласна.
Смысл таков — хороший режиссер снимает картины таким образом, чтобы зрителю удобно было их смотреть. Удобно и приятно. Г.В. не любит таких сомнительных новшеств, как «скачущая камера», снимающая действие с разных углов, то сбоку, то снизу, а то и сверху. Не по душе ему и чересчур быстрая, беглая смена ракурсов. Некоторые режиссеры чрезмерно увлекаются внешними эффектами, думая, что меняющийся угол обзора поможет им скрыть недостатки своих картин. Режиссер должен иметь что сказать своим зрителям, если в картине нет смысла, если в ней отсутствует идея, то скрыть это не помогут никакие ухищрения.
— Есть ли хорошие учебники по режиссерскому делу? — спросил Сталин.
Я честно ответила, что какие-то труды есть, но вот про учебники я не знаю. На том разговор и закончился. Я так и не поняла, зачем Сталин интересовался учебниками по режиссуре. Допускаю, что Он хотел ознакомиться с ними для того, чтобы лучше понимать кино. Тяга к самым разносторонним знаниям была в характере Сталина. На его столе мне доводилось видеть книги по самым разным темам, от геологических атласов до трудов по античной истории. И все они лежали не просто так, а имели закладки, пометки на полях, то есть было видно, что их изучают. Некоторые люди любят обложиться книгами, чтобы произвести впечатление на окружающих, но Сталин был не из таких.
О режиссуре. Честно говоря, я до сих пор не уверена, можно ли научиться режиссуре по учебнику. Здесь, как мне кажется, все дело в понимании сути процесса и в таланте. Приведу один простой пример. Порой, во время наших совместных прогулок или поездок, Г.В. может замереть на месте и воскликнуть: «Какой чудный кадр!» Я вижу улицу, по которой идут люди, или, скажем, поле, по которому едет трактор, а Г.В. смотрит на то же самое и видит кадр! Это особый дар, уметь так видеть. Любая задуманная картина, еще до начала съемок, рождается в уме у Г.В. Целиком, от начала до конца. Поэтому ему так важно заранее распределить все роли, даже самые маленькие, ведь он должен все это представить. При подобном подходе режиссеру неизменно сопутствует удача.
Весной 1938 года, после просмотра «Волги-Волги», Сталин сказал Г.В.:
— Хорошая у вас получилась картина, товарищ Александров! Глаза от нее не устают нисколько! Хочется прямо сейчас еще раз ее посмотреть!
* * *
То, что было между мной и Сталиным, касалось только нас двоих и никого более. Но любое событие вызывает определенные последствия. Не вдруг, но постепенно изменилось отношение к Г.В. Те, кто раньше не отказывал себе в удовольствии подпустить шпильку или как-то уязвить его, раскритиковать (большей частью необоснованно, на пустом месте), превратились если не в друзей Г.В., то, во всяком случае, перестали быть врагами. Нападки прекратились. Само собой, с течением времени возрастал авторитет Г.В., постоянно подтверждавшего свое профессиональное мастерство. Это тоже сказывалось на отношении к нему. Признание его заслуг, награды и пр. также сыграли свою роль. Но, кроме того, я чувствую, догадываюсь (не знаю, но догадываюсь), что где-то наверху было сказано веское слово про Г.В. Слово, после которого все нападки теряли свой смысл, грозили обратиться против самих нападавших. И это слово мог сказать только один человек — Сталин. Я чувствовала, что так оно и было, но спрашивать не спрашивала, считая подобные вопросы неуместными. Но чувство благодарности, и без того переполнявшее меня, стало еще больше. Оно все росло и росло, и сейчас я упрекаю себя за то, что не смогла, не успела выразить свою благодарность Сталину в полной мере, так, как Он этого заслуживал. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня — сколько же мудрости заключено в этой пословице. Не сегодня, после, потом… Мы откладываем и откладываем, а время бежит, мчится, летит. Время летит, люди уходят, и когда спохватишься, соберешься, то человека уже нет. Я давно поняла, что нельзя ничего откладывать, и стараюсь делать так. Перед тем как лечь спать, вспоминаю прошедший день и ставлю себе на вид, если что-то не успела или отложила на будущее. Кто знает, сколько его осталось, этого самого будущего? Вот, написала эти слова и поняла, что запись своих воспоминаний тоже не следует растягивать надолго. Любое дело чего-то стоит лишь тогда, когда оно сделано, доведено до конца. Впрочем, осталось не так уж и много, примерно две трети уже сделано, ведь я собралась писать не обо всей моей жизни, а о части ее, самой счастливой части.
Спешу делать дела, спешу говорить то, что должна сказать, спешу жить. «Ты такая ужасная торопыга, Любочка, — говорила мне в детстве мама, — всем торопыгам торопыга!» Мне кажется, что сейчас я тороплюсь еще больше, чем в детстве. Если не стану торопиться, то ничего не успею.
* * *
При случае я могу рассказать анекдот или какую-нибудь веселую историю. Рассказывала и Сталину. Иногда Сталин рассказывал анекдот. Но до поры до времени я не знала о том, что Сталин не терпит анекдотов на национальную тему, даже самых невинных по содержанию. Однажды я рассказала Сталину такой анекдот, но в ответ получила совсем не то, чего ожидала. Вместо того чтобы рассмеяться, Сталин нахмурился и сказал:
— Помню первое заседание коллегии Наркомнаца[73]. Нариманов[74] анекдот про армян рассказал, Диманштейн[75] про украинцев, Пестковский[76] про евреев, Товстуха[77] про молдаван… Я послушал-послушал и спросил: что у нас тут, Наркомнац или Союз Михаила Архангела[78]? До чего мы дойдем, если станем рассказывать анекдоты друг про друга? Нариманов засмеялся и сказал: «Мы же шутим», а я ему на это заметил, что такие шутки плохо пахнут. Начинается все с шуток, а заканчивается погромами. Товарищи меня поняли и сделали выводы.
Мне стало стыдно. Полученный урок я запомнила на всю жизнь и никогда больше не рассказывала подобных анекдотов. В годы войны, когда ходило много анекдотов про немцев (как же не сочинять анекдоты про врагов?), я всегда меняла слово «немцы» на слово «фашисты». И когда пела частушки, высмеивающие врага, а в годы войны петь их мне приходилось очень часто, то тоже пела про фашистов, а не про немцев.
* * *
Я пришла в кино не юной девочкой, а взрослым, сформировавшимся человеком, актрисой, имевшей довольно значительный сценический опыт. Возможно, что именно это послужило причиной моего серьезного отношения к работе над ролями в кино. Порой приходится слышать высказывания такого рода, что кино, мол, не театр, всегда можно переиграть, переснять, зритель видит только итоговый результат. Не могу согласиться с подобным мнением. По нескольким причинам. Во-первых, потому что настоящий, уважающий себя мастер делает так, чтобы не приходилось переделывать, а во-вторых, за каждым дублем, за каждой новой съемкой стоит труд множества людей, и к этому труду, ко всем этим людям надо относиться уважительно. Нет уж, если я чего-то стою, то я должна подготовиться должным образом и сыграть так, чтобы не пришлось повторять. Смешно слышать разглагольствования о «творческом поиске» и т. п. от людей, которые относятся к своему делу спустя рукава. Творческий поиск должен производиться во время подготовки к съемкам, а не во время самих съемок. Отснять горы материала, израсходовать километры пленки, потратить несколько съемочных дней ради одного-единственного эпизода есть не что иное, как расточительство. Да, любому режиссеру приходится снимать гораздо больше материала, чем в итоге войдет в картину, но это еще не дает права актерам кое-как работать над ролью, надеяться на то, что все неудачное можно будет переделать. Работать надо так, чтобы не переделывать! Каждую свою роль я предварительно репетирую дома. Репетирую много раз. Встаю перед зеркалом и оттачиваю каждое слово, отрабатываю каждый жест. Лишь после того, как буду полностью довольна одной сценой, перехожу к другой. Когда раздается команда: «Приготовились! Внимание! Начали!», уже поздно заниматься творческими поисками. Надо выдавать результат.
«Повторение — мать мучения», — едко шутит Г.В., переиначивая известную поговорку. Он прав и нисколько не преувеличивает. Повторы действительно мучение для всех участников съемочного процесса. А ведь некоторые режиссеры гордятся количеством «отбракованного» материала, не вошедшего в картину. Им кажется, что тем самым они демонстрируют свое мастерство. На самом же деле подобным отношением к делу они демонстрируют свою несостоятельность.
Апрель 1938-го
Как же мы с Г.В. волновались, представляя «Волгу-Волгу» на суд зрителей! Как же волновались! Казалось бы, чего нам волноваться. Не первую же картину сняли. Был за плечами опыт, был успех, и не один. Но кто обжегся на молоке, тот непременно станет дуть на воду. Помня о нападках на «Веселых ребят», помня о непростой судьбе нашей первой картины, мы опасались, что и «Волгу-Волгу» может постичь та же участь. От нападок не застрахована ни одна картина. Но больше, чем нападок, мы опасались того, что картина может не понравиться зрителям. Мало ли что съемочная группа во время съемок или рабочих просмотров иногда дружно умирала со смеху. А что скажут зрители? Ну и, конечно же, нас волновало то, что скажет Сталин. Особенно меня волновало, ведь Он интересовался, как идет работа над картиной, ждал ее.
Волнения наши, к счастью, оказались напрасными. Где бы ни показывали картину — в Кремле или в кинотеатре, повсюду от начала до конца ее сопровождал смех. Бурный, оглушительный. Люди смеялись во весь голос, от души. «Волга-Волга» стала любимой картиной Сталина. Он смотрел ее много раз, знал практически наизусть. Смотрели мы ее и вдвоем два или три раза. Особенно веселила Сталина сцена, в которой я танцевала лезгинку с зажатыми под носом колосьями, заменявшими мне усы.
— Похоже, но не совсем, — говорил Сталин.
Однажды Он даже показал мне, как надо танцевать лезгинку. Встал, раскинул руки и с неожиданной легкостью, словно было ему двадцать лет, сделал круг танца.
— Без кинжала на поясе не танцуется, — сказал Он, когда я закончила аплодировать. — И сапоги нужны другие…
Должна сказать, что танец, исполненный Сталиным без кинжала и в обычных сапогах, произвел на меня сильное впечатление. Как актриса, я в первую очередь оценила легкость и грациозность движений, мастерство танцора. Захотелось станцевать вместе с Ним по-настоящему, под музыку, в зале…
Мы были счастливы, но счастье наше чуточку горчило. Уж слишком много было разных ограничений. Чувства от этого не ослабевали. Настоящие чувства ни от каких ограничений зависеть не могут. А вот горечь периодически ощущалась. То было нельзя, это было невозможно… Власть сильно расширяет возможности человека, но одновременно накладывает множество ограничений. Диалектика.
Любимая моя сцена из «Волги-Волги» — это как раз та самая, с лезгинкой, когда я рассказываю Бывалову, какие талантливые люди есть в нашем городе, и «показываю» их. Г.В. тоже считает эту сцену одной из лучших в этой картине.
В апреле 1938-го меня наградили орденом Трудового Красного Знамени за роль Марион. Это был мой первый орден. Орден! Я теперь орденоносец! Велика была моя радость. Принеся награду домой, я весь вечер держала ее в руках и не могла налюбоваться. Мало что в жизни казалось мне таким красивым, как мой первый орден. Первый орден!
— Я горжусь тобой, Любочка! — сказала мне мама, прослезившись от счастья.
Смысл наград для меня не в том, что они как-то выделяют меня, а в другом, в признании нужности и важности моего труда. Светлое, радостное чувство переполняет меня всякий раз, когда я получаю ту или иную награду. «Молодец, — говорю я себе. — Тебя наградили, это хорошо, но рано успокаиваться, надо оправдать доверие, доказать, что тебя наградили заслуженно».
Июнь 1938-го
С Дукельским, председателем Комитета по делам кинематографии, отношения у меня, что называется, «не сложились» с первых дней его назначения. Совершенно не разбираясь в кино, Дукельский считал, что известные актеры, режиссеры и прочие деятели искусств «слишком много о себе воображают» (его собственные слова) и слишком много получают. За время пребывания на этом посту (довольно недолгое, должна заметить, время — около года) он ничего не сделал для развития кино. Но зато сумел провести (протащить! продавить!) через Совнарком замену процентных отчислений от проката на твердые ставки. Замечу, что подобное нововведение коснулось только кино. Писатели, например, как получали гонорары в зависимости от величины тиражей, так и продолжают получать их до сих пор. В Союзе писателей, к счастью для них, не оказалось своего Дукельского. Сам он, при всей своей нетерпимости к чужим доходам, вел далеко не аскетический образ жизни. С подачи Дукельского в одном из июньских номеров газеты «Советское искусство» появилась анонимная (!) статья «Недостойное поведение». Мне не составило труда узнать имя автора. Им оказался некто Подгорецкий, брат упоминавшегося в статье директора Одесской филармонии Подгорецкого. Директор филармонии решил свести счеты с начальником областного управления по делам искусств, на место которого он метил, а в качестве средства выбрал меня. Слава о Дукельском достигла самых отдаленных уголков страны, и Подгорецкий прекрасно понимал, что, подав дело подобным образом, иначе говоря, обвинив меня в стяжательстве, непременно получит поддержку в Москве. Так оно и вышло. Дукельский охотно схватил наживку и ославил меня на всю страну. Незадолго до того мы с Г.В. начали строить дачу, и Дукельский говорил: «Квартиры им мало, так решили имением обзавестись!» А для чего государство дало нам с Г.В. участок, как не для постройки дома?
Заметка сейчас передо мной. Как хорошо, что альбом с ней у меня не украли. Перечитываю и не поленюсь переписать небольшой отрывок: «…т. Орлова потребовала от Одесской филармонии оплаты в 3 тысячи рублей за каждый концерт, не считая проездных, суточных и т. д. Дирекция Одесской филармонии, разумеется, не могла пойти на такие рваческие условия, тем более что, согласно приказу ВКИ № 640, максимальная оплата гастрольных концертов Л. П. Орловой была установлена в 750 рублей…»
Ставка в 750 рублей действительно была. Но многие руководители на местах, желая сделать нам приятное, находили возможность заплатить какие-то дополнительные суммы. Концертная ставка зачастую не покрывала расходов на билеты и гостиницы, которые я во время гастролей оплачивала из своего кармана. А ведь были и другие расходы. Командировочные, суточные и пр. полагались мне только во время съемок или же во время выезда в составе официальной делегации. Все знают, что я никогда не позволила взять ни у кого ни копейки «помимо ведомости», то есть всегда добросовестно расписывалась за каждый полученный мной рубль, и все также знают, что я никогда не назначала цену за свои выступления. Мне предлагали — я соглашалась, но сама никогда не просила чего-то сверх ставки. И большая часть моих концертов оплачивалась как раз по ставкам. Бо́льшие суммы были скорее исключением, нежели правилом. Приятным исключением. Разумеется, я не запрашивала ни 3000 рублей в Одессе, ни 3300 рублей в Киеве, как утверждалось в статье. И никогда мои концерты не оформлялись совместно с каким-нибудь ансамблем или квартетом, это все выдумал автор статьи. В конце он с пафосом написал, что мое поведение недостойно звания советской артистки.
Недостойно? Зарабатывать деньги честным трудом недостойно? Странная логика. Да и не логика это вовсе, а нападки и клевета. Грязь. Мерзость.
Хуже всего было то, что статья попалась на глаза маме. Она прочла ее первой. Если бы первой прочла я или Г.В., то сделали бы так, чтобы газета никогда не попала бы маме в руки. Была продолжительная трагическая сцена с требованием наказать, восстановить поруганное достоинство и т. д. Закончилось вызовом врача. Г.В. позвонил главному редактору газеты, тот разговаривал сухо и недружелюбно. Стало понятно, что это только начало. Непременно последует продолжение. Через день из Одессы примчался Фишман. Он был не только расстроен, но и напуган. Сказал, что ему грозит арест за финансовые нарушения. Пробыл два дня, где только не побывал и уехал обратно еще более расстроенным и напуганным.
Комитет готовил собрание, посвященное моим «нарушениям». Председательствовать на нем собирался лично Дукельский. Примечательно, что меня о предстоящем собрании не известили, я узнала о нем случайно, от А.П.[79], нашего «Алеши», человека крайне порядочного. Он не только рассказал мне о собрании, но и собирался выступить на нем в мою защиту. Дело было совсем не в том, что Г.В. пригласил его сниматься в «Волге-Волге», а в простой человеческой порядочности. Тактика организаторов собрания была мне ясна. Они собирались пригласить меня в последний момент. Приду неподготовленная — хорошо. Не смогу прийти — еще лучше. Можно будет сказать, что Орлова окончательно зазналась и т. п.
Г.В. сильно переживал, больше, чем я сама, особенно после того, как домработница, вернувшись из «Елисеевского», рассказала, как в очереди обсуждали «трехэтажный дворец», который якобы строит себе Любовь Орлова. «Трехэтажный дворец»! Подумать только! Скромная, скромная даже по нынешним меркам, наша двухэтажная дача, тогда еще недостроенная, в воображении злопыхателей превратилась в «трехэтажный дворец». Слухи слухами, а дыма без огня не бывает. Г.В. порывался пойти к Дукельскому, но я уговаривала его подождать. У меня было такое предчувствие, которое можно назвать интуицией или как-то еще, что надо подождать, что все образуется. Не знаю, откуда оно взялось, просто не хотелось предпринимать никаких действий — оправдываться, опровергать, кому-то что-то доказывать. И я была права. Страсти вокруг меня вдруг улеглись как по мановению волшебной палочки. Собрание так и не состоялось, других статей не последовало, более того, мне позвонил некто Чернов, представившийся корреспондентом «Советского искусства», и попросил о встрече. Сказал, что ему поручено написать обо мне статью.
Я сразу же поняла, кому обязана столь чудесным избавлением от неприятностей, и при первой же встрече поблагодарила Его. Он, не любивший, когда его благодарили, по своему обыкновению попробовал притвориться, будто сам здесь ни при чем, но поняв, что меня провести не удастся, усмехнулся и спросил:
— Правда ли, что во Внукове вы строите трехэтажный дворец?
— Мы строим двухэтажную дачу, — ответила я. — Правда, там будет еще и подвал, так что при известной доле воображения ее можно считать трехэтажной. Но дворцом — никогда! Дворец из шести комнат — это нонсенс! И участок у нас совершенно обычный, не очень большой. Там нет ни парка, ни пруда, ни фонтанов…
— Зачем так горячиться? — перебил меня Сталин, хитро прищурившись. — Разве советская актриса, любимица миллионов, не заслуживает того, чтобы жить во дворце?
— Не заслуживает! — ответила я. — Хватит с нее отдельной квартиры и дачи! Но она заслуживает уважительного отношения. Чтобы ее имя… ее имя не…
К стыду моему, я не выдержала и разрыдалась. Очень уж много обиды накопилось внутри за последние дни. «Дворец» стал последней каплей. И ведь понимала, что Он шутит, что хочет таким образом дать мне понять, что все эти «обвинения» и выеденного яйца не стоят, но не смогла удержаться от слез. Я плакала, ужасно стыдясь своего плача, но тем не менее слезы продолжали литься из глаз.
Тяжелая теплая рука погладила меня по голове.
— Не надо плакать, Люба. Пусть они плачут. Советский народ не даст в обиду свою любимую актрису. Не надо плакать…
Когда тебя жалеют, плакать хочется еще больше, но мне удалось неимоверным усилием воли взять себя в руки и остановиться.
— А зачем вам понадобилось самим строить дачу? Напишите заявление. Заслуженный советский режиссер и заслуженная советская актриса имеют право на государственную дачу.
Эти слова застали меня врасплох. Государственная дача? Мы с Г.В. обсуждали такую возможность, но в итоге решили все же строить свою дачу. Почему, ведь строить сложно, накладно, хлопотно? Да, все так, но зато получишь такой дом, какой хочется (проект Г.В. привез из Америки, тогда еще о собственном доме и речи не было, но он смотрел далеко вперед). И не придется зависеть от прихотей какого-нибудь чиновного деятеля, который может дать хорошую дачу, а может и плохую. Вдобавок государственную дачу могут в любой момент отобрать, бывали такие случаи. И вообще свое — это свое. У нас с Г.В. к своему особое отношение.
— Спасибо, Иосиф Виссарионович, — ответила я. — Но заслуженных людей у нас много больше, чем дач. Если мы имеем возможность построить дачу за свой счет, то должны построить, а не просить у государства. Хватит нам и того, что получили от государства участок для строительства. Иждивенческие тенденции следует не поощрять, а искоренять.
Сталин рассмеялся. Мой ответ явно понравился, пришелся по душе. Впоследствии к месту он несколько раз вспоминал про то, что иждивенческие тенденции следует не поощрять, а искоренять, и хитро подмигивал мне, давая понять, что помнит тот наш разговор. Уже после его смерти я рассказала одной из подруг, что мы с Г.В. могли бы обзавестись государственной дачей, но предпочли построить свою. «Вы оба ненормальные или святые! — сказала мне подруга. — Взяли бы, раз давали, а свою бы продали». На святых мы с Г.В. нисколько не похожи, значит, мы ненормальные. Ну что поделать, такими уж родились. Я никогда не старалась хапнуть, получить что-то сверх того, что мне причиталось, я даже то, что причиталось, не всегда получала в полном объеме. Ходить по кабинетам, просить, требовать, «выбивать», как принято говорить нынче, — это не мое, это не для меня. Претит. Противно. Я лучше обойдусь, перебьюсь, чем стану унижаться, поступаться достоинством. И Г.В. тоже такой. Наверное, поэтому у нас не так много премий и наград. При желании могли бы иметь втрое больше.
* * *
Предчувствие беды, ощущение надвигающейся войны, посетило меня задолго до ее начала. За три года. Тому были предпосылки — в марте немцы заняли Австрию[80]. Сердце мое сжималось от страха, когда я думала о войне. Тогда я еще не представляла масштабов грядущей войны и бед, которые она принесет народам. Но я помнила Первую мировую и Гражданскую войны. Пусть я тогда не бывала на фронте, но что такое война, какое это огромное горе, поняла и запомнила на всю жизнь. Читать о войне в книгах и испытать ее тяготы на себе — это совершенно разные вещи. Когда началась Первая мировая война, я была ребенком. Но помню настроения первых дней войны, которые были едва ли не радостными. Тогда война многим представлялась каким-то веселым занятием. Раз-два, как сейчас пойдем да разгромим врага… Очень скоро, как только люди ощутили, что такое война, как стали приходить первые похоронки, а на вокзалы прибывать поезда с ранеными, настроения изменились.
Чувствуя, что война надвигается, я все же надеялась, что ее удастся избежать. Не только у меня одной была такая надежда. Казалось, что вот-вот немецкий народ прозреет и сбросит Гитлера вместе с его приспешниками. К сожалению, этого не произошло. А надежды были очень большими. И еще не верилось, что простые немцы пойдут на нас войной. Все мы помнили о том, как в 1917-м немецкие и русские солдаты на фронте братались друг с другом. Мне довелось слышать рассказы солдат, участников этих событий. Все они в один голос заявляли, что немцы больше никогда не поднимут на нас оружия. Народ больше не обмануть, рабочий и крестьянин больше не станут стрелять в таких же, как они. И мы верили в это. Нам хотелось в это верить. Но и чувство надвигающейся беды не покидало нас. Сложно все было, мысли путались. Ум говорил одно, а сердце другое.
На мой вопрос о том, будет ли война, Сталин ответил:
— Очень бы не хотелось.
А кому хотелось? Ни одному нормальному человеку не хотелось войны. Но настал день, и она началась.
Странно — я долго ждала войны, напряженно следила за политической обстановкой, а перед самым ее началом вдруг успокоилась. Было чудное лето, мы с Г.В. отдыхали в Латвии, чередуя отдых с концертами, и война застала нас там врасплох. Воскресенье, хорошая погода, хорошее настроение, и вдруг бомбы, ужас, смерть. Бомбили Ригу, бомбили поезд, который вез нас в Минск… Было страшно.
Что меня очень сильно огорчило, так это гнусные слухи. Несмотря на то что я не раз выступала по радио и снялась в роли Стрелки[81] в киносборнике[82], поползли слухи о том, что я перешла (перешла!) к немцам и снимаюсь в их фашистских картинах! Причем слухи эти были довольно стойкими и распространились широко. Совершенно посторонние люди интересовались у наших знакомых — правда ли, что Орлова у немцев? Дошло до того, что этот вопрос незадолго до нашей эвакуации задали Г.В. Он строго отчитал распространителя слухов (подобные вопросы — это ведь тоже распространение панических слухов, иначе их и не назвать), а затем, уцепившись за этот слух, придумал сюжет картины, продолжения «Цирка» с участием Марион Диксон. Цирковая труппа, гастролирующая по Белоруссии, захвачена фашистами. В одном из немецких офицеров Марион узнает Кнейшица. Допросы и угрозы не пугают советских людей. Партизаны освобождают артистов, и те включаются в борьбу с фашистами… Было задумано множество неординарных, эксцентрических сцен с участием цирковых артистов. Акробаты, проявляя чудеса ловкости, похищали из вражеского штаба секретные документы, дрессировщик науськивал немецких овчарок на самих же фашистов, клоун, замаскировавшись под юродивого, ходил в разведку и т. п. Замысел был весьма неплох, он однозначно заслуживал воплощения, но, к сожалению, воплотить его в жизнь по ряду причин не удалось. А я уже настроилась на картину, видела себя в роли партизанки.
* * *
«Товарищи интересуются — почему актриса Любовь Орлова снимается только у своего мужа, режиссера Александрова? — вдруг сказал Сталин, провожая меня до машины, которая должна была отвезти меня домой. — Разве Александров монополист? У нас в Советском Союзе есть только один монополист — народ».
Сказано это было в его обычной манере, и не понять сразу, шутит ли Он или говорит серьезно. Но я уже знала, уже привыкла, что Он ничего не говорит просто так. Даже шутки у него со смыслом, с намеком. Многие пытаются выставить Сталина каким-то деспотом, но на самом деле это был совсем не деспот, а весьма и весьма деликатный человек. Если можно было не приказывать, а намекнуть, Он предпочитал намекнуть. Он предпочитал подсказать нужное решение, а не диктовать его. Ну а если приходилось приказывать, то приказывал, куда уж деваться? Но не так, как приказывают некоторые руководители — раздуваясь от сознания собственной значимости, преисполняясь самодовольством и т. п. Нет, Он приказывал спокойно, сдержанно, нисколько не рисуясь. Сталин вообще был скромным человеком. Это подчиненные-подхалимы вначале увлеченно творили его культ, а потом не менее увлеченно его развенчивали. «Тьфу на них!» — как иногда, в минуты сильного негодования, высказывалась моя мама.
Я смутилась, не сразу и нашлась, что ответить, а окончательно собралась с мыслями уже когда сидела в машине. Да, три последних фильма, три главных моих на то время фильма — «Веселых ребят», «Цирк» и «Волгу-Волгу» снял Г.В. «Любовь Алены», свой первый опыт в кино, я предпочитаю не вспоминать. Не из-за плохих отношений с Б.И. [83] (окончательно они испортились после того, как я впервые снялась у Г.В.), а потому что картина эта во всех отношениях слабая. Б.И. работал далеко не так тщательно, как работает Г.В. Г.В. — корифей тщательности, фанатик скрупулезности, многие находят его нудным и придирчивым, но без занудства и придирчивости не может быть режиссера. Тщательно продумать каждую мелочь, выверить все несколько раз и добиться полнейшего воплощения своего замысла на съемочной площадке — вот метод Г.В., секрет его успеха. Дело не столько в том, что он делает, сколько в том, как он это делает! Мастерство проявляется в мелочах! У хорошего столяра каждая дощечка подогнана как следует, каждый гвоздик на своем месте и вбит по самую шляпку, все ровно, все на своем месте… У хорошего режиссера то же самое. Все на своем месте — и актеры, и декорации, и освещение. Все-все-все. Не хочу сказать, что Б.И. был плохим режиссером, но тщательности Г.В. ему сильно недоставало. Случались накладки, какие-то сцены откровенно «провисали», но тем не менее включались в картину. На съемках «Алены» частенько (не скажу, что каждый день, но часто) происходило что-то досадное, мешающее работе. То актер опоздает, то светильник разобьется, то еще что. У Г.В. я с трудом могу вспомнить один или два подобных случая. Опоздать на съемки? Халатно отнестись к своим обязанностям? Г.В. этого не потерпит и не будет работать с таким человеком. Попробовала бы я опоздать хоть раз у Г.В. Не могу даже представить такого. Его требовательность (в первую очередь он требователен к самому себе, а потом уже к окружающим) передается всем на съемочной площадке. Сниматься у Г.В. — счастье, большая удача, потому что никогда не будет стыдно за свою работу. Снявшись в трех его картинах, имевших большой успех, хотела бы я сниматься у кого-то еще? Конечно же, нет. И дело не в том, что Г.В. — мой муж, а в особенностях его творческого процесса. В высочайшей организации этого творческого процесса дело.
Не могло быть и речи о том, чтобы предпочесть Г.В. кому-то, отказать ему и сняться у другого. Не могло! Однако в тот период Г.В. не только ничего не снимал, но даже и не готовился снимать. Не складывалось с новым фильмом. И дело было не столько в отсутствии подходящего замысла, сколько в разных других причинах, перечислять которые нет нужды. В один из ближайших вечеров, выбрав подходящий момент, я осторожно завела разговор о том, стоит ли мне, пока он ничего не снимает, сняться у кого-то другого. Говорила, взвешивая каждое слово, боясь обидеть Г.В. или сделать ему больно. Творческие люди ревнивы больше других. Уж не сочтет ли он мое желание чем-то вроде измены? Не рассердится ли? Не поссоримся ли мы? (Попутно замечу, что за все годы нашей с Г.В. жизни мы с ним ни разу не то чтобы поссорились, мы даже ни разу не поспорили на повышенных тонах! И очень этим гордимся.)
Передавать прямо слова Сталина мне не хотелось. По многим причинам, в том числе и потому, что они могли быть истолкованы Г.В. как какой-то упрек и т. п. А упрека там не было. Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что то был намек, предназначавшийся мне, и только мне. Зная о том, что у Г.В. сейчас простой, Он посоветовал мне сняться у кого-то еще, потому что хотел увидеть меня в новой картине или же просто проявил заботу, а скорее и то и другое. Киноактрисе нужно сниматься как можно чаще, съемки для нее, словно живительная влага для цветка. Но и забывать о том, что лучше меньше, да лучше, тоже не след. Количество не должно отражаться на качестве.
Г.В., к моему огромному удивлению (подчас до сих пор поражаюсь тому, как же плохо я его знаю), подхватил мою идею, одобрил ее и заявил, что я непременно должна (должна!) сняться у кого-нибудь еще. И привел несколько доводов. Первый довод — он сейчас ничего не снимает и находится в стадии «создания замысла» или «поиска замысла», а от этого поиска до начала съемок ой как далеко. Второй довод — это расширит границы моего опыта, творчески меня обогатит. Бесспорно расширит и обогатит. Третий довод — любой актрисе немного неловко сниматься у одного режиссера, тем более у собственного мужа. Злые языки (ох уж эти злые языки!) станут утверждать, что никто, кроме Александрова, не хочет снимать Орлову. Это, конечно, глупости, и злые языки всегда найдут, что сказать, поэтому этот довод я принимать во внимание не стала. Посмеялась, и все.
Процесс обсуждения завершился договоренностью о том, что прямо с завтрашнего дня я начну подбирать подходящий сценарий, а Г.В. подумает о том, у кого из режиссеров мне лучше сниматься. Я в этом отношении (да и во всех других тоже) полностью ему доверяла, зная, что он плохого не насоветует. Кому как не режиссеру лучше всех знать достоинства и недостатки своих коллег? А сценарий мне захотелось выбрать самой. Мне хотелось чего-то серьезного, может быть, даже трагического. Ни в коем случае не комедии. Ничего не имея против комедий, с удовольствием в них снимаясь, я боялась того, что ко мне навсегда «прилипнет» амплуа комедийной актрисы. «Прилипшее» амплуа существенно сужает возможности актера и плохо сказывается на его карьере. Редко когда, за счет каких-то определенных данных, актер вписывается в одно амплуа настолько, что срастается с ним. К примеру — Ильинский. Он сугубо комедийный актер, комик до мозга костей. Мне довелось видеть его в роли Тихона в «Грозе», роли драматической, совсем не комедийной. Он играл хорошо, можно сказать, превосходно, но сразу чувствовалось, что это не его амплуа. На протяжении всего спектакля меня не покидало ощущение того, что Тихон сейчас пошутит, ощущение того, что он выпадает не только из роли, но и из всей пьесы. Не могу представить Ильинского в роли Отелло. Боюсь, что начну смеяться, когда он станет душить Дездемону.
Итак, мы решили, что Г.В. подумает о режиссере, а я начну подбирать сценарий. Подбирать означало выбрать среди тех, которые мне присылали для ознакомления авторы. Мотивы были разными. Кто-то из авторов хотел, чтобы я сыграла главную роль, кто-то ждал моей оценки, кто-то спрашивал конкретного совета. Порой задавались совершенно абсурдные вопросы. «Уважаемая Любовь Петровна, — писал мне один автор. — Прошу вас ознакомиться с моим сценарием и сказать, подходит ли на главную роль Марина Ладынина?» Зачем спрашивать про это у меня? Не проще ли спросить у самой Ладыниной, нравится ли ей сценарий, «видит» ли она себя в нем? Странно, странно…
Я сразу определилась в том, что это должна быть не классика. Дело не в том, что я не люблю классику (я ее очень люблю), а в том, что мне больше по душе фильмы про современную жизнь. Они более актуальные, более живые, более интересные. И зрители воспринимают современные картины иначе, принимая их более близко к сердцу. Сыграв, к примеру, Аркадину или Офелию, не получишь тысячи писем от ткачих со всех концов Советского Союза, в которых они дадут свою оценку роли Тани Морозовой.
Не классика, однозначно. Что-то из современной жизни. Непременно с любовной линией и желательно драматический. Так я решила и начала искать такой сценарий.
Увы, мне все больше присылали комедийные. Амплуа уже начало сказываться в полную силу. Ничего драматического. Покойный ныне П.В.[84], тот самый, которому народная молва приписывает инициативу нашего знакомства (якобы он посоветовал Г.В., озабоченному поисками актрисы на роль Анюты, хотя на самом деле все было немного иначе), так вот П.В. посоветовал мне обратить внимание на режиссера Мачерета, который собирался ставить приключенческую картину про шпионов «Ошибка инженера Кочина». Это сейчас картин про шпионов много, а тогда они были наперечет. С Мачеретом мы были знакомы. Я получила от него сценарий, прочла и сказала себе: «А почему бы и нет?» Не совсем то, чего бы мне хотелось, но идеальное вообще редко бывает достижимо. «Добротно», — похвалил Г.В., ознакомившись со сценарием. И тут же спросил, не «узка» ли для меня роль Ксении, намекая на некоторую прямолинейность, однобокость трактовки ее образа. Я ответила, смеясь, «не узка, не широка, а в самый раз». Ксения — несчастная женщина, случайно попавшая под власть врагов. Ее шантажом вынуждают помочь шпиону сфотографировать чертежи, но любовь помогает ей найти в себе силы для того, чтобы признаться в содеянном. Г.В. немного смущало, что по сценарию Ксения погибает от рук врага, но мне это нравилось. Не по причине какой-то кровожадности, а потому что эта гибель поднимала образ на трагическую высоту и придавала картине больше реалистичности. Не красивая сказка, где все непременно заканчивается хорошо, а реалистичная жизненная картина.
На роль инженера Кочина Мачерет собирался пригласить Чиркова[85], но тот одновременно снимался в двух картинах и на третью, по его собственному выражению, «замахнуться не мог». Были еще кандидатуры, но в итоге роль досталась актеру Дорохину. Не сразу, но мы с ним сработались, правда, Кочин в его исполнении получился не очень выразительным. Во всяком случае, Б.Я.[86] в роли портного Гуревича переигрывал его абсолютно. Гуревичи, что сам портной, что его жена в исполнении моей любимой Ф., получились блистательными, незабываемыми. Поклонники младшего школьного возраста долго изводили Ф. фразой «Абрам, ты забыл свои галоши!». До тех пор, пока эту фразу не вытеснила другая: «Муля, не нервируй меня». Б.Я. в роли Гуревича оказал на Г.В. настолько сильное впечатление, что Г.В. «взял его на карандаш», то есть записал в свой черный коленкоровый блокнот и спустя восемь лет пригласил сниматься в «Весне». Роль директора театра оперетты Б.Я. сыграл замечательно. «Ну хорошо! Сегодня вы ничего не делаете, но завтра вы можете получить… тоже ничего не делаете… Но послезавтра вы можете получить великолепную роль!» Б.Я. из тех актеров, которые «играют без дублей». Ему не нужно долго настраиваться или пробовать несколько раз. Он выходит перед камерой и делает то, что хотел увидеть режиссер.
Когда все уже было решено, утверждено и согласовано, я сказала Ему, что стану сниматься в новой картине у режиссера Мачерета. Оказывается, что Он все уже знал. Похвалил Мачерета, сказал, что он хороший режиссер и что картина у него, да еще и с такими актерами, непременно получится хорошей. И добавил с улыбкой: «Значит, с монополией покончено?» Я всегда удивлялась тому, как этот человек помнит все. Книгу, которую прочел давным-давно, прошлогоднюю статью, разговор, состоявшийся несколько месяцев назад. Феноменальная память. Я и сама на память не жалуюсь, но это что-то без преувеличения феноменальное.
Когда картина была готова, Сталин захотел посмотреть ее со мной. Это был первый такой наш совместный просмотр, только вдвоем, и я, честно признаться, просидела все время (час сорок минут, кажется) в огромном напряжении. Голову держала прямо, но правым глазом все время косила на Него, пытаясь подметить его реакцию на ту или иную сцену или реплику. Заметив это, Он покачал головой, давая понять, что смотреть надо на экран. По окончании Он посидел с минуту молча, а потом повторил одну из фраз Ксении: «Как она сказала? «Я изменила не вам, а своей стране, и пусть она покарает меня!» Правильно сказала». Мне самой эта фраза не очень-то нравилась, казалась чересчур пафосной, громкой. Я хотела как-то смягчить ее, но так и не придумала, как сделать это, чтобы «понизить градус» при условии сохранения смысла.
«Хорошая картина, нужная, правильная». Эти слова обрадовали меня неимоверно. «Режиссер Мачерет — хороший режиссер, — продолжил Сталин. — Он умеет снимать фильмы, но…» Он прищурился и испытующе посмотрел на меня, словно приглашая что-то сказать. Он любил такие паузы, вставлял их всегда к месту, умел их выдерживать ровно столько, сколько требуется. Я поняла, что сейчас будет сказано нечто критическое в адрес Мачерета, но не могла угадать, что именно не понравилось. Может быть, то, что на эпизодическую роль официанта Мачерет пригласил актера Кмита, Петьку из «Чапаева»? Был красный конник, герой, а теперь официант? Но это же кино… Или не понравилось то, что шпион Тривош сбрасывает Ксению под поезд? Неуместные ассоциации с Анной Карениной? Может, Тривошу следовало застрелить ее? «Хороший режиссер, — повторил Сталин. — Но он, к сожалению, не умеет так хорошо снимать актрису Орлову, как это делает режиссер Александров».
Я пообещала себе, что ни у кого, кроме Г.В., больше сниматься не стану, и почти сдержала это обещание. «Почти», потому что дважды снялась у другого Григория, Рошаля[87], в «Деле Артамоновых» и в «Мусоргском». Рошаль наш давний друг, человек не просто хороший, но и в высшей степени порядочный. Ему я не могла отказать. Г.В., узнав, что я приняла предложение Рошаля сняться в эпизодической роли Паолы Менотти, выразил удивление. Как это я согласилась на эпизод? Почему Паола, а не Наталья Евсеевна? Я ответила, что американку уже играла, а теперь хочу сыграть итальянку и что на роль Натальи Евсеевны уже назначена В.П.[88] и вообще дело уже решенное. Признаюсь честно, Паола мне не удалась. Мало в картине оказалось для нее места, не размахнуться. Эпизод эпизоду рознь.
* * *
Актерство и режиссура — взаимосвязанные профессии. Почти всем режиссерам приходилось играть какие-то роли, любой актер, если он на самом деле актер, знает основы режиссуры. Актерство и режиссура — две стороны одной медали. Но и разницы между этими сторонами много.
Некоторые театры, ведущие театры страны, такие, например, как МХАТ, находились под неусыпным вниманием Сталина. Он был в курсе всех новостей, репертуарных и кадровых дел, лично утверждал назначения руководящего состава, радовался успехам, переживал по поводу неудач. Кадровые вопросы Сталин со мной, разумеется, не обсуждал в отличие от «теоретических вопросов». Обсуждения подобного рода неизменно начинались с фразы «хотелось бы узнать мнение артистки Орловой». Этими словами Сталин подчеркивал, что вопрос интересует Его сугубо с профессиональной стороны. Некоторые обсуждения переходили в длинные дискуссии. Если Сталин с чем-то был не согласен, то возражал, уточнял, давал мне возможность переубедить, обосновать свою точку зрения. Он никогда не пытался настоять на своем. Сталину была важна истина, а не собственная победа в споре.
Помню, как на тему «как из хорошего актера и хорошего партийного организатора получился слабый режиссер» мы проговорили до самого утра. Сталин, как и положено мыслителю высочайшего уровня, пытался выявить закономерности, чтобы в будущем уберечься от ошибок, я изо всех сил старалась помочь — приводила примеры (их у меня скопилось много), пыталась рассуждать. Я пишу «пыталась рассуждать», потому что в присутствии Сталина мне не всегда удавалось это делать. Иногда я смущалась. Мне казалось, что я говорю какие-то глупости или банальности, а Сталин слушает меня лишь из вежливости. Я не отношу себя к робким людям, робость, о которой идет речь, возникала от понимания того, с Кем я дискутирую, Кого пытаюсь убедить или переубедить.
Я говорила о том, что хороший режиссер — это не только хороший организатор и человек, сведущий в актерской профессии. Хороший режиссер, будь то в кино или в театре, непременно должен обладать особыми качествами. Он должен иметь «целостное видение», то есть уметь видеть картину или спектакль еще до того, как приступит к постановке, должен уметь выбирать актеров на ту или иную роль, должен не просто организовывать процесс, но организовывать его так, чтобы не было ни малейшего отклонения от замысла. Отклонения губительны, они подобны кирпичу, вытащенному из основания стены. Один, два, три кирпича — и рухнет замысел.
В такие минуты я жалела, что рядом нет Г.В. Он умеет объяснять гораздо лучше меня. Но, с другой стороны, вряд ли бы Сталин стал беседовать с Г.В. так же откровенно, как беседовал со мной.
* * *
Оглядывая свой жизненный путь, порой удивляюсь — я ли это, со мной ли все это происходило и происходит? В глубине души до сих пор не могу свыкнуться с тем, что стала известной актрисой. Все так неожиданно, можно сказать — волшебно. Да, это в самом деле похоже на волшебство. Будто прилетела добрая фея, взмахнула волшебной палочкой, и… начались чудеса.
Удивляюсь своим достижениям. Кому-то они могут показаться скромными, но для меня они значимы, велики. Ведь это мои, личные, достижения. Удивляюсь и сразу же вспоминаю, чего мне это стоило. Удивление проходит. Остается сознание того, что мои труды не пропали даром, понапрасну. Это радует. Это не может не радовать. Счастлива ли я? Да, безусловно, счастлива. И главная ценность моего счастья в том, что оно не упало мне в руки с неба, а было заслужено трудом. Заслуженное, заработанное счастье стократ ценнее случайного.
Август 1938-го
Смерть Станиславского стала для меня не просто болью, а подлинной трагедией. Умер Корифей, Основоположник, Великий Реформатор, совершивший настоящую революцию на сцене. Его смерть ощущалась как невосполнимая утрата. Я долго не могла прийти в себя, ходила какая-то подавленная, сама не своя.
В те дни заговорили со Сталиным о Станиславском. Со Станиславского разговор перешел на Немировича-Данченко, которого я считаю своим наставником. Главную роль в моем становлении как актрисы сыграли другие люди, но это становление происходило в театре, которым Н.-Д. руководил, и он тоже принял определенное участие в моей судьбе.
Меня удивило, что тепло говоря о Станиславском, Сталин без особой приязни отзывался о Н.-Д. Казалось бы, должно быть наоборот, ведь Н.-Д. земляк Сталина. Он родился в Грузии, учился в Тифлисской гимназии, знал грузинский язык. Но тем не менее говорил о нем Сталин сухо, совсем не так, как о Станиславском. Один раз даже поморщился, словно от кислого. Задавать лишние вопросы не в моих правилах, поэтому причина подобного отношения осталась для меня тайной. Сам Сталин по этому поводу ничего не сказал. Но тем не менее на положении Н.-Д. отношение Сталина никак не сказалось. Н.-Д. руководил известным театром, который несколько раз укрупнялся, объединяясь с другими коллективами. В 1940 году он стал председателем Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства. Сталин ему однозначно доверял, но отчего-то недолюбливал.
Сейчас мы живем на улице Немировича-Данченко[89].
Года два назад я спросила у Г.В., не знает ли он чего-то, что могло произойти между Сталиным и Н.-Д. и испортить их отношения. Г.В. припомнил, но смутно, в общих чертах, некую статью, которую Н.-Д. опубликовал в начале 20-х годов. Но я не думаю, чтобы полемика вокруг статьи, да еще давняя, столь сильно сказалась бы на отношении Сталина к Н.-Д. Полемика — это же, в сущности, обычное дело. Истина, как известно, рождается в споре. Нет, была какая-то другая причина.
Казалось бы, какое мне дело до нее? Нет уже ни Сталина, ни Н.-Д. Дело в моем характере. И не в любопытстве, а в привычке докапываться до корней, до первопричины. Без этой привычки в актерстве делать нечего, ни одного образа толком воплотить не получится.
* * *
Неизменно удивляюсь, когда слышу выражение: «Я верю в свою счастливую звезду». По-моему, это самонадеянность в чистом виде, и ничего кроме самонадеянности. Верить можно в себя, в свои силы, но никак не в «счастливую звезду». И что это такое — счастье? На всякий счастливый случай найдется свой несчастливый, и наоборот. Знакомство с Г.В. было моим счастливым случаем, но задолго до этого была неудачная попытка попасть в кино. Однажды разговорилась про «счастливую звезду» со Сталиным. Он улыбнулся и сказал, что я ошибаюсь, что счастливая звезда есть у каждого советского человека. Красная пятиконечная звезда. В эту звезду я верю.
Декабрь 1938-го
Звание Герой Социалистического Труда было учреждено в конце декабря, перед самым Новым годом. Прочитав об этом в газетах, я вспомнила, как еще весной Сталин спросил меня:
— Хорошо ли звучит «Герой труда»? Нет ли здесь преувеличения? Можно ли в самом деле не для красивого словца уравнивать военный и трудовой подвиги? Мы обсуждали это с товарищами, но мне хотелось бы знать твое мнение.
Мне было очень приятно слышать такие слова. Я ответила:
— Звучит хорошо, и никакого преувеличения я здесь не улавливаю. На мой взгляд, трудовой подвиг равноценен военному. Упорный, самоотверженный труд иначе как подвигом не назвать. И тот, кто так трудится, настоящий герой.
Звание Героя труда существовало давно, еще с 20-х годов. Почему вдруг зашел разговор о нем сейчас?
Я задала этот вопрос Сталину.
— Нам нужно новое звание, — ответил Сталин. — Непременно со словом «социалистический». Так понятнее, правильнее. Труд бывает разным, капиталисты тоже трудятся, но их труд нашему труду не чета. У меня и некоторых товарищей были сомнения по поводу слова «герой». Может, заменить его? Товарищ Буденный, например, твердо стоит на том, что с шашкой на коне — герой, а с плугом — ударник. Но ударников у нас много, нам надо отличать наиболее активных ударников, тех, кто добивается не просто ударных, а особо выдающихся результатов и заслуживает особой награды. И хотелось бы вручать не грамоту, как сейчас, а медаль или орден. Чтобы можно было носить на груди. Грамоту человек дома на стенку повесит, и никто, кроме знакомых, ее не увидит. А надо, чтобы все видели, — вот идет заслуженный человек. По этому вопросу есть возражения. Многие товарищи считают, что народ и без медали запомнит своих героев, ведь это звание будет присваиваться лучшим из лучших. Надо еще подумать…
Я вспомнила, как в 20-е годы некоторые горячие головы (из тех, кто сначала скажет, а после подумает) предлагали отменить все награды, объясняя это всеобщим равенством. Но равенство равенством, а награды и почетные звания — это совсем другое. Награда — признание заслуг человека перед Родиной. Мне приятно получать награды. Каждая награда побуждает меня трудиться еще лучше. Иначе и быть не может, ведь признание заслуг налагает большую ответственность. То, что можно простить начинающей актрисе, народной артистке, лауреату, орденоносцу уже не простят. Да я и сама себе не прощу, если где-то в чем-то капельку схалтурю. Умру на месте со стыда.
Герой Социалистического Труда — звучит очень хорошо. Среди моих друзей немало Героев. Очень показательно, что первым это высокое звание было присвоено Сталину.
Золотая медаль «Серп и Молот» «опоздала» на полтора года. Ее ввели только в мае 1940-го. До этого вручали только орден Ленина вместе с грамотой. Но орден Ленина вручается за различные заслуги, не только Героям Социалистического Труда, а к званию нужен особый знак отличия. Я всегда выделяю среди зрителей тех, кто носит на груди эту медаль. Посвящаю им песни, знакомлюсь и непременно спрашиваю, где они работают, каковы их достижения. Делаю это по зову души. Преклоняюсь перед Героями, горжусь этими людьми.
Февраль 1939-го
И снова о наградах. Общий наш праздник был в феврале — я и Г.В. были награждены орденами Ленина. Орден Ленина — высокая награда. Радости моей не было предела. При первой же встрече я поблагодарила Сталина. Личная благодарность — это несколько иное, нежели слова, сказанные на трибуне или напечатанные в газете. Он, по своему обыкновению, сделал вид, что он здесь совсем ни при чем, ведь решение о награждении принимается коллегиально, по представлению комитета. Я без всякой задней мысли вдруг спросила, почему у нас нет ни одной личной Сталинской награды. Советским людям было бы приятно получить награду, носящую имя Вождя.
— Орден Сталина? — нахмурился Сталин, и я поняла, что предложение мое не понравилось. — Зачем? Разве у нас мало наград? По-моему, достаточно.
— Пусть не орден! — сказала я. — Пусть это будет другая награда, например…
— Например, медаль? — поддел меня Сталин с улыбкой.
— Например, премия. — Мысль о премии понравилась мне, и я принялась ее развивать: — Премия имени Сталина или лучше так — Сталинская премия. Разве некого у нас наградить такой премией?
Задавать подобные «коварные» вопросы я научилась у Сталина. Сталин был хорошим учителем. Ответишь: «Почему это некого? Много кого можно наградить», и получится, что согласился. Но в ответ я услышала другое:
— Премия — дело хорошее, нужное. Люди себе что-то купят на нее, обрадуются… Но как это будет выглядеть, Любовь Петровна? Об этом вы подумали?..
«Любовь Петровна» и «вы» свидетельствовали о том, что наша беседа приняла официальный характер, что «скорая», «внезапная» мысль моя принята к обсуждению.
— Советский человек получает премию от Советского государства, но она называется Сталинской? Почему не Советской? Люди удивятся. Скажут, что я беру государственные деньги и раздаю их от своего имени. Еще и с каким-нибудь императором сравнят.
Соображаю я быстро. Он еще и договорить не успел, а я знала, что ответить. Тем более что не так давно Он пошутил по поводу того, что никогда не держал в руках гонораров за свои печатные труды. Только в ведомостях расписывается, получил, передал государству — и все. Сказал без сожаления и без хвастовства, просто к слову пришлось. Смысл высказывания был таким, что очень удобно вот так, только расписываться в ведомостях.
— Ваши труды, Иосиф Виссарионович, широко издаются. Часть гонораров можно предназначить для выплаты Сталинских премий.
— Гонорары? — переспросил он. — Гм… Хорошо, я подумаю.
Больше мы на эту тему не разговаривали. Премии и стипендии имени Сталина были учреждены в декабре, к его 60-летию. В 1941-м я получила первую свою Сталинскую премию первой степени за роли Марион и Стрелки, а в 1950-м вторую, за роль Джаннет в картине «Встреча на Эльбе». Эти награды имеют для меня особое значение, и дело тут совсем не в деньгах.
* * *
Мы говорили о многом, в том числе как-то раз зашла речь о смерти. Сталин сказал, что не хотел бы для себя «скучной», как он выразился, смерти в постели. Мне все равно, в постели или не в постели, лишь бы смерть пришла ко мне быстро, без мучений.
Сталин умирал долго. Когда по радио объявили о Его болезни, сердце мое сжалось от ужасного предчувствия. Я почему-то сразу поняла, что это конец, и в то же время надеялась, что все обойдется, что Сталин поправится, ведь Его лечили лучшие врачи Советского Союза. Увы, не обошлось…
Редкие поздравления с праздником 8-е Марта в том году удивляли меня. О каком празднике может идти речь, если вся страна в трауре? Лишь позже я сообразила, что некоторые из поздравивших отправили мне открытки заранее, еще до того, как по миру пронеслась черная весть.
Я простилась со Сталиным в Колонном зале. Мне показалось, что Он совершенно не изменился с момента нашей последней встречи. Казалось, что Он спит в окружении соратников, знамен, цветов, убаюканный величественной траурной музыкой…
Я остро чувствую запахи, но розы в тот день не пахли. Совсем.
* * *
У любой медали две стороны. Слава — это прекрасно. Слава показывает, что человек смог проявить свои таланты, чего-то добиться, состояться. Не выделиться из толпы (выскочки ведь тоже выделяются), а именно состояться.
Сначала тебя никто не знает, на улице не узнают, в магазинах и на вокзалах не обращают внимания. Потом начинают обращать. С каждым днем все больше и больше. И вот уже обращают так, что ты не знаешь, куда от этого внимания деваться. Толпы поклонников, невозможность хотя бы минуту провести на людях незаметной… Да что там «на людях»! В гостинице невозможно уединиться. Если перед окнами растут деревья (а это случается сплошь и рядом), то на них непременно будут сидеть мальчишки или даже не мальчишки и пялиться в окна. Мало того, они еще станут оповещать толпящихся внизу о том, что я делаю. Сидят и кричат: «подошла к окну», «села в кресло», «разговаривает по телефону». Одного такого соглядатая, особо настырного, который не только смотрел в него, но и пробовал стучать, Г.В., рассердившись, облил водой из графина. Я попросила его быть сдержаннее и не обращать внимания. Увы, иногда славы бывает чересчур много. На какие только ухищрения не приходится порой идти, лишь бы оставаться неузнанной. В Москве и Ленинграде публика сдержаннее, деликатнее, а где-нибудь подальше этой деликатности может вообще не быть. Хотела славы? Мечтала о ней? Так получай же! Ешь полной ложкой прямо из котелка. Вкусно? Ах, разве может слава быть невкусной? Еще как может!
Иногда я мечтала о том (а почему бы и не помечтать?), как я и Он, будучи простыми, обычными людьми, живем далеко от Москвы, в небольшом уютном городке, похожем на Звенигород моего детства… Он чем-то руководит, заводом или фабрикой. Его невозможно представить в какой-то иной роли. Я служу в местном театре или, за неимением такового, преподаю в музыкальной школе или работаю библиотекарем. Мало ли хороших работ на свете. Вечером готовлю ужин и жду Его. По выходным пеку пирожки, что-что, а пирожки мне удаются на славу, это признают даже мои недоброжелатели. Уже много лет пеку их редко, от случая к случаю, но результат неизменно впечатляет. Дело не столько в похвалах (воспитанные люди могут и просто из вежливости хвалить), а в том, что сколько бы я их ни напекла, «на завтра» ничего не остается. Г.В. ласково называет мои пирожки «Любочкиными ватрушечками». «Почему ватрушечки?» — спросила я. «Потому что от слова «пирожок» нельзя образовать уменьшительного», — смеясь, ответил он. Секретов у меня никаких нет, я просто люблю стряпать, и если нахожу время для этого занятия, то отдаюсь ему полностью, самозабвенно. Так же, как и творчеству. Это ведь тоже своего рода творчество.
Итак, маленький тихий городок… Когда мы гуляем по нему, следом за нами никто не ходит. Мы предоставлены самим себе. Можно посидеть вдвоем где-то в глубине тенистых аллей, наслаждаясь тихой беседой, можно прогуляться вдоль берега реки…
Помечтаю, бывало, так недолго, потом тряхну головой, улыбнусь своей поистине детской наивности и продолжаю жить своей настоящей, невыдуманной жизнью. Подчас это так сложно, жить своей жизнью, но деваться некуда — надо продолжать идти тем путем, который сама же для себя и выбрала.
Его уже нет, многое изменилось, люди стали культурнее и уже не заглядывают в гостиничные окна, но мечта о жизни в маленьком уютном городке не покидает меня и поныне. И ведь знаю, что проживу там не дольше трех дней, а потом отчаянно заскучаю, потому что тихая размеренная жизнь совсем не по мне, но продолжаю мечтать. Живет внутри неугасимая потребность в мечте.
* * *
Не завидую, никому никогда не завидую, даже тем, у кого все складывается гладко, словно им, как говорится, сам черт ворожит. Не поменялась бы судьбой ни с кем из тех везучих, кто начинает сниматься в кино еще во время учебы, а по окончании ее попадает прямиком в труппу МХАТа, в окружение корифеев, рядом с которыми на одной сцене я себя до сих пор представить не могу[90].
Не завидую! «Все на блюдечке» — это не мой девиз. Мой девиз: «Через тернии — к звездам!» Пускай не все сразу, пускай поначалу кругом одни тернии, зато трудности неимоверно закаляют характер, дают бесценный опыт. Пройдя огонь, воду и медные трубы, человек становится крепким, стальным. Испытав себя на прочность, я без страха смотрю в будущее. Я готова к любым поворотам судьбы, к любым испытаниям. Я знаю, что смогу, превозмогу и не сломаюсь. Я доказывала это не раз и докажу еще, если понадобится.
Если упорно идти к цели, то рано или поздно дойдешь до нее. Это прописная, можно даже сказать, пошлая, истина, но для многих эти слова всего лишь пустой звук. Странные люди. Они считают, что мечта может сбыться сама по себе. «Счастливый случай свел вас с Александровым», слышу я порой. Да, это так, элемент случайности присутствует в нашем знакомстве. Но если бы я не была бы актрисой, которая понравилась режиссеру, то наше знакомство могло бы иметь иное продолжение. Может, и до брака дело дошло бы, но вот в своих картинах Г.В. меня бы не снимал. Не правы те, кто расценивает союз режиссера и актрисы не как союз двух творческих личностей, а как паровоз с прицепленным к нему вагоном (ироничное сравнение, придуманное Г.В.). Муж-режиссер, как паровоз, тянет жену-актрису в свои картины. Кто-то из тех, кто придерживается подобных взглядов, был инициатором запрета режиссерам снимать жен в своих картинах. «Надо дать дорогу на экран другим актрисам», — говорили они. Но ведь дело совсем не в протекционизме или каких-то меркантильно-мещанских соображениях. Два творческих человека создали союз! Разумеется, им хочется работать друг с другом. Они хорошо знают друг друга, доверяют друг другу, объединены общими взглядами на искусство (без общности взглядов творческий союз невозможен). Как же им не хотеть работать вместе? Хорошо, что этот глупый запрет продержался недолго. На него очень скоро перестали обращать внимание.
Март 1939-го
Посетила художественную выставку «Индустрия социализма». Более тысячи работ, настоящий художественный праздник. Запомнились картины армянского художника Мартироса Сарьяна и пейзажи Константина Юона, начинавшего в качестве театрального декоратора. Рассказала о своих впечатлениях Сталину. Он тоже был на выставке, остался доволен.
— Хорошая выставка, — сказал Сталин, — сразу видно, что социалистическое искусство находится на подъеме. Порадовали художники.
Сталин редко употреблял слово «порадовали». Это слово служило Ему чем-то вроде высшей похвалы. Сталин очень любил живопись. Однажды я спросила, почему он не коллекционирует картины.
— Зачем? — удивился Сталин. — У нас много хороших собраний. Одна Третьяковская галерея чего стоит. Есть где посмотреть картины, если захочется.
Вспоминаю эти слова Сталина, как пример Его скромности. Скромность была одним из основных качеств Сталина. Все в его обиходе было просто — простая одежда, простая мебель, простая еда. Но и в этой простоте ощущалось свойственное Сталину величие. Истинное величие не нуждается в подчеркивании. Простота служит для него лучшим фоном. Создается своеобразный контраст, подчеркивающий, усиливающий впечатление.
Однажды Сталин спросил, почему я предпочитаю ездить в отдельном купе. Так оно и было, я действительно стараюсь ездить в купе одна, выкупаю все места. Разумеется, если мы едем куда-то вместе с Г.В., то Г.В. находится в одном купе со мной, а вот незнакомых попутчиков я предпочитаю избегать. По следующим причинам, которые я объяснила Сталину.
Причина первая — мой рабочий график насыщен настолько, что даже в поездах мне приходится работать. Заучивать, репетировать, что-то писать. Люблю в дороге отвечать на письма. Попутчики, едущие в одном купе со мной, невольно мешают мне работать.
Причина вторая — оборотная сторона моей известности. Попутчикам хочется общаться со мной. Я бываю вынуждена отложить дела и поддерживать общение, которое порой затягивается едва ли не до утра. В результате я не только не работаю, но и не высыпаюсь. Некоторые мужчины буквально атакуют меня своим вниманием. Все, разумеется, делается в рамках приличий, но назойливое внимание досаждает.
Причина третья — у меня очень чуткий сон. В поезде, под убаюкивающий перестук колес спится хорошо, но вот храп соседа по купе не даст мне заснуть.
— Я не избалована и не требую к себе особого отношения, — сказала я в завершение. — Просто надо учитывать, что, приехав на место, я не отдыхаю с дороги сутки-другие, а сразу же включаюсь в рабочий процесс. Мне некогда доделывать то, что я не успела сделать в поезде. Для этого приходится ломать график, как-то ухитряться выкраивать время. Если я не высыпаюсь, то, конечно же, работаю хуже. Вот поэтому я и стараюсь ехать в отдельном купе.
Я никогда не рассказывала Сталину об этом. Кто-то другой сказал. Не исключаю, что то был навет — вот, дескать, Орлова зазнается, никого рядом с собой в купе видеть не хочет. Известность часто приводит к беспричинным обвинениям в зазнайстве и пр. Мои объяснения Сталин принял без возражений и вопросов.
* * *
Со временем копятся памятные предметы, добавляются к тем, что остались от родителей. Расписная тарелка с гарным парубком и не менее гарной дивчиной, которую папа купил в Киеве, напоминает и о папе, и о Киеве, и об одном актере, на которого сильно похож парубок. Вот мамина любимая шкатулка, в которую мы с сестрой в детстве так любили заглядывать тайком… Вот «Кавказский пленник» с автографом Льва Толстого… Вот чугунный орел, подарок челябинских рабочих… Орлов в моей «домашней коллекции» хватает. Самых разных, есть даже один фарфоровый… Что подарить Орловой? Конечно же — орла! Честно говоря, ничего «орлиного» я в себе не замечаю. Фамилия? А что такое фамилия? Условность, достающаяся нам по воле случая. С таким же успехом я могла бы быть Курицыной или Ивановой.
Памятные вещи, реликвии — это наша собственная, личная история, личный музей. Перебираю «экспонаты», и с каждым разом все явственнее и ярче становятся воспоминания. Причудливая особенность памяти — что-то стирается, но то, что осталось, со временем становится все ярче. Можно подумать, что воспоминания «тренируются» от частого обращения к ним.
Начала радоваться тому, что вдруг взялась за эти записи. Такое чувство, что я не только отдала долг памяти Сталина, но и многое переосмыслила. Пишу ведь не только о Сталине, но и о себе. Теперь понимаю, для чего и почему люди пишут мемуары. Впрочем, все люди разные, у каждого есть свои резоны, свои мотивы. Я, например, точно знаю одно — только для себя и только о себе я бы ничего писать не стала. Одно время Г.В. уговаривал меня на книгу, предлагал вместе с ним написать о кино. Г.В. хочется написать хронику советского кинематографа. Удивляюсь, зачем ему нужна я, ведь он и в одиночку превосходно справится. Г.В. утверждает, что картина, увиденная одним глазом, кажется плоской. Для полноценного объемного видения нужно два глаза. Объяснение красивое, но я не чувствую в себе такого запала, чтобы взять, да замахнуться на хронику, даже с таким соавтором, как Г.В. Как-то раз в шутку предложила Г.В. взять в соавторы Пырьева. Оба они, если можно так выразиться, стояли у самых истоков советского кино.
— Как можно! — притворно (а может, и не притворно) ужаснулся Г.В. — Мы с Иваном даже заглавия не успеем придумать, рассоримся на первой же строке, решая, чью фамилию писать сначала, а чью потом. Я буду настаивать на алфавитном порядке, а Иван начнет бубнить, что алфавит ему не указ. Эх, видимо, придется писать самому…
Напишет ли? Получится ли? Мать одной из моих подруг, прекрасная актриса, чья известность уходит корнями в дореволюционное время, долго собиралась написать о дореволюционном русском театре. Когда же написала, то получилась не книга о театре, а просто мемуары. Интересные, содержательные, но мемуары. Вдруг и у Г.В. получится то же самое? Хроника советского кино — дело непростое. Но нужное. На мой взгляд, рождение нового советского искусства непременно должно быть запечатлено, задокументировано для потомков. По всем направлениям — советское кино, советский театр, советская литература и т. д. Это же уникальный, очень интересный процесс. Я имею в виду не отдельные произведения, посвященные тем или иным вопросам и событиям, а полное, всестороннее, обстоятельное описание, настоящие хроники. А то ведь уходят люди, и с ними уходит эпоха. Многие ли сейчас знают или помнят о Теревсате, Театре Революционной Сатиры? А ведь это был один из первых революционных театров. Гражданская война, разруха, голод не были ему помехой. Театр этот, при всех его недостатках, превосходно выполнял свое главное предназначение — вселял в нас веру в светлое будущее, укреплял наш дух, давал понять, что все трудности преодолимы, что жизнь непременно наладится. Сейчас в здании на улице Герцена[91], где когда-то находился Теревсат, располагается другой театр — имени Маяковского[92]. А многие ли помнят театр «ПереТру» (сокращение от «передвижной труппы»), созданный несколькими энтузиастами, среди которых был и Г.В.? А ведь ни одна картина без нескольких штрихов не может считаться полной. Выдающееся запоминается, остается в истории навсегда, но ведь и не очень выдающееся интересно с точки зрения опыта и полноты исторической картины. Советское искусство ждет своих историков, пытливых, внимательных исследователей.
* * *
Из мифов и сказок, которые сочинены про актеров, мне больше всего нравится рассуждение о том, что актеры настолько привыкают притворяться, играть роли, что перестают быть самими собой. Выводы обычно следуют нелестные. Так рассуждают люди, не имеющие ничего общего с нашей профессией, не причастные к ней, ничего о ней не знающие, люди, у которых не все гладко с логикой. Как можно перестать быть самим собой, играя роли? Роли — это роли, а жизнь — это жизнь. Если роль становится жизнью или если жизнь и роли меняются местами, то это уже говорит о психическом расстройстве. Иногда такое случается, но нельзя сказать, что подобное вызывается работой, игрой в кино или на сцене. Для психического расстройства необходимы определенные предпосылки. Я сыграла много ролей, но как была, так и остаюсь Любовью Орловой. И ни одна роль ни в чем не изменила ни моего мировоззрения, ни моего характера. Да и сам характер не «стерся» от того, что я играю. «Стерся» характер! Однажды в Куйбышеве[93] меня так и спросили: «Не стирается ли характер от вашей работы?» Разве характер может «стереться»? Г.В. так понравилось это выражение, что он даже хотел вставить его в «Весну», но потом передумал.
Нет — характеры у актеров не «стираются», чувства не притупляются и т. д. Сыгранные роли дают нам опыт, обогащают нас духовно. Таково их действие. От работы не бывает вреда, одна лишь польза.
Люблю выступать перед зрителями. Люблю развенчивать мифы. Стараюсь рассказывать о своей работе как можно подробнее, чтобы у людей создалось правильное впечатление о ней. Стараюсь быть убедительной.
* * *
Сталину очень нравилась выдумка Эйзенштейна с брезентом из картины «Броненосец «Потемкин». Он приводил ее в пример, когда говорил о разнице между художественным и документальным кино. Сталин считал, что брезент, которым накрывают матросов перед расстрелом, усиливает впечатление от этой сцены.
— Смотрели картину с товарищами, — вспоминал Сталин. — Клим[94] мне говорит: «Что за чушь? Зачем надо брезент портить? И не увидишь под ним, кто готов, а кто нет». А я ему ответил, что надо не просто смотреть, а вникать. Пойми, говорю, это художественный прием. Их накрыли и будто отделили уже от живых. Еще не убили, а уже отделили. Клим вникал-вникал, а после просмотра битый час расспрашивал Эйзенштейна про этот брезент. Что, да как, да кто придумал, а почему брезент, а не полотно… Хватка у Клима мертвая, если он вцепится, то вцепится. Эйзенштейн стоит красный, пот с него льет, так допек его Клим, и отвечает: «Кто ж это полотно отстирывать будет после расстрела? С брезентом проще. Брезент обдал водой, и он снова чистый». А Клим на это: «Так, значит, брезент не на один раз… А почему тогда на нем дыр нет? Разве до того случая офицеры матросов никогда не расстреливали? Промашку вы дали, товарищ режиссер…»
Г.В. обожает рассказывать различные истории. И о том, чему сам был свидетелем, и о том, что ему рассказали. Но вот про это он никогда мне не рассказывал. Видимо, прошло мимо него.
— Эйзенштейн после того случая однажды пожаловался мне на Шумяцкого, — продолжал Сталин. — Обоснованно пожаловался, были на то причины, но зачем сразу идти ко мне? Можно было и между собой решить. Я выслушал и говорю: «Наверное, надо товарища Шумяцкого направить на другую работу, а вместо него поставить товарища Ворошилова». Эйзенштейн изменился в лице и больше никогда на Шумяцкого не жаловался.
* * *
Не переставала и не перестаю удивляться способности Сталина вселять уверенность в окружающих. Словом, жестом, взглядом… Каким бы ни было мое настроение (а оно бывало разным), стоило мне только оказаться рядом со Сталиным, как все мои тревоги улетучивались, плохое уходило куда-то на задний план, проблемы начинали казаться незначительными, не заслуживающими огорчения и печали. Примерно такое же чувство я испытывала в детстве, когда мама обнимала меня или когда папа гладил меня по голове. Чувство спокойствия, абсолютной защищенности, сознание того, что все будет хорошо.
Однажды я не выдержала и поделилась этим впечатлением со Сталиным.
— Это выдумки, — сказал Сталин. — Я же не колдун какой-нибудь…
Не колдун, это верно. Но без волшебства тут явно не обошлось. Это я шучу. При чем тут волшебство? Никакого волшебства и в помине не было. Просто каким-то, еще неизвестным науке образом спокойствие Сталина, его уверенность в себе передавались окружающим, столько было в Нем этой уверенности.
Странно было слышать от Сталина, что кто-то спорил с Ним или не соглашался с Его доводами. Как могло быть такое, искренне удивлялась я? Ведь Сталин всегда был так убедителен, так веско и всесторонне обосновывал свое мнение. Мне казалось, что без злого умысла не соглашаться со Сталиным было невозможно. Ум Сталина, его жизненный опыт, его образованность говорили сами за себя.
Г.В. часто вспоминает, как в 1928 году Сталин напутствовал их троицу[95] перед отъездом в Америку.
— Было такое впечатление, будто с нами говорит опытный режиссер, мудрый старший товарищ.
Перед тем как уезжать за границу, Сталин посоветовал совершить поездку по Советскому Союзу, посетить великие стройки той поры, побывать на полях, в том числе и на целинных, которые только-только начали осваивать. Увидеть, понять, прочувствовать, чем дышит, как живет Советская страна, чтобы там, за границей, иметь возможность сравнивать. Очень дельный совет.
Мудрый старший товарищ… Именно таким и был Сталин для всех, мудрым старшим товарищем.
Апрель 1939-го
Той весной Г.В. придумал сюжет, который понравился нам обоим своей искренностью и своим драматизмом. Дальний Восток. Маленькая дружная семья — мать, вдова капитана-пограничника, погибшего от вражеской пули, и маленький сын. Сын заболевает (чем именно, мы не придумали, но за этим дело бы не стало, подсказал бы кто-то из знакомых врачей), спасти его может только срочная операция. Операция очень сложная, такие делают только в Москве или Ленинграде. Местные врачи помочь не могут. Везти мальчика в Москву с Дальнего Востока невозможно, он ослаб и не перенесет дальней дороги. Отчаявшаяся мать посылает телеграмму Сталину, прося его о помощи. Сталин присылает за мальчиком и его матерью самолет. В пути о больном ребенке заботятся медики. Мальчика привозят в Москву, оперируют, спасают. Финальные кадры — мать и сын в Кремле благодарят Сталина.
Воодушевленная, я рассказала Сталину о нашем замысле. Было очень интересно узнать его мнение. Признаюсь честно, я рассчитывала на одобрение и надеялась получить какие-нибудь замечания, которые помогли бы нам в работе. Заодно хотела обсудить одну очень смелую идею Г.В., который придумал в финале снять не актера в роли Сталина, а самого Сталина, произносившего небольшую речь. Смело, но мне казалось, что есть шансы за то, что Сталин может согласиться. Звучное название мы придумать не успели, остановились пока на «Отеческой заботе».
Сталин выслушал меня, помолчал немного, а потом с искренним любопытством поинтересовался:
— Зачем сразу давать телеграмму в Москву? Разве на Дальнем Востоке нет райкомов и обкомов? И что это за больница такая, где только разводить руками умеют и на Москву кивать? Разве там нет ни одного коммуниста? Я так думаю, что секретарь парткома вместе с главным врачом пришли бы к первому секретарю райкома и тот бы организовал срочную перевозку ребенка в Москву. Может, они сразу бы обратились в обком… Пусть так. Но они не могли бездействовать. Это преступное бездействие. Что подумают зрители, увидев такую картину? Что в Советском Союзе без вмешательства Сталина ничего не делается? Что Сталин хороший, а все остальные — нет? Как в голову советскому режиссеру могла прийти такая антисоветская мысль?..
Щеки мои горели, я корила себя за глупость и одновременно радовалась тому, что не успела озвучить идею об участии Сталина в финале картины. Действительно, как нам мог понравиться такой сюжет?
— И зачем непременно в Москву? — продолжал Сталин. — В Новосибирске двенадцать лет работает институт усовершенствования врачей, а три года назад там открылся медицинский институт, в котором работает замечательный хирург Владимир Михайлович Мыш…
Имя этого врача врезалось в мою память навечно. Но тому были особые обстоятельства, все чувства мои были напряжены. А вот как Сталин мог помнить все это? Зашла речь о сюжете новой картины, и вот он уже называет институты, время их существования, имена сотрудников… Общаясь с Ним, я поняла, что такое настоящий государственный ум. Он держал в уме всю страну, все знал, все помнил, все понимал.
— Новосибирские хирурги очень бы расстроились, увидев такую картину. Все советские люди расстроились бы и недоумевали…
Тут он сделал паузу, увидев, что я вот-вот расплачусь. Прищурился, улыбнулся шире обычного (обычно он улыбался сдержанно, в усы) и, сменив тон с сердитого на веселый, сказал:
— А-а, догадался! Александров решил снять очередную комедию, что-то вроде советского водевиля, когда все шиворот-навыворот и заведомо неправда. Гм… Думаю, что советские зрители его задумку не оценят.
Я поняла, что шутливая концовка была сделана лишь для того, чтобы успокоить меня, и сердце мое, в который уже раз, наполнилось признательностью. Видно же было, что Он рассердился всерьез (человеческая глупость сильно его сердила), но ради меня свел все к шутке. Мелочь, а как подчеркивает она его человечность. А разве может быть величие без человечности? Не только по делам меряется человек, но и по его отношению к людям, особенно к тем, кто от него зависит или ему подчиняется. Сталин всегда был вежлив с людьми. Со всеми без исключения, от ближайших соратников, маршалов, наркомов до горничных и водителей. Резок (но не груб, не стоит путать резкость с грубостью!) Сталин становился только с теми, кто не оправдывал его доверия или докучал ему просьбами личного характера. Сталин сам был скромен и ценил скромность в других. Когда режиссер И. [96] в присутствии Сталина начал жаловаться на то, что у него нет автомобиля и он из-за этого толком ничего не успевает, Сталин строго посмотрел на него и сказал: «В октябре 17-го у Ленина не было ни одного автомобиля, а у Керенского их было несколько». Тон Сталина при этом был очень неприязненным. На И. было жалко смотреть. Сталинский намек был настолько прозрачен, что не понять его было просто невозможно. Возразить тоже было нечего. И. стоял как оплеванный, весь такой поникший, потом выдавил из себя: «Извините, товарищ Сталин», и поспешно ушел. Думаю, даже уверена, что он запомнил этот урок на всю жизнь. И все, кто при этом присутствовал, тоже запомнили.
* * *
Сейчас жалею о том, что не делала записей в прошлые годы. Для себя, для памяти, для того, чтобы ничего не забыть. Мы со Сталиным говорили на самые разные темы, обсуждали все, что только приходило на ум. Эти разговоры неизменно получались интересными, иначе и быть не могло при таком собеседнике, как Сталин. Но многое забылось, стерлось из памяти совсем или частично. А ведь материала могло хватить на целую книгу, большую книгу, которую можно было назвать «Беседы с Вождем». Впрочем, для того, чтобы получилась книга, помимо материала необходим писательский талант, но если не я, так кто-то другой на основе этого материала мог бы написать книгу.
Увы, время упущено. Но что-то, к счастью, сохранилось в памяти. Разумеется, мы много говорили об искусстве, на близкие мне темы. Проблемы электрификации или добычи полезных ископаемых со мной обсуждать нет никакого смысла, потому что я, в отличие от Сталина, в этих вопросах совершенно не разбираюсь.
Говоря об искусстве, Сталин непременно подчеркивал, что искусство должно быть классовым, партийным, марксистско-ленинским. Искусство вне партийности для Сталина не существовало. Он искренне удивлялся и искренне негодовал, когда становился свидетелем иного подхода.
В литературе идеалом Сталина был Павка Корчагин[97]. В кино — Чапаев. Любимый композитор из классиков — Чайковский, из современников — Дунаевский. Из художников Сталин особо выделял Герасимова. Сталин предпочитал современных художников, говорил, что старые картины ему рассматривать скучно. Очень любил, когда в творчестве, любом творчестве, отражались народные мотивы. Так, например, сравнивая творчество композиторов Грига и Вагнера, Сталин ставил в пример Грига за его внимание к народной музыке и народным песням, а Вагнера критиковал за ограниченность, причем довольно резко. Сталину очень не нравилось, когда те или иные творческие деятели в свое оправдание ссылались на какие-то старые каноны или принципы.
— Мы строим новое социалистическое общество! — напоминал им Сталин. — И строить его следует по новым правилам! Старые правила есть не что иное, как пережитки!
Подчеркивая важность классового подхода, Сталин в то же время тонко подмечал прочие достоинства и недостатки. Его подход, его взгляд не был однобоким. Приведу один пример. В 1937 году в Ленинграде была снята картина «Шахтеры». Идеологически правильная, рассказывающая о борьбе с вредителями на одной из шахт. Но других достоинств, кроме идеологической правильности, у картины не было. Не стану сейчас, за давностью лет, устраивать подробный разбор, поскольку для этого нужно пересмотреть картину, освежить впечатления. Скажу только, что мне картина тоже не понравилась. И многим другим актерам и режиссерам не понравилась. Критиковали ее много. Соблюдение принципов социалистического реализма[98] не спасло картину от критики. Примечательно, что критика одной из работ не перечеркивала творческие судьбы ее создателей. Так, например, режиссер Ю.[99], снявший «Шахтеров», не был лишен возможности работать дальше. С учетом высказанных в его адрес критических замечаний он снял хорошую картину «Человек с ружьем».
Другой пример. В 1938 году на «Мосфильме» была снята картина «Новая Москва»[100], заявленная как эксцентрическая комедия. Основой для фильма стала реконструкция Москвы. Важная, актуальная тема, таящая в себе неисчерпаемое множество возможностей. Но, к сожалению, создателям картины не удалось реализовать даже малую часть этих возможностей. Слова и поступки героев были правильными, социалистическими, а сама картина вышла невнятной, сумбурной, неинтересной. Посмотрев картину, Сталин сказал: «В таком виде картину нельзя выпускать в прокат». В чем была причина подобного решения? В «сырости» картины, недоработках режиссера, актерских ошибках… И штампы, штампы… Сталин видел искусство живым и не терпел штампов.
— «Синюю блузу»[101] напоминает, — говорил Сталин, встречая очередной штамп.
Штампов было много, как в образах, так и в приемах. Если враг, то непременно юркий, суетливый, с бегающими глазами. Хороший человек высок, широкоплеч, изъясняется фразами из газетных передовиц. Дурная женщина изящна и хорошо одета… Ну и так далее.
— У вас получилась антисоветская картина, — сказал Сталин одному режиссеру, имя которого я называть не стану. — Клевета на органы. В вашей картине врагов видно с самого начала. Они ведут себя крайне подозрительно — то и дело оглядываются, вздрагивают, шепчутся по углам. А разоблачают их только в конце картины. Возникает вопрос — почему сотрудники органов столь беспечны? Почему они так халатно относятся к своей работе? И жизненной правды в картине мало. Когда сын приходит вечером с работы, мать первым делом кормит его ужином, а уже потом обсуждает с ним новости…
Ни один нюанс не мог укрыться от зоркого сталинского взгляда. Сталин замечал все. Требуя искать новые пути в искусстве, новые формы, Сталин не любил бессмысленного, бессодержательного новаторства, новшеств, которые вводились лишь для того, чтобы показать — вот, мы тоже идем в ногу со временем, смотрите, что мы придумали. Когда в одном из московских театров устроили вращающуюся сцену, Сталин удивлялся и спрашивал меня:
— Что это дает зрителям? Возможность рассмотреть актера со всех сторон? Но актер может просто повернуться… Декорации так менять легче? Насколько?..
Честно говоря, я тоже, как ни вникала, но так и не поняла смысла вращающейся сцены. Довольно сложная конструкция была сделана ради того, чтобы выделиться, блеснуть своей «прогрессивностью». На мой взгляд, театру следует выделяться другими способами.
Сталин вникал во все, что видел, сразу же улавливая подтекст или то, что оставалось «за кадром». Однажды рассказал мне, как в 20-е годы заставил снять с репертуара пьесу о Французской революции, в которой пропагандировались троцкистские идеи. Коварный прием — берется какое-то историческое событие и подается зрителям или читателям в извращенной форме.
* * *
«Роман с театром» едва не случился в 1939 году, когда один из наших друзей, хороший артист, хороший режиссер и хороший человек, решил создать театр комедии[102]. Цель была хорошей — собрать блистательную плеяду актеров и ставить веселые, смешные пьесы. Получили приглашение и мы с Г.В. Я в качестве актрисы, Г.В. в качестве режиссера.
Предложение нас увлекло. Кино для нас очень важно, но почему бы и не попробовать себя в театре, особенно при условии, что одно не мешает другому? Сценический, театральный опыт имелся у нас обоих. Хотелось развить его, поднять на новую высоту. Смысл любого творчества в постоянном развитии, постановке и достижении новых целей.
Наши «театральные» планы не сбылись. Новый театр вскоре прекратил свое существование. Но все равно какую-то пользу мы получили и от наших несбывшихся намерений. Присмотрелись к себе, на что-то взглянули по-новому, что-то переосмыслили. Встреча с театром отложилась надолго.
Надолго, но не навсегда.
Всему свое время. Всему свое место. Что толку жалеть о несбывшемся? Не сбылось, так тому и быть. «Что бог ни делает, все к лучшему», — говорила мама. Строя какие-то планы, я всегда допускаю, что они могут и не сбыться, продумываю запасные варианты. Стараюсь не расстраиваться по поводу несбывшегося. Не сбудется одно, так сбудется другое. Главное — не падать духом, не отчаиваться, не опускать рук. Примером жизненной стойкости для меня была и остается моя мама. Хорошо, когда есть с кого брать пример.
Август 1939-го
Искусство неотделимо от идеологии, от политики. Это непременно надо учитывать. Наш дачный сосед И.Л.[103] поступил опрометчиво — написал сценарий героической картины про летчиков, где в качестве врага, напавшего на СССР, выступает Германия. Лучше бы и правильнее было вывести собирательный образ некоей капиталистической страны, не вдаваясь в ненужные подробности. Увы, И.Л. вовремя не подумал об этом. По сценарию сняли картину[104], создатели которой, разумеется, надеялись на успех и награды, но их надежды не оправдались. После заключения договора с Германией было бы неправильно оставлять в прокате такую картину. Это могли бы счесть провокацией. Сочувствую И.Л., сочувствую режиссеру, у которого второй подряд блин выходит комом[105], но понимаю, что поступить иначе было невозможно.
* * *
Принято считать, что нет никого страшнее львицы, у которой отобрали детеныша. Скажу со знанием дела, что львица ничто по сравнению с актером, у которого отобрали роль. К каким только страстям не приводит потеря роли! Порой в жизни случаются подлинные анекдоты.
Не так давно моя подруга Ф. пробовалась на роль Бабы-яги в киносказке. Режиссер нашел, что она ему подходит, но тут вдруг появился актер М., и в результате роль досталась ему[106].
— Что за времена настали?! — заламывала руки Ф. — Никакой галантности! Никакой культуры! Разве ж так можно?! Мужчины отнимают роли у женщин! И какие роли?! Бабы-яги! Что будет дальше, я и представить не могу! Какая подлость!
Ф. — прекрасная актриса. Одно удовольствие смотреть, как она «представляет драму». Комедию, впрочем, она тоже умеет представить.
— Милая моя, — сказала я ей. — Радоваться надо, а не плакать. Дело не в том, что у вас отобрали роль. Дело в том, какую роль у вас отобрали! Я бы поняла ваше негодование, если бы то была роль Василисы Прекрасной. Но отнять у женщины роль Бабы-яги, то есть признать, что она недостаточно «хороша» для нее, это означает сделать ей комплимент!
— Да? — удивилась Ф. — Надо же! А я об этом и не подумала. Верно! Так и есть! Скажу больше — надо издать декрет, согласно которому Бабу-ягу и прочих уродин должны будут играть только мужчины!
Мы долго смеялись.
Рассказала об этом Сталину. Он тоже смеялся, а потом сказал, что такой декрет невозможен, поскольку нарушает принцип равноправия мужчин и женщин. Ф. нравится Сталину. Он с удовольствием смотрит картины с ее участием.
На что только порой не идут актеры ради того, чтобы получить ту или иную роль! Иногда дело доходило до подкупа. Одна из актрис, в свое время слишком увлекшаяся эстрадой и оттого оказавшаяся не у места в кино, соблазняла одного из режиссеров, страстного собирателя фарфора, своей коллекцией фарфоровых статуэток, которой весьма дорожила. Почему я пишу «оттого оказавшаяся не у места в кино»? Потому что долгая работа на эстраде накладывает свой отпечаток на актеров. «Закоренелые» эстрадники обычно не утруждают себя глубокими трактовками образов. У них высокая работоспособность, они привыкли работать помногу, но вот нужного для работы в кино уровня мастерства достигает мало кто из эстрадников. Эстрадников любят занимать в эпизодах. Они своеобразны, в рамках эпизода способны создать запоминающийся образ, но за эти рамки редко кому удастся выйти. Что ж, у каждого свое предназначение, хороший эпизод не менее важен для картины, чем образ главного героя. Эпизод — это своеобразная приправа, которая придает картине вкус, делает ее яркой, выделяет из числа прочих. В двадцатые годы некоторые чересчур прыткие реформаторы из тех, кому главное не дело сделать, а предложить что-то новое, пытались сводить число актеров, занятых в картине, к минимуму, к числу главных героев. Объяснялось это соображениями социалистической экономии. Дескать, главное действие происходит между главными героями, так вот пусть они и играют, а все остальное можно дать в титрах (кино тогда еще было немым). Экономили на актерах, экономили на декорациях, но в результате картины не получалось. «Черт знает что» — это резкое выражение как нельзя лучше подходило к тому, что получалось у таких «экономистов». Г.В. сказал о них так: «Читать надо в библиотеке или дома, а в кино приходят смотреть». Титры, вне всякого сомнения, нужны, они нужны даже в звуковом кино, но картина, в которой бо́льшая часть действия описывается в титрах, никому из зрителей не понравится.
* * *
Неблагодарность Сталин относил к числу самых презренных пороков. Равнял ее с предательством и был совершенно прав. Неблагодарность и есть предательство. Приводя какие-то примеры неблагодарности, проявленной кем-то из членов партии, Сталин неизменно подчеркивал: «Это не коммунист, а гражданин с партбилетом». Мне так понравилось это выражение Сталина, что я даже предложила Г.В., иногда высказывавшему желание отойти ненадолго от музыкальных комедий и снять драму, название для серьезной картины — «Гражданин с партийным билетом». В моем представлении это была картина о разоблачении врага, скрывающегося под маской коммуниста. Название Г.В. понравилось, но идея моя была отвергнута. «Слишком много сходства с пырьевским «Партийным билетом»[107] и в названии, и в сюжете», — сказал Г.В. На мой взгляд, чрезмерного сходства в сюжете легко можно было избежать, а «Гражданин с партбилетом» и «Партийный билет» — это два совершенно разных названия.
Однажды Сталин спросил меня, почему я не вступаю в партию. Я ответила, что не считаю себя достойной.
— Почему? — удивился Сталин. — Что мешает? Есть какие-то препятствия?
— Препятствий нет, — сказала я. — Дело не в препятствиях, а в том, что я не чувствую себя достойной называться коммунисткой. А быть гражданкой с партийным билетом не хочу.
Я сказала правду, то, что думала. Я действительно не считаю себя достойной называться коммунисткой. Я — советский человек, известная актриса, но для вступления в партию этого мало. Коммунисты, настоящие коммунисты, а не граждане с партийным билетом, — это особенные люди. Образцовые, пример для подражания. Вот когда сочту себя образцовой, тогда и вступлю в партию[108]. Многие удивлялись тому, что я не состою в партии. Я никогда не делаю тайны из причины, всем так и объясняю.
Вернусь к неблагодарности. Неблагодарность ужасна. Неблагодарный человек не имеет права называться человеком. Особенно огорчает меня, когда мужчины проявляют неблагодарность по отношению к женщинам. Вот, к примеру, молодой режиссер женится на молодой актрисе. У них рождается ребенок, они вместе работают в кино. Настает день, и режиссер решает, что отныне ему по душе не драмы, а комедии. Сменив жанр, он меняет и жену, потому что первая, являясь актрисой сугубо драматической, не подходит для комедийных картин. И не стесняется предавать огласке (правда, исключительно в узком кругу, но тем не менее) истинные мотивы, побудившие его развестись с одной женщиной, матерью его сына, и жениться на другой. (Придет время, он оставит и вторую, посчитав, что она «выдохлась» — какой цинизм! — и женится на третьей.) Очень жаль, что у нас постепенно сходит на нет традиция отказывать от дома недостойным людям. Она почему-то считается буржуазным пережитком. Я имею в виду не то, что все мы стараемся не приглашать в дом людей, которые нам неприятны. Я имею в виду именно «отказ от дома», когда все знают, что такому-то отказано от такого-то дома, и, что самое важное, знают, почему отказано. На мой взгляд, подобная мера более действенна, нежели порицание на собрании. К порокам и недостаткам надо относиться со всей строгостью, иначе никогда не удастся от них избавиться.
Ноябрь 1939-го
Конец ноября. Нота протеста правительству Финляндии не возымела действия. Началась война. Если бои на Халхин-Голе[109] воспринимались как нечто далекое и не масштабное (во всяком случае, войной их никто не называл, только боями), то с Финляндией была война. Небольшая, недолгая, но война. Предвестница большой войны.
— Петр Первый был абсолютно прав, когда решил прорубить окно в Европу, — сказал мне Сталин, когда началась война с Финляндией. — Только место он выбрал не очень верно. Но теперь уже ничего нельзя сделать. Петербург стал городом революции, городом Ленина, и для его защиты мы сделаем не только все возможное, но и невозможное сделаем. Обязаны сделать[110].
— А где надо было рубить окно? — спросила я.
Никогда не задумывалась над этим вопросом.
— Дверь надо было рубить, — ответил Сталин. — В Литве. Но Петру хотелось сделать невозможное, построить город там, где его невозможно было построить…
Разговор перешел на Петра Первого, которого Сталин считал «единственным дельным» представителем династии Романовых. Николая Второго Сталин откровенно презирал. Однажды с иронией сказал, что Николай Второй внес огромный вклад в дело борьбы с самодержавием.
— Без его «помощи» такую махину, как Российская империя, не удалось бы своротить столь быстро, — сказал Сталин. — Редкий исторический пример, когда правитель, сам того не сознавая, делал все возможное для скорейшего окончания своего правления.
Декабрь 1939-го
Правила придуманы для того, чтобы их соблюдали. Порой многое кажется нам глупым, ненужным, неважным, но стоит только обжечься…
Цветы мне дарили всегда и везде. Так принято. Раз женщина, актриса, значит — цветы обязательны. Я принимала букеты, благодарила, улыбалась, а после старалась «забыть» их или попросту отдавала кому-нибудь. От «густых» (выражение И.А.)[111] запахов у меня начинает болеть голова, да и вообще, если букет приятен, то охапка (другого слова и не подобрать) цветов только мешает. Куда деть, куда поставить, пока довезешь до дома или гостиницы, половина увянет. Просыпаться же в окружении цветов, пусть и не пахнущих, просто ужасно, создается такое впечатление, будто ты умерла и лежишь в окружении венков. Мрачное зрелище, мрачные ассоциации…
Но как бы я ни относилась к цветам, дарят-то мне их от души. Поэтому и принимать их я должна так, чтобы дарящим было приятно. Зрители очень чутки, они замечают мельчайшие нюансы поведения. Мне бы не хотелось, чтобы мои зрители думали, что я зазналась и т. п. Не станешь же каждому объяснять про неудобства и не станешь поступать с цветами так, как делают некоторые. У некоторых заведено собирать букеты после выступлений и по знакомству возвращать их в магазины. Говорят, что доход от подобной коммерции порой превышает оплату за спектакль или за концерт. Не знаю, никогда не опущусь до таких афер. Лучше отдам цветы кому-то, кому они нужны. В нашей актерской среде есть много людей, которым никогда не достается ни букетов, ни аплодисментов. Это так называемые труженики тыла — гримеры, осветители и т. д. Они действительно труженики, но их труд остается как бы в тени. Им очень приятно прийти домой с роскошным букетом, знаком признания, благодарности за их труд.
«Ошибка инженера Кочина» вышла на экраны незадолго до Нового года. 1940-го. Как принято говорить, праздничное настроение уже распространилось повсюду, правда, елок, кажется, еще не наряжали. Но не в елках дело, это я так, к слову. В клубе работников искусств в Воротниковском переулке состоялась встреча создателей картины с зрителями. Картину принимали хорошо, пусть она и не достигла уровня «Цирка» или «Чапаева», но все равно это была хорошая картина. Как обычно во время подобных встреч рассказы о работе над картиной перемежались вопросами. Вопросов было много, в зале собрались ценители кино (в этом клубе других и не бывает), и от вечера я получила огромное удовольствие. В конце нам дарили букеты. Я уколола руку шипом (то был пышный букет роз, не иначе как плод долгих трудов какого-то селекционера) и пренебрегла простыми медицинскими правилами. Не только не обработала ранку йодом, но и не потрудилась сразу же вытащить застрявший в пальце кончик шипа. Попросту не обратила впопыхах на него внимания. Ойкнула, когда укололась, отдернула руку, промокнула платком выступившую капельку крови, вот и все. Дома посмотрела, вроде бы шип выпал сам собой, вот и успокоилась.
Утром моя легкомысленная небрежность обернулась болезнью. Поднялась температура, правая рука распухла (причем не только раненый палец, средний, но и вся кисть) и болела. Я проснулась в поту и не сразу поняла, что со мной случилось. Болею я редко, и если заболеваю, то обычно это случается ближе к вечеру, а тут вдруг утром почувствовала себя плохо.
Г.В. сразу понял, что дело неладно, и, не обращая внимания на мои заверения в том, что «сейчас я немного полежу и все пройдет», вызвал врача. Врач, увидев мою руку, сразу же стал настаивать на госпитализации. Наговорил столько ужасного, вплоть до ампутации, что просто невозможно было не согласиться. С тяжелым сердцем (Новый год на носу, столько планов, и рабочих, и личных) я поехала в больницу в сопровождении Г.В. и мамы, которая заявила, что не оставит меня ни на минуту в таком состоянии. Бедная мама, она слышала все страшные пророчества доктора… Впрочем, должна признать, что доктор вел себя абсолютно правильно. Не напугай он меня как следует, я бы не согласилась на госпитализацию, осталась бы дома, упустила бы время, и неизвестно еще, чем бы вся эта история закончилась. Ясно одно — ничем хорошим она бы не закончилась, я могла бы и в самом деле руку потерять.
Меня привезли в больницу, положили в палату, Г.В. увез маму домой, пообещав после вернуться. Здесь меня успокоили, сказав, что полечиться, конечно, придется, но об операции, тем более об ампутации, речи пока не идет. «Пока» я пропустила мимо ушей, потому что врачи всегда строят хорошие прогнозы с оговорками, такое у них правило. Мне сделали несколько уколов и поставили капельницу. Один из уколов, наверное, был снотворным, поскольку я неожиданно для самой себя (после таких-то волнений, да на новом месте!) заснула. А может, сказались болезнь и усталость после всех этих волнений. Палата, в которую меня положили, была двухместной, но лежала я там одна, соседняя кровать пустовала.
Вдруг вокруг меня возникает переполох. Приходят врачи с медсестрами, целая группа и объявляют, что меня надо перевести в другую палату. Точнее перевезти, а не перевести, поскольку ходить мне не дали. Уложили на каталку и повезли в другую палату на этом же этаже. Только в дальнем конце коридора. Палата оказалась, большой, больше прежней, но однокоечной, с прихожей и, что самое главное, с черным телефоном на тумбочке. Наличие своего личного телефона меня весьма обрадовало. Огромное удобство. Можно позвонить домой, узнать как там дела и рассказать, что со мной все хорошо, можно звонить по делам. Впрочем, дела меня особенно не беспокоили, потому что Г.В. досконально знал весь мой рабочий график и уже, должно быть, принял меры к тому, чтобы отменить, перенести и т. п.
Новое место, новая порция уколов, и вдруг звонок. Здесь он был по-больничному тихим, но громкости и не требовалось, ведь телефон стоял не в коридоре, а под рукой.
— Любовь Петровна? — услышала я в трубке знакомый голос. — Здравствуйте! Как ваше самочувствие?
В голосе слышалась тревога, поэтому я набрала в грудь побольше воздуха и как можно бодрее ответила:
— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович! Чувствую себя нормально, для больной, так совсем хорошо!
Я всегда обращалась к нему на «вы» и только по имени и отчеству. Так же, как и к Г.В. Для меня обращение по имени и отчеству — показатель отношения, уважения к человеку. Я не совсем понимаю, почему при близком знакомстве нужно непременно переходить на «ты» и называть друг друга по именам? Хуже всего, когда эти имена уменьшают до вульгарного: «Танька, Верка». Разве в этом выражение близости? Совсем нет. И как вообще можно обращаться к Вождю? Только по имени-отчеству! Или по фамилии с непременным добавлением слова «товарищ». Он наедине называл меня «Любой», иногда «Любовь Петровной», но на людях, в таких вот телефонных разговорах, никакой фамильярности не допускал.
— Как настроены врачи?
— По-боевому! — Я спохватилась, что слова мои могут быть истолкованы превратно и добавила: — Руку резать не собираются, Иосиф Виссарионович! Лечат уколами!
— Поскорее выздоравливайте, Любовь Петровна! — Голос Сталина немного смягчился, стал менее напряженным. — Мы попросим врачей сделать все возможное и даже немного более того.
— Они и так делают… — попыталась я выступить в защиту, но меня перебили.
— Ваше здоровье, Любовь Петровна, — строго сказал он, — это не только ваше личное дело. Разрешите нам проявить заботу.
На этом разговор закончился. Больше Сталин мне в больницу не звонил. В следующий раз мы разговаривали, уже когда я вернулась домой. Выписалась я скоро, на третий день, сразу же после того, как спала опухоль и температура стала нормальной. Разумеется, выписывать меня не хотели, осторожничали. Главный врач, говоря о сроках моего пребывания в больнице, поминал середину января, чем приводил меня в ужас. Но я настойчива и умею добиваться своего. В конце концов, с меня взяли слово, что я еще пять дней пробуду на домашнем режиме и продолжу уколы. Я дала слово и сдержала его. Дома — это не в больнице, дома, в привычной, родной, можно сказать, обстановке, я могла понемногу работать, читать сценарий «Советской Золушки», обсуждать его с Г.В. и В.Е.[112], могла писать. Лежа в постели, я писать не могу, мне непременно нужен стол, причем не какой-нибудь столик, а именно стол, настоящий рабочий стол, где все лежит на своих местах. Так уж я привыкла.
Мой лечащий врач из больницы навещал меня на второй и на пятый день. В последний свой визит он сказал, что никогда не видел столь быстрого выздоровления, и, к великой моей радости, отменил уколы, из-за которых я не могла нормально сидеть за столом. Не знаю почему, но точно знаю, что антибиотики самые болезненные из уколов. В те дни я постоянно вспоминала свой «цирковой» «подвиг», после которого долго сидела бочком[113].
* * *
Если у тебя есть тайна, которую ты тщательно ото всех скрываешь, лучше даже будет сказать не «скрываешь», а «оберегаешь», то как тщательно ее ни скрывай, а иногда чуть сама себя не выдашь. Сдержанности и умению обуздывать себя меня научили в детстве. «Сначала подумай, а потом сделай или скажи», повторяла мама. Ее любимый рецепт от любого волнения — это медленно посчитать про себя до десяти и обратно. Помогает в любой ситуации.
Это я к слову, потому что конфуз, случившийся со мной на одном из кремлевских концертов, произошел не от волнения, а от рассеянности. Сам концерт прошел хорошо. «Красавица народная, как море, полноводная»[114], — запел вместе со мной Сталин, и следом за ним песню подхватили все присутствовавшие. Это такое упоительное чувство, когда зрители подхватывают песню, которую ты исполняешь! Это лучше, ценнее, приятнее любых самых бурных, самых оглушительных аплодисментов. Аплодисменты — это благодарность, знак признания, выражение восхищения. Не более того. А когда я вижу улыбающиеся лица зрителей, слышу их искреннее, пусть и не очень умелое пение, то я переполняюсь радостью, и не просто радостью, а сознанием того, что мое пение нашло отклик в их сердцах… Хотела написать как-то иначе, а вышло сумбурно, пафосно, но по-другому я объяснить не могу, далеко не все можно выразить словами. Под конец своего пения я почувствовала, как на глаза мои наворачиваются слезы и быстро-быстро моргнула несколько раз подряд. Совершенно неподходящий момент для слез.
После концерта я оказалась за одним столом со Сталиным. Не рядом, нас разделяло шесть или семь человек. Настроение было превосходным, атмосфера вокруг праздничной, разумеется, и выпитый бокал шампанского тоже повлиял на мое поведение. Спиртные напитки я употребляю редко и помалу, поэтому никакой «стойкости» к ним не имею. Фаиныш[115] шутит, что мне достаточно понюхать пробку, чтобы ударило в голову. Должна сказать, что не очень-то она преувеличивает.
Встретившись взглядом со Сталиным (ничего многозначительного или особенного в этих наших взглядах на людях не было), я решила предложить тост за него. Дождалась, когда разговоры немного стихнут, я взяла бокал, встала, и вместо того, чтобы провозгласить тост с места, направилась к Сталину.
Так было не принято, даже больше — так нельзя было делать, поэтому дорогу мне тут же преградил незнакомый мужчина, сидевший за нашим столом. А за ним появился еще один, непонятно откуда взявшийся. Они не хватали меня и не пытались удержать, но встали так, что обойти их было совершенно невозможно.
Только тут смысл совершенной оплошности дошел до меня. Что я натворила? Решила подойти к Вождю и чокнуться с ним так по-свойски, будто мы были не на людях, а наедине! Щеки и уши начали гореть, рука, держащая бокал, предательски задрожала… Все смотрят на меня! Какой конфуз! Мало конфуза, так ведь переиначат, переврут случившееся, вывернут его наизнанку и начнут рассказывать небылицы. Людям порой нужно так мало или совсем ничего не нужно, чтобы запустить сплетню. Стоило Л.[116] однажды споткнуться на людях, как ее сразу же записали в пьяницы. Кто помог ей подняться? К.[117]? Партнер по их самой известной картине? Прекрасно! Значит, они любовники! И таких примеров можно привести сколько угодно. Людская молва, что вешняя вода, это так, и про любого мало-мальски известного человека всегда будут сплетничать и распускать слухи, но зачем давать лишний повод? Зачем подливать масла в огонь? За всю свою жизнь я ко многому привыкла, но стоит мне только услышать какой-то дрянной слушок про себя, как меня тут же передергивает. Мерзкое ощущение, словно меня в самом деле, а не в переносном смысле разбирают по косточкам и начинают перемывать их в грязной воде. Фу!
Все случилось очень быстро, не успело пройти и минуты. Я захотела вернуться обратно, но вдруг все сидевшие за столом встали, незнакомцы расступились, и я увидела, что навстречу мне идет с бокалом в руке Сталин. Лицо его хранило обычное выражение, но в глубине глаз сверкали веселые искорки. Или это мне так показалось.
Мы остановились в полуметре друг от друга. Ох и хороша была я в тот момент, могу себе представить. Лицо красное, рука дрожит, взгляд сконфуженный. Осталось только в обморок упасть для полноты впечатления.
— Товарищ Орлова хочет сказать тост! — объявил Сталин.
Я испуганно оглянулась и увидела, что встали и те, кто сидел за другими столами. Все стояли с бокалами в руках и смотрели на меня. Мне не привыкать к людскому вниманию, взгляды меня не смущают, но момент… Момент был из тех, когда хочется привлекать к себе как можно меньше внимания.
От смущения и голос дрогнул. Хотелось сказать громко, чтобы все слышали, а вышел какой-то невнятный лепет.
— Я хочу предложить выпить за вас, товарищ Сталин!
Он повел бровью, улыбнулся, осторожно, понимая, насколько легко сейчас можно выбить из моей руки бокал, чокнулся со мной, отпил немного из своего бокала, затем взял меня под руку, привел, усадил рядом с собой и спросил, кого из исторических персонажей я бы хотела сыграть. Я понимала, что вопрос этот был задан в первую очередь для того, чтобы помочь мне справиться со смущением. Подумала и сказала, что, наверное, хотела бы сыграть кавалерист-девицу Надежду Дурову (у меня в самом деле одно время была такая мечта). По выражению лица Сталина я поняла, что эта моя идея ему не приглянулась. Видимо, он ожидал от меня более «серьезного» ответа. Недавно вышедший на экраны «Петр Первый»[118] обозначил еще один путь развития советского кино — исторический. Была у меня еще одна мечта — сыграть Марию Стюарт в пьесе Шиллера, но об этом я говорить не стала. Почувствовала, что Мария Стюарт тем более не понравится. В разговоре возникла пауза, поэтому я поспешила сказать, что играть современниц мне гораздо интереснее и ближе.
Спустя три дня мы встретились наедине. Я — человек прямой, не люблю быть в долгу, поэтому начала с того, что извинилась за свою оплошность. Он сказал, что извиняться должна не я, а некоторые чересчур ретивые сотрудники, которым надо почаще бывать в кино, чтобы узнавать артистку Орлову. Тем все и закончилось.
Ни кавалерист-девицу, ни Марию Стюарт я не сыграла и уже скорее всего не сыграю. Впрочем, если с кавалерист-девицей все уже ясно, то шанс сыграть Марию у меня еще есть, пускай и призрачный. А это так замечательно, когда шанс все еще есть. Пускай не сбудется, пускай не сложится, лишь бы пореже слышать это неотвратимое «никогда». «Никогда» — это приговор. Не забуду, не смогу забыть, как один человек, мэтр, почти корифей, едва не поставил крест на всей моей жизни. Совершенно не имея к тому достаточных оснований, он попытался преградить мне дорогу в кино. Почему? Ему не понравилась маленькая, едва заметная глазу родинка на моем носу. Он решил, что на экране, в увеличенных пропорциях, эта родинка станет слишком заметной и испортит впечатление. То есть будет привлекать к себе внимание зрителей, да так, что ни на что другое у них внимания не останется. «Зритель будет цепляться глазом за вашу родинку», — трижды повторил он. Слово-то какое мерзкое подобрал — «цепляться». Разве это торчащий гвоздь? Не знаю, в родинке ли было дело или же я ему просто не понравилась. Но каким страшным приговором для меня, неопытной, не знавшей толком ничего о кино, прозвучали его слова: «Вам в кино нечего делать, оставайтесь в театре!»
А я так мечтала сниматься в кино!
Я шла по улице и рыдала. Вдруг начала стесняться родинки, на которую до тех пор совершенно не обращала внимания. Достала платок и закрыла им нос, притворяясь, что у меня сильный насморк.
«Вам в кино нечего делать, оставайтесь в театре!» Сказал, как отрезал. Некоторые мэтры, из не самых умных, грешат верхоглядством, опирающимся на ложное сознание собственной непогрешимости. Только взглянул на мою родинку и все про меня понял, прочел мое будущее… Как бы не так!
По природе своей я не способна к долгим переживаниям, отчаянию, капитуляции. Выплакавшись в подушку, утром я внимательнейшим образом рассмотрела свое лицо в зеркале и нашла, что родинка совершенно не портит моего лица и не привлекает к себе особого внимания и что ее довольно несложно загримировать, если потребуется. «Ах, Люба, — поддержала меня мама, которой я обо всем рассказала. — Разве дело в родинке? Может, у него желчь с утра разлилась, а может, ты ему кого-то из знакомых напомнила, кого он недолюбливает. Ладно бы на кончике носа бородавка была, а то…»
По неопытности своей я тогда еще и понятия не имела о том, сколько всяких ухищрений существует в кино. Режиссер снимает актера так, как ему надо. Здесь добавить света, здесь убавить, повернуть так камеру и не то, что родинку, нос можно сделать незаметным! Я не сдалась, и моя настойчивость была вознаграждена по заслугам. С глубочайшей признательностью вспоминаю я Б.И. (несмотря на всех тех кошек, что пробежали между нами). Я благодарна ему за то, что он ввел меня в мир кино[119].
Б.И. уже нет в живых, а с тем мэтром, которому так не понравилась моя родинка, мы время от времени встречаемся до сих пор. Он давно, еще во время войны, ушел из режиссеров в педагоги, поняв, что тот успех, который выпал на его долю в двадцатые, уже не повторится. В тридцатые и в начале сороковых он не снял ни одной мало-мальски примечательной картины. «Запал иссяк», — говорит в таких случаях Г.В. Мы иногда встречаемся, здороваемся, обмениваемся парой вежливых фраз и расходимся. Но во взгляде его я неизменно вижу смущение. Он все помнит. И понимает, что я о нем думаю. И, возможно, боится того, что однажды я прилюдно (про родинку говорилось при свидетелях) спрошу его: «Как же это вы так ошиблись?» Но я не спрошу, не стану унижаться до такого. И так ведь все ясно, кто прав, а кто нет. Дело и не в родинке, и не в плохом настроении, а в том, что нельзя подрезать человеку крылья на взлете.
Педагог он, впрочем, хороший, написал учебник по кинорежиссуре, о котором Г.В. весьма высокого мнения (для меня это многое значит), воспитал много известных учеников. Некоторые льстецы называют его «отцом советской кинематографии», но тут они явно перегибают палку. На своем учебнике, подаренном Г.В., мэтр[120] написал: «Ars longa, vita brevis est»[121]. Показательно…
Воспоминания словно бусины на нитке. Ухватишься за одну, потом за другую… Пора бы и остановиться, ведь всю жизнь зараз не вспомнишь и не расскажешь. Начала с конфуза, а закончила победой. «Ехал в Псков, да попал в Оскол», — говорит в подобных случаях Г.В.
Декабрь 1939-го
К юбилею Сталина было принято постановление об учреждении премии и стипендии имени Сталина. Очень приятно было видеть, как моя идея (я уверена, что такая мысль посещала не только меня, но все же это была и моя идея) воплотилась в жизнь.
Над подарком к юбилею я трудилась три месяца, урывками, втайне ото всех. Заказала сшить лайковый кисет (сама бы я с этой задачей не справилась) и, призвав на помощь все свое умение рукодельничать, вышила его бисером. Работа была долгой, сложной, кропотливой и не очень-то знакомой (рукодельница из меня, честно сказать, никудышная), но я справилась. Кисет получился таким, как и было задумано. Я насыпала в него табак «Принц Альберт», который по моей просьбе откуда-то достала моя добрая фея Ф.[122] (возможности ее в этих делах поистине безграничны, порой кажется, что Ф. может достать и шапку-невидимку вместе с сапогами-скороходами).
— Сама вышивала, — с затаенной гордостью сказала я, вручая Сталину свой подарок.
— Нет лучше подарка, чем тот, который сделан своими руками, — ответил Сталин и добавил: — Хороший кисет. По всем статьям хороший — вместительный, крепкий, красивый.
Сталин недаром поставил слово «красивый» на третье место. Прежде всего он ценил во всем практические свойства, а потом уже красоту. Не пренебрегал красотой, всегда помнил о ней, но не делал из нее культа, не гнался за внешним лоском, не любил ярких, броских вещей. Тот особый стиль, присущий Ему, был стилем эпохи великих свершений, которые переживала тогда наша страна, был новым советским стилем. Во главе этого стиля стояли практичность и умеренность. Красоте и вообще всем внешним эффектам отводилось второе место. Второе. Не последнее, а второе. Подчиненность красоты практичности не уменьшало впечатления, а, напротив, усиливало его.
60 лет — солидный возраст. По Сталину нельзя было сказать, что ему 60 лет. Сталин производил впечатление 40-летнего, столько энергии, столько сил было у него. Мужчины, в отличие от женщин, почти никогда, за редким исключением, не скрывают своего возраста. Не скрывал его и Сталин. Но, общаясь со Сталиным, невозможно было поверить, что ему столько лет. Казалось, что Сталин знает какой-то секрет долголетия, но на самом деле никакого секрета, конечно же, не было.
— В Грузии много долгожителей, — говорил Сталин. — Одни считают, что в этом «виноват» воздух, другие приписывают это вину, а я считаю, что вино и воздух здесь ни при чем. Среди долгожителей я никогда не встречал ни князей, ни помещиков — одни лишь простые, работящие люди. Все дело в работе. Пока человек работает, он живет. Как только начинает давать себе поблажки — умирает. Закон природы. Пока человек работает, пока приносит пользу, он имеет право на существование. Если пользы нет — то зачем такой человек?
Услышав это в первый раз, я попыталась возразить. Как же так, ведь есть же пожилые люди, которые уже не могут работать и т. п. Сталин шутливо погрозил мне пальцем и сказал:
— Прекратите заниматься демагогией, товарищ Орлова! Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать!
* * *
Помощник Г.В. Алеша (сам он предпочитает официальное название своей должности — «литературный секретарь») удивительно организованный человек. Настоящий эталон пунктуальности. Обо всем помнит, все успевает, все делает хорошо, на совесть. Даже я завидую его организованности и удивляюсь тому, что он, с его способностями, ходит в помощниках у Г.В., вместо того чтобы расти в каком-то учреждении, делать карьеру. Алеша отговаривается тем, что в учреждении ему будет скучно. Что ж, я считаю, что это веский довод. Работа не должна казаться скучной, иначе она будет восприниматься как каторга.
Помню, с каким уважением отзывался Сталин о своем помощнике А.Н.[123] Называл его «ходячей энциклопедией», говорил, что без него не успел бы сделать и половины дел.
— Любое руководство — дело коллективное, — не раз повторял Сталин. — Все заслуги и свершения не единоличны, они принадлежат коллективу, а не одному человеку. Единоличными бывают только промахи и ошибки.
* * *
Хорошим отношением Сталина я очень дорожила. И всегда помнила, что должна соответствовать, должна оправдывать оказанное мне доверие. Сталин был строг к себе и к окружающим. Если бы я совершила нечто недостойное, нашей дружбе пришел бы конец.
Помню, как восхищался Сталин певицей Р., восхищался заслуженно, голос у нее и впрямь был замечательный. Сильный, богатый, «сочный», как говорит Г.В. Мне тоже нравилось, как поет Р.
Началась финская война. В декабре 1939-го создавались концертные бригады для выступления перед нашими воинами. Боевой дух крайне важен. Артисты помогают поднять его, вселяют в солдат уверенность в победе. Сама я очень серьезно относилась в годы войны к выступлениям перед фронтовиками, считаю эти выступления самыми важными в своей жизни. Порой, в госпиталях, видя раненых, не могла сдержать слез. Сердце замирало в груди, но я пела, танцевала, шутила, потому что понимала, как это нужно моим дорогим зрителям, защитникам нашего Отечества. Ни разу в жизни я не отказалась выступить перед солдатами. Бывало так, что валилась с ног от усталости, но тут раздавался звонок: «Любовь Петровна, вас беспокоят из такого-то госпиталя или клуба. Товарищи так хотят увидеть вас…» Я не могла отказать, вставала и ехала. На передовой тоже приходилось бывать, и не раз. А как же иначе? Это же мой долг, долг советского человека, советской актрисы! Что с того, что я устала или не спала две ночи подряд? Разве солдаты думают об усталости на передовой? Разве не ведут они бои сутками, без передыху? Я так понимаю.
А вот с Р. произошла некрасивая история. Она отказалась выезжать на фронт, мотивируя это заботой о своем голосе. Зима, морозы, можно застудить связки и т. п. Ее попросили более настойчиво, она категорически отказалась. Произошел скандал, о котором стало известно Сталину. Не могу передать то негодование, которое сквозило в голосе Сталина, когда он говорил о Р.
— Люди воюют, и мороз им не помеха! А кому-то, оказывается, помеха! Разве ее заставляют петь на морозе? А если даже и на морозе? Почему одни могут воевать на морозе, а другие рта боятся раскрыть? Советские люди так не поступают!
В итоге Р. одумалась и выехала на фронт, но отношение Сталина к ней, мнение о ней было испорчено навсегда. «Советские люди так не поступают!» — в устах Сталина это был суровый и окончательный приговор. Дурак может поумнеть, оступившийся может исправиться, но вряд ли «не советский» человек сможет стать советским. Я лично не очень-то верю в перевоспитание взрослых людей.
Про Р. ходило много разных слухов. Судачили о ее собрании картин, о драгоценностях. Я не придавала значения этим слухам, поскольку с Р. не дружила, «сокровищ» ее не видела, но знала, что и про меня рассказывают разные небылицы. Но, видимо, в случае с Р. дым был не без огня, потому что позже, уже после войны ее вместе с мужем судили по обвинению в присвоении трофейного имущества[124].
Страшно не оправдать доверия. Боюсь этого больше всего на свете.
* * *
39-й год был для нашей страны трудным. И чувствовалось, что это еще не самые большие трудности, не самые главные испытания. Чувствовалось, что главные испытания впереди. Вспоминая сейчас Сталина, я понимаю, что 39-й год стал для Него какой-то вехой, важным, значимым рубежом. Люди меняются постепенно. Мы не замечаем отдельных штрихов, мы замечаем, когда меняется вся картина. А порой к некоторым выводам приходишь позже, когда начинаешь вспоминать и сравнивать. Вот и я много позже, опираясь на свои воспоминания, поняла, что в 40-м году Сталин стал более сдержанным, более скупым на суждения и прогнозы. Тогда я не уловила сути произошедших перемен, списывая их то на усталость, то на настроение, а теперь понимаю, что груз ответственности, лежавший на Его плечах становился все тяжелее, и оттого возникали определенные перемены. Но никогда, ни разу за все время Сталин не пожаловался на то, что ноша его непосильна, что он устает и т. п. Он вообще не жаловался на усталость. Мог упомянуть о ней вскользь, мимоходом. Например, в ответ на мое предложение посмотреть какую-то картину мог сказать: «Давай лучше поговорим, день сегодня выдался сложный». Но не более того. Но сам всегда интересовался, не устала ли я, не перетрудилась. Я сравнивала себя со Сталиным и искренне удивлялась — ну разве я могу перетрудиться? Как я могу перетрудиться? Смешно! В сравнении со Сталиным я была настоящей лентяйкой.
О делах Сталин думал всегда. Полного отдыха не знал. Бывало, во время нашего разговора брал карандаш и бумагу и быстро записывал пришедшую в этот момент мысль. Чувствовалось, что ум Сталина всегда был чем-то занят. Он мог одновременно обсуждать одно и думать о другом. Необычный, великий человек.
Январь 1940-го
«Подкидыш»[125] произвел на всех замечательное впечатление. Не знаю ни одного человека, которому не нравилась бы эта картина, который не помнил бы хотя бы одной фразы из нее. Феерический успех, говорю об этом без зависти, радуюсь за создателей картины и в первую очередь за мою дорогую Ф.[126] с ее бесподобным «Муля, не нервируй меня».
У нас с Г.В. давно шел спор по поводу того, может ли получиться хорошей картина у не очень сильного режиссера. Каждый из нас стоял на своем. Г.В. утверждал, что без хорошей режиссуры мало-мальски стоящей картины не выйдет, а я считала, что добротный сценарий и хорошая актерская игра могут «вытянуть» картину при слабой режиссуре. «Подкидыш» поставил точку в нашем споре, окончательно подтвердив мою правоту. Еще до премьеры я знала, что «Подкидыш» будет хорош, потому что прочитала сценарий, который написала моя подруга Р.[127] Нельзя сказать, что сценарий — это полдела, но тем не менее. Вдобавок я знала, кто из актеров снимается в «Подкидыше», поэтому могла смело предсказывать успех.
Говорила я о «Подкидыше» и Сталину. Посмотрев картину в первый раз, Сталин сказал, что я была права, картина очень хорошая, очень веселая.
Комедия — самый сложный из всех жанров. Главным образом из-за своей непредсказуемости. С драмами дело обстоит гораздо проще. Там реакция зрителя более прогнозируема. Никто (во всяком случае, из тех, кто в здравом уме) не станет смеяться во время монолога Гамлета. Если с должным мастерством прочесть этот монолог, то он непременно (непременно!) произведет впечатление на зрителей. Но вот в отношении комического, в отношении шуток заранее ручаться нельзя. Бывает так, что, читая сценарий и снимая сцены, вся съемочная группа буквально ложится со смеху и пребывает в уверенности, что зрителям «будет смешно». Ан нет. На поверку получается совсем не смешно. Нельзя с полной уверенностью предсказать, над чем зрители будут смеяться, а над чем не будут. Имеет значение все — и сама шутка, и тон, каким она произнесена, и мимика, и настроение зрителей. Даже возраст зрителей имеет значение. Я уже заметила, что люди, чья молодость пришлась на тридцатые годы, и те, кто рос уже после войны, смотря «Веселых ребят» и «Волгу-Волгу», порой смеются в разных местах. Безусловно, есть и то, что кажется смешным всем поколениям, как, например, «заберите у товарища брак…»[128], но есть и такие шутки, восприятие которых меняется в зависимости от возраста. Ничего удивительного. Все течет, все меняется.
Сталин однажды сказал, что когда-то, еще до революции, ему нравились картины с участием Веры Холодной[129]. Он в ту пору крайне редко бывал в кино, а если и бывал, то чаще всего не ради удовольствия, а для конспиративных встреч (залы кинотеатров подходят для этой цели превосходно), но по возможности старался смотреть картины, в которых снималась Холодная. В 20-е годы, уже после Гражданской войны, после долгого перерыва, он посмотрел какую-то картину с ее участием и пора зился тому, насколько скучной и неинтересной она вдруг показалась.
— Живешь и удивляешься тому, как все вокруг меняется, — сказал по этому поводу Сталин. — А сам, кажется, остаюсь таким, каким и был. Мир меняется, а сам я не меняюсь. Но вдруг один факт, пусть совсем незначительный, открывает глаза и дает понять, насколько изменился я сам.
Меняется время, меняются люди, меняется восприятие. То же самое происходит и с книгами. Есть вечные книги, а есть и такие, которым уготована короткая жизнь. Думая о том, какой из моих работ суждена наиболее долгая жизнь, я неизменно останавливаюсь на «Веселых ребятах». Почему я останавливаюсь именно на этой картине? Совсем не потому, что первый успех пришел ко мне вместе с ней, а потому, что она не столько сатирическая, сколько комедийная в чистом виде. Эта картина веселит, высмеиванию пороков в ней уделено мало времени. Разве что Елена, дитя Торгсина[130], но и ее образ не столько сатирический, сколько комедийный. Ничего не имея против сатиры и признавая ее важность в борьбе с недостатками, я тем не менее понимаю, что ее злободневность в конечном итоге оборачивается непониманием для будущих поколений. Нынешняя молодежь не всегда понимает, что хотел сказать в своих произведениях Салтыков-Щедрин[131]. Пройдет время, исчезнут бюрократы, исчезнут предрассудки, «потускнеет» образ Бывалова, будет непонятно, чего так боялась Марион, а «Веселые ребята» не «потускнеют». Я в этом уверена. Эта картина на все времена.
* * *
Представить себе жизнь советского человека без общественной работы невозможно. Работу по профсоюзной линии я не считала своей главной общественной работой. Главной общественной работой были и остаются для меня встречи со зрителями. Но можно ли назвать «работой» или «нагрузкой» то, что доставляет огромное удовольствие, то, без чего я не представляю себе свою жизнь? Встречи со зрителями ценны для всех актеров, но для тех, кто преимущественно снимается в кино, они ценны вдвойне. В театре есть живой контакт со зрителями, которого лишены киноактеры. Отзывы в прессе, письма в газеты и на радио не могут заменить живого общения, восторженного блеска глаз, улыбок, обмена мнениями. После каждого выступления я чувствую, что стала богаче. Не преувеличиваю нисколько, общение со зрителями делает меня богаче, лучше, умнее. Зрители — мои друзья, судьи и учителя.
* * *
Однажды, не помню точно даты и месяца, то ли в декабре 39-го, то ли в январе 40-го, помню только, что дело было зимой, помню холод, вьюгу, которые делали пребывание в тепле особенно уютным, так вот, однажды Сталин сказал мне:
— Что бы ни случилось, я навсегда останусь твоим другом. Хочу, чтобы ты это знала.
В словах Сталина я услышала предвестие грядущей разлуки. Мне стало грустно, «легла на душу печаль», как выражалась мама. Сталин почувствовал мое настроение и принялся рассказывать что-то веселое, а потом вдруг оборвал себя на полуслове и предложил посмотреть «Волгу-Волгу». На словах: «Эй, подруга, выходи-ка и на друга погляди-ка, чтобы шуткою веселой переброситься», по моим щекам вдруг потекли слезы. Я смахнула их и несколько раз глубоко вдохнула. Глубокие вдохи помогают успокоиться. Сталин сделал вид, что ничего не заметил. Закончив просмотр, мы переглянулись.
— Мы друзья, и ничто не сможет разрушить нашу дружбу, — повторил Сталин.
— Да, конечно, — поспешно согласилась я.
В тот вечер Сталин был особенно чуток, нежен и заботлив. Он окружил меня такой заботой, которую я видела только от мамы, да и то лишь в детстве. Печаль моя скоро улетучилась, я смеялась, шутила и благодарила судьбу за все хорошее, что выпало на мою долю.
Все рано или поздно заканчивается, но разве это повод для печали?
Вспомнилось из Тютчева:
В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек…
* * *
Не выношу, когда слышу брюзжание: «А вот раньше было лучше…» Сразу же приходят на ум тютчевские строки:
Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век!
Как ваших жалоб, ваших пеней
Неправый праведен упрек!..
Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..
Не хочу и не собираюсь становиться «обломком». Сердце мое, несмотря на возраст, растущий с каждым годом, открыто новому. Я живу, жадно впитывая впечатления, я живу в радостном ожидании перемен, я приветствую все новое, прогрессивное. Нельзя застревать в прошлом, нельзя отрываться от реальности.
Ну и если все же кажется, что раньше было лучше, то надо учитывать, что 20 лет — это не 45, а 30 не 60. В молодости все воспринимается иначе. Но возраст не может быть оправданием для брюзжания.
Пример верного поведения — Сталин. Его возраст проявлялся в опыте, в мудрости, и никогда не слышала я брюзжания или жалоб. Казалось, что время не властно над Сталиным, что Сталин существует вне времени, не могу передать словами, но именно такое ощущение складывалось у меня. Когда я слышала от Сталина «Я тогда был молод…», то хотела воскликнуть: «Почему «был»?!». Замечу к слову, что к себе, молодому, Сталин относился весьма критично. Упоминал про ошибки, которые совершал из-за недостатка опыта, про некоторую горячность, которая была свойственна Ему в те годы. С большой теплотой вспоминал Сталин о друзьях своей молодости, сожалел о том, что многих уже нет рядом. Хорошо помню рассказ Сталина о революционере Камо[132].
— Это был такой человек, что любую гору мог своротить! Слово «невозможно» он не знал, и знать не хотел!
Подобной характеристики от Сталина я более ни о ком не слышала. Когда в прокате появилась картина о Камо, посмотрела ее с огромным интересом[133].
О прошлом Сталин говорил гораздо меньше, несравнимо меньше, нежели о будущем. Он смотрел вперед, как и положено Вождю.
Февраль 1940-го
От усталости и сильной головной боли я впадаю в меланхоличное состояние. Все кажется серым, ничто не радует, жизнь сводится к исполнению обыденных рутинных действий. В такие периоды (благо они недолги — три, четыре, самое большее пять дней) я не участвую в съемках. Но на сцену выходить приходится. Нельзя же отменить концерт или спектакль, разочаровать зрителей, заранее купивших билеты «на Орлову». И назначенные встречи не всегда удается перенести.
В феврале 1940 года я чувствовала себя не самым лучшим образом. Сказалось переутомление, кроме того, конец зимы — это самое нелюбимое мной время. Г.В. списывает все на недостаток витаминов в организме (этому он научился в Америке, объяснять все недостатком витаминов), но не в них дело. Дело в зиме. Сначала ей радуешься, радуешься снегу, конькам, лыжам, но проходит время, и зима начинает надоедать. Так же, как и слякотная осень. Весна и лето не надоедают никогда. Разве они могут надоесть?
— На вас, Любовь Петровна, сегодня лица нет, — озабоченно сказал Сталин, вглядываясь в мое лицо, которому я изо всех сил старалась придать обычный вид и обычное выражение.
Плохо, выходит, старалась. Даже улыбка не помогла, видимо, выглядела не очень-то натурально. Да и можно ли скрыть что-либо от столь проницательного и наблюдательного человека! Он, должно быть, уже по звуку моих шагов догадывается о том, какое у меня сегодня настроение.
«Любовь Петровна», «вы»…
— Неужели я настолько плохо выгляжу, что меня хочется называть по отчеству? — пошутила я, стараясь сделать это как можно бодрее. — Пустяки. Немного устала, оттого и настроение под ноктюрн до минор…
— Под ноктюрн до минор? — заинтересовался Он. — Это как?
— Это из жизни таперов…
И вот я уже сижу в уютном кресле с рюмкой коньяка в руках и вспоминаю о том, как когда-то служила в таперах. Служила, а не работала, потому что тапер это тоже искусство, а искусству служат. Так же, как и Родине. В начале двадцатых концерты классической музыки не пользовались спросом, а вот в кинотеатры люди ходили охотно. Картины были немыми и требовали музыкального сопровождения.
— Это целая наука — музыкальное сопровождение картин, — рассказ увлек меня, и головная боль понемногу начала проходить (коньяк тоже помог, но к этому «лекарству» я старалась и стараюсь прибегать как можно реже, поскольку вреда от него может быть больше, чем пользы). — Есть даже учебник для таперов, в котором сказано, когда какая музыка должна исполняться. Разные сцены, разные жанры. Все оживленное — выяснение отношений, драка, бегство — требует быстрого темпа. Следует играть фокстрот или уанстеп. Романтические сцены требуют вальсов или мажорных ноктюрнов, буйство страстей сопровождается танго, а радостные события — полькой…
— Действительно, наука, — с улыбкой согласился Он. — Любое дело — наука.
— А все трагическое от разлуки до смерти, сопровождалось грустной музыкой. Поиграешь-поиграешь — и невольно начинаешь обозначать музыкой свое собственное настроение. Оттого и…
— Ноктюрнов до минор нам больше не надо! — строго, но по-доброму, сказал Он. — Нужны фокстроты и вальсы. Это не совет, товарищ Орлова! Это приказ!
— Слушаюсь, товарищ Сталин! — воскликнула я и попыталась подняться для того, чтобы встать по стойке «смирно», но левая нога моя предательски подвернулась, и я села, нет, не села, а свалилась обратно в кресло.
Рюмку в руках удержала, но весь коньяк, что оставался в ней, выплеснулся на ковер. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. А что еще можно сделать в подобной комической ситуации? Только смеяться.
Я думала, что на этом все и закончится. Подумаешь — устала. Но на следующее утро мне позвонили из Центральной поликлиники[134] и вежливо, но очень настойчиво пригласили на диспансеризацию. Я попыталась было отговориться, сославшись на занятость (не люблю ходить по врачам), но не удалось. Мой собеседник сказал, что у него есть распоряжение относительно моего обследования и это распоряжение мы обязаны выполнить. И хорошо, что мне не удалось отговориться, потому что польза от обследования была существенная. Если бы я запустила свои болячки, то потом бы сильно сожалела об этом.
Не было сказано ни слова о том, кто был инициатором моего обследования, но я поняла, что это сделал Сталин. Удивилась в очередной раз сталинской наблюдательности. Не имея медицинских знаний, он сумел разглядеть за моей усталостью начинающуюся болезнь, которую я сама еще не почувствовала, и сразу же принял меры.
Июль 1940-го
Помню нашу со Сталиным дискуссию по картине «Моя любовь»[135]. Смотрели мы ее вдвоем. То, что картина не нравится Сталину, я заметила где-то на середине. Сталин хмурился и все посматривал на меня, словно ждал, что я захочу прекратить просмотр. Но мне хотелось досмотреть картину до конца. Не могу назвать «Мою любовь» шедевром, но это определенно хорошая картина. Хороший сценарий, написанный нашим другом И.Л.[136], хорошая работа режиссера, хорошая актерская игра. Пусть исполнителям главных ролей немного не хватало опыта, но это компенсировалось старанием. Чувствовалось, что они крайне серьезно, со всей ответственностью поработали над образами своих героев.
— Такое впечатление, будто эту картину снимали где-то во Франции, — сказал Сталин.
Я поняла, что Сталин хочет сказать. Картина буржуазная, а не советская.
— Почему? — спросила я.
На мой взгляд, дело обстояло иначе. Советская картина, никакая не буржуазная.
— Все надуманно, неестественно, не по-советски. — Сталин поморщился. — Занимаются черт знает чем, вместо настоящего дела дурака валяют. Сами придумывают проблему, чтобы потом ее решать!
— А у меня создалось другое впечатление, — ответила я. — Наверное, это разница женского и мужского восприятия.
— Что за разница? — заинтересовался Сталин. — Нельзя ли поподробнее?
Картина, насколько я помню, была не очень длинной, час с небольшим, а обсуждали мы ее не менее двух часов. Разобрали всех героев, разобрали сюжет, обсудили игру актеров. Получилось нечто вроде судебного процесса, на котором Сталин выступал в роли обвинителя, а я — в роли защитника. Не знаю, удалось ли мне переубедить Сталина на самом деле, или же он просто сделал вид, что согласился с моими доводами, потому что настало время ужина, а за столом Сталин споров не любил. Хочется думать, что переубедила. Понимаю, почему картина вызвала такую реакцию. На фоне дел и забот Сталина дела героев «Моей любви» действительно казались пустячными. Ну и сама интрига с выдачей ребенка сестры за своего была немного надуманной, это так.
Октябрь 1940-го
Сценарий для новой картины Г.В. искал долго и все никак не мог найти. Поиски осложнялись тем, что он сам до конца не понимал, что именно хочет найти. Чувствовал, но не мог выразить, сформулировать. «Это должен быть такой сценарий… — вдохновенно начинал он и тут же осекался. — Такой… Такой…» Дальше следовал неопределенный жест, и больше никаких объяснений не давалось.
Все наши знакомые знали, весь мир театра и кино знал, что Александров ищет сценарий. Да что там мир кино, даже Он спросил меня однажды: «Как там дела у товарища Александрова? О чем будет его следующая картина?» «О советских людях!» — отшутилась я. Он понял, что по поводу будущей картины еще ничего не решено, и неодобрительно покачал головой, давая понять, что пора, мол, и определяться. Я рассказала Г.В. о том, что состоянием его дел интересовался сам товарищ Сталин. Г.В. печально вздохнул и протянул мне одну из папок со своего стола, чтобы я посмотрела, что ему предлагают снимать. Я бегло пролистала и ужаснулась. Какая-то невнятная белиберда, иного слова и не подобрать. Какие-то кони, какие-то скачки, вредители скрещивают колхозного жеребца не с теми кобылами, потом отправляют в Москву на выставку плохого жеребца вместо хорошего, и тут-то их разоблачают. Ничего не имею против лошадей, но человек, который берется писать пьесу или сценарий, должен хотя бы в общих чертах представлять, как его произведение будет выглядеть на сцене или на экране. Сюжет, любовная интрига, поступки главных героев… Лев Толстой написал гениального «Холстомера», но это еще не означает, что зрителям будет интересна картина, главным героем которой на самом деле является колхозный жеребец. Ладно бы он еще спасал кого-нибудь или делал бы еще что-то в этом роде, а то ведь не понять что! Должна заметить, что автор этого сценария скоро осознал все недостатки своего произведения (не исключено, что в этом ему помог Г.В.), устранил их, вообще отказавшись от лошадей (заменил их свиньями), и сценарий был экранизирован только уже другим режиссером.
Актер Дорохин, сыгравший инженера Кочина, рассказал, что у нашего общего знакомого В.Е. есть интересная пьеса, переложение старой сказки про Золушку на новый советский лад. Мысль показалась Г.В. хорошей, выражающей дух времени, показывающей преимущества социализма и т. п. Он прочел пьесу, дал прочесть мне, мы обсудили ее с автором, так понемногу стал рождаться сценарий. Я пишу «стал рождаться», потому что между первоначальным сценарием и окончательным проходит много времени, много работы требуется до того, чтобы «сырое» превратить в «готовое». Но в общем, нам с Г.В. понравилась история Тани Морозовой, неграмотной деревенской девушки, ставшей ткачихой-стахановкой. Особенно понравилось то, что превращение героини было достоверным, оно происходило не само собой (вот приехала из деревни в город — и прозрела!), а было вызвано действительностью, событиями, происходившими вокруг нее. Я сама тоже в какой-то мере развивалась во время создания картины, даже ткацкое ремесло освоила. Нельзя же достоверно сыграть ткачиху, не зная ее ремесла.
Пьеса, то есть первоначальный сценарий, в ходе работы над ним сильно изменился, но все эти изменения вносились вдумчиво, не ради того, чтобы добавить что-то от себя, а для того, чтобы улучшить. Г.В. крайне требовательно, дотошно относится к работе над сценариями и приучил к тому же меня. Но у меня нет его режиссерского мышления. Я, когда читаю сценарий, больше думаю об образе моей героини, о том, что она чувствует и т. п. Г.В. же читает сценарий и видит готовую картину. По кадрам. Поэтому так точны, четки его поправки. Поэтому бесполезно, глупо с ним спорить. Себе во вред.
— Как называется ваша новая картина? — спросил Сталин.
Он никогда не отделял меня от Г.В. в нашей совместной работе. Он был выше всего того мелкого, бытового, что обычно осложняет отношения между людьми. И еще Он знал всё. Всё обо всех. И ни разу, за все время нашего общения, я не услышала от него ни одного плохого слова о Г.В. Хотя это было бы вполне объяснимо… Трудно объяснить словами, что это был за Человек. Я пишу слова с большой буквы, но разве буквы могут передать величие? Передать масштаб? Не могут.
— «Золушка», — ответила я.
От названия «Советская Золушка» Г.В. отказался. Оно ему не понравилось — тяжеловесно и как-то двусмысленно. Могут ли быть Золушки в Советской стране?
— Не надо повторять старого, — строго и веско сказал Он. — Мы не должны оглядываться назад, когда идем вперед. Так можно споткнуться и набить шишку. Идешь вперед — смотри вперед. Только так.
Действительно, подумала я. При чем тут Золушка? Разве по сюжету у меня есть мачеха, добрая крестная, прекрасный принц? У меня даже туфельки нет! Золушка получила счастье, благодаря волшебнице. А Таня Морозова добилась всего сама. Сама!
В очередной раз поразилась я удивительному уму и не менее удивительной прозорливости Сталина. Сразу же, еще не читая сценария, не зная, о чем будет картина, он проник в суть и по одному лишь названию смог сделать правильные выводы, смог дать хороший совет. Действительно — какая из Тани Морозовой Золушка? Она не Золушка, она, скорее, Жанна д’Арк! Она — победительница. Женщина из народа, сумевшая подняться до небывалых высот! Разве может Золушка с ее туфелькой стать примером для советских женщин? Никогда! Советская женщина не станет, не должна ждать появления доброй феи с волшебной палочкой. Советская женщина сама добивается желаемого.
— Что происходит с твоей героиней? — спросил Он. — О чем картина?
— О ее жизненном пути, — ответила я.
— Так пусть называется «Путь». Или нет, «Путь» — это слишком просто. «В добрый путь» или «Светлый путь», наверное, будет лучше.
— «Светлый путь»! — подхватила я. — Замечательное название. Светлый путь!
Г.В. оно тоже понравилось. Так мы и назвали картину. Под этим названием она вышла на экраны. Но…
Но, к огромному нашему сожалению, наши с Г.В. надежды не оправдались. Я имею в виду надежды, возложенные на эту картину. Нам почему-то казалось, что это будет лучшая наша картина, самая-самая, главная, грандиозная! Среди всех наших с Г.В. картин нет более советской, более жизнеутверждающей картины, чем «Светлый путь». Столько надежд мы с ней связывали, столько сил на нее положили! Но жизнь распорядилась иначе. В какой-то мере жизнь — это лотерея, игра случая. И еще знаю одно правило: не надо быть уверенным на все сто процентов, пока не сбудется. Надеясь, всегда следует предполагать и то, что надежды могут не сбыться. И вообще, чем меньше ждешь, чем слабее надеешься, тем скорее сбудется. Не надо загадывать, недаром же говорят, что загад не бывает богат. Да, бывает, случается так, что кажется — все непременно сбудется, точно-точно, не на сто, а на сто пятьдесят процентов! Непременно! Обязательно! А в самый последний момент что-то меняется, и ничего не сбывается.
Возможно, картина могла бы получиться и лучше, измени мы кое-что в сценарии… Лично я сомневалась, стоит ли воплощать столь важную и серьезную тему, как становление советского человека в жанре музыкальной комедии. Но Г.В. твердо стоял на том, что комедия — жанр универсальный, всеохватывающий, позволяющий затрагивать самые серьезные вопросы, раскрывать самые важные темы. И, кроме того, в Ленинграде практически одновременно со «Светлым путем» снималась картина «Член правительства», близкая по теме, но не комедийная. Это тоже стало доводом в пользу комедии. Зачем представлять народу разом две однотипные картины? Скажу к слову, что «Член правительства», будучи безусловно хорошей картиной, не имел того успеха, на который рассчитывали его создатели. Об этом мне говорила, вернее, на это сетовала В.П.[137] Она (и оба режиссера тоже) твердо рассчитывала на премию первой степени. В.П. даже сделала кое-какие долги под этот расчет. Но надежды не сбылись, премии она получала за другие роли…
Все началось с показа в Кремле. Я на нем не присутствовала, но там был Г.В., который слово в слово (память у него замечательная) передал мне обсуждение картины. В целом ее приняли хорошо, но Сталин сказал, что хоть картина и хороша, но «Волга-Волга» ему понравилась больше, и эти слова в какой-то мере определили судьбу картины. Должного (на наш с Г.В. взгляд) признания она не получила, несмотря на то, что «Марш энтузиастов», который я там пела, приобрел огромную популярность.
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века!
Странно, необъяснимо, непонятно, но сказка Роу «Василиса Прекрасная» пользовалась большим успехом у зрителей, нежели «Светлый путь». Хотя казалось бы… «Мы опоздали на четыре года», — грустно признал Г.В. Он был прав, «Светлый путь» получился хорошей, правильной во всех отношениях, но немного запоздавшей картиной. В 1937 году он бы смотрелся совершенно иначе, принимался бы зрителями по-другому. В искусстве, как, впрочем, и во все другом, весьма важное значение имеет актуальность, соответствие, созвучие времени, моменту. Если бы «Волга-Волга» была снята в 1940 году, то она не получила бы и половины того успеха, какой получила в свое время. Да, есть вечные ценности, но есть и такое понятие, как актуальность. Увы, со «Светлым путем» мы с Г.В. немного промахнулись. Опоздали на несколько лет.
Набравшись смелости, я спросила у Сталина о том, что ему не понравилось в картине. Он задумался (наверное, не столько думал, сколько подбирал подходящие слова), а потом сказал, что картина «неинтересно смотрится». Еще до середины не досмотрел, а уже ясно, чем закончится. И еще добавил, что Таня моя всем хороша, но вот жизненности ее образу недостает. Я попросила уточнить, что Он имеет в виду. «Очень уж она прямолинейная и в этом проигрывает Анюте и Марион», — был ответ. Я расстроилась, но постаралась не показать вида. Дома сказала Г.В. что совершенно недовольна Таней Морозовой. Г.В. с присущей ему мудростью и тактом ответил мне, что жизнь состоит из побед и поражений и что пусть все наши поражения будут такими, как «Светлый путь». Тогда я не поняла всей глубины и правоты его слов, а сейчас понимаю[138].
Не исключено, что именно «неудача» (я намеренно взяла это слово в кавычки, потому что многие считали «неудачу» удачей) со «Светлым путем» побудила меня снова сняться у другого режиссера, и я приняла предложение Рошаля сыграть Паулу Менотти в «Деле Артамоновых». Эту мою роль сейчас, по прошествии 20 лет, никто и не вспоминает, да и сама картина оказалась не из лучших. Далеко не из лучших, совсем, несмотря на то что снята она была по весьма известному произведению, новой советской классике, с хорошими актерами. Но вот, однако…
Премьера «Светлого пути» состоялась во вторник 8 октября 1940 в кинотеатре «Художественный». Кинотеатр «Художественный» — мой любимый. Когда-то, очень давно, я служила здесь иллюстратором (так тогда называли таперов). После картины мы вышли к зрителям. Было все, что положено — аплодисменты, цветы, одобрительные восклицания, но накал, градус оказался совсем не таким, какого мы с Г.В. ожидали. Мы вернулись домой немного грустные. Посмотрели друг на друга и разошлись по своим комнатам. «Как все прошло?» — спросила меня мама. Она очень хотела побывать на премьере, она еще не видела картины, только слышала о ней, но состояние здоровья вынудило ее остаться дома. «Все замечательно!» — ответила я и, сославшись на усталость, поспешила уйти. С мамой было опасно хитрить, кривить душой, скрытничать. Она видела меня насквозь. Мать есть мать.
«Светлый путь»… Больше ни в одной картине не снималась я с таким настроем, с таким воодушевлением… Иногда, уже сейчас, по прошествии многих лет, пересматривая эту картину на даче, нахожу в Тане Морозовой все больше и больше сходства со мной. Если мои воспоминания когда-нибудь будут опубликованы, то лучше названия, чем «Светлый путь», для них не придумать. Никакого пафоса. Никакого притворства. Никакого кокетничанья. Да и какой смысл мне кокетничать перед собой? Оглядываясь назад, я могу сказать, что жизнь моя, при всех невзгодах, выпавших на мою долю, была светлой, яркой, радостной. Настоящий Светлый путь.
Ноябрь 1940-го
В тот месяц я получила сразу два предложения из двух разных театров, но была вынуждена отказаться от обоих. У нас с Г.В. намечались грандиозные планы, которым не суждено было осуществиться — им помешала война. Г.В. тогда неожиданно для себя самого увлекся творчеством писателя-фантаста Беляева[139] и всерьез думал об экранизации его произведений. Больше всего привлекали «Продавец воздуха» и «Властелин мира», но для экранизации эти повести следовало переработать, поскольку Г.В. нужна была комедия, высмеивающая пороки капиталистического общества. Г.В. съездил в Ленинград к Беляеву[140], познакомился, заручился согласием совместно работать над сценарием. Беляев в то время был болен, но идеей экранизации загорелся.
Мне больше по душе был «Продавец воздуха», и я убедила Г.В. остановиться на нем. Сюжет «Властелина мира» не очень-то годился для комедии, и вообще эта повесть не подходила для экранизации по разным причинам. А «Продавец воздуха» подходил замечательно. И название звучное, комедийное. Продавать воздух — это же так смешно, с точки зрения советского человека.
— Фантастику будем снимать с Тиссэ! — заявил Г.В. и договорился с ним.
Жаль, что тогда не получилось картины. Сейчас уже не ее время. Впрочем, иногда несбывшееся — к лучшему[141]. Да и не бывает у творческих людей так, чтобы исполнялись все планы без исключения. Что-то исполняется, а что-то нет, но у по-настоящему одаренного человека, ничего не пропадает впустую. Нереализованная идея может «переродиться» в нечто новое, стать почвой для других идей. Кое-что из задумок, касавшихся постановки «Продавца воздуха», Г.В. использовал в других картинах.
Тему нужности фантастики мы однажды обсуждали со Сталиным. В то время бытовало мнение о том, что фантастические произведения не нужны, что они вредны, поскольку уводят от реальности. Сталин же считал, что фантастика фантастике рознь. Если в произведении рассказывается о светлом будущем, если оно побуждает к изобретательству, намечает пути развития науки, то такая фантастика, безусловно, нужна, потому что она полезна.
— Сам я когда-то в молодости читал Жюля Верна, — сказал Сталин, — а некоторые товарищи увлекаются им до сих пор.
Имен Сталин не назвал. Впоследствии, на одном из приемов, я случайно узнала, что поклонником творчества Жюля Верна является Ворошилов.
В то время как раз вышла книга Адамова «Тайна двух океанов», которую даже я, не будучи любительницей приключенческой литературы, прочла с удовольствием.
К фантастике (отчасти не в той степени, как в произведениях Беляева) Г.В. вернулся после войны, в «Весне». В какой-то мере это была фантастика для всей съемочной группы — нет войны, красивая уютная Прага, прекрасная, оборудованная всем необходимым киностудия «Баррандов»[142]… Я так долго не могла привыкнуть к тому, что война закончилась. Парадокс — так ждала конца войны и так долго не могла привыкнуть, перестроиться на мирный лад. «Заморозила война мою душу» — не помню, кому принадлежит это выражение, услышанное мной по радио, но оно очень точно передает то, что я тогда испытывала. Долго, очень долго оттаивала моя душа.
* * *
Бывают настоящие драмы — роковые стечения обстоятельств, буйство страстей, неразрешимые противоречия. А бывают и «драмочки» (так я их называю). Что бы плохого ни случилось в моей жизни, всякий раз пытаюсь убедить себя в том, что это не драма, а всего лишь «драмочка». Даже шутливую песенку придумала: «А у нашей дамочки снова нынче «драмочки»!». Только уход кого-то из близких мне людей никогда не называю «драмочкой», язык не повернется. Уход человека, потеря близкого друга, это всегда Драма с большой буквы, невосполнимая утрата. Была бы волшебницей, сделала бы так, чтобы люди не болели и не умирали.
* * *
Двое мужчин сыграли главные роли (если так уместно выразиться, но как иначе, я не знаю) в моей жизни — Сталин и Г.В. Г.В. и по сей день продолжает играть эту роль. Нет, наверное, я выразилась неверно. До сих пор в голове вертелась всякая чепуха, вроде «оставили яркий след» и т. п., а сейчас, стоило только мне написать предыдущее предложение, как на ум пришло более правильное выражение — только эти два человека значат для меня больше, чем все остальные. Каждый по-своему, ведь они такие разные, совсем непохожие. Ничего общего, кроме одной черты — бездны внутреннего обаяния. Обаяние, мужское, человеческое обаяние, это очень важное качество. Не красота, а именно обаяние. То, что привлекает людей, заставляет обратить внимание, вызывает расположение.
Обаяние Сталина было обаянием вождя. Мудрый, величественный, великий и вместе с тем очень простой, искренний человек. Он очень сильно менялся, когда мы оставались наедине. Снова не могу подобрать подходящего слова. Не сбрасывал маску, нет, масок у него никаких не было, а просто менялся, становился другим, в то же время оставаясь самим собой… Не могу объяснить более точно, да и незачем, наверное, объяснять. Это мое сугубо личное впечатление, оно мое, и только мое, мое и ничье больше. Люди уходят, покидают нас, нам остаются воспоминания, впечатления, фотографии, письма… Как же страшно терять тех, кто тебе близок! Невосполнимость этих потерь угнетает неимоверно!
Фотографии… Письма… У меня нет ни одной нашей фотографии со Сталиным, нет ни одного письма. Есть только один-единственный листочек, на котором Его рукой написано по-грузински мое имя. Однажды пришла мне в голову такая блажь — спросить, как имя Любовь пишется на Его родном языке. «Как слышится, так и пишется, — улыбнулся Он, — только без мягкого знака». Взял чистый лист (бумага и карандаши у него были повсюду, во всех комнатах — так же, как и у нашего Ю.А.[143]) и написал красивой вязью мое имя. Я сохранила этот листочек на память. Памятные вещи, предметы, ценны не сами по себе, а ценны тем, что помогают нам вернуться в прошлое, побуждают вспомнить, пережить заново.
Спроси меня кто: «Каким был Сталин?» — и я затруднюсь ответить на этот простой вопрос. Но если спросить меня о Г.В., то я отвечу не задумываясь. И дело не в том, что с Г.В. мы живем вместе и не в чем-то другом дело. Просто есть люди, которые мне понятны, которых я знаю, а есть такие, которых я понять так и не смогла. Несмотря на все мои желания и старания. Понять Сталина? Узнать его так, как я знаю Г.В.? Нет, это невозможно. Слишком уж огромного, необъятного масштаба личность. Я знала Его только с одной стороны, успела разглядеть только одну грань. Но всегда чувствовала, ощущала, что этих граней в нем великое множество. Со мной он таков, с другими совершенно иной. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье»[144], — сказал поэт. Именно так — на расстоянье, сквозь годы, можно понять личность Вождя, даже не понять, а хотя бы ощутить ее масштаб. Сравнения? С кем ни сравнить Сталина, сравнение неизменно будет в Его пользу. Что бы сейчас ни говорили некоторые.
Г.В. — другой. О нем хочется говорить ласковыми словами: родной, милый. Г.В. замечательный режиссер, мастер из мастеров, он талантлив, умен, но он для меня свой. Я знаю его досконально, и привязанность моя основана на этом знании. Я восхищаюсь им, я благодарна ему и благодарна судьбе за то, что она послала мне Г.В., я счастлива быть рядом с ним, я счастлива сниматься у него, этот человек — моя жизнь (я нисколько не преувеличиваю, так оно и есть), но…
Долго думала, что написать дальше. То ли день сегодня такой, когда нужные слова не приходят на ум, то ли тема такая невыразимая. Придется, пожалуй, обратиться к пошлым сравнениям, что поделать, если лучше ничего не придумала. Сталин — солнце, Г.В. — звезда. Если кто-то когда-то станет читать то, что я написала, то я уверена, что он поймет, что именно я хотела сказать. Но не исключаю и того, что, закончив мои воспоминания, поставив последнюю точку (доводить начатое до конца это мое незыблемое правило, главный жизненный принцип), я сожгу все, что написала. Нет, наверное, все же не сожгу, не позволю себе этого. Ведь я не просто предаюсь воспоминаниям на досуге, чтобы скоротать время и развлечься. Я отдаю долг памяти человеку, которого любила и продолжаю любить. Странно — я никогда не говорила Ему, что люблю и от Него не слышала подобных признаний. Но разве ж дело в словах? Слова ничто перед теми незримыми нитями, которые связывают людей крепко-накрепко. Взглядом, жестом, улыбкой, прикосновением можно сказать несоизмеримо больше, чем словом. Мне ли, актрисе, этого не знать? Слова порой не помогают, а даже мешают. Нам незачем было говорить друг другу о любви, все было ясно и без слов. Мне, во всяком случае, было ясно. Чувство вспыхнуло, озарило нашу жизнь.
Как и почему все закончилось? Тому было сразу несколько причин. Надвигалась война, ее предчувствие буквально витало в воздухе. Все знали, что война будет непременно, только не могли сказать, когда она начнется. Государственные дела требовали все большего и большего внимания. Сталин, всегда много работавший, стал работать практически без отдыха. Времени для встреч уже не оставалось. Это первая причина. Второй стала моя болезнь. Лечилась я долго. Работу не оставляла, не могла себе этого позволить, но ограничений болезнь наложила много. Третья причина, возможно, была для нас самой главной, важнее двух первых. В наших отношениях настал период, который я называю «периодом привычки». Снизилась острота былых впечатлений, чувства, если не поблекли, то в определенной мере утратили свою остроту. «Стало пресно», как выражается одна моя знакомая. И как-то само собой вышло так, что, ни о чем не сговариваясь и ничего не обсуждая, мы решили сделать перерыв, антракт. А потом уже ничего не возобновилось, потому что началась война. Так вот на антракте все и закончилось. Мы встречались несколько раз после войны, разговаривали, но это были не личные, а «протокольные» встречи, а разговоры получались короткими, деловыми. Честно признаться, я уже ничего не ожидала, поскольку знала, что продолжения не будет. Но любовь осталась, она и по сей день живет внутри вместе с благодарностью и восхищением. Живет и будет жить до тех пор, пока жива я.
* * *
Люблю гулять. Не спеша, долго. Гуляю и вспоминаю, на ходу очень хорошо вспоминать. И удобно — пройдешь мимо одного дома, мимо другого, вспомнишь. Там памятник, здесь мемориальная доска или чем-то памятная скамейка. Мемориальных досок с каждым годом становится все больше и больше.
За городом свое очарование, свои особенности. Там вспоминается не «к месту», то есть не то, о чем напоминает, к примеру, дом, а «к настроению». Иду и думаю о том, что в такой же погожий осенний день с таким же настроением я была там-то и там-то. Иногда люблю смотреть на небо. Причудливые очертания облаков будоражат воображение. Любоваться облаками меня научил мой старинный и верный друг С.В.[145] В его представлении человек, не способный любоваться облаками, не способный понимать красоту в ее первозданном виде, ни на что не годится. Не согласна с этим утверждением, ведь можно не интересоваться облаками, но быть хорошим человеком, только немного скучным и ограниченным. Сама же любуюсь облаками с удовольствием. Часто угадываю в них очертания знакомых лиц, вижу тех, кого любила и продолжаю любить…
Если бы было кому записывать за мной во время прогулок, то мои воспоминания были бы много больше. Но вынуждена обойтись без помощников. Помощники в таком деле ни к чему.
Долго думала о том, кому отдать на хранение мои тетради. Сложный вопрос. Не колеблясь ни секунды, оставила бы их сестре, если бы та была жива. Кроме сестры, больше никому из близких я не могу доверить тетради. И Г.В. в том числе, хотя на его понимание я могла рассчитывать в любой ситуации. И до сих пор могу рассчитывать. Помимо всего прочего, мне хотелось бы, чтобы хранителем моих воспоминаний стал человек, который много моложе меня. Мне не хочется, чтобы они были бы опубликованы при моей жизни. Пусть это случится потом, в далеком (смею надеяться) будущем, когда я стану частицей истории. Не хочу слушать сплетни, которые непременно будут вызваны моей откровенностью. Не хочу ничего добавлять, не собираюсь ничего объяснять и уж тем более не собираюсь выслушивать обвинения и оправдываться. Также я очень надеюсь на то, что со временем отношение к Сталину изменится и потомки в полной мере смогут оценить Его величие. Уверена, что так и будет, ведь справедливость непременно должна восторжествовать. История воздаст каждому по его заслугам.
Перебирала в уме кандидатуры, жалея о том, что не могу посоветоваться с Г.В., и наконец остановилась на человеке, который показался мне наиболее подходящим. Он молод, честен, достоин доверия, нелюбопытен и, вдобавок ко всему далек от киношно-театральной среды. Сердце подсказывает мне, что никого лучше я не найду.
Срок для обнародования моих воспоминаний я устанавливаю такой — не раньше чем через 25 лет после моей смерти. Пусть уйдут все, кого я вольно или невольно упомянула. Не хочу никого задеть или обидеть. Хочу справедливости. Пусть ложь уступит место правде, вот чего я хочу.
О, сколько жизни было тут, невозвратимо пережитой![146]
Фильмы, в которых снялась Любовь Орлова
«Любовь Алены» (1933, режиссер Б.И. Юрцев) — миссис Эллен Гетвуд, жена американского инженера.
«Петербургская ночь» (1934, режиссер Г.Л. Рошаль) — Грушенька.
«Веселые ребята» (1934, режиссер Г.В. Александров) — Анюта.
«Цирк» (1936, режиссер Г.В. Александров) — Марион Диксон.
«Наш цирк» (короткометражный) (1937, режиссер Г.В. Александров) — Марион Диксон.
«Волга-Волга» (1938, режиссер Г.В. Александров) — письмоносица Дуня Петрова (Стрелка).
«Ошибка инженера Кочина» (1939, режиссер А.В. Мачерет) — сотрудница авиационного института Ксения Лебедева.
«Светлый путь» (1940, режиссер Г.В. Александров) — Таня Морозова, «Золушка».
«Боевой киносборник № 4» (1941, режиссер Г.В. Александров) — письмоносица Дуня Петрова (Стрелка), ведущая сборника.
«Дело Артамоновых» (1941, режиссер Г.Л. Рошаль) — танцовщица Паула Менотти.
«Одна семья» (1943, режиссер Г.В. Александров) фильм в прокат не вышел — Катя.
«Весна» (1947, режиссер Г.В. Александров) — актриса Вера Шатрова и профессор Ирина Никитина.
«Встреча на Эльбе» (1949, режиссер Г.В. Александров) — американская журналистка и разведчица Джанет Шервуд.
«Мусоргский» (1950, режиссер Г.Л. Рошаль) — певица Юлия Федоровна Платонова, прима Мариинки.
«Композитор Глинка» (1952, режиссер Г.В. Александров) — сестра композитора Людмила Ивановна.
«Русский сувенир» (1960, режиссер Г.В. Александров) — Варвара Комарова.
«Скворец и Лира» (1974, режиссер Г.В. Александров) — советская разведчица Людмила Грекова (Лира).
Фото с вкладки
Юная Любовь Орлова за фортепиано
Любовь Орлова выступает перед советскими воинами на крыле сбитого фашистского самолета
Любовь Орлова на фронте, в гостях у морских пехотинцев
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин вручает Любови Орловой правительственную награду
Н.С. Хрущев и народная артистка СССР Любовь Орлова во время приема деятелей искусства
Любовь Орлова и композитор Исаак Дунаевский
Любовь Орлова и Ростислав Плятт. Сцена из спектакля «Милый лжец»
Лауреат двух Сталинских премий первой степени (за 1941 и 1950 годы) народная артистка СССР Любовь Орлова
Первая кинозвезда Советского Союза Любовь Орлова
Любовь Орлова у себя дома
Любовь Орлова с мужем — кинорежиссером Григорием Александровым. 1937 год
В домашней обстановке. Григорий Александров и Любовь Орлова. Фото 1960-х годов
На подмосковной даче во Внукове. 1955 год
Любовь Орлова на лыжной прогулке
Любимая актриса Сталина, первая звезда СССР Любовь Орлова
Примечания
1
В Китае распространена практика именования должностных лиц без личных имен, только по фамилии с непременной приставкой слова «товарищ». — Прим. ред.
(обратно)2
Так в оригинале. — Прим. ред.
(обратно)3
Цзи Пэнфэй (1910–2000) — китайский политик, министр иностранных дел КНР с 1972 по 1974 год. — Прим. ред.
(обратно)4
Издание датировано 1975 годом. — Прим. ред.
(обратно)5
Вероятно, А.К. — это первый муж Орловой Андрей Каспарович Берзин.
(обратно)6
Григорий Васильевич Александров — второй муж Орловой, известный кинорежиссер.
(обратно)7
Вероятно, В.П. — Вера Петровна Марецкая (1906–1978) — советская актриса.
(обратно)8
Лев Наумович Свердлин (1901–1969) — советский российский актер, театральный режиссер, педагог.
(обратно)9
Ф.И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»
(обратно)10
Вероятно, М.П. — Мария Павловна Стрелкова, сыгравшая Елену в «Веселых ребятах».
(обратно)11
Виктор Яковлевич Зисман (псевдоним — Бруно Ясенский) — советский писатель, автор романа «Человек меняет кожу».
(обратно)12
Борис Захарович Шумяцкий — руководитель советского кинематографа с ноября 1930 г. по январь 1938 г.
(обратно)13
Дом писательского кооператива в проезде Художественного театра, нынешнем Камергерском переулке (№ 2).
(обратно)14
Григорий Михайлович Козинцев и Леонид Захарович Трауберг — создатели известной советской кинотрилогии о Максиме.
(обратно)15
Александр Лукич Птушко (1900–1973) — советский кинорежиссёр, оператор, мультипликатор, сценарист, художник, мастер сказочного жанра в кинематографе.
(обратно)16
«Новый Гулливер» (1935) — полнометражный анимационно-игровой фильм, поставленный А.Л. Птушко по мотивам романа Джонатана Свифта.
(обратно)17
Имеется в виду Первый (тоже «Первый», так как фестиваль 1935 года было решено не включать в хронологию) Московский международный кинофестиваль, который состоялся в августе 1959 года.
(обратно)18
Четвертак (разг.) — 25 лет заключения.
(обратно)19
Имеется в виду балетный станок.
(обратно)20
Речь идет о Музыкальном театре имени В. И. Немировича-Данченко (бывшая Музыкальная студия МХАТа).
(обратно)21
Главная героиня фильма «Цирк».
(обратно)22
Исаак Осипович Дунаевский (1900–1955) — известный советский композитор, автор музыки к нескольким десяткам кинофильмов, в т. ч. и к фильму «Цирк».
(обратно)23
Сокращение от «неудовлетворительно».
(обратно)24
Сергей Владимирович Образцов (1901–1992) — известный советский актёр и режиссёр кукольного театра.
(обратно)25
Актриса Любовь Васильевна Головня (Бабицкая) (1905–1982).
(обратно)26
Павел Владимирович Массальский (1904–1979) — советский актёр.
(обратно)27
Героиня Любови Орловой в фильме «Веселые ребята».
(обратно)28
Возможно, что М. — это Марина Алексеевна Ладынина (1908–2003) — советская актриса, с 1936 по 1954 год бывшая женой режиссера Ивана Пырьева.
(обратно)29
Речь идет о фильме «Броненосец «Потемкин», снятом режиссёром Сергеем Эйзенштейном на киностудии «Мосфильм» в 1925 году.
(обратно)30
Михаил Васильевич Фрунзе (1885–1925) — советский военачальник, в 1925 году бывший народным комиссаром (министром) по военным и морским делам.
(обратно)31
МТС — машинно-тракторная станция, государственное социалистическое сельскохозяйственное предприятие, оснащенное машинами для технической и организационной помощи колхозам и совхозам. Существовали с 1927 по 1959 г.
(обратно)32
Бюрократ, персонаж фильма «Волга-Волга», роль которого сыграл актер Игорь Ильинский.
(обратно)33
«Горячие денечки» — кинокомедия, снятая в 1935 году режиссерами Александром Зархи и Иосифом Хейфицем.
(обратно)34
Оперетта французского композитора Шарля Лекока «Дочь мадам Анго».
(обратно)35
Владимир Иванович Немирович-Данченко.
(обратно)36
Чухна, чухонцы — насмешливое прозвание финно-угорских народов в дореволюционной России.
(обратно)37
К сожалению, это намерение актрисе так и не удалось осуществить.
(обратно)38
Галина Александровна Шаховская (настоящая фамилия — Ржепишевская) (1908–1995), советский балетмейстер и режиссер. Ставила танцы на эстраде, в драматических спектаклях, в музыкальных кинофильмах (в том числе и в фильмах режиссера Г.В. Александрова).
(обратно)39
Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б), партийное научно-исследовательское учреждение.
(обратно)40
Александр Федорович Керенский (1881–1970) — российский политический и общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917).
(обратно)41
Андрей Александрович Жданов (1896–1948) — советский государственный и партийный деятель. Как член Политбюро и Секретариата ЦК отвечал за идеологию и внешнюю политику, курировал все сферы искусства.
(обратно)42
Фаина Георгиевна (Григорьевна) Раневская, урождённая Фанни Гиршевна Фельдман (1896–1984) — советская актриса театра и кино.
(обратно)43
Народный комиссариат земледелия СССР.
(обратно)44
Скорее всего речь идет о смене даты рождения на более позднюю, которую Л. Орлова произвела при введении в СССР единой паспортной системы (Постановление № 57/1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов» 27 декабря 1932 года). По слухам, которые, к сожалению, остаются единственным источником информации, т. к. соответствующие документы не сохранились, Орлова «убавила» себе 10 лет. Во всяком случае, так, по свидетельству ряда очевидцев, утверждала Фаина Раневская.
(обратно)45
Светлана Иосифовна Аллилуева (урождённая Сталина) — дочь И. В. Сталина (1926–2011).
(обратно)46
Популярная в СССР в конце 40-х — начале 50-х годов прошлого века пьеса Константина Симонова. Режиссером Михаилом Роммом в 1947 году по пьесе был поставлен одноименный фильм.
(обратно)47
«Весна» — музыкальная кинокомедия с участием Любови Орловой, снятая в 1947 году Григорием Александровым.
(обратно)48
Вероятнее всего, речь здесь идет о Фаине Раневской. Григорий Александров в своем автобиографическом произведении «Эпоха и кино» писал: «В работе над фильмом «Весна» принимали участие артисты Театра имени Моссовета Ф. Г. Раневская, И. С. Анисимова-Вульф и Р. Я. Плятт. После окончания съемок Ф. Г. Раневская стала тянуть Л. П. Орлову в свой театр».
(обратно)49
Юрий Александрович Завадский (1894–1977).
(обратно)50
В пьесе рассказывается об американском журналисте Гарри Смите, побывавшем в России и ставшем сторонником социализма.
(обратно)51
Елена Алексеевна Тяпкина (1900–1984) — советская актриса театра и кино.
(обратно)52
Из стихотворения «Прощальная поэза» Игоря Северянина (псевдоним Игоря Васильевича Лотарева, 1887–1941): «Вокруг талантливые трусы иль обнаглевшая бездарь…»
(обратно)53
Возможно, что В. — это Вера Петровна Марецкая, упоминаемая в остальном тексте под инициалами В.П. Совпадает количество Сталинских премий, их у Марецкой действительно было четыре. Орденов в 1962 году у нее было не три, а четыре, правда, один из них она получила уже после смерти Сталина, и, возможно, поэтому Любовь Орлова не стала его учитывать. Два брата Марецкой в 30-е годы ХХ века были расстреляны по обвинению в антисоветской деятельности, а сестра, обвиненная в том же, находилась в заключении.
(обратно)54
Барон Николай Карлович фон Мекк (1863–1929) после революции работал консультантом финансово-экономического управления Народного комиссариата (министерства) путей сообщения. Из-за своего буржуазного происхождения неоднократно арестовывался. Последний раз был арестован в 1928 г. В мае 1929 г. был приговорен к расстрелу как участник контрреволюционной организации на железнодорожном транспорте. Видный естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель академик В. И. Вернадский писал, что Н. К. фон Мекк был убит «совершенно невинно в общественном мнении».
(обратно)55
В 1952 году Григорий Александров снял цветной художественный фильм «Композитор Глинка», в котором Любовь Орлова сыграла сестру композитора Людмилу Ивановну.
(обратно)56
Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Ныне Российский университет театрального искусства.
(обратно)57
Явный намек на С. М. Эйзенштейна.
(обратно)58
В. В. Маяковский «Халтурщик» (1928). В этом стихотворении есть следующая фраза: «В этом духе порешив, шевелюры взбивши кущи, нагоняет барыши всесоюзный маг-халтурщик».
(обратно)59
Судя по всему, речь идет об уже упоминавшемся Любовью Орловой писателе и драматурге Бруно Ясенском (настоящее имя Виктор Яковлевич Зисман, 1901–1938), авторе известного в свое время романа «Человек меняет кожу». Ясенский был арестован 31.07.1937 и приговорен к высшей мере наказания по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Написал большую статью, посвященную критике «Веселых ребят», в которой обвинял Г.В. Александрова во множестве «грехов» — от буржуазных взглядов на искусство до плагиата.
(обратно)60
Государственный Центральный театр юного зрителя. В 1941 году был объединен с Московским театром юного зрителя.
(обратно)61
Н. — это Алексей Иванович Назаров (1905–1968) — председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР (1938–1939).
(обратно)62
«Мавр сделал своё дело, мавр может уходить» (нем.). Широко известная цитата из не очень известной драмы Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе», написанной в 1783 году. Эту фразу произносит мавр, оказавшийся ненужным после того, как он помог графу Фиеско организовать восстание республиканцев, направленное против дожа Дориа, тирана Генуи.
(обратно)63
«Волочаевские дни» — историко-революционный художественный фильм, снятый в 1937 году на киностудии «Ленфильм» режиссерами братьями Васильевыми, создателями легендарного «Чапаева». Фильм рассказывает о борьбе с японскими интервентами на Дальнем Востоке.
(обратно)64
Цитата из «Песни о Родине» (1936) — широко известной патриотической советской песни, написанной поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Исааком Дунаевским для фильма «Цирк».
(обратно)65
Николай Константинович Черкасов (1903–1966) — выдающийся советский актер театра и кино, исполнитель роли Александра Невского в одноименном фильме С. Эйнзенштейна.
(обратно)66
Николай Павлович Охлопков (1900–1967) — советский актер театра и кино, режиссер, педагог. В фильме «Александр Невский» сыграл роль Василия Буслаева.
(обратно)67
«Депутат Балтики» — советский историко-революционный художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1936 году режиссерами Александром Зархи и Иосифом Хейфицем. Главную роль профессора Полежаева исполнил Николай Черкасов.
(обратно)68
Генерал-лейтенант Василий Сталин (1921–1962) был арестован вскоре после смерти отца, 28 апреля 1953 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 2 сентября 1955 г. приговорен к восьми годам лишения свободы за «хищение и присвоение государственного имущества», а также «враждебные выпады и антисоветские клеветнические измышления в отношении руководителей КПСС и Советского государства». Он отбывал наказание как Василий Павлович Васильев. 9 января 1960 г. был досрочно освобожден по указанию Н.С. Хрущева, восстановлен в партии и воинском звании. 16 апреля 1960 г. был вновь арестован якобы «за продолжение антисоветской деятельности» и возвращен в места лишения свободы (Лефортовскую тюрьму) для отбытия оставшейся части наказания. Затем был выслан в Казань, где умер 19 марта 1962 г. В 1999 г., изучив судебные и следственные материалы, Главная военная прокуратура отменила приговор Военной коллегии Верховного суда СССР и сняла с Василия Сталина все политические обвинения.
(обратно)69
Эдуард Казимирович Тиссэ (1897–1961) — советский кинооператор.
(обратно)70
Михаил Осипович Эйзенштейн (1867–1920) — российский архитектор, профессиональный инженер, один из выдающихся творцов рижского модерна, директор департамента путей сообщения Лифляндской городской управы.
(обратно)71
Действительный статский советник — в Российской империи до 1917 года гражданский чин 4-го класса, дающий потомственное дворянство. Соответствовал званию генерал-майора в армии.
(обратно)72
Выражение «головокружение от успехов» стало нарицательным в СССР после статьи Сталина «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения», опубликованной в газете «Правда» от 2 марта 1930 года.
(обратно)73
Наркомнац, или Народный комиссариат по делам национальностей, РСФСР — государственный орган РСФСР по осуществлению национальной политики Советской республики, существовавший с ноября 1917 года по апрель 1924 года. Народным комиссаром по делам национальностей был назначен И. В. Сталин.
(обратно)74
Нариман Кербалаи Наджаф оглы Нариманов (1870–1925) — азербайджанский писатель, политический деятель, большевик, нарком иностранных дел (1920–1921) и председатель СНК Азербайджанской ССР (1920–1922).
(обратно)75
Семен Маркович Диманштейн (1886–1938) — революционер, советский политический деятель.
(обратно)76
Станислав Станиславович Пестковский (1882–1937) — революционер, первый нарком почт и телеграфа.
(обратно)77
Иван Павлович Товстуха (1889–1935) — революционер, организатор и заведующий личным секретариатом Сталина, заместитель директора Института Маркса — Энгельса — Ленина.
(обратно)78
«Русский народный союз имени Михаила Архангела» — русская монархическая организация, возникшая в начале 1908-го в результате выхода из Союза русского народа ряда общественных деятелей во главе с В.М.Пуришкевичем.
(обратно)79
Андрей Петрович Тутышкин — актер, сыгравший счетовода Алешу Трубышкина в фильме «Волга-Волга».
(обратно)80
Т. н. аншлюс — от нем. anschluss — присоединение, союз. Состоявшееся 12–13 марта 1938 года включение Австрии в состав Германии под лозунгом объединения немецкой нации. В результате аншлюса территория Германии увеличилась на 17 %, население — на 10 % (на 6,7 млн человек). Независимость Австрии была восстановлена в апреле 1945 года, после ее занятия союзными войсками в ходе Второй мировой войны, и узаконена Государственным договором 1955 года.
(обратно)81
Героиня Любови Орловой в картине «Волга-Волга»
(обратно)82
Боевой киносборник № 4 (сентябрь 1941-го).
(обратно)83
Борис Иванович Юрцев (1900–1954) — известный в 30-е годы кинорежиссер, снявший картину «Любовь Алены».
(обратно)84
Пётр Владимирович Вильямс (1902–1947) — советский живописец, график, сценограф и театральный художник.
(обратно)85
Борис Петрович Чирков (1901–1982) — советский актер театра и кино.
(обратно)86
Борис Яковлевич Петкер (1902–1983) — советский актер театра и кино.
(обратно)87
Григорий Львович Рошаль (1899–1983) — советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог.
(обратно)88
Вера Петровна Марецкая.
(обратно)89
Ныне этой улице, переименованной в 1943 году, возвращено историческое название Глинищевский переулок.
(обратно)90
По совпадению биографических деталей можно предположить, что Орлова имеет в виду актрису Марину Ладынину.
(обратно)91
Ныне Большая Никитская улица.
(обратно)92
Театр Революционной Сатиры был расформирован в 1922 году.
(обратно)93
Ныне г. Самара.
(обратно)94
К. Е. Ворошилов.
(обратно)95
С. М. Эйзенштейн, Г. В. Александров, Э. К. Тиссэ.
(обратно)96
Возможно, Александр Викторович Ивановский (1881–1968) — советский кинорежиссер и киносценарист, снявший картины «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится».
(обратно)97
Главный герой во многом автобиографической книги Николая Островского «Как закалялась сталь».
(обратно)98
Принятая в СССР и других социалистических странах концепция художественного творчества, провозглашающая единство творчества с идеями марксизма-ленинизма.
(обратно)99
Сергей Иосифович Юткевич (1904–1985) — советский режиссер театра и кино, художник, педагог, теоретик кино. Среди поставленных им картин видное место занимают картины о Ленине, первой из которых стала картина «Человек с ружьем», снятая в 1938 году.
(обратно)100
«Новая Москва» — фильм Александра Медведкина, снятый им по собственному сценарию и рассказывающий о сталинской реконструкции Москвы. Фильм не был выпущен в прокат.
(обратно)101
«Синяя блуза» — эстрадно-театральное агитационное объединение, воплощение нового революционного массового искусства. Существовало с 1923 по 1933 год. Артисты выступали в свободных синих блузах, отсюда и название. Первый коллектив с таким названием был организован в Московском институте журналистики. Весьма скоро появились последователи в других городах. Творчество «синеблузников» изобиловало штампами.
(обратно)102
Речь идет о Викторе Яковлевиче Станицыне (настоящая фамилия — Гёзе; 1897–1976) — советском актере театра и кино, театральном режиссере и педагоге.
(обратно)103
Иосиф Леонидович Прут (1900–1996) — советский драматург и сценарист. Его дача находилась по соседству с дачей Любови Орловой и Григория Александрова в подмосковном Внукове.
(обратно)104
Речь идет о художественном фильме «Эскадрилья № 5» (другое название — «Война началась»), снятом в 1939 году режиссером Абрамом Роомом по сценарию Иосифа Прута. Фильм пробыл в прокате недолго (около месяца) и был снят сразу же после подписания 23 августа 1939 г. советско-германского договора о ненападении.
(обратно)105
Предыдущая работа А. Роома, фильм «Строгий юноша», снятый в 1935 году по сценарию Юрия Олеши, вызвал недовольство советского руководства (обвинение в «грубейших отклонениях от стиля социалистического реализма»).
(обратно)106
Речь идет о фильме-сказке «Василиса Прекрасная», поставленном на студии «Союздетфильм» в 1939 году режиссером Александром Роу. Фаина Раневская пробовалась на роль Бабы-яги в этом фильме, но в конечном итоге роль досталась актеру Георгию Милляру (в этой картине он сыграл еще две роли) и стала его «визитной карточкой».
(обратно)107
«Партийный билет» — фильм режиссера Ивана Пырьева, снятый в 1936 году.
(обратно)108
Возможно, что Любовь Орлова действительно так и считала, но нельзя исключить и того, что она не хотела вступать в партию из-за своего происхождения. Кандидатуры желающих пополнить партийные ряды рассматривались крайне дотошно, проверялось происхождение и т. д. Отец Орловой, Петр Федорович Орлов, был дворянином, дослужился до статского советника (гражданский чин, применительно к армейским званиям «промежуточный» между полковником и генералом). Мать, Евгения Николаевна Сухотина, тоже была дворянкой и генеральской дочерью. С классовой точки зрения, отдающей предпочтение рабочим и крестьянам, происхождение у Любови Орловой было хуже некуда, и лишнего внимания к нему привлекать не стоило. Каким бы высоким и устойчивым ни казалось положение, не следует давать лишний козырь в руки недоброжелателям. Недоброжелателей и завистников у Любови Орловой было много, о некоторых она упомянула в своих воспоминаниях.
(обратно)109
Бои на Халхин-Голе — локальный вооруженный конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии недалеко от границы с Маньчжоу-Го между СССР, Монгольской Народной Республикой с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го (марионеточным государством, образованным японской военной администрацией на оккупированной Японией территории Маньчжурии) с другой. Конфликт завершился полным разгромом 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.
(обратно)110
В СССР начало войны с Финляндией объяснялось необходимостью обеспечить безопасность Ленинграда, который находился в опасной близости от советско-финской границы.
(обратно)111
И.А. — Ираида Алексеевна Мормоненко, дальняя родственница Григория Александрова, которая вела хозяйство у четы Орлова — Александров.
(обратно)112
Виктор Ефимович Ардов (Зигберман) — известный советский писатель-сатирик, драматург, сценарист. Автор сценария картины «Светлый путь», первоначально (в виде пьесы) называвшейся «Золушкой» с намеком на историю главной героини Тани Морозовой, роль которой сыграла Любовь Орлова.
(обратно)113
По ходу сюжета Орлова сидела на цирковой пушке, освещаемой изнутри мощными светильниками. Жар от светильников накалил сиденье под актрисой, но она не могла позволить себе остановить съемку, потому что заканчивалась дефицитная импортная кинопленка, за расходом которой строго следили. Орлова отыграла эпизод до конца, а потом долго лечила ожоги на ягодицах.
(обратно)114
«Песня о Волге» из к/ф «Волга-Волга». Музыка: Исаак Дунаевский. Слова: Василий Лебедев-Кумач.
(обратно)115
Ф.Г. Раневская.
(обратно)116
Возможно, что Л. — это советская актриса Марина Ладынина (1908–2003).
(обратно)117
Возможно, что К. — это советский актер Николай Крючков (1911–1994), снявшийся с Ладыниной в комедии «Трактористы» (1939).
(обратно)118
«Петр Первый» — советский двухсерийный художественный фильм, посвященный жизни и деятельности российского императора Петра I. Снят режиссером Владимиром Петровым по одноименной пьесе Алексея Толстого в 1937–1938 гг.
(обратно)119
Борис Иванович Юрцев (1900–1954) — известный в 30-е годы кинорежиссер, снявший картину «Любовь Алены».
(обратно)120
По приведенным Любовью Петровной сведениям можно предположить, что речь идет о Льве Владимировиче Кулешове (1899–1970) — советском актере, кинорежиссере, сценаристе и теоретике кинематографа.
(обратно)121
Жизнь коротка, искусство вечно (лат.).
(обратно)122
Ф.Г. Раневская.
(обратно)123
Александр Николаевич Поскребышев (1891–1965) — бессменный секретарь и личный помощник Сталина.
(обратно)124
На основании совпадения биографических данных, можно предположить, что Р. — это советская певица, исполнительница русских народных песен Лидия Андреевна Русланова (Лейкина) (1900–1973). В сентябре 1948 года Русланова была арестована вместе со своим мужем генерал-лейтенантом Владимиром Крюковым и осуждена по обвинению в антисоветской пропаганде, грабеже и присвоении трофейного имущества в больших масштабах к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества. Реабилитирована и освобождена в 1953 году после смерти Сталина. Продолжала концертную деятельность до последних дней жизни.
(обратно)125
«Подкидыш» — художественный фильм, снятый режиссером Татьяной Лукашевич на киностудии «Мосфильм» в 1939 году по сценарию актрисы Рины Зелёной и писательницы Агнии Барто.
(обратно)126
Ф. Г. Раневская сыграла в «Подкидыше» роль Ляли.
(обратно)127
Рина Зеленая.
(обратно)128
«Заберите у товарища брак и выдайте ему новый». В картине «Волга-Волга» эту фразу произносит бюрократ Бывалов, блестяще сыгранный Игорем Ильинским.
(обратно)129
Вера Васильевна Холодная, урожденная Левченко (1893–1919) — российская актриса, звезда дореволюционного немого кино.
(обратно)130
Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами) — советская торговая организация, занимавшаяся обслуживанием иностранцев и советских граждан, имеющих т. н. «валютные ценности» — наличную валюту, золото, серебро, драгоценные камни, которые можно было обменять на продукты питания или промышленные товары. Существовала с 1931 по 1936 г. Прозвище «дитя Торгсина» говорило о потребительстве героини.
(обратно)131
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889) — русский писатель, активно обличавший пороки своих современников.
(обратно)132
Симон Аршакович Тер-Петросян, известный под партийной кличкой Камо (1882–1922), — профессиональный революционер, организатор и исполнитель множества денежных экспроприаций.
(обратно)133
Речь идет о первой части кинотрилогии о Камо, снятой на киностудии «Армен-фильм» — фильме «Лично известен» (1957).
(обратно)134
Вероятно, речь идет о Центральной поликлинике Лечебно-санитарного управления Кремля, располагавшейся на углу ул. Воздвиженка и ул. Грановского.
(обратно)135
«Моя любовь» — мелодраматический фильм, снятый режиссером Владимиром Корш-Саблиным по сценарию Иосифа Прута на киностудии «Беларусьфильм» в 1940 г.
(обратно)136
Иосиф Леонидович Прут (1900–1996) — советский драматург и сценарист.
(обратно)137
Вера Петровна Марецкая (1906–1978) — советская актриса, исполнительница главной роли в фильме «Член правительства».
(обратно)138
Вероятно, здесь содержится намек на неудачу картины Григория Александрова «Русский сувенир», вышедшей на экраны в 1960 году и весьма недолго просуществовавшей в прокате. Любовь Орлова исполнила в нем главную роль инженера Варвары Комаровой. Этот фильм стал предпоследним в творческой карьере Александрова и Орловой.
(обратно)139
Александр Романович Беляев (1884–1942) — советский писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы. Среди наиболее известных его романов: «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль».
(обратно)140
Небольшая неточность — Александр Беляев жил в то время не в Ленинграде, а в Пушкине (бывш. Царское Село) под Ленинградом.
(обратно)141
Намек на обстоятельства, касавшиеся Александра Беляева. В начале войны болезнь помешала ему эвакуироваться. Беляев с семьей оказался на оккупированной немцами территории и умер в оккупации. Отказ от эвакуации мог бы быть поставлен Беляеву в вину и привести к запрету картины, снятой по его сценарию.
(обратно)142
Фильм «Весна» снимался на чешской киностудии «Баррандов» (Barrandov Studio), находящейся под Прагой.
(обратно)143
«Наш Ю.А.» — это Юрий Александрович Завадский (1894–1977) — советский актер и режиссер, педагог. Коллекционировал карандаши, имел привычку рисовать при каждом мало-мальски удобном случае. Был главным режиссером Театра имени Моссовета. В 1947 году Любовь Орлова выступила в спектакле Театра имени Моссовета «Русский вопрос» в роли Джесси, а в 1955 году была приглашена в труппу театра и играла в спектаклях: «Сомов и другие» (Лидия), «Лиззи Маккей» (Нора, Лиззи), «Милый лжец» (Патрик Кэмпбэлл), «Странная миссис Сэвидж» (миссис Сэвидж).
(обратно)144
С.А. Есенин. «Письмо к женщине».
(обратно)145
Сергей Владимирович Образцов (1901–1992) — известный советский актёр и режиссёр кукольного театра.
(обратно)146
Отрывок из стихотворения Ф. Тютчева «Она сидела на полу…» (1858).
(обратно)

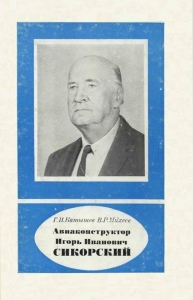




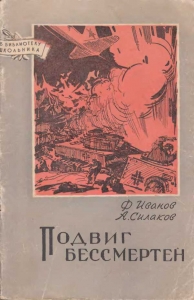
Комментарии к книге «О Сталине с любовью», Любовь Петровна Орлова
Всего 0 комментариев