Василий Блюхер. Книга 1
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Василий с трудом поднял тяжелые веки, и в полубезжизненные глаза ему глянул бездонный серовато-голубой, будто выгоревший от солнца, купол. Тишина звенела в ушах, словно незримые пальцы задевали тугие струны, и монотонные звуки, поднявшись над землей, уносились в сторону, возвращались и снова улетали, замирая вдали.
Медленно возвращалось сознание. Василий слегка приподнялся на локтях. Колющая боль пробежала от затылка до колен, и в бессилии он скривил губы. Уж лучше не двигаться. Он не знал, что еще час назад лежал лицом к земле, погруженный в обморочный сон, что санитары повернули его на спину и тут же решили: у унтера лицо такое спокойное, словно он доволен тем, что простился с миром.
Главное теперь — не уснуть, не впасть снова в беспамятство, чтобы санитары не свалили его в братскую могилу, а проще говоря, в яму, над бугром которой, может быть, добрая душа поставит грубо сколоченный крест… И все!
Августовское солнце поднималось все выше. Василию казалось оно неуместным здесь, где пахло человеческим потом и кровью, где кружились вороны. Еще раз он попытался подняться, но тут же повалился, и снова боль в спине отозвалась с такой остротой, словно стеганули просоленным бичом по голому телу.
«Лежать и ждать помощи», — твердо решил он и стал перебирать в памяти события, предшествовавшие бою.
…Ухали горластые пушки. Земля вздрагивала. Неподалеку лес, сквозь кружево листвы снопы лучей пробивали стежку. По окопу деловито пробежали вестовые. За ними медленно прошел штабной капитан с красиво посаженной на ровные плечи головой, позади командир роты. У ротного худое лицо с заостренным подбородком. До Василия донеслись слова капитана: «Вчера я закончил подсчет по книге огнестрельных запасов. За последнюю неделю мы израсходовали восемь миллионов винтовочных пуль, шесть тысяч шрапнельных снарядов и две тысячи гранат. Это почти столько, сколько за всю войну». Командир роты, внимательно слушая, заметил: «У меня в первом взводе вольноопределяющийся. Почти мудрец. Он уверяет, что есть, как бы сказать, такой закон: чтобы убить человека на войне, надо выпустить в него столько металла, сколько весит тело убитого». Капитан невесело рассмеялся, они прошли дальше. Ничего больше Василий не расслышал.
Он знал, что победа не дается даром и, чем труднее борьба, тем слаще плоды победы. Жизнь чертовски заманчива, она звала его, и он шел не боясь, без оглядки.
Вот уже два года Василия считают заколдованным от пуль и снарядов. Он вышел из крестьянской семьи, где приметы и суеверия были прочны, как пеньковые веревки, которые они сами вили. «Дурная примета встретить козла или попа, — смеясь говорил он и ловко плевал через плечо, — а на передовой ни того, ни другого не увидишь». И он просто, но не без некоторой бравады шагал по брустверу, показывал солдатам пример храбрости. У него уже чин унтер-офицера, два георгиевских креста, две медали. Еще столько же наград — и он полный георгиевский кавалер, которому офицер при встрече обязан первым отдать честь. Солдаты любят Василия за рассудительность и богатый, как они выражаются, голос: когда говорит, то знает, что к чему, когда поет — за душу берет. Бывает и на язык остер. Однажды такое отгрохал, что солдаты посмеялись с опаской. Кому что, говорит: «Царю хочется Егория, а царице Григория». Поняли, на кого намекает.
Вчера вечером Василий задушевным голосом пел песню, которую сам впервые услышал на войне. Солдаты слушали, боясь смотреть друг другу в глаза, как бы не прошибла слеза.
…Где катилась речка малая, Берег с берегом не сходятся, Опоили землю-матушку, Опоили кровью русскою, Кровью русскою, солдатскою, —пел он, и голос его то замирал, то ширился.
Коренастый, плечистый, с большой головой, он выглядел типичным волгарем. Ему бы бороду отрастить, надеть лямки и баржу тащить.
Сегодня на рассвете командир роты, зная о предстоящем наступлении, сказал Василию:
— Отличишься — к третьему кресту представлю.
А Василию хотелось спросить: «Долго ли будем, ваше благородие, русской кровью землю орошать?» — да промолчал, знал, что подпоручик не ответит, а то еще разозлится и обложит крепким словом.
«Разведчиками гордились, похвалялись перед другими полками, нате, мол, выкусите, где уж вам таких орлов заиметь, — вспоминал Василий, — а на поверку как вышло дрянно». Только пошли в атаку — неприятель открыл такой сильный шрапнельный огонь, что ни пройти, ни пробежать. Когда снаряд разорвался вблизи ротного и тот, вскинув руками, замертво упал на сухую, потрескавшуюся от жары землю, Василий, намереваясь увлечь за собой солдат, бросился вперед… завертелся волчком и зарылся лицом в землю.
На смену солнечным дням пришли моросящие дожди. Чем дальше на восток, тем хуже дороги. Развезло даже там, где они вымощены булыжником, а на грунтовых колеса погружались в грязь по самую чеку. Повсюду валялись покореженные орудия, разбитые фурманки, солдатские котелки с вдавленными боками, сломанные штыки. Медленно тянулся транспорт раненых, растянувшись на несколько верст. Лошади, выбившись из сил от голода и усталости, тяжело дышали запавшими боками.
Василий лежал на животе. Теперь он уже знал, что его тяжело ранило в обе лопатки и левое бедро. Что с ним делали в лазарете — не помнил, но когда вернулось сознание, то почувствовал себя крепко забинтованным. Он открыл глаза и услышал, как одна сестра милосердия сказала другой: «Не жилец он на этом свете».
Лежать он мог только на животе. Уткнувшись в мокрую солому, царапавшую лицо, Василий молчаливо переносил боль, жажду и голод. Позвать повозочного он не мог — один солдат присматривал за десятью подводами и все равно не услышал бы его зова. Он попытался сам утолить жажду дождевой водой: поднимал голову, терпеливо выжидал, пока солома намокнет, а потом припадал к ней и лизал.
Повозки остановились у какой-то маленькой станции, раненых перенесли в вагоны, уложили на нары и раздали им по буханке хлеба и по десять кусков сахару.
Поздней ночью поезд отошел.
На рассвете Василий хрипло закричал во сне и тут же проснулся.
— Что с тобой, милок? — спросил сосед.
— Дурной сон приснился, — признался Василий, — лежу это я, прикованный цепями, на койке, а два австрияка пилят меня поперек. Крепился, но как дошли до сердца — не выдержал.
— Это у тебя, милок, болезнь такая, она больше от окопной сырости берется, а лечить ее доктора не умеют, потому у них такого лекарства нет.
Василий слушал и молчал. С болью вспомнил слова сестры милосердия о том, что не жилец он на этом свете, но верить не хотелось. «Неужели я, этакий здоровяк, не выдержу?» И вдруг пришла тяжелая мысль: «Допустим, выдержу, но останусь калекой. Кому я такой нужен?»
— Я лекарство знаю против этой паршивой болезни, любого подниму на ноги, — продолжал сосед.
— А себя самого? — усмехнулся Василий.
— И себя!
— Вот ты какой! Чай, учился на фельдшера или на одной квартире с доктором жил? Ты какой губернии будешь?
— Ярославской.
Василий с любопытством посмотрел на соседа:
— Неужто земляк? Откуда?
— Из Новоселок, что на реке Туношеньке. Зовут меня Саввой Коробейниковым. — Повременив, он добавил: — А ты из каких мест?
— Из Ба́рщинки.
— Не Рыбинского ли уезду?
— Ага!
— Знаю я ба́рщинских, до войны ваши маяки по угличским базарам ходили.
— Ходили, — подтвердил Василий и, с трудом повернувшись на бок, подпер голову рукой. — Отец мой в молодости ходил, скупал холсты да нитки. Потом питерщиком заделался, а я по другому пути пошел.
— Это ж по какому? — поинтересовался Савва.
— По фабричному.
— Вот как! Не жалеешь?
— Слесарное дело мне по душе. — Помолчав, спросил: — Далеко нас везут, Коробейников?
— В Казань, сказывали.
Лежавший по другую сторону Коробейникова солдат приподнялся, протянул руки и жалобно попросил:
— Братцы, дайте напиться!
Василий и Коробейников заметили странный взгляд солдата. Он не мигал, широко раскрытые глаза были неподвижно направлены в одну точку, они казались стеклянными. Кто-то поднес ему флягу. Солдат откупорил ее и жадно прильнул к горлышку. Слышно было, как вода, булькая, уходила глотками в горло.
— Ты что ж, братец, плохо видишь? — посочувствовал Коробейников.
— Три дня прожил слепцом, — ответил солдат, — а сейчас вроде как полегчало.
— Пройдет, — успокоил его Коробейников. — Рассол огуречный пей, все пройдет.
— Это меня господь бог наказал. Я вот прикидывался слепым, и все с рук сходило. Как что, стану во фрунт и гаркну: «Виноват, ваше благородие, потому у меня в глазах вроде как туман». Офицер пробурчит и махнет рукой. Стояли это мы в польском городе. Послал меня командир полка с письмом к одной паненке. Иду по городу, ищу улицу, а навстречу генерал. И откедова, шельма, взялся? Усы у него нараспашку, вроде как у бабы косу срезал и под нос подклеил. Останавливает меня. Я трясусь, но виду не подаю. А генерал спрашивает: «Почему, скотина, во фрунт не стал?» — «Виноват, ваше превосходительство, отвечаю, на глаза дюже слабый». Глянул он мне в очи и обратно спрашивает: «Зачем тебя, слепую скотину, в армии держат?» — «Так точно, ваше превосходительство, отвечаю, никакого расчета нет. Дали мне адресок, а я даже прочитать не умею». — «Дай-ка мне письмишко! Только я без очков не вижу». Достает генерал из кармана стеклышки, нацепляет на нос и читает. А я и без него знал адресок. «Спасибо, говорю, ваше превосходительство, дай бог здоровья вашим другим глазам, а те нехай повылазят».
Василий и Савва рассмеялись.
— Ловкий же ты, братец! — поощрительно заметил Коробейников.
Как ни старался Василий принять удобное положение, ему не удавалось. Лежать на левом боку было тяжело — ныло бедро, к спине дотронуться нельзя, казалось, что сзади, кроме костей, ничего не осталось. Нерадостно было у Василия на душе, но он гнал от себя мрачные мысли, завидуя тем, кто был легко ранен. Чей-то тоненький голосок на нарах долго выводил грустную песню:
Я ранен, товарищ, шинель расстегни мне, Подсумок скорее сними, Дай вольно вздохнуть, и в последний разочек Ты крепче меня обними. Да где ж ты, товарищ? Тебя уж не вижу… Ты крест, что жена навязала, сними, И если не ляжешь со мною ты рядом, Смотри, повидайся с детьми…В Казани было уже по-настоящему холодно. Ветер воровато шарил по улицам, поднимая пыль и обрывки бумаги.
Здание госпиталя на Арском поле было окружено обширным лугом, а позади него тянулись глубокие овраги и Поганые озера. Никаких озер сейчас не было, все они давно высохли. Рассказывали, что некогда на месте госпиталя был царев луг и здесь стоял станом Иван Грозный.
Врачи долго осматривали Василия. Сестра сняла с него бинты, отбросила на спинку железной кровати.
— Как ваше мнение, Петр Федорович? — спросил один из врачей с птичьим лицом и горбинкой на носу.
— Очень тяжелое ранение, — ответил Петр Федорович, — но жить будет. Русский мужик сдюжит. Пойдемте дальше!
Врачи удалились, а сестра принялась скатывать бинты. Она делала это довольно ловко двумя ладонями, работа спорилась. Василий следил за ее проворными руками и молчал. Сестре было лет за тридцать. Косынка скрывала ее волосы, но, судя по пряди, которая порой выбивалась то у одного виска, то у другого, легко было догадаться, что они темно-каштанового цвета. Она была среднего роста, полногрудая, с крепкими руками. Глаза светло-зеленые, словно их выкупали в морской воде. Звали сестру Клавдией.
Василий понравился ей с первого дня. Лицо его, обросшее за две недели щетиной, не могло привлечь женского взгляда, но Клавдии, повидавшей за многие месяцы войны сотни и сотни раненых с разными характерами, капризами и привычками, понравился унтер-офицер тем, что ни разу не застонал, когда она отрывала бинты от подсыхающих за ночь ран или нечаянно задевала его бедро. Он только закусит губы до крови, но терпит… Она часто подходила к нему и спрашивала: «Водички дать?» Василий отвечал односложно: да, в другой раз — нет. Первое время это сердило Клавдию, но потом она привыкла и поняла, что его гнетет мысль: выживет ли, а если выживет, то вернутся ли силы. По всему было видно, что в утешении он не нуждается.
Коробейников лежал в другой палате, но ежедневно заходил к Василию и неизменно спрашивал: «Ну как, землячок?», а Василий улыбнется и ответит: «Говорят, иду на поправку».
— Ты обещал меня исцелить, — напомнил однажды Василий Коробейникову. — Где же твое лекарство?
— Не могу достать, — признался Коробейников.
Клавдия, стоявшая неподалеку от них, прислушалась к разговору и строго нахмурилась:
— Если только напоишь его зельем — пожалуюсь начальнику.
— Что ты, сестренка, — успокоил ее Василий, — Савва — человек хороший, он лекарство знает от моей болезни.
— Чего еще? — недоверчиво спросила она.
— Мне бы рыбьего жира достать, — признался Коробейников.
— Еще что выдумал?
— Ты вот бинтовать умеешь, как повивальная бабка, а в моем деле ни бум-бум.
— Какой доктор нашелся! Может, заместо Петра Федоровича лечить будешь?
— Учился бы — мог, — решительно ответил Коробейников. — У мужика умишко не хуже, чем у твоего Петра Федоровича.
Клавдия собралась снова ответить, но ее перебил Василий:
— Тебе зачем, Савва, рыбий жир?
— Взял бы я полстакана жиру, вымочил бы в нем холщовую тряпку. Вонять будет хуже дерьма, да это маловажно. Холщовую ту тряпку приложил бы к твоим ранам, и пусть Клаша тебя забинтует. Поможет, убей меня бог, если вру.
Коробейников говорил так уверенно, что Клавдия тут же решила про себя: «Вреда это не принесет» — и примирилась:
— Достану, но ты, солдат, помалкивай. Узнает Петр Федорович — прогонит меня, знахаркой обзовет.
— Могила! — Коробейников закрыл ладонью рот.
Только через три дня Клавдия раздобыла пузырек с рыбьим жиром, тайком принесла в госпиталь и спрятала под кровать Василия. После врачебного обхода раненых она вылила жир на холщовую тряпку и принялась бинтовать Василия. Коробейников был прав: вонь била прямо в нос.
Коробейников ревниво следил за ее работой, а когда она кончила, поучительно предупредил:
— Сегодня день пресвятой богородицы, а ты тряпку продержи до воздвиженья креста господня.
Василий не удержался:
— Ты и доктор, ты и богослов! Это сколько ж мне ждать?
— Семь ден.
Всю неделю Клавдия обманывала Петра Федоровича при обходе.
— Раненый спит, — уверяла она его, — жаль будить, всю ночь маялся.
В другой раз солжет по-иному:
— Поправляется, Петр Федорович. Я уже перебинтовала его сегодня, вроде как лучше. И смотреть вам нечего.
На седьмой день Клавдия зашла в палату к Коробейникову и подмигнула ему: дескать, пойдем к Василию. Когда она сняла бинты, то лицо ее просветлело.
— Батюшки! — воскликнула она радостно. — Рана-то как затянулась! — И трижды перекрестилась.
С этого дня она прониклась доверием к Коробейникову. Вскоре принесла еще пузырек с рыбьим жиром и перебинтовала не только Василия, но и Савву. Перед врачебным осмотром она вечером с большой осторожностью промыла теплой водой рану, уже затянувшуюся тонкой розовой кожицей.
Доктор, сев на табурет, приблизил свои близорукие глаза к спине Василия и не без самодовольства сказал:
— Говорил ведь, что русский мужик сдюжит!
Коробейников пришел проститься: его выписывали из госпиталя и направляли в действующую армию.
— Сбегу, — доверил Коробейников свою тайну Василию. — Два года кормил вшей, теперь — будя. Жук и то жизни просит, а ведь я человек!
— Поймают, судить будут, — предостерег Василий.
— Я в Новоселки убегу, там схоронюсь. А ты как думаешь?
— За меня австрияки подумали, — горько усмехнулся Василий. — После такой мясорубки мне одна дорога — на печь.
Коробейников сочувственно покачал головой, дескать, тяжело будет семье лишиться кормильца.
— Ты женат, Василий?
— Пока нет.
— Баб, что ли, не любишь?
— Как бы тебе сказать, — подыскивая слова, медлил Василий, — какой мужик не любит бабу? Я вот мечтаю об особой женщине.
— Тебе, стали быть, подавай добрую, гладкую, хозяйственную. Ну и что, нашел?
— Пока нет!
— Ищи, земляк, — засмеялся Коробейников. — Может, Клаша подойдет?
Что бы Клаша ни делала в палате, она незаметно бросала взгляды в сторону Василия. Когда к нему приходил Коробейников и они начинали беседовать, она жадно прислушивалась. Ей все казалось, что они обязательно заденут ее и кто-нибудь бросит словцо в ее адрес. Так оно и случилось. Услышав свое имя, она засеменила к постели Василия, делая вид, что занята и ничего не слышит.
— Клаша, по всему видать, человек хороший, но только я ей не нужен, — донеслись до нее рассуждения Василия, — потому что из меня работник как из тебя плотник. Опять же она старше меня годов на восемь, а может, и больше. И сдается мне, что она семейная.
— Солдатка. На дверь нажми, она и поддастся, — поучал Савва. — Разведчика учить не надо.
— Баловаться не люблю и тебе не советую, — отрезал Василий. — Сам небось видел, сколько грязи на войне, и вся она на человеческой крови замешана.
Коробейников почувствовал, что Василий чем-то отличается от многих других солдат.
— Знаю, что в помойной яме был, но рук своих не запачкал. Может, я кого и осиротил на чужой земле, так не по своей воле. Пригнали, приказали стрелять. Но только грязи на душе нет — чужого ничего не брал, а детям и женщинам обиды не делал.
Василию понравился ответ Саввы. Ему хотелось скорее поправиться, пойти, как Савва, по палатам, поговорить с солдатами о проклятой войне, послушать их и самому рассказать, как он ее теперь понимает. Ведь у каждого свои понятия. Вспомнил Василий своего командира полка и разговор его с командиром дивизии. У них тоже свои понятия и разные. Солдат кормили впроголодь, интенданты расписались в своем бессилии, и части стали открыто мародерствовать, Подполковник отрядил сто пятьдесят человек, в том числе и Василия, на фуражировку. Генерал, узнав об этом, вызвал подполковника и учинил ему разнос:
— Вы что же это, батенька, себе позволяете? Знаете, как это называется? Молчите? Ну, так я вам скажу: ма-ро-дер-ство! И вы мародер. Ясно?
— Так точно, ваше превосходительство, — без тени обиды ответил подполковник. — Я мародер всеармейский, а вы — мародер без громких фраз.
Генерал от удивления вылупил глаза:
— Когда же это я мародерствовал?
— Я вам напомню, ваше превосходительство, — спокойным тоном ответил подполковник. — В польском городке, забыл название, мои солдатики аптеку грабили. Помните? Вы подошли, посмотрели и клистирный наконечник взяли. Припоминаете?
Генерал пришел в бешенство от этой издевки:
— Да вы с ума сошли, подполковник, делать такие сравнения!
— Почему, ваше превосходительство? Вам понадобился клистирный наконечник для личных целей, а мне хлеб, чтобы прокормить целый полк. Знаете, что солдаты говорят: «Как хлебом досыта не наедимся, деть себя некуда».
Клавдия подошла к Васильевой кровати, села на край и, скрестив руки на груди, с лукавством спросила:
— Сыты, солдатики, разговорами?
— Вот так, — Коробейников провел ребром ладони по шее. — Страшная штука война. Я вот домой приеду, жена спать не даст, ночи напролет будет слушать горемычные рассказы.
— А жена у тебя хозяйственная, гладкая, добрая? — ехидно спросила Клавдия, желая повернуть разговор.
— Сущая ты ведьма, — бросил Коробейников. — Попадись тебе на зубок…
— Ишь ты какой! Сахарный, что ли? А меня зачем трогал?
— Будет тебе пустое говорить.
Клавдия со злости замолчала. Василий и Савва виновато переглянулись. Клавдия, досадуя на свою несдержанность, неохотно поднялась и ушла.
— Давно женился? — спросил Василий.
— Восьмой год пошел.
— Зимой?
— А то когда же? Как все, после крещения.
— И жена пошла в первую же весну обратно к матери ткать новину?
— Как полагается. Понесла напряденную за зиму пряжу, а выткавши — вернулась.
— Я помоложе тебя, а помню, — задумчиво сказал Василий. — Мальчонкой был, когда Катя, сестра матери, замуж выходила. Я тогда у бабушки жил. Катю все еще молодухой считали, а уже во вьюничное воскресенье подошли к избе да под окнами прокричали: «Оклишница, оклишница, дай наши яйца, не дашь, пойдешь в лес — тебя рогуша съести». Сперва ребята заголосили, потом взрослые подхватили. Жених у Кати неказистый был, не понравился мне. Поехал он к себе, а Катя давай вопить.
— Неужто помнишь? — удивился Коробейников.
— Как сейчас, — и Василий прочитал на память:
Благослови меня, господи, в своем доме посидети, белой лебёдой восклицати; не лебёдушка воскликала, душа красна девица, в высоком-то тереме, у своих-то у родимых, у кормильца, свово батюшки.А утром Катя встала и причитает матери:
Голубушка белая, родимая моя матушка, послушай-ка, голубушка, что я вам говорить буду.Долго еще беседовали Василий с Саввой, вспоминая родную ярославскую землю, свои деревни, свою жизнь.
— Прощай, земляк! — вздохнул Коробейников. — Живы будем — свидимся!
— Прощай, Савва! — с солдатской грубоватостью ответил Василий и, с трудом повернувшись на бок, натянул на себя жесткое одеяло и закрыл глаза.
Госпиталь был переполнен. Каждую неделю привозили раненых большими партиями. Они рассказывали, что немцы уже захватили всю Польшу и часть Прибалтики.
В самом госпитале царила тишина. Сюда не доносился городской шум. По утрам пили безвкусный чай, от которого несло распаренным веником. К чаю подавали два тонких ломтика ситничку и наперсток сливочного масла. В обед кормили баландой, как солдаты называли суп, из которого нельзя было выловить ни одной крупинки, на второе — пшенной кашей. На ужин снова чай, но уже без ситничка.
Клавдия по-прежнему бегала по палатам, проводя почти весь день среди раненых. Только немногие из ее сослуживцев знали, что она старалась забыться в работе. Мужа ее мобилизовали в первые дни войны, угнали на фронт, и с тех пор от него не было ни единой весточки. Бабьего баловства она себе не позволяла, свято блюла свою честь, надеясь на возвращение мужа, хотя считала его погибшим. Детей у нее не было, оставалась одна работа. Ни с кем из раненых Клавдия не заигрывала, никому не позволяла вольничать, — казалось, она обрекла себя на вечное одиночество, но неожиданно для себя самой у нее возникло теплое чувство к Василию, который так мужественно переносил свои страдания, был строг к себе и к другим. Признаться в этом она никогда бы не рискнула, но своим подчеркнутым вниманием к Василию сумела без слов убедить его, что стоит ему заговорить о том, о чем беседовал наедине с Коробейниковым, — и она готова пойти навстречу.
Бывали дни, когда Василию казалось, что над ним витает смерть; он затихал надолго, и Клавдия в страхе прислушивалась к его дыханию. Лицо его горело, а в полуприкрытых глазах стояли слезинки. Василий невнятно бормотал, и только отдельные слова можно было разобрать: «Рота… не бояться огня… рабочего человека доконать хотите… Не грусти, земляк, наше время придет». Горячечные слова пугали ее, но она умела пересилить в себе страх.
Лежа часами на боку, Василий неотрывно смотрел в одну точку и думал. Думал о том, что ему только двадцать седьмой год, а какой долгий путь пройден. Восемь лет прослужил в купеческой лавке, три года проработал на заводе да столько же отсидел в Бутырской тюрьме. На фронте дрался с беспримерной русской храбростью. Не раз хотелось побить морду всем офицерам полка и крикнуть: «Теперь вяжите, судите!» — а в бой шел молодцом. Сейчас Василий уже твердо верил в то, что будет жить, но, по-видимому, ему предстоит вернуться на фронт писарем в штаб, а может, вестовым к какому-нибудь офицеру. На передовую его больше не тянуло — не раз вспоминал клубы вонючей гари, испепеленные дотла городки с торчащими трубами, кропотливый человеческий труд, превращенный в сплющенные куски железа и обгорелого дерева. Война представлялась ему теперь жестокой мясорубкой. Не думал он искать для себя теплого местечка и в тылу, хотел вернуться на завод слесарем-механиком. Легко сказать, а хватит ли сил?
Однажды, когда за окном бушевала метель, Клавдия подошла к постели Василия и, наклонившись, спросила:
— Газетку почитать хочешь?
Василий ожил. За время, что он лежал в госпитале, у него притупились всякие желания, исчез интерес к книгам, к которым он особенно пристрастился, когда служил на Мытищинском вагоностроительном заводе. Слова фронтовой сестры о том, что он не жилец на этом свете, подкосили его тогда, и вера в выздоровление вначале угасла, понизился интерес к жизни, а сейчас он час-другой может уже полежать на спине, быть может, даже скоро поднимется с постели и понемногу начнет ходить. И как это случается с каждым, кто чувствует с приливом физических сил жажду к жизни, Василий повеселел, стал разговорчивей.
— Спасибо, Клашенька, за заботу.
Она помогла ему сесть и подложила под спину подушку. Василий впился в газету «Казанский телеграф». Газета была большого формата, и он, сложив ее вчетверо, стал читать. Первое, что бросилось в глаза, сразу заинтересовало: «От штаба Верховного главнокомандующего. В Галиции, на фронте Средней Стрыпы, произошел ряд стычек. В районе Усечко противник пытался наступать, но был отброшен. На Черном море наши корабли успешно обстреляли немецкий миноносец, успевший скрыться». Из Петербурга сообщали, что уже целую неделю нельзя купить молока. Прибалтийский край, оказавшийся районом военных действий, совершенно потерян для столицы как поставщик молочных продуктов. В самой Казани в ресторане «Черное озеро» во время исполнения певицей Снежинской романса «Гай-да тройка, снег пушистый» сидевший за столиком в одиночестве поручик поднялся и крикнул: «Мы истекаем кровью на фронте, а здесь шансонетки распевают песенки. Глядите, как бы русский солдат не потопил бы вас всех в чертовом озере». Поднялся шум, скандал. Поручик перебил посуду, выхватил револьвер из кобуры и рванулся к эстраде, но его задержали, обезоружили и препроводили к коменданту города.
Под Новый год раненым выдали по пачке папирос и кулечку ландрина. Василий отдал подарок Клавдии.
— Папироски обменяй на газеты, — посоветовал он, — а ландрин возьми себе.
Спрятав в карман халата папиросы и леденцы, она взбила подушку, слежавшуюся под Василием, и дрожащим голосом, выдававшим ее волнение, предупредила:
— Петр Федорович наказал подготовить тебя на комиссию.
Василий недоуменно спросил:
— Что это за подготовка?
— Искупать, постричь, побрить, белье сменить. Не тебя одного, всех так готовят.
Невеселые мысли одолевали Василия. Хотя он уже ежедневно вставал и прохаживался с трудом по палате, хотя его сильный и выносливый организм сумел побороть тяжелый недуг, вызванный ранением, но отправляться снова в действующую армию вовсе не хотелось. Он не собирался выпрашивать отставки у членов комиссии, но верил, что совесть не позволит им послать на фронт инвалида, которому нужно длительное время, чтобы окрепнуть.
Заседание комиссии происходило в госпитале. Клавдии не полагалось присутствовать на заседании, но сам Петр Федорович приказал ей:
— Перед осмотром сними бинты с твоего георгиевского кавалера.
Клавдия надела на Василия чистую нательную рубаху, которую сама накануне тщательно отгладила дома, накинула на его плечи халат и повела на второй этаж, где заседала комиссия. Опираясь одной рукой на перила, а другой на плечи Клавдии, он с трудом поднимался по железным ступенькам крутой лестницы, боясь согнуть спину. Ему казалось, что затянувшаяся на спине кожа лопнет, и тогда придется начать лечение сызнова. Испытать еще раз перенесенные боли было бы для него невыносимо.
Осмотр длился недолго. Присутствовавший на комиссии уездный воинский начальник посмотрел на лиловую спину Василия и скривился:
— Пусть идет на все четыре стороны.
Слова больно задели Василия. Он знал, что воевать уже не может, но его возмутил тон, словно его выбрасывали, как отработанный материал.
— На фронте, ваше превосходительство, — рискнул он сказать, — гнали только в одну сторону — на запад, а теперь мне, кавалеру двух георгиевских крестов и двух медалей, предлагают еще три стороны.
Генерал смутился:
— Ты меня, солдатик, плохо понял. Я говорю, что воевать тебе больше не с руки.
— Понял, ваше превосходительство, — с трудом сдержал гнев Василий.
Комиссия без возражений пришла к выводу, что унтер-офицер к прохождению военной службы не пригоден и подлежит увольнению из армии с белым билетом и 96 рублями годовой пенсии.
Василий, в конце концов, был рад этому решению, но когда он с помощью Клавдии сходил со второго этажа, то без умысла заглянул ей в глаза:
— Все это хорошо, но дальше как жить буду?
— Переедешь ко мне, а там будем думать, — ответила она так, словно давно уже решила этот вопрос.
Никакой перспективы у Василия не было. В чужом городе без денег и работы — а работать он все еще не мог — ему оставалось просить милостыню, выставив напоказ свои кресты и медали, и поселиться в какой-нибудь ночлежке, опускаясь постепенно на дно жизни. Ехать же домой в Ярославскую губернию в тягость оставшимся в живых родителям он не мог и потому молчаливо принял предложение Клавдии.
Клавдия хлопотливо помогла Василию улечься на кровать и поспешила в укромный уголок — хотелось сполна прочувствовать охватившую ее радость.
Василий остался один со своими мыслями, но сосредоточиться на них не смог — его отвлек сосед:
— Чего там тебе сказали?
— Уволили с белым билетом.
— Пофартило.
— Разбитым быть — лучше жить? — раздраженно спросил Василий.
— А червей в земле кормить? — в свою очередь спросил сосед.
— И этак плохо, и так не сладко, — согласился Василий и задумался: «Какой же выход? Войну надо: кончать, но как это сделать? Попробовал бы сказать об этом в окопах — меня бы предали суду и расстреляли. Между собою, правда, говорили, но только шепотом и с оглядкой. То ли дело на заводе — рабочие знают, чего хотят. Там и вожаки есть, а на фронте каждый сам по себе, да и начальство на каждом шагу подслушивает. Вот бы сейчас повстречаться со студентом Ковалевым, он бы мне растолковал, что делать».
Перед уходом из госпиталя Клавдия подошла к Василию, расспросила, надо ли чего-нибудь, и, как бы мимоходом, бросила:
— На будущей неделе отвезу тебя к себе.
Василий посмотрел ей прямо в глаза:
— Клаша, не бери на себя обузу. — И, повременив, добавил: — Да и мужик твой ненароком вернется.
Клавдия чутьем понимала, что, чем больше Василия уговаривать, тем сильнее он будет упорствовать; лучше всего не убеждать, а делать по-своему. Уж если она на что решилась, то добьется своего. Кто знает, может, Василий принесет в дом и счастье, и детей, и уют. Двухкомнатная ее квартирка небольшая, но чистая, всегда прибранная. Весной Клавдии пойдет тридцать пятый год. Неужели же весь век ей маяться одной, не знать близкого человека, не заботиться ни о ком? Правда, Василий еще слаб, беспомощен, но вернутся же когда-нибудь к нему силы, расправит он плечи. Лицом он красив и характером хорош: незлобив, неболтлив, рассудительный, а главное, с добрым сердцем. Все будет так, как она задумала. Но порой закрадывалась мысль о возможном возвращении мужа, и тогда Клавдия терялась, все ее планы рушились.
Вот и сейчас, когда он заговорил о муже, она не нашлась что ответить и, безмолвно повернувшись, ушла, досадуя на Василия, зачем он напомнил о нем.
Дома она уложила вещи мужа в сундук, убрала его фотографию в нижний ящик комода, взбила матрац на второй кровати, постелила чистое белье, словно с часу на час должен был прийти Василий, и легла, но спалось плохо.
Утром Клавдия, повстречав доктора, вкрадчиво сказала:
— Петр Федорович, хорошо бы унтеру еще с месяц полежать.
— Дома поправится.
— У него дом порушен, один на божьем свете остался, — солгала она.
Петр Федорович подумал и разрешил:
— Ладно, пусть пока полежит.
Василий ждал, что не сегодня-завтра Клавдия уведет его, по проходили дни, а она не торопилась. «Передумала, — решил он, — может, и к лучшему».
Зима в тот год была лютая, с обильным снегопадом. Люди мерзли в домах. В Казани не хватало хлеба, молока, мяса, мыла, сахару, но все знали, что владелец завода ядровых, яичных мыл и разных свечей в Ново-Татарской слободе Иван Пекин живет припеваючи, что война ничуть не помешала торговому дому Рама на Воскресенской улице припрятать товары, а большой магазин шелковых, шерстяных и полотняных заводов Барышова, что на углу Проломной и Гостинодворской, торгует хотя и не бойко, как до войны, зато с не меньшей прибылью.
На исходе января Василий заметно поправился, поздоровел. Раны не так сильно тревожили, теперь он мог лежать и на спине.
Клавдия предупредила его:
— Завтра на тебя выпишут в канцелярии документы. Вечером пойдем домой.
На другой день она принесла ему сапоги, шинель, ремень, чистые портянки, выстиранную гимнастерку и помогла одеться. Василий достал из-под подушки кресты и медали, прицепил их к шинели, сорвал погоны, снял с фуражки кокарду и пошел за Клавдией на улицу. Впервые за много месяцев он глубоко вдохнул в себя морозный воздух и словно опьянел: голова слегка закружилась, и тут же подкосились ноги.
Клавдия взяла Василия под руку, и они медленно пошли по хрустящему снегу. В безоблачном небе светила луна. Мимо промчалась тройка с колокольчиками, и звон их быстро замер вдалеке. От лунного света падали косматые тени на белый, как рафинад, снег. Идти пришлось долго, и Клавдии было приятно касаться плеча человека, который ей нравился.
— Придем домой, я быстрехонько растоплю плиту, сварю картошку, согрею чаю, поедим и ляжем спать. Рано утром сварю чего-нибудь, а днем ты подогреешь и поешь, — говорила она с видимым удовольствием.
Василий слушал и не знал: то ли радоваться, то ли печалиться. Шел он в дом, где ранее хозяйничал другой, ныне пропавший без вести солдат, шел в дом к женщине, которая была старше его, и не знал, зачем идет, но, чувствуя, как мороз пробирается под худую шинель и щиплет его, понимал, что сейчас ему не найти другого выхода.
Клавдия привела его к небольшому домику, отворила дверь и чиркнула спичкой. Лохматые тени закачались на полу и стене. Потом зажгла лампу, поставила ее на стол и принялась хозяйничать. Пока она растапливала печь, Василий чистил картофель. Шелуха тихо шлепалась из-под ножа в помойное ведро. Он обратил внимание, что некрашеный пол был вымыт по-деревенскому, с дресвой.
После ужина Клавдия указала Василию на кровать:
— Разбирайся! Спать будешь здесь.
До утра Василий проспал непробудным сном.
Дни потекли медленно, скучно, не суля никаких надежд. С утра Василий уходил из дому, бродил по городу. Любил постоять у здания университета на Воскресенской улице. С какой радостью он перешагнул бы порог и сел бы за парту, ведь у него за плечами всего-навсего церковноприходская школа. С благоговением смотрел на памятники Лобачевскому и Державину, досадуя, что бедность заставила продать себя в рабство питерскому купцу, в доме которого даже книги были под запретом.
Однажды, когда он возвращался домой, его остановили два черноглазых мальчика.
— Дяденька, — не без робости сказал один из них, — смастерили бы нам револьверы.
По лицу Василия скользнула добрая улыбка.
— Из чего?
— Дерево мы вам принесем, но только вы сделайте всамделишные, вы ведь солдат.
— Да вы почем знаете, кто я и где живу?
— Знаем, у тети Клаши.
Вывернуться никак нельзя было, да и стоило ли — досуг весь день.
— Ладно, сделаю, но только не судите строго, если коряво выйдет.
На другой день ребята принесли две деревянные чушки и фольгу.
— Вы наши револьверы оклейте серебряной бумагой. Настоящие будут.
Василий смотрел на них и завидовал: вот она, детская беспечность!
— В школу ходите? — поинтересовался он.
— Денег нет, — грустно сказал меньший паренек.
«Значит, и у детей свои беды, — подумал он, — даром позавидовал им».
— Тебя как зовут? — спросил он у старшего.
— Сергей Максимов.
— Грамоту знаешь?
— Читаю, дядя Антон обучил.
— Вот как! — неопределенно буркнул Василий, осматривая чушки. — А кто это дядя Антон?
— В нашем доме живет, через дорогу. Все его студентом зовут. Хороший дядя, но уж больно худой, всегда кашляет и рот тряпочкой затыкает.
Василий долго возился с чушкой, строгая ее своим перочинным ножом. К вечеру удалось сделать один револьвер, а на другой день ребята, получив подарки, собрались уходить, но Василий задержал их:
— Сведите-ка меня к дяде Антону.
— Идемте, мы вам покажем, где он живет.
Они повели Василия через дорогу, вошли в узкий дворик и показали на ветхую лестницу, завалившуюся на один бок.
— Идите наверх, а потом все прямо и прямо до конца.
В коридоре кромешная тьма. Василий ощупью добрался до дверей, наткнувшись прямо на ручку. Постучал. Дверь отворилась. На пороге показался в старой студенческой куртке с медными пуговицами, но без наплечников, обросший бородой и усами высокий человек, глядя поверх пенсне.
— Чем могу служить? — поинтересовался студент, оглядывая незнакомого солдата с головы до ног. — Вы, очевидно, ошиблись адресом?
— Мне нужен Антон… — Василий запнулся, не зная отчества и фамилии, но его выручил сам студент.
— Иванович Нагорный, — добавил он.
— Так точно, — отчеканил Василий и по привычке отдал честь.
— Милости прошу!
Нагорный закрыл за Василием дверь, пододвинул ему табуретку, а сам сел на железную кровать, на которой, кроме набитого сеном тюфяка, ничего не было.
— Нуте-с, — сказал Нагорный, рассматривая кресты и медали на Васильевой шинели, — я вас слушаю.
Василий смущенно переводил взгляд с голых стен на жильца комнаты, мялся и не знал, с чего начать.
— Говорите, сударь, — поторопил его Нагорный.
Василий набрался смелости, почесал мизинцем маленькие усики, которые он оставил после бритья, вздохнул:
— Хочу учиться!
— Похвально!
— В тысяча девятисотом году кончил церковноприходскую школу. И все! А человеку нужно образование. Вот я и пришел к вам за помощью.
Нагорный улыбнулся, сложил руки лодочкой и стал согревать их своим дыханием.
— Кто же это вас, позвольте узнать, направил ко мне?
— Ребята с вашего двора. На прошлой неделе я из лазарета вышел, почти полгода в нем провалялся, а теперь поселился у одной женщины, она через дорогу живет. Третьего дня ребята просили меня смастерить им деревянные револьверы. От скуки я и согласился. Разговорился с ними, а они рассказали, что дядя Антон их грамоте обучил. Дай, думаю, зайду, попрошу образованного человека…
— На фронт когда возвращаетесь? — перебил Нагорный.
— Не способен больше воевать. Белый билет выдали.
Свыше трех часов просидел Василий у Нагорного, рассказывая о своей жизни. Нагорный внимательно слушал, задавал иногда вопросы и пришел к заключению, что солдат заслуживает того, чтобы с ним заниматься.
— Нуте-с! — произнес он свое привычное словцо. — Завтра же начнем занятия, а учебники я вам дам.
Прощаясь, Василий снова отдал честь и сконфуженно закончил:
— Антон Иванович, я скоро пойду работать на завод и с первой же получки вам заплачу.
— Сочтемся, Василий Константинович, — оборвал Нагорный и крепко пожал ему руку.
— Ты что надумал? — строго пристала Клавдия, узнав от Василия, что он ходил к Нагорному и тот обещал заниматься с ним и подготовить за восемь классов гимназии. — Студент под надзором полиции, политический…
Василий спокойно пожал плечами:
— Мало ли что политический?! Человек живет в холоде, нужде, никому вреда не делает, мне помочь хочет.
— Не нужна его помощь, — раздраженно пояснила Клавдия, как будто имела на Василия права.
До войны муж ее повздорил с Нагорным. Случилось это в день святителя Николая-чудотворца. Собралась Клавдия с мужем в церковь. Вышли на улицу, повстречали Нагорного. Студент из вежливости первый снял шляпу. «Здрасьте, говорит, Никодим Николаевич! Здрасьте, Клавдия Капитоновна!» Никодим Николаевич раздраженно спросил: «Неужели в такой день, Антон Иванович, так пресно здороваются?» А Нагорный ответил: «Вы что, особенный человек?» Слово за слово, и повздорили. С тех пор перестали раскланиваться, а люди меж собой говорили, что Никодим Николаевич написал приставу их части донос на Антона Ивановича. Ночью к Нагорному нагрянула полиция с обыском, но ничего не нашла. Когда началась война, Никодима Николаевича мобилизовали и послали на фронт. Перед уходом он попрощался со всеми соседями, только к Нагорному не зашел, — видно, стыдно было человеку в глаза посмотреть, а Клавдия по сей день проходит мимо него, словно не замечает.
Василий знал эту историю со слов Нагорного. Его сердило поведение Клавдии, и он запальчиво сказал:
— Нагорного хаять нечего. Не люб он тебе — не возись с ним, а заниматься не брошу.
Поднявшись с табуретки, он широко зашагал по кухне. Клавдия впервые видела Василия в таком возбужденном состоянии, а отступать не хотела.
— О тебе пекусь.
— Это уже лишнее. Пристава я не боюсь, — намекнул он, — а Нагорного на твоего Никодима не променял бы.
— Мужа не трожь, — вскипела Клавдия, — он, может, давно в сырой земле лежит.
— Царствие ему небесное, а человек он был нехороший.
— Ты почем знаешь, что плохой? Нагорный небось накляузничал?
Василия подмывало сказать резкость, надеть шинель, выйти из дому и больше не возвращаться, но он благоразумно сдержал себя.
— Садись, поговорим напоследок, — предложил он.
— Уходить собираешься?
В голосе ее Василий почувствовал тревогу.
— Сперва поговорим, а потом решу.
Клавдия села у теплой плиты, скрестив руки на груди. Василий пододвинул свою табуретку, примостился рядом. Скосив глаза на Клавдию, он молча смотрел на нее, будто видел в первый раз. Без косынки и халата она выглядела моложе своих лет. Лицо у нее было волевое, энергичное, и хотя под глазами легли морщинки, но в эти минуты она ему нравилась.
— Что ты знаешь, Клаша, обо мне? — спросил наконец Василий и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Унтер-офицер с георгиевскими крестами, не пьет, в карты не играет, человек с виду тихий, смирный. — И неожиданно повысил голос. — А я вовсе не смирный. Мне тебя бояться нечего, все расскажу. Человек я вольный: захочу — возьму котомку, котелок и пойду, как сказал генерал на комиссии, на все четыре стороны. И не увидишь меня больше. Низко кланяюсь тебе за хлеб и обед, но продавать свою совесть не собираюсь. Ты вот говоришь, что Нагорный политический, под надзором полиции и прочее такое. Ладно, однако он по тюрьмам не шатался, а Васенька, — при этом он несколько раз ткнул себя кулаком в грудь, — почти три года отсидел в Москве в Бутырках. В одиночке. Думаешь, украл? Зарезал? Упаси боже! Я рабочих на заводе к забастовке призывал. Невмоготу нам стало жить, вот так, — и провел ребром ладони по горлу, — меня за это судили да на три года в тюрьму упрятали. Что же, я после этого спасибо скажу приставу и царю нашему батюшке? Эх, Клаша, Клаша, тяжело живется рабочему брату, тяжело мужику, тяжело солдату. На наших костях богатства копят.
Клавдия слушала Василия, широко раскрыв глаза. Будь на месте Василия Нагорный или кто другой, она убежала бы, заткнув уши, и готова была бы кричать, что его надо арестовать за крамольные речи. Но тут же одумалась: может, он правду говорит? Ведь Никодим внушил ей, что Нагорный плохой человек, — он боялся всех: городового, пристава, любого чиновника.
— Мне учиться хочется, в люди выйти, а ты не позволяешь, — продолжал он. — Что же мне, на твоей шее сидеть и тебя объедать? Ты чего Нагорного боишься? Кому он зло причинил: мне или твоему Никодиму? А что Нагорный в бога не верит, так и я такой. Наш полковой священник перед боем крестом нас осенял, а сам — в кусты. Звал убивать людей именем бога. А у германцев и австрийцев свой священник велел им убивать нас тоже во имя бога. Ты, Клашенька, подумай обо всем хорошенько, разберись, что к чему, а тогда и решай. А теперь помоги мне надеть шинель, и я пойду.
Клавдия обомлела. Она знала, что Василий при всей кажущейся мягкости характера не отступится от своего решения. «Нет, — сделала она вывод, — я его не отдам». Стремительно поднявшись с табуретки, она подошла к нему сзади и обняла за плечи.
— Прости меня, неразумную. Я ведь не хотела обидеть тебя. Хочешь учиться — учись. Только не уходи, боязно теперь одной оставаться. Хоть не муж ты мне и не полюбовник, а привыкла к тебе. — Она гладила его своими большими крепкими руками и повторяла ласковые слова. — Нельзя тебе уходить, ты еще не окреп.
— Останусь, — примирился Василий.
Перед сном Клавдия, перевязывая ему раны, сказала:
— У Антона Ивановича холодно, позови его к нам, здесь и учитесь.
За месяц Василий много успел. Учитель был доволен его настойчивостью и желанием все узнать. Василий учился и читал с утра до вечера, радуясь, что так удачно сложилась жизнь в Казани. Теперь Нагорный с Василием подружились. Постепенно от учебников Нагорный переходил к жизни, а главным вопросом жизни была назревающая революция.
— Я сам понимаю, Антон Иванович, что революция придет. Я ведь хорошо помню девятое января в пятом году. Сколько жить буду, не забуду, как заиграл рожок, потом раздались выстрелы и все бросились бежать. Мне тогда только шестнадцать было, а до смерти буду помнить женщину, которая бежала с дитем на руках, прижимая его к груди. Завернула она в переулок, посмотрела на дите, а оно мертвое…
Василий закрыл лицо руками, как бы опасаясь снова увидеть страшную картину Кровавого воскресенья.
— Теперь ты сам понимаешь, Василий Константинович, куда тебе податься, — одобрительно сказал Нагорный и потрепал свою нечесаную бороду.
Василий оторвал руки от лица, посмотрел большими синими глазами на Нагорного, ожидая, что он еще скажет, но тот молчал. Тогда он встал и зашагал от окна до дверей. Нагорный, наклонившись над учебником, исподлобья следил за ним.
— Завтра пойду наниматься на завод.
— На какой?
— Еще не знаю.
— Пойди на завод Остермана, — подсказал Нагорный. — Там найдешь старшего мастера Анисима Кривочуба, он тебе во всем поможет. А пока возьми вот эту книгу, почитай!
Василий открыл книгу на первой странице, пробежал глазами и сказал:
— Я роман Чернышевского уже читал.
— Нравится?
— Да!
— Помнишь, как складывается жизнь у героев? У Рахметова она проходит в неустанной борьбе. Борьба за идею воспитала в нем твердый характер и независимость взгляда. Лопухов с детства добывал средства для существования. Кирсанов с двенадцати лет помогал отцу переписывать бумаги, учеником четвертого класса он давал уже уроки. Оба они грудью, без связей и знакомств пролагали себе дорогу. Вот и ты должен поставить перед собой цель: быть неустрашимым, твердым, подчинить свою личную жизнь интересам великого дела рабочего класса.
На другой день Василий пришел в контору завода. В тот час в конторе сидел сам хозяин, Михаил Евгеньевич Остерман, который обычно хвалился тем, что он, как и городской голова с полицеймейстером, был членом правления Первого казанского добровольного пожарного общества. До войны у Остермана была механическая мастерская, но предприимчивый немец с помощью городского головы получил подряд на изготовление и поставку военному ведомству гранат. Мастерская превратилась в оборонный завод.
Михаил Евгеньевич, чистенький и гладко выбритый, с фулярным галстуком под белым накрахмаленным воротником, напоминал больше адвоката, чем заводчика. Увидев вошедшего незнакомца с знаками солдатской доблести на шинели, он доброжелательно посмотрел на него:
— Что скажешь, солдатик?
— Хочу на работу наняться.
— А что ты умеешь делать?
— До войны работал в Питере на франко-русском заводе Берда, потом в Мытищах на вагоностроительном. Я слесарь-механик. По ранению уволен из армии с белым билетом.
— Как же ты попал в Казань?
— Лечился в лазарете, что на Арском поле.
— Документы у тебя с собой?
Василий достал из кармана белый билет и протянул хозяину. Тот внимательно прочитал, предложил конторщику:
— Зачислите его слесарем-механиком и направьте к Кривочубу.
Анисим Кривочуб выглядел тщедушным и узкогрудым. Ходил он согнувшись, словно за плечами у него висел тяжелый мешок. В старом пальтишке раструбом книзу, с отстегнутым хлястиком на спине, он был похож на огородное чучело. На тонких губах лежала печать недовольства.
Кривочуб поставил Василия за станок и строго предупредил:
— Будешь плохо работать — уволю. Спуску никому не даю.
Василий призадумался: «Сразу видать — хозяйский холуй. Как с таким поговорить по душам? Не ошибся ли Нагорный?»
К концу дня Кривочуб подошел к Василию:
— Где работал раньше?
— В Питере, потом в Мытищах под Москвой.
— В ночлежке ночуешь?
— Зачем? Я на Татарской улице живу, против Нагорного.
— Ты студента знаешь? — пристально взглянул на него мастер.
— Знаю! Он меня учит по программе гимназии. Про тебя говорил.
— Поменьше болтай, твое дело — работать.
Домой Василий возвращался в приподнятом настроении, словно нашел то, чего так долго искал.
— Только не трать понапрасну много сил, — предупредила его Клавдия, — береги здоровье.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В тусклой комнатенке старшего мастера Анисима Кривочуба до того неприветливо, что уж хуже нельзя. Что спросишь с бездетного вдовца? День-деньской на заводе, вечером один, а уж если случится уйти, то никто толком не скажет куда: кто говорит в кабак, кто — к какой-то сторожихе-татарке. Человек он малоприметливый, никто им не интересуется.
Как ни строг на работе Анисим, а все же позвал Василия в гости. Понравился ему георгиевский кавалер с раскидистыми плечами. «На них хоть железину гни», — подумал он. Где ему знать, что спина у солдата покалечена.
Давно стемнело за худым оконцем, давно остыл чай, а Василий, не тая, все рассказывал мастеру так, как рассказывал Нагорному.
…В лучах багряного солнца золотится пыль, поднятая возвращающимся стадом с выгона. Деревня на горе ничем не приметна — одна липа да две осины у прогона за околицей, а дома́ — один хуже другого. Жалко выглядят дряхлые двухоконные избушки, вросшие в землю. Летом в жару духотища, а зимой за ночь все тепло выдует.
С незапамятных времен деревню звали Ба́рщинкой; по рассказам, будто вокруг росла болячешная трава, и в народе говорили: «Был бы борщевник, и без хлеба сыты будем». Другие уверяли: «Ходили мужики на барщину всей деревней, потому так и прозвали». У двух-трех богатеев дома тесом покрыты, оконные рамы резные, на крыше конек с двумя конскими головами.
Ехал однажды помещик из Ярославля в Рыбинск. Замучила жажда, охота напиться, а до города верст двадцать.
— В Ба́рщинке, барин, речка Ключи, из земли родниковая вода бьет, — посоветовал кучер.
В деревне остановились. Глядит помещик — на бревне сидит мужики. Подозвал к себе. Барин не то чудаковатый был, не то лишнего хватил в Ярославле, но из всех мужиков выбрал взглядом одного головастого и говорит ему:
— Ни дать ни взять Блюхер!
— Чего, батюшка барин? — удивился испуганный мужик.
— Блюхер, говорю. Ну, подойди ближе!
Мужик робко шагнул, перекрестился от страха.
— Форменный Блюхер! — не унимается барин и заливается смехом. — Тот был голован, и ты голован.
— Меня Левонтием Кузнецовым зовут, — набравшись смелости, сказал мужик. — У нас в Барщинке все Кузнецовы да Медведевы. Есть еще Прибатурин да Румянцев. Вот я, к примеру, Кузнецов, а эти, — мужик обернулся и кивнул в сторону, где стояли остальные, — Медведевы.
— Дуралей! — процедил сквозь зубы помещик. — Я говорю, фельдмаршал Блюхер имел такую же голову, как ты, а тебе невдомек. — И, рассердившись на мужика за недогадливость, позабыл про родниковую воду, про томившую его жажду и сердито крикнул кучеру: — Пшел!
С тех пор Леонтия Феклистовича стали все в деревне называть Блюхером. И сына Павла так прозвали, и внука Константина, и правнука Василия. Прошло много лет, а чужая, немецкая фамилия навсегда пристала к ярославским мужикам Кузнецовым.
Константин Блюхер пошел с двадцати лет маяком по селам и городам Ярославщины. Так звали тех, кто бродил по базарам, скупал холсты, нитки и перепродавал купцам. Купцы были известные и именитые: Затрапезновы, Протасовы, Морозовы, Сорокины, Опарины. Земля в Ярославской губернии испокон веку была скудная, хлеб ели покупной, выгонов мужики не имели, покосы арендовали на помещичьих землях. И народ шел на отхожий промысел: кто в Ригу, кто в Москву, а больше всего в Питер. Шли половыми в трактиры, приказчиками в лавки, каменщиками, а то и бурлаками. Ярославцев предпочитали другим — сметливые, ловкие, вежливые в обращении. Питерские купцы нанимали их без разбору.
Сколько их уходило в города и по несколько лет не возвращалось домой! Бывало, что и новой семьей на стороне обзаведется, а баба в деревне ждет не дождется и рожает ребят. Не всем везло, были и такие, что возвращались убогими и нищими.
— Отца моего знали во многих селах, — рассказывал Василий Кривочубу. — Голос у него выделялся в толпе, и имя было хорошее: честный, неподкупный, никого не обсчитывал. Пришел однажды домой злой от неудачи, два дня молчал, а потом заговорил: «Где ни приводилось быть, видел одно — народ бежит. Отчего бы это? А мне все понятно. Земля щедра, да не своя, а на своей полосе не прокормишься. Значит, нам на отхожий промысел идти». — «Не лучше ли в артель податься?» — посоветовала моя мать. «Денег надобно худо-бедно двадцать пять рублев внести, — пояснил отец. — Где их взять? Вот в Горевке куют винты, в Нечаевке — нарезки, в Павлицове — втулки, в Буйниках отпиливают шарниры, а в Княгинине мастерят раксы к рессорам. Скупщики железо покупают, раздают слесарям да кузнецам. Я на такое дело не пойду». — «А про Васятку думаешь?» — обратно спросила мать. Отец сдавил обеими руками голову, словно хотел ее раздавить, и ответил: «Порушил бы я крестьянство, ей-ей, да куда с семьей пойду?» Без меня еще трое было, — пояснил солдат, — две девочки, Шура да Лиза, и братишка Павка. «В городе, — говорит отец, — и без нас зимогоров хоть отбавляй. Может, пойти на суда́ с топором? В Мологском уезде мужики так решают: «Суда́ нас больше кормят, чем земля».
За год из Ярославской губернии уходили на отхожий промысел шестьдесят тысяч человек. Даниловский уезд поставлял печников и каменщиков, Мологский — пильщиков и плотников, Ростовский — огородников, Пошехонский — портных, а Угличский — трактирщиков.
Тяжела была жизнь питерщиков — так называли уходивших на промысел. Поэт Суриков выразил горести и печали своих земляков. Возвращается питерщик домой и думает про себя:
Все убито во мне суетой и нуждой, Все закидано грязью столицы; В книге жизни моей нет теперь ни одной Освежающей душу страницы…— Кончил я церковноприходскую школу, дальше бы пошел учиться, да где уж, — вздохнул Василий, — самого себя надо было кормить.
— Сколько же тебе лет в ту пору было? — спросил Кривочуб.
— Одиннадцать. Задира, никого не боялся, кроме знахарей. У брата моего Павки на загривке прыщ выскочил. Головой никак не повернет, спать не может. Позвала мать знахарку. Анкиндину-солоху. Не женщина, а страхолюд. Пришла она поздно, только когда огонь засветили, иначе не хотела. Стала Анкиндина высекать на Павкино лицо кремнем и огнивом искры и про себя причитает. Я в углу на корточках сижу, дрожу и боюсь. Утром Павка просыпается, а прыщ сгинул. С тех пор стал верить в знахарей.
— И теперь? — лукаво испытывал Кривочуб.
— Дурак я, что ли? — ухмыльнулся Василий. — Был мал — верил. Какой же парнишка в деревне не верит в знахаря?
Василий со слов отца помнил и старину. Отец его Константин рассказывал, как впервые познакомился с мужицким миром. Помнил, когда вокруг Ба́рщинки стояли болота да леса, как люди тайно собирались за светцом из лучины. За кушаком у каждого топор. Помнит, как однажды они ушли и до ушей его донесся звонкий гул топоров о вековые деревья. Помнит, как с ребятами побежали, голося: «Палы палить!» Побежал и Константин, перепрыгнул через канаву, опоясавшую обширную делянку, а дальше кучи хвороста. Появился огонь, по лесу треск пошел, пламя лижет иссохшую зелень, извивается змеей по земле. Столбы дыма поднялись в небо, вокруг птицы крикливо кружатся.
— И лес рубили, и палы палили, а бедность не переводилась, — закончил свой рассказ Василий. — Вот потому батя и пошел в маяки. Лежу это я как-то раз на голубце и думаю, что со мной будет, какую мне жизнь судьба уготовит. Вдруг вошел отец, обернулся лицом к образам, перекрестился, посмотрел на лубочные картинки, которые я развесил на прокопченных стенах, и говорит: «Пойду в Питер искать работу и Васятку прихвачу». — «Его-то зачем?» — спросила мать. «Пойдет по торговой части». На другой день отец надел картуз и длинную демикотоновую разлетайку. Меня одели в посконные штаны и холщовую рубаху. Перекрестившись, мы сказали матери: «Прощай!» — и пошли пешком на Питер.
И Исаакий, и золотая игла на Адмиралтействе, и бесчисленные памятники в городских садах казались Васятке перенесенными из сказочного мира. Все как будто бы понимал, но всего боялся: усатых городовых в белых перчатках, резвых лошадей, запряженных в высокие экипажи, электрического света, упрятанного в стеклянные шары, но пуще всего хозяина, купца второй гильдии Фадея Фадеевича Воронина. Ни свет ни заря, а Васятка уже в лавке убрал, прилавок тряпкой от пыли вытер, аршины разложил и дожидается прихода купца. Что за гильдия, Васятка никак не мог разгадать, расспросить некого, но считал, что, владея этой гильдией, можно все на свете купить.
Фадей Фадеевич не спеша спускался со второго этажа в лавку по винтовой лестнице, или, как он ее называл, по круглоспуску, открывал окованные и запертые изнутри двери, подходил к конторке и говорил:
— Поглядим, кого бог пошлет сегодня.
Шаг у Воронина, несмотря на его грузное тело, был тихий. Васятке казалось, что подошва на купеческих сапогах подбита войлоком. На нем всегда синяя поддевка и синий картуз, а по воскресеньям черный сюртук и черный картуз. Через жилетку тянулась золотая цепь с брелоком.
Общество купца угнетало мальчика, мир сузился до размеров лавки. Но вот однажды парнишка на побегушках у купца Асмолова прибежал к Фадею Фадеевичу разменять катеньку. Увидал Васятку, подмигнул и, пока купец считал деньги, шепнул:
— После работы выходи на улицу.
Васятка обрадовался. Спал он на кухне. Горничная и кухарка Луша, хотя ей и доставалось от ленивой и обжорливой купчихи и ее глупых дочек, весь день только и болтавших о женихах, сердцем от этого не черствела, на послушного Васятку смотрела, как на родного сына, и заботилась о нем. Не будь Луши, он давно убежал бы куда глаза глядят.
Вечером Васятка сказал тете Луше:
— Пойду за ворота, постою на улице.
— Иди, сынок! — ласково одобрила она.
На улице его поджидал, асмоловский мальчуган Сеня.
— У тебя книжки есть? — спросил он.
— Нет!
— Была бы книжка, я с тобою поменялся, бы. — щелкнул языком Сеня и собрался уходить. — В орлянку играешь?
— Нет!
— Ты, как я вижу, какой-то квелый. Ну, тогда давай драться!
Сеня тут же ухватил за холщовую рубаху Васятку и не успел притянуть его к себе, как Васятка, ловко подставив ногу, толкнул его. Сеня полетел на землю, смущенно поднялся и отряхнулся.
— Давай еще! — наседал он.
Васятка молчаливо повторил свой прием, не надсмехаясь и не хвастаясь. Сене бы смутиться и уйти, а он покорно сказал:
— Подожди, я тебе вынесу книжку.
Эта неожиданная встреча подсказала Васе, что сила и смелость заставляют уважать человека в любом возрасте. Книжку Васятка спрятал под рубахой и пошел домой.
Спустя несколько дней купец вошел в лавку и увидел в руках у Васятки книжку. До ушей Воронина донеслись слова, которые мальчик произносил вслух:
«В воскресные дни он иногда приходил по утрам «поговорить о деле», что означало — о практической работе партии Мадзини, деятельными членами которой они были оба. Тогда она становилась совсем другим человеком: прямолинейным, холодным, строго логичным, безукоризненно пунктуальным и совершенно беспристрастным».
— Подай-ка, малец, книжицу! — наставительно приказал Фадей Фадеевич.
Васятка доверчиво протянул книгу. Купец взглянул на нее, прочел вслух название «Овод» и заинтересованно спросил:
— Про мохнатого слепня?
Васятка ничего не ответил, но в ту же минуту его лицо исказилось: на его глазах купец медленно захватывал пухлыми пальцами по несколько страниц и хладнокровно рвал их.
— Я не затем тебя взял в учение, чтобы ты книжками забавлялся. Твое дело — служба в лавке. Одного обмани на копейку, другого обмерь на вершок, третьему недодай. Так по капельке и рублик натечет в карман. Рублик к рублику льнет, глядишь, капиталец соберешь, свою лавку откроешь. Тогда ты кум любому купцу. Вот как надо жить! А не книжки про слепней читать.
Васятка готов был вцепиться в горло купцу и перегрызть его, но понял, что только беду накличет: купец выбросит его за шиворот на улицу, и он, Васятка, умрет с голоду. «Подрасту, — подумал он, — тогда припомню ему».
Ночью Луша услышала, как Васятка плачет. Поднялась с койки, подошла к сундуку, на котором лежал мальчик. Нащупав в темноте его голову, погладила теплой рукой.
— Кто обидел, сынок?
Васятка стыдливо замолк.
— Тяжело, милок, тяжело, а терпеть надо, иначе в люди не выйдешь.
Васятка схватил шершавую от работы Лушину руку и прижался к ней.
— Хозяин побил? — допытывалась она.
— Я какие хочешь побои снесу, тетя Луша, — ответил он, повернувшись к ней лицом, — но только хозяин хуже слепня. — Он рассказал, как купец порвал Сенину книгу, ничего не поняв, про что в ней написано. — Как же я теперь Сене в глаза посмотрю? Ведь чужое добро уничтожил. Ему бы за это рулон изрезать.
— В тюрьму угодишь, Васенька, а хозяин другого возьмет. Вашего брата в Питере в десять раз больше, чем купцов.
До утра не мог уснуть Васятка. Совестно было перед Сеней за то, что не вернет ему книгу, да и хотелось знать, чем закончилась встреча Джеммы и Мартини.
К концу второго года службы, когда Васятке минуло тринадцать лет, Воронин назначил ему жалованье по пятерке в месяц. К книгам он пристрастился и читал запоем, но теперь скрывал их от хозяина. Сеня простил Васятке невозвратную потерю «Овода», заручившись согласием на дружбу.
— Где ты их достаешь? — поинтересовался Васятка.
— Подвезло, — независимо ответил Сеня. — Сын моего хозяина студент, он откуда-то приносит чуть ли не каждый день новую книгу. Почитает и на полку бросит, а я потихоньку их тащу. Дам тебе про графа Монте-Кристо — пальчики оближешь.
— Я про графов не люблю.
— Он только выдает себя за графа, а по правде простой матрос.
— В этой книге все понятно?
— Что непонятно, то пропускаю, — сознался Сеня.
— Я так не люблю, я все должен понять.
За два года отец только раз проведал Васятку. Зашел, поклонился купцу испросил:
— Как мой сынок, Фадей Фадеич?
— Исправный.
— Скоро домой вернешься, батя? — спросил Васятка у отца.
— На будущей неделе.
— Матери гостинец отдай, я для нее ситчику на платье припрятал и сладкие баранки.
Отец удивленно посмотрел на Васятку:
— Где взял?
— Хозяин в счет жалованья дал по своей цене, а баранки кухарка Луша собрала. Погоди, я сейчас принесу из кухни.
Принимая подарок, отец смущенно, но одобрительно потрепал сына по плечу. Ведь он никогда ничего не приносил жене, а Васятка с первой же получки купил матери гостинец.
Луша безмерно любила Васятку. Не потому, что мальчик жил одиноко, без материнской ласки. Мало ли одиноких ребят на свете! Вот до Васятки в лавке работал такой же паренек, но хозяин прогнал его, и Луша не жалела. Парнишка крал, дважды не пришел домой ночевать, а по утрам его, бывало, не добудишься. То ли дело Васятка: тихий, аккуратный, послушный. Купец лавку закроет, Васятка пол подметет, поднимется на кухню и говорит:
— Тетя Луша, делать-то чего? Дай подсоблю.
Печально сложилась у Луши жизнь. Сынок ее умер в пятилетнем возрасте, а муж в драке размозжил кому-то голову и был осужден на каторжные работы. У Ворониных она служила шестой год и прижилась. Бывало, посмотрит на Васятку, вспомнит про своего сынка, отвернется, вся слезами обливается. Васятка знал о ее тяжелой судьбе и утешал как мог.
Всю свою душу Луша вкладывала в Васятку — то сошьет ему рубаху, то свяжет теплые носки на зиму, накормит досыта, когда хозяев нет дома, припрячет для него сладкий пряник. Васятка платил той же привязанностью. Однажды он подошел к ней, посмотрел в лицо, потом вдруг рванулся, обнял за шею и поцеловал в щеку, а Луша сквозь слезы сказала:
— Сыночек, мне без тебя теперь жить никак нельзя.
Луша таила мечту, чтобы Вася лет этак за десять скопил деньжонки и открыл мануфактурную лавку, а она возьмет дом в свои руки и старость доживет не в людях, а как бы у себя. Но Вася разочаровал ее.
— Купца из меня не выйдет, — сказал он в ответ на ее предложение.
— Всю жизнь, что ли, в приказчиках?
— И приказчиком не буду.
Луша всплеснула руками. Она искренне считала, что о большем Васятке и не мечтать.
— Шутка ли сказать: своя лавка в торговом ряду!
— Не нужна она мне, тетя Луша.
— Как так не нужна? Тебе сам Фадей Фадеич мануфактуру в долг даст, без векселя на слово поверит.
— Не нужна, да и только.
— Чего же ты хочешь?
— Учиться.
— Ишь какой! Нешто Воронин шибко грамотный? Все счета в уме держит, аршин приложил, ножницами отрезал, а денежки в карман.
Вася безнадежно махнул рукой.
— Где тебе понимать, сынок, — не унималась Луша, — подрастешь, загоришься охоткой. Даром уговариваю.
Ночью Луша долго думала над ответом Васятки, пытаясь понять, почему он не тянется к богатой жизни, не хочет выбиться в купцы и зажить самостоятельно. Парнишка старательно работал, вел себя безукоризненно, и даже придирчивый Воронин не мог бы сказать о нем что-нибудь плохое. Такому бы дорога, а не хочет. Непонятна была Луше страстная и мятущаяся душа мальчика.
В шестнадцать лет Василий выглядел взрослым и не в меру серьезным. Третья дочь Фадея Фадеевича, Настенька, была старше Василия на год. С недавних пор она стала заглядываться на приказчика и делала это скрытно от всех, но не потому, что стыдно было признаться в том юноше, а потому, что боялась маменьки и папеньки, как называла родителей. Они не разрешали Настеньке показываться на кухне или сойти в лавку, но, живая и юркая, она ловко обманывала их, когда ей этого хотелось, и порхала по всем комнатам, залетая на минутку то на кухню, то в лавку.
И лицом и характером Настенька отличалась от сестер и даже от отца с матерью. О ней нельзя было сказать, что яблоко от яблони недалеко откатывается. «Не девка, а черт», — отзывались о Настеньке соседи, а Луша хорошо знала, что злые языки говорят: «Не Фадеича она дочка, а уж чья — догадываемся». Стройная и изящная, с золотыми локонами, свисавшими кольцами, с синими глазами и мелкими белыми зубами, она нравилась многим. Уж на что Василий был равнодушен к девчонкам, и то, увидев впервые Настеньку в длинном платье, залюбовался ею. Раньше он не выделял ее из среды таких же девчонок и никогда бы не подумал, что она может вызвать в нем интерес и даже какое-то особое волнение. Причесанная, как и сестры, у цирюльника, строгая, но с затаенным озорством в глазах, она выглядела красивой.
Как Настенька ни хитрила, но Лушу обмануть ей не удавалось. Чуткая Луша ревниво следила за хозяйской дочкой, боялась, что та украдет Васину привязанность. «А почему бы их не толкнуть друг к другу? — подумала она как-то трезво. — Хозяин отдаст ее за Василия, а его возьмет в компаньоны». Теперь Луша радовалась, что само счастье идет в руки Васятке.
— И до чего хороша Настенька, — как бы невзначай похвалила ее Луша, укладываясь спать.
Василий молчал.
— На тебя заглядывается, — добавила Луша, — все вижу.
— Мне-то что, — пробурчал Василий, — мне до нее дела нет.
— Ох, и не говори, Васятка, ни вот столечки не поверю, — и показала на кончик ногтя. — Чего тебе стыдиться? Настя не в сестер пошла. Те — дурехи, а она вон какая ягодка. И хороша и умна.
Василий продолжал молчать, боялся, — если заговорит, тут его Луша и заворожит. Настя ему очень нравилась, но внутренний стыд, свойственный юноше его возраста, не позволял ему в этом признаться даже самому себе, и он скорее дал бы себе отрубить палец, чем рассказать о своем чувстве к этой необыкновенной, как ему казалось, девушке. Их связывала тайна. Случилось так, что Настя однажды, крадучись, сошла на несколько ступенек по круглоспуску и, убедившись, что отца в лавке нет, а Вася, прикрыв руками книгу, украдкой читает, мгновенно очутилась внизу и ловко выхватила книгу.
— Отдайте, барышня, — строго попросил Василий.
Настя состроила презрительную гримасу.
— Я думала, что ты настоящий кавалер, — наигранно пристыдила она его.
Вася от удивления раскрыл глаза.
— Чего гляделки вылупил? — спросила она. — Как надела длинное платье, барышней стал меня величать и выкать. Брось, Васятка, не к лицу.
— Настя, богом прошу, уходи! Ненароком отец вернется — достанется мне.
Настя поняла, что Вася прав. Она бросила книгу на прилавок и внушительно сказала:
— Как закроешь лавку, приходи на угол Расстанной улицы, буду тебя ждать. Обманешь — пеняй на себя.
Вечером Василий нехотя вышел из дому и побрел к Расстанной улице, в конце которой стояла древняя часовенка купеческой богадельни. Кутаясь в ветхое пальтишко и пряча руки в карманы, он сетовал на себя всю дорогу, зачем идет на свидание. «Мы не пара, — размышлял он, — узнает ее папенька, и тогда делу конец: меня прогонит, а ее отлупит».
Настя в теплой шубейке, в высоких сапожках на шнурках и беленькой шапочке уже поджидала его, переминаясь с ноги на ногу. Увидя Василия, она рванулась к нему, безбоязненно взяла под руку и потащила по тихой и безлюдной улочке.
— Зачем звала? — спросил он, не поворачивая к ней головы.
— Будто не знаешь!
Настя остановилась, повернулась к Васе лицом и прижалась к его холодной щеке.
— Не балуй, не ровня ты мне. Я ведь только приказчик.
— Ну и что? — рассудительно возразила Настя. — Душно мне дома. Удрала бы с тобой куда глаза глядят.
— Ворованное счастье к добру не приводит.
— Что же мне делать? — прослезилась Настенька. — Рано или поздно руки на себя наложу. Мне вот учиться хочется, а маменька твердит, что детей рожать и без ума можно. «Я, говорит, неграмотная, а не жалуюсь. И ты так проживешь». — Она снова прильнула к нему, и он ощутил ее слезы на своих щеках.
— Не плачь, Настенька, — неуверенно пытался он ее успокоить, сознавая собственное бессилие, — слезами горю не поможешь. Ты папеньку уговори, — дескать, грамоту одну мало знать, надо наукам учиться.
— Говорила, а он твердит одно и то же: «Как маменька решит».
Они дошли до кладбища и возвратились. Из-за туч выплыла луна и осветила их слюдяным светом.
— Беги домой! — с трудом вымолвил он. — Хватится маменька, заглянет на кухню, догадается.
Положив свои руки на Васины плечи, она обвила их вокруг шеи, обдала его горячим дыханием и поцеловала в холодные губы. У Василия закружилась голова, но он нашел в себе силы незаметно отстранить от себя Настю.
— Беги, пока беда не стряслась, — прошептал он.
Она скорбно посмотрела ему в лицо и побежала.
После этого вечера Настя притихла, стала строже. Теперь она не носилась по комнатам, редко смеялась, каждую минуту тоскуя по Васе. Она готова была весь день убирать в лавке, лишь бы быть подле него, смотреть ему в глаза, шептать ласковые слова.
Василий не жалел о вечерней встрече у часовенки, ведь он первый раз в жизни изведал сладость поцелуя.
То ли Настя подсказала отцу, то ли сам Фадей Фадеевич, проникнувшись доверием к Василию за честную службу, сказал за утренним чаем в кругу семьи:
— Васю бы надо позвать на встречу Нового года.
Сойдя в лавку, Фадей Фадеевич по-обычному произнес:
— Поглядим, кого бог сегодня пошлет. — И неожиданно добавил: — Может, и никого. Кому охота теперь идти в лавку, когда кругом одни смутьяны.
— Это кто такие? — наивно спросил Василий.
— Которые против царя бунтуют.
— С чего это они, Фадей Фадеич?
— Вестимо чего хотят анархисты и антихристы.
Василий понял, о ком говорит купец.
…Полгода назад, когда в июльский день раздался оглушительный взрыв, Фадей Фадеевич всполошился, быстро закрыл конторку и сказал Василию:
— Нет, не с Петропавловской палит пушка. А ну-ка разведай, что случилось.
Василий стремглав выбежал из лавки и тут же столкнулся с Сеней.
— Где стреляют? — спросил возбужденный Сеня. — Пойдем узнаем!
Они побежали по Боровой улице до конца, пересекли железную дорогу, потом по Рыбинской к Обводному каналу. По Забалканскому проспекту скакали конные жандармы. Со стороны Варшавского вокзала шли люди и громко разговаривали. Василий и Сеня прислушались.
Через час ребята вернулись в лавки.
— Тебя за смертью только посылать, — сказал Фадей Фадеевич. — Совсем запропастился. Где был, что выведал?
— Министра убили, — с безразличием промолвил Василий.
— Господи, что же это делается! Среди белого дня! А какого министра?
— Какого-то Плеве.
— А убил-то кто?
— Студент. Фамилия его Сазонов, молодой, говорят…
С того дня прошло полгода. Ни Фадей Фадеевич, ни Василий не вспоминали про этот случай, а сейчас хозяин ни с того ни с сего заговорил о смутьянах.
— Этак и до нас доберутся, — произнес он, тяжело вздохнув. — Веселые дела пошли на Руси.
Посидев за конторкой с полчаса, он молчаливо проверил какие-то счета, потом поднялся, надел шубу, передал Василию ключ и наказал:
— Торгуй один, я приду к обеду. Конторку закрой, ключ спрячь в карман. — Он взялся за дверную ручку и остановился, словно вспомнил, что ему надо еще сказать. — Вечером заходи в столовую, будешь с нами справлять Новый год.
Василий остался в лавке один. Он мог продать любому покупателю отрез, а деньги присвоить, мог из конторки взять четвертную ассигнацию, но у него даже не возникала такая мысль. Не случайно Фадей Фадеевич бесконтрольно доверял ему кассу и товар, ведь к концу каждого года не было случая недостачи. Луша не сомневалась в честности Василия, но в душе не одобряла его, однако не посмела бы даже намекнуть на то, что, мол, Фадеич не обеднеет, если он, Васятка, утаит от хозяина часть дневной выручки, — знала, что Васятка потеряет к ней всякое уважение и любовь.
Сейчас Василия мучила одна мысль: про каких смутьянов говорил Фадеич? Если верить Сене, то в городе бунтуют рабочие, а уж если Сеня сказал, то это верно — парень всегда безошибочно знает, где что произошло. Невольно пришли на память строки из «Овода», которые так сильно взволновали его юношеское воображение, когда он читал:
«Всю дорогу он не переставал твердить себе, что с Оводом, вероятно, не случилось ничего особенного. Но чем основательнее рассуждал он в этом направлении, тем сильнее овладевала им уверенность в том, что несчастье случилось именно с Оводом.
— Я угадал, что случилось. Риварес взят, не так ли? — сказал он, входя к Джемме.
— Он арестован в прошлый четверг в Бризигелле. Он отчаянно защищался и ранил начальника отряда и шпиона. Вооруженное сопротивление! Дело плохо!»
«Вот таких, как Овод, Фадеич считает смутьянами, — думал Василий, стоя перед конторкой. — Что с купца спрашивать? Он о своем добре печется, а не о народе. Но где бунтуют и как?»
Все эти мысли не давали покоя Василию, который не сомневался, что Овод жил, бунтовал, мечтал о лучшей жизни для бедняков и был расстрелян. Закрыв глаза, он положил голову на конторку и представил себя Оводом. Вот он стоит под большим фиговым деревом у могилы, а перед ним полковник, его племянник — капитан, доктор, священник и карабинеры. Он смотрит гордо и решительно в сторону восходящего солнца. До него доносятся слова: «Готовься! Ружья на прицел! Пли!» В эту минуту Василий почувствовал, что чьи-то руки обняли его сзади. Он мгновенно открыл глаза и узнал руки Настеньки.
— Ты устал? — посочувствовала она.
— Нет, — поспешно ответил он, стараясь высвободиться из ее объятий.
— Не бойся, я ведь слышала, что говорил папенька, уходя из лавки. Новый год ты встретишь с нами, за столом будем сидеть рядом. — Крепко поцеловав его в обе щеки, она поспешно поднялась по круглоспуску.
Вечером Василий надел пиджак, купленный им весной, почистил сапоги ваксой, выпустил поверх голенищ брюки и пошел в столовую. Перед дверью робко остановился и, не будь поблизости Настеньки, убежал бы обратно на кухню.
Настя нетерпеливо поджидала Василия, бросая на дверь взгляды, и, когда он показался на пороге, мгновенно очутилась подле него.
— Вот и вы пришли наконец, — сказала она, плохо скрывая свое волнение, которое незаметно передалось ему.
В углу на столике играл граммофон. Из широкого раструба вылетал веселый марш, наполнявший столовую бравурными звуками. Кроме хозяина и хозяйки Василий увидел старших сестер Насти, еще двух купцов с женами и четырех молодых людей, одетых в модные костюмы. По комнате разносился запах дешевых духов — резеды и ландыша.
— Вальс! Вальс! — громко крикнул один из молодых гостей.
Стоявший у граммофона другой гость послушно снял доигранную пластинку и поставил новую. Настины сестры, подхваченные двумя кавалерами, закружились по направлению к гостиной, двери которой были широко раскрыты.
— Будешь танцевать? — спросила Настя сквозь шум у Василия.
— Не умею.
— Научу.
— Не срами перед людьми, не то уйду.
К Насте засеменил один из кавалеров.
— Анастасия Фадеевна, позвольте вас ангажировать на этот вальс, — произнес он сюсюкающим голосом.
Василий смутился от непонятного слова. Настя это почувствовала и, чтобы загладить его смущение, улыбнулась кавалеру:
— Познакомьтесь с моим родственником.
Кавалер без охоты протянул руку. Василий сжал ее так, что тот скривился от боли.
— Никакой я не родственник, а приказчик у Фадея Фадеича..
Теперь смутилась и покраснела Настя, но она быстро взяла себя в руки.
— Увольте, танцевать не буду.
Василий сразу почувствовал себя чужим среди этих людей и пожалел, что согласился прийти. «Уж как-нибудь досижу до полуночи, — решил он, — а потом скроюсь». Граммофон непрерывно извергал хриплые звуки вальсов и мазурок. Настины сестры, меняя кавалеров, без устали кружились, потом Настя, усадив Василия в мягкое кресло, покрытое чехлом, тоже пошла танцевать. Время незаметно летело. В столовой Луша накрывала на стол и часто бросала счастливые взгляды на Васятку. За несколько минут до двенадцати Фадей Фадеевич, одетый в черный широкополый сюртук, вошел в гостиную, хлопнул несколько раз в ладоши и громко сказал:
— Молодые люди, прошу к столу!
Все бросились в столовую. Настя, увлекая за собой Василия, поспешила занять свое обычное место и усадила его рядом, а он смущенно прятал руки и не знал, что с ними делать. Белоснежная скатерть, салфетки, сверкавшие вилки, ножи и ложки, тарелки с золотой каймой, графины с вином и водкой, черная икра, пироги, расстегаи, осетрина и другие яства смущали его.
Фадей Фадеевич разлил в бокалы вино, в стопки водку и, стоя перед столом, держал в левой руке золотые часы, извлеченные из жилетного кармашка, а правой тихонько помахивал, отсчитывая последние секунды. Наконец он спрятал часы, поднял бокал и торжественно произнес:
— С Новым годом! С новым счастьем!
Тонкий звон стекла затенькал над праздничным столом.
— С Новым годом, Фадей Фадеич! — закричали купцы.
— С Новым годом! — поддержали их жены.
Фадей Фадеевич осушил бокал, вытер губы салфеткой и, положив на свою тарелку изрядный кусок холодного поросенка под хреном, сказал:
— Дай бог, чтобы тысяча девятьсот пятый год был лучше минувшего. С японцами скоро замиримся, жизнь пойдет по-старому. Унять бы только смутьянов.
Незадолго до Нового года на юге России сверкнула предгрозовая молния, предвещая бурю. В Баку — городе нефти, где скопились тысячи бездомных людей, бежавших с Поволжья от засухи и голода, вспыхнули заразные болезни. В эти же дни в Сабунчи, Сураханах и в Черном городе забастовали рабочие, требуя заключить коллективный договор между ними и нефтепромышленниками. В Балахнах казачий разъезд был окружен рабочими, которые стали его теснить и забрасывать камнями. На выручку подоспела полусотня казаков, открывшая огонь. В Биби-Эйбате бастующие напали на полицейских и избили их.
Стачка закончилась победой рабочих, и весть об этом побежала по проводам всей России.
В Саратове запасные солдаты учинили разгром на Цыганской улице в гостинице Митрофанова. Пристав приготовился отправиться к бунтовщикам, но получил сведения, что на Александровской улице в трактире Макарова солдаты тоже бьют стекла и двери. Прискакал он на Александровскую улицу в сопровождении двух казаков. Солдаты, увидев казаков, яростно набросились на них, стащили одного с коня и избили до полусмерти. Другой казак и пристав ускакали.
В Екатеринославское управление полиции явился молодой человек и попросил свидания с полицеймейстером Малишевским. Полицеймейстер вышел в приемную, приблизился к молодому человеку. «Чем могу служить?» — спросил он. Неизвестный выхватил из кармана револьвер и выстрелил в упор, но промахнулся и бросился бежать. Его поймали. Он назвал себя Иваницким-Василеико и заявил, что мстил Малишевскому за усмирение рабочих на Брянском заводе в 1903 году.
В Смоленске под Новый год неизвестные из пушки произвели два выстрела по дому губернатора Звегинцова. Стрелявшие не знали, что губернатор за три дня до этого уехал с семьей в Петербург.
В эти же дни в Петербурге на Путиловском заводе, где исподволь зрело недовольство администрацией, произошло небольшое событие, разросшееся за три недели в массовую стачку петербургских рабочих. Мастер Путиловского завода Тетявкин уволил четырех рабочих — Сергунина, Субботина, Уколова и Федорова — за участие в гапоновском обществе. Не так давно поп Гапон, с разрешения полицейских властей, создал в столице общество фабрично-заводских рабочих, истинной целью которого было отвлечь их от революционной борьбы с самодержавием. В ответ на увольнение рабочих путиловцы забастовали и направили делегатов к директору Смирнову с требованием принять их. Смирнов отказался. Тогда сам Гапон отправился к градоначальнику Фулону, но тоже ничего не добился.
Спустя неделю экстренное совещание членов гапоновского общества приняло ряд решений: во-первых, заявить через градоначальника правительству, что отношение труда и капитала в России ненормально; во-вторых, удалить мастера Тетявкина с завода; в-третьих, принять обратно уволенных рабочих.
«Если эти требования не будут удовлетворены, — писали рабочие, — то мы не ручаемся за спокойное течение жизни города».
Смирнов продолжал упрямствовать.
После Нового года требования рабочих возросли: восьмичасовой рабочий день, работа в три смены, отмена сверхурочных, повышение заработной платы.
Четвертого января к путиловцам примкнули 2500 рабочих франко-русского завода, пятого забастовали уже 6 фабрик — 26 тысяч рабочих, а восьмого — 456 фабрик и заводов — 150 тысяч. Во всех чайных и трактирах — митинги, собрания, все выступают, голосят, требуют. В столице рокочет людское море, не утихая до поздней ночи. Буржуазия, купцы, чиновники и мещане притаились — что день грядущий им готовит? Был канун воскресного дня, и все знали, что утром Гапон поведет к Зимнему дворцу рабочих, которые будут жаловаться царю на тяжелую жизнь.
А тут еще неутешительные вести с театра военных действий на Дальнем Востоке. Крепость Порт-Артур, на которую Россия потратила в течение шести лет владения сотни миллионов рублей и хвалилась ее неприступностью, капитулировала. Генерал Стессель сдал ее японцам в ночь под Новый год. Балтийская эскадра, посланная на помощь осажденному Порт-Артуру, бездействовала вблизи Мадагаскара из-за отсутствия топлива, которого не хотели давать в иностранных портах русским кораблям. Когда же эскадра беспечно приблизилась к Цусимскому проливу, то на нее напал японский флот и разбил ее.
Каждый час приносил новые события. Забастовали рабочие арсенала, машиностроительного заводи «Феникс», Невской ниточной мануфактуры, чугунолитейного Пульмана, Старо-Сампсониевской фабрики, В морозный день шестого января, во время крещенского водосвятия на Неве, в честь рождения наследника Алексея одна из салютовавших пушек выстрелила по направлению к Иордани картечью, а не холостым зарядом. Что творилось! Министр внутренних дел Святополк-Мирский, сменивший убитого Плеве, испугался и два дня не выходил из дому.
В субботу днем рабочие узнали, что Гапон написал письмо Святополк-Мирскому и имел с ним свидание. Кто-то пустил слух, что Гапон провокатор, но к вечеру слух замер, потому что митрополит Антоний наложил на Гапона епитимью за то, что он возбуждает народ в тяжелое время. Ночью стало известно, что утром состоится манифестация.
Василий знал, что питерские рабочие бастуют, но в присутствии хозяина делал вид, что ему совершенно безразлично, что происходит и чем забастовка кончится. Он не вмешивался в разговоры хозяина с купцами, глядя на них с поддельным равнодушием.
— Всех бы смутьянов под ноготь, Фадей Фадеич, — говорил купец Моргунов, один из тех, кто был у Воронина на встрече Нового года, — иначе петрушка завертится. Помяните мое слово: товары в цене падут, и нам, купцам, полное разорение.
— В торговле застой, — соглашался Фадей Фадеевич. — Под ноготь можно взять десять, двадцать, даже сто смутьянов, но виданное ли дело, чтобы тыщи, десятки тысяч бастовали? Какой убыток заводчикам! Мильоны рублей! Ми-льо-ны!
— Я и говорю, что церемонятся. Гапона бы в кутузку, сто аспидов огреть розгами, сто на каторгу — все притихнут. И торговля пойдет своим чередом. Иначе всему торговому классу разорение. Чего бастуют, окаянные? Хлеба, что ли, у них нет? Прибавки хотите? Так говорите по-человечески с хозяевами. Кто может, тот даст. А то забастовка! Тьфу!
— Это дело тонкое, — возразил Фадей Фадеевич, — тут и фабриканты не без греха. Не надо доводить людей, чтобы бросали работу среди белого дня. Умный фабрикант знает, когда подбросить надбавочку к празднику, кого улестить, а кому и пригрозить, а они всех рабочих под машинку нулевым номером стригут. Теперь же сами страдают, и нам же накладно.
Василий слушал и рассуждал: «Моргунов просто слизняк, а Фадей Фадеич хитер. Умом понимает, что фабриканты виноваты, но юлит, о себе печется».
Про смуты знала и Настенька, но для нее это было чем-то далеким и совершенно непонятным. Луша была в растерянности: рабочих жалко, помочь им надо, но стрелять в господ и бунтовать не дозволено.
Сеня рассуждал прямолинейно, с точки зрения своих маленьких личных интересов.
— Нам с тобою никакой выгоды, — доказывал он Василию. — Будут рабочие бастовать аль не будут — нам хозяева надбавки не дадут. Даже испортили дело. Мой хозяин так сказал: «Кабы не эти аспиды — торговля пошла бы в гору и тебе с Нового года дал бы надбавку, а теперь вот что остается» — и показал кукиш.
— А ты, дурак, ему веришь? — иронически пожурил Василий. — Твой Асмолов — паук, копейку никому не уступит, а еще о надбавке говорит.
— Твой Фадеич, думаешь, лучше? — словно заступаясь за Асмолова, спросил Сеня.
— Одним миром мазаны, но только мой с царем в голове, а твой глуп как баран. Фадеичу тоже жалко расставаться с рублем, но он его легко подарит, если знает, что ему рубль обратно пользу даст.
Сеня не понимал тонкостей купеческой политики. Он только мечтал о том, чтобы немножечко разбогатеть, и верил, что когда-нибудь и на его долю-достанется клад или завещание.
— Повезло же Эдмонду Дантесу, и он стал мильонщиком.
— Это графу Монте-Кристо? — с презрительной усмешкой бросил ему Василий. — Дурак! Вот я имею клад и не ищу другого.
— Смеешься?!
— Чего смеюсь? Помнишь, как познакомились? За пять лет руки у меня поздоровели. Давай подеремся. Мой клад — сила.
Сеня неопределенно кивнул головой, повернулся и пошел прочь.
Девятого января термометр показал по Цельсию в Петербурге 18 градусов ниже нуля. Ни с Невы, ни с суши ветер не дул. Мороз стоял сухой, приятный. Обычно в воскресный день именитые дворяне выезжали на Невский проспект к полудню в красивых саночках, запряженных орловскими рысаками Хреновского завода. Блестящие в яблоках красавцы, с подстриженными челками, шелковистой гривой и пушистыми хвостами, вызывали изумление у прохожих. Кучера умелые, знали, когда собрать свою волю в один комок и бросить ее по вожжам в стальные удила. Народ на тротуарах от Дворцовой до Знаменской площади стоит, дивится. Кто завидует, кто любопытствует, кто злится. Но сегодня на Невском — гробовая тишина.
Сегодня шумно на окраинах. Больше всего рабочие собираются на Шлиссельбургском тракте, у Нарвской заставы, Преображенского кладбища, на Васильевском острове, Петергофском шоссе, у Троицкого и Сампсониевского мостов.
С раннего утра Василий был уже на ногах. Луша напоила его чаем и, зная, что он собирается на улицу, предупредила:
— Дальше ворот не ходи!
На улице обычная воскресная тишина, — впрочем, Боровая улица, на которой жил Воронин, не отличалась шумом и в будничные дни. Василий вышел на Лубенскую улицу и у водочного завода свернул к Обводному каналу. Здесь он увидел солдат, стоявших шпалерами. Ощетинившиеся штыки вызвали в нем страх и в то же время трепет восхищения перед войсками.
— Назад, малец! — донесся до него громкий оклик.
Василий на мгновение остановился в раздумье, потом пошел вперед. Навстречу ему спешил молодой офицер:
— Сказано, назад!
— Дозвольте дойти до Лейхтенбергской улицы, маменька дожидается, — соврал Василий.
Офицер не воспротивился:
— Иди, но быстрей!
На Петергофском проспекте тоже стояли войска. Василий свернул налево и очутился у Нарвской заставы, где собирались рабочие. Здесь можно было встретить двадцатилетних парней и бородатых рабочих. Все были одеты празднично, у женщин на руках дети. Подростков и юношей много. Гапон внушил всем, что из Зимнего дворца выйдет сам царь-батюшка и рабочие вручат ему петицию. Где им было знать, что Гапон нагло лжет? Николай II давно укрылся в Царскосельском дворце, приказав своему дяде князю Владимиру отстранить полицию, принять на себя командование войсками и усмирить бунтовщиков.
В толпе показался священник с непокрытой головой, бледным болезненным лицом, на котором лихорадочно горели глаза. Василий догадался, что это Гапон.
— Георгий Аполлонович, — обратился к нему солидный мужчина в черном зимнем пальто с дешевым барашковым воротником, — не пора ли выносить хоругви?
— Обязательно, — ответил окая Гапон. — Уже много собралось, — добавил он, довольный поддержкой рабочих, — тысяч пять.
Он все время озирался, словно опасался, что в толпе может оказаться человек, который выступит перед рабочими и опозорит или разоблачит его. Он подходил то к одной, то к другой группе рабочих и как-то подбадривал их. На лице ни улыбки, ни хмурости, а лишь торжественная приподнятость, какая обычно сопровождает человека при свержении им какого-либо великого исторического акта.
Через несколько минут из Тентелевской церкви принесли хоругви, кресты, иконы. К Гапону подошли несколько рабочих с красочным портретом царя в золоченой раме.
— Хорошо, очень хорошо, — живо и одобрительно заметил Гапон. — С портретом царя попрошу вперед!
В двухстах шагах от Гапона на принесенную кем-то табуретку поднялся человек, снял каракулевую шапку и помахал ею над рабочими, обступившими его тесным кольцом.
— Это кто? — спросил Гапон, не глядя в сторону оратора.
— Инженер нашего завода, эсер Рутенберг, — ответил путиловец.
Гапон отвернулся.
Василий приблизился к путиловскому инженеру, а тот уже начал говорить, и до Василия доносились только те слова, которые Рутенберг ясно и не спеша произносил своим сильным голосом:
— Куда вы идете? Ведь это безумство! Все подступы к Дворцовой площади заняты войсками. Солдаты — не городовые. Им прикажут, скомандуют — и они будут стрелять.
— Заладила сорока Якова, — крикнули в толпе.
— Хотите идти? — спросил Рутенберг и собрался продолжать свою речь, но его перебили десятки голосов:
— Пойдем!
— Ну и с богом! — сердито бросил Рутенберг, сошел с табуретки и, пробираясь сквозь густую толпу, скрылся.
Кто-то запел молитву, ее подхватили десятки голосов, потом сотни. Голоса звучали стройно.
Василий, ошеломленный торжественностью, готов был подойти к рабочим, расспросить, зачем они идут на Дворцовую площадь, и стать рядом с ними, но мешала робость и внутренняя скованность. «Не буду спрашивать, а пойду за ними сторонкой», — решил он. И вдруг произошло то, чего ни он, ни кто другой не ожидал. Появившийся у Нарвских ворот эскадрон драгун с обнаженными шашками врезался в толпу. Раздались крики, детский плач, но рабочие не смутились, замкнули брешь и, построившись рядами, двинулись по улице. Эскадрон возвратился, вторично врезался в толпу, но уже сзади. В морозном воздухе, как предостерегающий клич, заиграл рожок, вслед за ним раздался залп. Многие упали, беспомощно размахивая руками. Снег обагрился кровью.
Василий шарахнулся в сторону. Он видел, как стреляли солдаты, падали люди. В исступленном оцепенении он взбежал на Новокаменный мост, пересек Обводный канал и бросился по Садовой улице к Невскому проспекту. Юркий, он ужом извивался среди шедших к Дворцовой площади. И здесь он услышал рассказы людей, прибежавших с Васильевского острова и со Шлиссельбурге кого тракта.
— На Невской заставе нас встретили казаки, — задыхаясь от бега, рассказывал рабочий лет тридцати, все время подергивавший правым плечом, будто собирался кого-то подсадить, — стали теснить, сбивать с ног, топтать. Куда податься? Перед нами забор. Будь что будет. Мы на него. Повалили — и прямо на лед Невы. Дворами и окольными улицами прибежал сюда. Братцы! — вдруг взмолился он. — Что же это делается? А где отец Гапон?
— Идет с Нарвской заставы, — крикнули в толпе.
В толпу врезался с оторванными карманами на пальто и со съехавшей набок ушанкой рабочий и упал на снег. Его подняли.
— Откуда? — спросили у него.
— С Васильевского острова, — заплетающимся языком ответил рабочий. — Солдаты стреляют, убитых хватит на целое кладбище.
Растерянность и уныние охватили демонстрантов. Никто не знал, что делать. Вдруг кто-то крикнул:
— Гапон ведет людей!
По Садовой улице и Невскому проспекту шли рабочие. Они несли портрет царя, хоругви, кресты и иконы. Толпа расступилась, чтобы дать пройти священнику, а потом сомкнулась, и по широкому проспекту полилось человеческое море, впитывая в себя все новые и новые людские потоки. Стоявшие на углу Садовой улицы и Невского проспекта солдаты при виде портрета царя, икон и крестов отошли, и люди двинулись к Зимнему дворцу. На Дворцовой площади уже давно стояла многотысячная толпа в ожидании Гапона. Вокруг площади и в центре ее, у Александровской колонны, — кавалерия. Шаг за шагом кавалеристы настойчиво отжимали толпу к решетке Летнего сада и к зданию Адмиралтейства.
Когда рабочие вступили на площадь, раздался сигнал горниста, который был воспринят как начало предстоящего торжества — встречи царя с народом. Горн замолк, но тут же раздался ружейный залп. Шедшие впереди зашатались, портрет царя повалился на снег. Тяжелые сапоги упавшего замертво рабочего легли на раскрашенное лицо царя. Первые ряды остановились, подались назад, но толпа, напирая, несла их вперед, а залпы не прекращались. Щелкали ружейные затворы — и снова залп. Кто падал навзничь, кто лицом в снег, кто ползал на коленях. Люди топтались на месте, потом волна понесла их в разные стороны. Над Дворцовой площадью смешались в морозном воздухе проклятия, плач, стоны и выстрелы.
— Убийцы! Палачи! От японцев бегаете, а в своих стреляете! — несся крик по всей площади.
Василий с трудом пробрался к зданию штаба в створчатый портал, но здесь его сжала бежавшая толпа. Рядом с ним очутилась молодая женщина в белом полушалке, с ребенком на руках. Глаза на ее худом лице горели безумным блеском. «Задушат его!» — кричала она исступленно. Схватив женщину под руку, Василий увлек ее через портал на Мойку. Здесь она побежала вдоль канала. Василий посмотрел ей вслед. Он увидел, как она остановилась, поднесла к своему лицу ребенка, приподняла край одеяльца и дико закричала. Ужас охватил Василия.
Ночь Василий провел беспокойно. Перед ним маячила высокая Александровская колонна, каменные лица солдат, бегущие люди. Они падали, силились подняться, их гнал животный страх. Они проклинали Гапона, царя, солдат. Василий как в ознобе съежился, вспоминая события дня. Тоскливая и бессильная злоба не покидала его. Лоб покрылся холодной испариной. Хотелось пить, но не хватало сил подняться, а звать Лушу было совестно. Только на рассвете он уснул тяжелым сном.
Луша поднялась по-обычному рано и удивилась, что Василий еще спит. Она подошла к сундуку, на котором он теперь еле умещался, согнув ноги в коленях, и увидела его пылающие щеки. Дотронулась до лба — горячий. «Надо лавку открывать», — подумала она и решила его разбудить, но в эту минуту в приоткрывшуюся дверь просунулась голова Насти.
— Луша, — прошептала она, — папенька наказывал не открывать сегодня лавку. А Вася-то еще спит?
— Спит, да весь горит.
— Заболел? — испугалась Настя и, войдя в халатике на кухню, подошла на цыпочках к сундуку и взглянула на лицо Василия. И вдруг засовестилась за отца, который равнодушно смотрел на то, как живет Василий, не имея своего угла. На глазах у нее показались слезы, она поспешила уйти.
Василий проснулся только днем с головной болью. Луша подошла к нему.
— Занемог? — спросила она участливо.
Он посмотрел на нее широко раскрытыми глазами.
— Тихо на улице?
— Лежи, — прикрикнула Луша, — наказывала вчера не ходить, а ты свое. Вырос, небось самостоятельный, теперь мое слово для тебя не закон. Лежи!
— Голова болит, а тело крепкое.
Василий поднялся, оделся и подошел к миске умыться. Луша слила ему из кружки. Потом он поел и сразу почувствовал облегчение. Он вспомнил, что со вчерашнего утра у него во рту не было и маковой росинки.
— Настенька приходила, — таинственно прошептала Луша, — хозяин наказал не открывать сегодня лавку.
— Да ну их всех к лешему.
— Что с тобой, Вася? Ошалел, что ли?
Василий с трудом улыбнулся, желая загладить свою вину:
— Кабы ты своими глазами поглядела то, что я вчера видел, — возненавидела бы лавку, купцов, попов и самого царя.
— Не нами они выдуманы, не нам их менять.
— Значит, так до гроба будем жить?
— Зачем же? Вот ты, к примеру, приказчик, а можешь стать купцом.
— Я да купцом? — возмущенно перебил Василий, — Пропади все пропадом… Людей-то сколько перебили вчера! Сколько сирот и вдов останется!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Настя тяжело переживала равнодушие Василия, но мириться с этим не хотела. «Не мытьем, так катаньем, но я привяжу его к себе», — думала она, уверяя себя в том, что Василий с годами смирится, полюбит ее и тогда они поженятся. И вместе с тем не могла представить себе, как Василий будет жить в их доме со вздорной маменькой и сестрами.
При всяком удобном случае она спускалась в лавку и слезно просила свидания. Василий был неумолим. И вот однажды, когда она, стоя у конторки, бросила резкое слово Василию, в лавку вошел тот самый молодой человек, который под Новый год так жеманно пригласил Настю танцевать. Василий узнал его и подумал: «Вот такого ферта не жаль пугнуть». Опираясь пальцами на край прилавка, он с презрением посмотрел на него, меж тем как Настя, изменившись в лице, гордо спросила:
— Какими судьбами, Геннадий Ардальонович?
— Шел мимо, дай, думаю, зайду, — ответил он, галантно расшаркиваясь перед Настей.
— У нас через лавку хода нет в квартиру, — заметил Василий.
— Не в свое корыто не суйся, — огрызнулся Геннадий Ардальонович.
— Много ли корысти в таком корыте, — покачал головой Василий.
— Хам, не с тобой пришел разговаривать.
Василий вышел из-за прилавка и приблизился к Геннадию Ардальоновичу:
— Эй ты, погремушка, гляди, как бы я тебя не вышвырнул на улицу.
Лицо у Геннадия Ардальоновича перекосилось и покрылось пятнами. Настя с чертовским весельем смотрела то на него, то на Василия, но не вмешивалась. Никогда она не видела Василия таким сердитым.
— Я… я расскажу Фадею Фадеевичу, и ты… ты вылетишь вон, — заикаясь пригрозил Геннадий Ардальонович.
Василий без слов повернул Геннадия Ардальоновича к себе спиной, ухватил правой рукой за меховой воротник, подтолкнул без труда к двери и, открыв ее, вытолкал непрошеного гостя, дав хорошего пинка коленом.
Настя, сдерживая смех, выскочила из-за конторки, подбежала к Василию и, не дав ему опомниться, быстро поцеловала в щеку.
— Ловко ты его отделал.
— Иди к себе наверх! — строго сказал Василий. — Все вы одного поля ягоды.
Настя мгновенно преобразилась. Ее лицо сразу приняло независимый вид, и она, напустив на себя строгость, певуче произнесла:
— Ты со мною помягче, я могу коготки показать.
— Идите из лавки, барышня, — деловым тоном предложил Василий, — иначе папеньке скажу, что мешаете работать.
Настя промолчала и, высоко задрав голову, поднялась по лестнице в квартиру.
Сеня забежал в лавку и, убедившись, что хозяина нет, таинственно сообщил Василию:
— Нашел такую бумажку, что беспременно в полицию надо отнести.
Василий впился глазами в крупные печатные буквы и читал вслух:
— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Граждане! Вчера вы видели зверства самодержавного правительства! Видели кровь, залившую улицы! Видели сотни убитых борцов за рабочее дело, видели смерть, слышали стоны раненых женщин и беззащитных детей! Кровь и мозги рабочих забрызгали мостовую, мощенную их же руками. Кто же направил войско, ружья и пули в рабочую грудь? — Царь, великие князья, министры, генералы и придворная сволочь.
Они — убийцы! — смерть им! К оружию, товарищи, захватывайте арсеналы, оружейные склады и оружейные магазины. Разносите, товарищи, тюрьмы, освобождайте борцов за свободу. Расшибайте жандармские и полицейские управления и все казенные учреждения. Свергнем царское правительство, поставим свое. Да здравствует революция, да здравствует учредительное собрание народных представителей! — Российская социал-демократическая рабочая партия».
— Кто тебе сказал, что листовку надо отнести в полицию? — спросил Василий, еще больше озлобясь после стычки с Геннадием Ардальоновичем и Настей.
Сеня мямлил. Василий посмотрел на него недобрым взглядом, сложил листовку вчетверо и, спрятав в карман, сказал:
— Дурак! Принесешь, а тебя спросят, где взял. Начнешь мэкать, и тебя сразу сцапают да в кутузку. Не рад будешь.
— Чего кричишь? — испуганно отступил Сеня. — Нешто сам не понимаю? Надо ее на забор наклеить.
— Завтра ночью наклеишь, а сегодня я еще раз ее почитаю.
Оставшись один, Василий подошел к конторке, положил на нее локти и уперся руками в лицо. Так он любил думать. «Неужели можно жить без царя? — размышлял он. — В листовке так и написано — правительство поставим свое. Это не про меня думают: я еще молод и не рабочий, а только приказчик у купца второй гильдии. Неужели же рабочие, которых я видел у Нарвской заставы, смогут управлять, как царь со своими министрами?» Все перемешалось в голове, и трудно было решить этот вопрос, но неожиданно у Василия мелькнула мысль: «Почему бы не пожить без царя, — может, без него и лучше». Даже злость его взяла, что не с кем поговорить, разузнать. «Надо бросить лавку и уйти на завод. Руки у меня крепкие — работы не боюсь, а на заводе сразу пойму, что к чему». Но тут же возникли новые сомнения — где жить, кормиться? «Неужели Фадей Фадеич не позволит остаться на кухне?»
Мысли Василия были прерваны приходом хозяина. Он направился прямо к конторке. Василий уступил место и отошел к прилавку. Хозяин открыл конторку, долго рылся в счетах и лукаво спросил:
— Зачем с благородными людьми задираешься?
— Это вы про кого, Фадей Фадеич?
— Ну хотя бы с Геннадием Ардальоновичем.
— Не задирался я с ним, — спокойно ответил Василий, — взял за загривок и вышвырнул на улицу. А больше ничего. У меня на полках товар, в конторке деньги, мне за все отвечать. Я никому не позволю в лавке своевольничать.
Фадей Фадеевич заинтересованно слушал.
— Мне Геннадий Ардальонович говорил иное.
— Так вы позовите его, я уступлю ему мое место.
— Это ты брось, я тебя не отпущу.
— Так не корите. И без Геннадия Ардальоновича тошно жить.
Хозяин с удивлением посмотрел на Василия. Он привык к тому, что перед ним всегда стоял послушный деревенский парень, а он, Воронин, его благодетель.
— Надбавку хочешь? — догадался Фадей Фадеевич.
Василий не ответил и отвернулся. В эту минуту хозяин понял, что Василию пора занять иное место, а отношение всей семьи к нему должно измениться. Вовек не найти такого преданного приказчика. По существу, он управляет всей лавкой, ведет счета и переписку, распоряжается бесконтрольно деньгами, а честность его фанатична. Родной сын так не вел бы дело отца, а норовил бы присвоить малую толику денег. «Не парень, а клад», — подумал Фадей Фадеевич и добавил:
— Чего молчишь? Может, у тебя другой какой гнет? Сдается мне, что ты на Настеньку засматриваешься.
— Ни к чему эти разговоры, — ответил Василий. — Что Настасья Фадеевна мне нравится — не таю, но мы не пара.
— Зря! Мне ты люб. Из тебя через пяток лет купец на славу выйдет.
Такого разговора Василий не ожидал. Вот бы Луше услышать эту речь! И льстить не надо, а только низко поклониться и поблагодарить благодетеля, что судьбе угодно было улыбнуться ему, деревенскому парню. А дома-то как обрадуются отец с матерью, по всей деревне говорить будут: «Васька-то, гляди, купцом заделался, барином по Питеру ходит». Но в эту минуту перед глазами возникла Дворцовая площадь с грозной колонной, и ненависть, словно тошнота, подступила к горлу.
— Не быть тому, Фадей Фадеич. Настасья Фадеевна сама по себе, а я сам по себе. Она необыкновенная барышня, большого, можно сказать, ума, даже таланта. Дайте ей волю в науках — не пожалеете.
Таких речей Фадей Фадеевич не слышал. Сколько приказчиков встречал на своем веку — все норовили обмануть хозяина, обсчитать, утаить. У всех подобострастие в лице, готовы стоять на задних лапках. А этот горд, копейки лишней не возьмет, да и не радуется тому, что за него могут отдать красивую купеческую дочь с приданым. «Что бы это могло быть?» — удивился Фадей Фадеевич и спросил:
— Почему не о себе заботишься, а о Настеньке?
Василий обрадовался неожиданному случаю объясниться с хозяином начистоту.
— Не все люди на один манер, — ответил он, — кто во сне видит себя купцом, кто зарится на хозяйские деньги. А мне ни того, ни другого не надо. Учиться бы мне, да денег за меня никто платить не станет. Через год пойду на фабрику рабочим. Про меня и весь сказ. А Настасье Фадеевне беспременно помогите, вы ей родитель, у вас деньги есть.
— Про Настеньку — это особая статья. Может, ты и прав, но моя Гликерия Филипповна — баба капризная. Мне с ней совладать труднее, чем с чертом. Вот тебя я не понимаю. Неужели на фабрике лучше, чем у меня? Волю я тебе дал полную, доверие мое ты оправдал — и я к тебе с почетом, хотя тебе только семнадцать годов. Опять же в дом хочу тебя взять на полных правах и комнату выделить.
— Не надо мне, Фадей Фадеич, в ваши покои идти, я от Луши не уйду.
— Она тебе не мать.
— Зато я у нее в долгу.
Фадей Фадеевич молча пошел к лестнице. Взойдя на несколько ступенек, он обернулся и пробасил:
— Я тебе сказал все, а ты делай как знаешь.
Весной в доме Воронина появился студент, приглашенный для занятий с Настей. Если он проходил в квартиру через лавку, то Василий, как бы ни был занят, неизменно приветствовал его первый и вежливо приглашал:
— Милости просим, Николай Николаевич!
Студент в свою очередь снимал фуражку и отвечал:
— Благодарствую!
Занятия настолько увлекли Настю, что она теперь редко тревожила Василия. Она не догадывалась, почему отец наперекор матери неожиданно решил обучать ее наукам и пригласил студента, которого ему рекомендовали как вполне благонадежного человека. О разговоре Василия с ее отцом она не знала. Когда Настя проходила через лавку на улицу или домой, Василий старался ее не замечать. Это злило ее, она готова была надерзить ему, но в присутствии покупателей не решалась.
По воскресным дням Василий уходил из дому. Никто не знал, что он посещает Пушкинскую библиотеку на углу Рузовской улицы и Обводного канала и читает там книги. Больше всего ему нравились «Князь Серебряный» А. Толстого и «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» Нарежного. Не раз он пытался заговорить с Николаем Николаевичем о чтении книг и о своем желании учиться, но не хватало смелости. Прошло несколько месяцев, и только осенью, воспользовавшись случаем, когда в лавке никого не было, рискнул остановить студента.
— Осмелюсь спросить у вас, Николай Николаевич, каковы успехи Настасьи Фадеевны?
Студент добродушно посмотрел на Василия:
— Ex nihilo nihil!
— Это как же понимать? — с оттенком удивления спросил Василий.
— В прямом смысле.
Лицо Василия выразило растерянность.
— Прошу не гневаться, Николай Николаевич, но я своим умишком не понял ваших немецких слов.
— Это латынь, молодой человек. Ex nihilo nihil означает: из ничего не выйдет ничего.
Василию показалось, что его ударили обухом по голове.
— Неужели же наша барышня неспособная?
— Да, молодой человек, nuda veritas — голая истина!
— А я-то думал…
— О sancta simplicitas! О святая простота! — воскликнул студент и тут же перешел на прозаический язык: — Мамзель годится для танцев и иных мирских утешений, или, как сказал поэт, рожденный ползать — летать не может.
— Осмелюсь возразить, Николай Николаевич. По-вашему выходит, — и здесь он ответил студенту в тон, — не в свои сани не садись.
— Хотя бы так.
— Не согласен, — решительно возразил Василий. — Настасья Фадеевна не в счет, могла быть ошибочка. В торговом деле, к примеру, это часто случается. Но ежели я, по вашему уразумению, рожден мужиком, то мне науки вовек не освоить? Значит, рабочий министром стать не может?
— Допустим! — неопределенно пожал плечами студент.
— Уж вы нашего брата к себе не допустите, — с укором сказал Василий, — над купеческими дочками смеетесь, а чем они хуже вас? Рабочие когда-нибудь все поставят на место.
Последние слова он произнес негромко и даже нерешительно, но с надеждой. В столице и во всей стране было неспокойно, министра Святополк-Мирского уволили, назначили Булыгина, войну с Японией закончили позорным миром, Каляев бросил бомбу в дядю царя, великого князя Сергея Александровича, полиция охотилась за революционерами. Студент не мог принести вреда ему, Василию, но не хотелось выдавать своих мыслей — такой разболтает повсюду, дескать, у купца Воронина молодой приказчик крамольные речи ведет.
Николай Николаевич многозначительно посмотрел на Василия и, посвистывая, вышел из лавки на улицу.
С того дня он все чаще приходил к Ворониным через лавку и нередко сам произносил первый:
— Желаю здравствовать, молодой человек!
Василий чувствовал в этом приветствии легкую насмешку, но неизменно был вежлив:
— Милости просим, Николай Николаевич!
В сентябре девятьсот пятого года до Петербурга докатилось эхо московской забастовки. Начали ее печатники, их поддержали железнодорожники, а за ними потянулись все рабочие. Движение поездов прекратилось. К бастующим присоединились инженеры, врачи, учителя, адвокаты, студенты. В октябре вся страна забурлила гигантским потоком, грозя прорвать плотины самодержавия. Царь издал манифест, обещая всем свободу слова, совести и собраний и даже Государственную думу с народными депутатами. Но народ терял веру в того, кто безжалостно приказал расстреливать рабочих девятого января. Распевали и песенку:
Царь испугался, издал манифест: мертвым свобода, живых — под арест.В городах возникали советы рабочих депутатов. Сильнее других городов бурлила Москва. Толковали, что скоро перестанут печь хлеб, начнется голод, что рабочие грозят разрушить машины в Рублеве и в Мытищах и тогда Москва останется без воды. Почтово-телеграфные служащие потребовали уволить управляющего министерством внутренних дел Дурново и вынесли постановление, в котором указали: «Министр-провокатор не должен иметь влияние на управление свободой России». Дурново в ответ предупредил, что служащие будут уволены, если не возобновят работу. Москвичи не испугались. Забастовали банщики, мыться стало негде. В Химках неизвестные сожгли дачу Стадницкого, а в Кучине — дачу Шаховского.
В большом зале консерватории на митинге выступил рабочий, одетый в косоворотку и высокие сапоги. Он говорил язвительно и смело:
— Буржуазия ликует. Извольте видеть, манифест им конституцию дал! Я вам скажу прямо: это не конституция, а проституция. Вы вот сходитесь, речи говорите, а все ни к чему. Действовать надо! Пора пугнуть жирных господ!
На второй день декабря в Спасских казармах у Сухаревой башни взбунтовался 2-й Ростовский гренадерский полк. Солдаты овладели цейхгаузом, устранили офицеров и посадили их под арест.
Шестого декабря, в Николин день, на Красной площади происходило молебствие партии союза русского народа. Во время пения «Боже, царя храни» часть присутствующих запела «Вы жертвою пали» и «Марсельезу». Началось побоище.
На другой день забастовала вся Москва и началось вооруженное восстание.
Новый, девятьсот шестой год Воронины не справляли. Дела в лавке ухудшились, хозяин ходил мрачный. Николай Николаевич продолжал заниматься с Настей, но теперь часто пропускал уроки, не приходил вовсе. В погожий майский день он явился возбужденный и, пройдя мимо прилавка, за которым стоял Василий, пренебрежительным тоном сказал:
— Вот видишь, Васька, твоя не взяла! В этом году рабочий не станет министром.
Василий презрительно посмотрел на студента и двусмысленно ответил, запомнив латинскую поговорку:
— Ex nihilo nihil! Был ты, Николка, дерьмом и обратно им остался.
«Поди узнай, о ком он сказал: о царе или обо мне? Зубастый парень», — подумал студент и тут же поднялся по лестнице в квартиру, а уходя с урока, громко рассмеялся и сказал:
— Не понимаешь, как себя вести. Приходи сегодня вечером на Расстанную пять, квартира четыре, спросишь Ковалева.
Студент по-обычному засвистел и вышел на улицу, оставив Василия в полном смятении. «Куда это он меня зовет и зачем? — подумал он. — Ловушка или двуличный человек?»
Вечером Василий нашел дом, который ему назвал Николай Николаевич. Он постоял в нерешительности перед четвертой квартирой и наконец позвонил. Ему открыл сам студент и, схватив за руку, без слов увлек в небольшую комнатенку. Василий боязливо осмотрелся. В углу стояла железная кровать, посередине неказистый стол и два стула, у окна этажерка с книгами.
— Садись!
Василий послушно сел, держа картуз в руках.
— Знаешь, зачем звал? — спросил Николай Николаевич.
— Нет.
— Ты давеча кого дерьмом обозвал: меня или царя?
— Как хотите понимайте, но я вас не боюсь, — решительно заявил Василий. — А мериться силой не советую, — и положил на стол жилистый кулак.
— Молодец, Васька! — развязно, как показалось Василию, сказал студент. — Меня называй как хочешь, а царя так не следует. Он не дерьмо, а кровопийца, которого надо вздернуть на дыбу. Палач Николка!
Василий недоверчиво смотрел на студента, не зная, го ли он говорит, что думает. «Сейчас я его проверю», — тут же решил он и с заинтересованным видом спросил:
— Скажите, пожалуйста, где теперь отец Гапон?
— Почему это тебя интересует?
«Увиливает, — подумал Василий, — не хочет сказать».
— Он ведь человек духовного звания, не то что мы с вами. Хотел рабочих из собачьей жизни вывести, а что получилось?
— Гапон провокатор и такой же подлец, как царь. Он уже нашел себе успокоение, — объяснил студент.
— Это как же понимать, Николай Николаевич? Говорите вы не латынью, а все-таки не ясно. Я был девятого января прошлого года на площади. За что стреляли в рабочих?
— Ты не Воронин, все понимаешь сам.
— Воронин тоже понимает, но по-своему. Опять же, Настасья Фадеевна понимает, и тоже по-своему.
Николай Николаевич пристально смотрел на Василия, чувствуя удивительно логичный ход мыслей у этого молодого парня. «Не надо его больше испытывать, — решил он, — выложу все начистоту».
— Настасья Фадеевна понятливая, умная барышня, — начал студент, — я на нее напраслину возвел, но ненавижу ее лютой ненавистью, как ненавижу и отца ее, мать, все купеческое семя. Все они готовы перегрызть нам глотку. А насчет Гапона я тебе скажу. Попа спас эсер Рутенберг, а потом он с ним рассчитался.
— Я и его знаю, — перебил Василий.
— Откуда? — поразился студент.
— Слушал его речь к рабочим у Нарвской заставы девятого января, он уговаривал их не ходить к царю с петицией.
— Так вот, Рутенберг помог ему бежать за границу. Осенью прошлого года, когда начались забастовки, Гапон вернулся в Россию и сразу вступил в переговоры с главным министром Витте. О чем они там говорили, нам ясно, потому что Гапон стал выступать против тех, кого призывал к забастовкам и восстанию, против революционеров. Полиция поручила ему добиться от Рутенберга выдать боевую организацию Центрального комитета партии социалистов-революционеров, то есть эсеров. Рутенберг, не будь дурак, сообщил об этом своему Центральному комитету, и тот разрешил убить Гапона в такой обстановке, в которой будет неопровержимо доказана его провокаторская роль.
Василий с интересом слушал рассказ Николая Николаевича.
— Двадцать восьмого марта, — продолжал студент, — Рутенберг заманил Гапона для переговоров на дачу в Озерках под Питером, а в боковой комнате спрятал несколько рабочих-гапоновцев и трех эсеров. Начались переговоры. Рабочие все слышали. Когда переговоры кончились, они вошли в комнату. Гапон, понятно, смутился, забился, как зверек, в угол. Подробностей я не знаю, но доподлинно известно, что его тут же повесили и только недавно полиция обнаружила его труп. Собаке — собачья смерть!
Николай Николаевич поднялся, подошел к окну, стоя спиной к Василию. Потом он обернулся и тихо спросил:
— Фадей Фадеевич часто в лавке бывает?
— Мало, я один хозяйничаю.
— Хочешь мне помочь?
— Смотря в каком деле, — ответил уклончиво Василий. — Если воровать, то на меня не рассчитывайте.
— У тебя в голове много дури, — безобидно сказал студент. — Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Жандармы и полиция сейчас бесчинствуют. Сюда ты больше не приходи и адрес этот позабудь. А вот я к тебе частенько буду захаживать, приносить листовки и газеты, а ты их прячь в воронинском драпе и сукне. Мой товар с виду простой, а действует как бомба. Дело это опасное, сам понимаешь. Согласен?
Василий встал. Теперь студент в его глазах сразу вырос, словно колонна на Дворцовой площади. Ему даже стало душно от подступившей к сердцу радости, он готов был броситься студенту в объятия, но сдержал себя и деловито ответил:
— На этот счет можете быть уверены. Ни одна живая душа не найдет, да и кто станет искать у купца в лавке?
— Вот мы и поняли друг друга! — весело похлопал Николай Николаевич по спине Василия.
На другой день студент вошел в лавку, и Василий как ни в чем не бывало приветливо встретил его:
— Милости просим, Николай Николаевич!
— Благодарю! — ответил студент и, бросив на него заговорщицкий взгляд, поднялся по лесенке в квартиру. На следующий день студент опять пришел и, убедившись, что в лавке никого, кроме Василия, нет, положил на стол перевязанную бечевкой пачку и быстро произнес:
— В тайник!
Василий тотчас извлек из-под прилавка рулон драпа, ловко развернул его, не задев пломбы, вложил пачку, снова свернул и бросил рулон открыто на полку.
Студент одобрительно подмигнул и поднялся в квартиру. Василий остался один. Вся эта маленькая история вызвала в нем прилив гордости, — шутка ли сказать! — отныне он приобщился к тем людям, за которыми гонятся, как ищейки, агенты жандармской полиции.
За неделю студент притащил пять пачек, и все они с помощью Василия нашли себе место в рулонах драпа, посконного и велюрного сукна.
А потом Николай Николаевич исчез и больше не приходил. Настя ждала его день, другой, третий, а он словно в воду канул. Ждал его и Василий. Ведь между ним и студентом было договорено, что они начнут заниматься по программе гимназии. «Что бы это могло быть? — размышлял Василий. — Не заболел ли? Идти к нему нельзя, он ведь просил забыть адрес на Расстанной. Неужели Николая Николаевича схватили жандармы и упрятали в Петропавловскую крепость?»
Не раз Василия подмывало развернуть хотя бы один из отмеченных им рулонов, извлечь газету или листовку и почитать, но он решительно отгонял эту мысль, считая, что свершит святотатство. Рассудительность тем не менее одержала верх. «Я как собака на сене, — думал он, — сам не читаю, другим не даю. А уж если сторожу, то надо знать, что за сокровище». Закрыв субботним вечером наружную дверь ранее обычного, Василий прислушался к шорохам в хозяйской квартире и, найдя момент подходящим, вытащил одну пачку на прилавок. Едва он развязал бечевочку и развернул оберточную бумагу, как увидел на круглоспуске ноги хозяина, бесшумно спускавшегося в лавку. Малейшая растерянность могла выдать Василия с головой. Обмануть Воронина было не под силу даже прожженному приказчику, не то что молодому и застенчивому Василию. Уложить быстро пачку обратно в рулон было безрассудно — Фадей Фадеевич заметил бы. Оставить на прилавке в надежде, что он не обратит внимания, — рискованно.
«Как быть? Что сделать?» — эти вопросы сверлили мозг Василия, заставив забыть все остальное. И вдруг мелькнула мысль. Оставив пачку на прилавке, он поспешил к круглоспуску и, взбежав на несколько ступенек, очутился перед хозяином.
— Фадей Фадеич, — стараясь не выдать своего волнения, сказал шепотом Василий, — полиция стучится, а я лавку закрыл. Чего ей, окаянной, надо? За взяткой пришли? Не давать! Идите наверх, закройте на кухне дверь на засов.
Другого приказчика Воронин бесцеремонно отшвырнул бы в сторону и сам открыл бы лавку, но Василия он послушал и, с трудом повернув на лесенке свою грузную фигуру, поднялся наверх.
Через несколько минут пачка была спрятана, а сам Василий, войдя в квартиру, сказал хозяину с наигранной веселостью:
— Ушли хабарники! Им волю дай — весь товар унесут.
Прошло лето, миновала осень, а Николай Николаевич так и не появлялся.
— Ты студента не встречал? — спросил как-то Фадей Фадеевич у Василия.
— Не иначе как тяжело заболел, — ответил Василий, намереваясь отвести подозрение от Николая Николаевича. — Кабы знал, где квартирует, — сходил бы к нему.
— Ладно, — махнул рукой хозяин, — нет его, и не надо.
Василия этот ответ не устраивал. Он давно примирился с мыслью, что Николая Николаевича ему не увидеть, но держать без движения нелегальную литературу было опасно.
В пасмурный, но еще бесснежный ноябрьский день в лавку вошла молодая женщина и спросила лучшего драпа. Василий показал ей отрез, и она, щупая, долго мяла драп тонкими пальцами, потом разглаживала и на вытянутой руке смотрела на него, оценивая качество. Убедившись, что в лавке никого, кроме приказчика, нет, она наклонилась над прилавком и тихо спросила:
— Ковалева не ждете?
У Василия замерло сердце. Он никак не ожидал, что незнакомая покупательница напомнит ему имя того, кого он так долго и томительно ждал, потеряв всякую надежду на встречу. Женщина продолжала рассматривать драп как ни в чем не бывало. Когда первое волнение у Василия прошло, он тоже тихо спросил:
— Вы его знаете?
Женщина снова оглянулась, и Василий понял ее безмолвный вопрос.
— Нас никто не слышит. Где он?
— Сидит! — ответила она. — К вам у меня поручение. Вы — Василий?
— Да, да! — торопливо произнес он. — Как же это случилось?
— Николай просит вернуть те пачки, которые вы спрятали в рулонах. У меня с собою сумка. — Заметив на его лице недоверие, она добавила: — Вы приходили ко мне на Расстанную пять?
Василий покачал головой, и по этому кивку женщина убедилась, что недоверие у него рассеялось. Он быстро достал рулон, развернул его и дал женщине пачку, которую она мгновенно спрятала в сумку. Потом она выпрямилась и с независимым видом произнесла:
— Я приду завтра в это же время, — быть может, у вас найдется для меня лучший товар.
После ее ухода Василий сел за конторку и погрузился в раздумье. Николая Николаевича нет, кто знает, увидятся ли они вновь. Мечты о занятиях лопнули как мыльный пузырь. Хотелось убежать из ненавистной лавки. И неожиданно мелькнула мысль: не может ли эта женщина заменить Ковалева? На душе сразу стало легче, посветлело. Он возвратился к прилавку, убрал драп, к которому она приценивалась. Ему казалось, что каждую минуту она вернется за остальными пачками, и тогда он с ней поговорит, и она, бесспорно, поможет ему.
С февраля нового года Василий стал заниматься с Анной Николаевной. Фамилия у нее была немецкая — Шуберт. Худая, невысокая, с большими карими глазами, с гладко причесанной головой и небольшим пучком на затылке, она напоминала гувернантку. У Анны Николаевны был всегда растерянный вид, как у пассажира, который по ошибке вошел не в тот поезд, но позже Василий убедился, что она хорошо играет свою роль. Успехам Василия она радовалась и во время занятий держалась с ним так строго, что он никогда не посмел бы сам заговорить о Ковалеве. Изредка она, сидя за тем же неказистым столом, который Василий увидел при первом посещении, шепотом говорила: «От Николая есть весточка. Он все еще здесь и доволен тем, что я с вами занимаюсь».
Фадей Фадеевич знал, что Василий с кем-то занимается, и не препятствовал. Наоборот, он даже как-то сказал:
— Позови его, пусть с Настенькой закончит ученье.
— Он на дом не ходит, — нашелся Василий, — а Настасье Фадеевне негоже к мужчине с визитом.
— Это я сам понимаю.
Василий не хотел, чтобы Воронин или кто другой из его семьи встречались с Анной Николаевной. Не хотела этого она сама. Если приходила в лавку, то не иначе как под черной вуалью и заговаривала с Василием с глазу на глаз, когда ни посетителей, ни самого хозяина не было. Она продолжала приносить и уносить пачки, держась в магазине всегда как покупательница, и всякий раз рассматривала один и тот же отрез драпа.
Летом как-то после занятий она с грустью сказала:
— Всё! — И после долгой паузы добавила: — Николая выслали в Сибирь.
Василий почувствовал, что Анне Николаевне стоит большого труда не заплакать, и понял, что Николай для нее не только товарищ по работе. Она же поделилась своим горем именно с Василием, потому что он охотно в свое время помогал Николаю, а теперь ей и все он делает так умно, что комар носа не подточит. Не каждый согласится на такой риск.
— Что же будет дальше? — спросил он.
Анна Николаевна посмотрела на него добрым взглядом:
— Осенью я уеду из Питера. Вам придется заниматься одному. Когда вернусь — дам о себе знать.
Настя не только ревниво относилась к тому, что Василий вечерами занимается, но и злилась. Она готова была сцепиться со своими сестрами, с маменькой, лишь бы выместить на ком-нибудь свою злость. Василий взял себе за правило не разговаривать с ней в лавке даже тогда, когда покупателей не было. Он становился за конторку, доставал счета и делал вид, что не замечает Насти.
Однажды она высмотрела, куда он уходит, — и более часа простояла в ожидании на углу. Когда Василий вышел из дома, в котором жила Анна Николаевна, Настя подошла к нему и с хитростью, в которой прозвучала и угроза, заметила:
— Твой студент-то, оказывается, в юбке. Так вот ты какой!
Василий разгадал хитрость Насти и тут же предложил:
— Сходим к нему! Но только твоему папеньке я все расскажу.
— Да я пошутила, — отступила Настя. — Уговори его приходить к нам.
— Как же уговорить безногого человека? — соврал он.
— Так бы и сказал.
Осенью Анна Николаевна попрощалась с Василием и уехала в Томскую губернию к Николаю.
— Уж вы передайте ему от меня низкий поклон и скажите, что если время позволит, то я и латынь одолею. Еще прошу передать, что служить у Воронина больше не намерен и пойду на фабрику.
— Это правильный путь, — одобрила Анна Николаевна. — Николай вас только похвалит.
Шуберт уехала. Занятия прекратились, зато торговля в лавке оживилась, а Василий мрачнел из месяца в месяц. С Сеней он почти не встречался, тот забросил книги и при встрече с Василием хвастался, что через пять-шесть лет беспременно откроет свой лабаз на Боровой. Василий презирал Сеню, как и всех приказчиков.
Как-то однажды Василий обратился к хозяину:
— Фадей Фадеич, дозвольте на часок отлучиться. Хочу повидать земляка.
— Иди, бога ради!
Василий давно наметил завод, на котором хотел работать: франко-русский чугунолитейный, механический и меднопрокатный завод Берда. В конторе его приняли без особого восторга, но обещали дать работу. Осенью 1909 года Василий, попрощавшись с Лушей и семьей Воронина, взвалил на плечи давно приобретенный сундучок и ушел к многосемейному слесарю завода Акимову, приютившись у него на квартире в углу. Перед уходом Луша поцеловала его, прослезилась и взяла с него слово приходить к ней каждое воскресенье. Воронин хмурился, долго молчал, но не выдержал:
— Не буду таить, выложу всю правду. Вовеки не найти мне такого приказчика. Да и какой ты приказчик! Я давно тебе отдал всю лавку с товаром в полное доверие. Ты здесь вроде управляющего. — Он остановился и подумал: — Когда бы ни надумал вернуться — приму.
Настя порывалась что-то сказать, но не рисковала в присутствии родителей, а побежать на улицу за Василием ей было неудобно — вот уже полгода, как за ней ухаживал с серьезными намерениями Геннадий Ардальонович.
Выйдя из лавки, Василий обернулся, посмотрел без сожаления на дом, в котором проработал девять лет, и зашагал по направлению к Обводному каналу.
Завод Берда в Питере считался крупным — на нем работало полторы тысячи рабочих. Жили бедно. Слесарь Акимов, у которого Василий нашел приют, еле сводил концы с концами. С первых же дней Василий понравился Акимову своей рассудительностью и приветливостью.
— Уж очень мне хочется стать слесарем-механиком, — признался ему Василий.
— Не легкое дело, — заметил Акимов, — двенадцать лет по своей части работаю, а на механика и не думаю, потому я малограмотный. Вот слесарному делу я тебя обучу.
Акимов недооценивал Василия. Он успешно перенимал опыт у слесаря. Мастер механической мастерской сразу почувствовал в молодом, но сильном парне способного самоучку, который с необыкновенной сметкой осваивал все премудрости ремесла.
— Слушай, Василий Константинович, — вежливо обратился к нему мастер с рыжими обвисшими усами, — на моем веку мне еще не попадался такой понятливый парень. Если ты правильный человек — быть тебе после меня мастером.
К Василию еще никто не обращался по отчеству, и это смутило его.
— Зря только у Акимова поселился, — продолжал мастер, — слесарь он средней руки, но это не к делу, а вот человек он, как бы тебе сказать, своевольный, ну, бесшабашный, болтает лишнее, людей мутит. Перебрался бы ты на другую квартиру.
С памятных событий девятьсот пятого года Акимов находился под надзором полиции. Никакой революционной работой он не занимался, но, обремененный большой семьей, всегда жаловался на нищенский заработок и жалел, что революция не победила, выражая это недовольство открыто. Акимов принадлежал к тем рабочим, которые не состояли ни в одной из нелегальных партий, но в разговоре всегда резали правду-матку в глаза, а доносчики рассказывали мастеру.
— Акимов не пьет, не курит, — пытался защитить его Василий, — никому зла не делает.
— Болтает лишнее, — сетовал мастер.
— Второй месяц жалованья не платят, — возразил Василий, — детям его с голоду, что ли, помирать?
— Не он один.
На заводе давно зрело недовольство за задержку выплаты и без того мизерного жалованья. Не получал плату и Василий, но у него оставались деньги, которые он скопил за много лет службы у Воронина. Видя крайнюю нужду в семье Акимова, Василий дал его жене немного денег и уплатил ей вперед за три месяца за угол. Акимов знал об этом от жены и в душе благодарил Василия за заботу.
В первый понедельник апреля рабочие, выйдя из мастерских, направились прямо к конторе, с шумом ввалились к бухгалтеру и твердо заявили о своих правах. Бухгалтеру вместе с конторщиком стоило больших усилий выпроводить делегатов на улицу и закрыть дверь на ключ.
— Измываются над рабочим человеком, — громко бросил в толпу Акимов. — У нас с голоду животы свело, детишки весь день плачут.
Василий слышал голос Акимова, знал, что тот говорит правду. Вот когда его взяло за живое! Заметив пустой ящик, он повернул его днищем вверх, взобрался на него и зычным голосом закричал:
— Товарищи! Долго мы будем терпеть над нами издевательство? Собаке и то лучше живется. А дела на заводе успешные: заказы идут, хозяин деньги наживает, а нам вот что! — и, вытянув руку, показал кукиш. — Облизывай его со всех сторон — сыт не будешь. Давайте начнем забастовку…
Василий не успел закончить свою речь, как ворота распахнулись и во двор въехали десять конных жандармов, вызванных по телефону заводской администрацией.
— Васька, спасайся! — крикнул Акимов.
Василию не удалось скрыться. Его схватили и увели.
Через неделю его выпустили на свободу, но с завода уволили.
— Что же теперь будешь делать? — спросил Акимов.
— Пойду на другой завод.
Четыре месяца Василий скитался по петербургским фабрикам, но нигде его не принимали — он числился в черной книге, рассылаемой жандармским управлением всем заводам и фабрикам. Вернуться к Воронину не хотел, встретиться с Лушей совестился, сбережения его иссякали. Мастер с рыжими усами, повстречав Василия на улице, остановил его и, как бы оправдываясь, сказал:
— Говорил, что зря у Акимова поселился. Загубил ты свой талант. Эх, и жаль мне тебя! Хочу твоему горю помочь. Поезжай в Мытищи, это под Москвой, зайдешь к моему свояку, я тебе письмецо дам, он поможет.
Через неделю Василий покинул Петербург, горько сожалея о том, что не простился с Лушей, — уж-очень не хотелось видеть ни Воронина, ни Настю.
Извилистыми тропками петляла жизнь одинокого рабочего. Не раз бывало — очутится молодой парень среди хозяйских холуев, попадет под влияние такого мастера, как с рыжими усами, глядишь, через год из него вышел падкий на хозяйские подачки штрейкбрехер. Василию, не связанному семьей, легко было пойти по такому пути, но в нем не иссякало чувство гордости, свободолюбия. Он и строптив был не в меру, и неподатлив на легкую наживу, а в Москву поехал с охотой, хотел повидать белокаменную.
Вышло иначе: поглядел только на Каланчевскую площадь, пересел в пригородный поезд и поехал прямо в Мытищи. Свояк питерского мастера жил неподалеку, в Тайнинке, а работал на вагоностроительном заводе. Встретил он Василия без видимого удовольствия, но, прочитав письмо, посоветовал поселиться у старой вдовы, жившей через дорогу, и помог ему наняться на завод.
Василий ушел весь в себя. Ни одного близкого человека, с которым можно было поделиться мыслями. Как ни тяжело ему было, радовался, что снова на заводе. «Я теперь рабочий, — гордо говорил он самому себе, — и никем другим быть не хочу». В воскресные дни он наряжался в праздничный костюм, доставал из сундучка учебники по физике, химии, алгебре и геометрии, подаренные ему еще Ковалевым, часами просиживал над теоремой, пытаясь ее решить один, и в конце концов разгадывал решение. Однажды он поехал в Москву, долго приценивался к готовальне и купил. Дома он с восхищением рассматривал набор никелевых инструментов, а потом принялся чертить.
В мастерской завода он без труда завоевал к себе симпатии пожилых рабочих, которые видели в нем не по годам серьезного и вдумчивого парня, любившего больше слушать, чем говорить. Василия смущало одно серьезное обстоятельство — приближалось время призыва и его, бесспорно, забреют в солдаты. Эта перспектива его пугала. Со времени революционных событий пятого года он возненавидел, солдат, хотя знал, что почти все они, как и он, выходцы из деревни. Он не мог и не хотел примириться с мыслью, что солдаты слепо выполняли приказ офицеров, стреляя в безоружных рабочих, женщин и детей на Дворцовой площади. «Откажись они, — рассуждал он, — царю была бы крышка».
На вагоностроительном заводе положение рабочих было не лучше, чем в Питере у Берда. И здесь получку выдавали с опозданием и не полностью. Работать приходилось по двенадцать часов в сутки. Администрация завода с таким необыкновенным рвением практиковала систему штрафов, что половина рабочих в дни получек оставалась почти без денег. Каждые полгода расценки снижались, рабочие мрачно говорили: хоть ложись и помирай. Недовольство росло с каждым днем, и нужна была искра, чтобы вспыхнуло пламя забастовки.
Василий не мог пожаловаться на то, что его хотя бы раз оштрафовали, но мириться с положением рабочих на заводе не хотел. В мастерских, на улице все открыто выражали недовольство. В один из июльских знойных дней стихийно возникла забастовка. К удивлению многих, Василий горячо ораторствовал. Его внимательно слушали, одобряли, а он, распалившись, уже не только призывал к забастовке, но, вспоминая поучения Акимова, говорил открыто:
— Без революции не обойтись. Заводчики хотят довести нас до самоубийства. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Но зачем кончать жизнь самоубийством? Уж лучше мы сотрем их с лица земли и построим новую жизнь.
На другой день Василия арестовали на квартире в Тайнинке и увезли в Москву.
В Бутырской тюрьме за ним захлопнулась решетка камеры.
Полгода он провел в одиночке. На суде отвечал на вопросы односложно, не пытаясь оправдываться. Московский окружной суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения. Домой он не писал, потерял всякую связь с внешним миром. После долгих требований удалось получить свои учебники, и он стал усердно заниматься. Не раз вспоминал родное село, родителей, уход в Питер и службу у купца Воронина. Чаще других возникали образы студента и Анны Николаевны. Хотелось знать, вернулись ли они в Петербург, что делают. «Уж лучше бы меня сослали в Сибирь, чем мокнуть в этой каменной дыре», — думал он про себя.
Однажды он услышал стук в стенку, прислушался, но не ответил. На другой день стук повторился, и ему показалось, что рядом в камере — Ковалев. Стук повторялся много раз, а потом неожиданно прекратился. Василий не знал о тюремной азбуке, с помощью которой политические заключенные перестукиваются. Тщетно он ждал стука, который мог внести какое-то разнообразие в тоскливую жизнь. Тогда он сам стал колотить в стенку кулаком, но ему никто не ответил.
Василий давно потерял счет времени. В первые дни он говорил с утра: «Сегодня среда» или «Сегодня суббота», но это механическое повторение изо дня в день сбило его со счета. Теперь он больше думал о том дне, когда выйдет на волю. Найдет ли работу в Москве? Ведь его имя, очевидно, и здесь внесено в черную книгу. Куда же податься: в Самару или в Нижний Новгород?
На прогулках в тюремном дворе он безмолвно шагал по кругу, присматриваясь к лицам других заключенных. Нет, он никого не знал. Поди угадай, кто политический, кто уголовный! Мучительно хотелось услышать теплый человеческий голос. Долго ли ему еще сидеть в одиночной камере? Одна надежда на революцию. Но когда она грянет? Он ведь не знал борьбы политических партий, ни с кем не был связан, не знал, что творится за тюремной оградой.
Шли недели, казавшиеся месяцами, шли месяцы, которые тянулись словно годы, и боевой пыл, которым он так заразился на заводе Берда и в Мытищах, стал угасать. Сознание притупилось, он перестал думать о будущем. Учебники проштудировал несколько раз и знал, на какой странице что написано, но пользы от науки теперь не чувствовал.
Как ни высоки тюремные стены, но в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года в камеры залетела весточка с воли — Германия и Австрия начали войну с Россией. Тюремщик, занеся еду, поставил ее на стол и сказал:
— Что-то теперь будет? Кругом война, все подрались.
— Тебе, живоглоту, бояться нечего, — осклабился Василий, — будешь нас стеречь, чтоб не убежали. Мужику — вот кому достанется.
— Помалкивай, арестант! — пригрозил увесистым кулаком тюремщик и пошел к дверям, позвякивая связкой ключей.
— Ты меня не пугай, не то я тебе врежу в поганую рожу — все зубы подберешь с пола.
Тюремный срок Василия подходил к концу, а он, сбившись со счета, решил, что ему оставалось еще сидеть по меньшей мере до весны будущего года. Как же он был удивлен и даже напуган, когда в камеру вошел надзиратель в сопровождении тюремщика и, приподняв правую бровь для пущей грозности, при казал:
— Арестант сто семьдесят два, собирайся!
— Совсем? — оторопел Василий. — На волю?
— Совсем, — ответил надзиратель, — но не на волю. Тебя отвезут в воинское присутствие.
Василию не ясно было, куда и зачем его повезут, и он наивно спросил:
— Книжки с собой взять можно?
— Не понадобятся! Повезут тебя в воинское присутствие, а оттуда одна дорога — на фронт.
Василия зачислили крестоносцем — так называли с издевкой ратников первого разряда. После месячной подготовки в запасном батальоне его в числе других обмундировали, привезли на Брянский вокзал, погрузили в вагон и отправили на Юго-Западный фронт.
Спустя неделю 19-й Костромской полк, входивший в 5-ю дивизию, столкнулся с противником, и за отвагу в бою Василия наградили первой георгиевской медалью.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Василий пришелся Анисиму Кривочубу по душе: и руки золотые, и человек понятливый, и рабочие относятся к нему с уважением. На завод приходил раньше других, снимал шинель, вешал ее аккуратно на гвоздь. Солдатская рубаха на нем всегда чистая. Засучит рукава, наденет на себя фартук, протрет тряпкой станок — и за работу. Недавно вот что приключилось. Слышит Василий, как слесарь говорит двум молодым рабочим:
— Вам, горчичникам, не на заводе работать, а в мусорной яме копаться.
Василий знал, что на Волге этим обидным словом называют городских бедняков, ремесленников. Обернулся он к слесарю и строго, но сдержанно предупредил:
— Пока я здесь работаю, никого не позволю обижать. Заруби себе на носу!
Слесарь ничего не ответил, но с того времени никто больше не произносил этого слова. Рабочих поражала сдержанность Василия и в то же время его вежливость, язык интеллигентного человека и мужественность солдата. Они обращались к нему только по имени и отчеству.
— Рабочий рабочему рознь, — учил его Кривочуб. — Ты теперь вольная птица, а другие здесь спасаются от окопов. Не ровен час, когда какой-нибудь подлиза сболтнет про тебя хозяину.
— Чего мне бояться? — возразил Василий. — Смерть не раз заглядывала в мои глаза, и то не дрогнул, а перед пожарником (так втихомолку называли Остермана) — подавно.
— Это тебе все равно, а мне урон.
— Какой?
Анисим хлебнул из чашки глоток чаю, — он был в гостях у Василия, — распрямил согнутую спину и медленно произнес:
— Я твою жизнь теперь, можно сказать, вижу сквозь стекло. Черный ты человек для питерской и московской полиции, с Бутыркой дружил без малого три года, вернулся с фронта покалеченный, науку любишь, с Нагорным теоремы решаете. А место-то свое в жизни найти не можешь.
— Могу, — возразил Василий, — у Клавдии Капитоновны я временный жилец. Через месяц-другой найду себе комнатенку и перееду. Слесарно-механическое дело люблю, жаль только, что изготовляем не тот товар.
— Не маленький, а говоришь пустое. Разве с Нагорным только теоремы решаете? Пора тебе, Василий, с партией сдружиться.
— Давно хочу, да не с кем посоветоваться. А сам то ты в какой партии?
Кривочуб не спеша отпил из блюдца остывший чай и в свою очередь спросил:
— Видел казанский герб на нашей заводской вывеске?
— Не присматривался.
— Присмотрись! На нем белое поле, а на том поле черный змей с красными крыльями под золотой короной.
— Ну и шут с ним. — махнул рукой Василий.
— Неспроста спросил. Ведь я сам казанский, сорок лет прожил в городе. Вот какую сказку мне в детстве мать рассказала. В древности одна бедная женщина пошла к Казанке по воду. Черпает это она и бранит сарайского Казан-хана, того самого, что город основал, — дескать, о воде не подумал. Рассказали об этом татарскому хану Али-Бею. Тот приказал позвать женщину во дворец.
«Ты чем недовольна?» — спросил хан. «Тебе слуги приносят воду, — ответила она, — и ты не знаешь, как трудно беременным женщинам подниматься в гору с водой. Вот у устья Казанки, где стоят пчельники моего отца, хорошие места. Я помню их с детства». — «Но там водятся змеи», — сказал хан. «Колдуны твои могли бы их уничтожить».
Хан прислушался к совету женщины, — продолжал рассказывать Анисим, — и приказал своему сыну с двумя вельможами и ста воинами отправиться к устью Казанки. Перед уходом он дал вельможам запечатанное своей печатью письмо и наказал: «Если найдете такое хорошее место, как говорила женщина, вскройте письмо и прочтите мое повеление». Так они и сделали. В письме хан повелел бросить жребий и того, кто вытянет его, зарыть живым в землю. Жребий пал на ханского сына, но вельможи скрыли от него и закопали живьем собаку. После этого хан послал своих колдунов извести змей. С осени стали свозить доски, бревна и смолу, зажгли большой костер. Все змеи погибли, только одному удалось спастись. То был крылатый двуглавый дракон. Улетел он на близлежащую гору. Ее за это и по сей день зовут Зилантовой, а по-татарски Джилан-тау — змеиная гора. В память этого события хан повелел сделать изображение дракона гербом Казани.
Василий с интересом выслушал сказку, догадавшись, зачем Анисим ее рассказал.
— Хороша байка, ничего не скажешь, а все же сознайся, в какой ты партии?
— У меньшевиков.
Василий так посмотрел на Анисима, словно никогда его раньше не видел, и резко сказал:
— Пей чай, хороший человек, работать вместе будем, а в твою партию не пойду.
— Вот как! Не по душе тебе меньшевики?
— Разговор окончен, — твердо и решительно оборвал его Василий.
— А я думаю продолжать, — без смущения возразил Анисим. — Какой ершистый! Никакой я не меньшевик и сроду с ними не якшался. А тебя хотел испытать. Мы с Нагорным большевики. Ты про них знаешь?
— Знаю, — ответил Василий. — Подумаю.
Василий ответил искренне. Он считал, что если вступит в партию, то отдаст ей целиком всю жизнь и никто с новой дороги его не собьет. Но надо решить этот вопрос самостоятельно, без сказок Кривочуба или намеков Нагорного.
Напившись чаю, Василий поблагодарил и стал собираться. Пожимая ему руку, Кривочуб спросил:
— А двуглавого русского орла видел?
— Ну, видел.
— Так верь мне, что все эти гербы большевики когда-нибудь сломают и создадут свой. И будут на гербе не змеи и не орлы, а рабочий и пахарь, а возле них детишки. Можешь не сомневаться.
Клавдия с каждым днем все более убеждалась, что Василий даже не помышляет сблизиться с ней. Он по-прежнему был немногословен, в свободные часы старался делать что-либо в доме: то дверь приладит, то стул починит, то книгу или газету читает. Первую получку принес и положил на стол.
— Я твою заботу на деньги не меряю, — заволновался он, — но в долгу быть не хочу.
Клавдия отодвинула от себя деньги — уголки рта слегка опустились — и с трудом ответила:
— Ты думал: дашь грош, так будешь хорош. Не деньги мне нужны, а ласка.
Василий, не зная, с чего начать, нервно зашагал но комнате.
— Стара для тебя, — укоризненно добавила она и страдальчески нахмурила брови, — я, что ли, не понимаю? Ты сейчас не тот, кем был осенью, когда привезли в лазарет. Не думала, что вы́хожу. Теперь за тебя всякая молодуха пойдет. Тошно мне одной жить, не с кем покалякать, умру — некому поплакать.
Василий перестал шагать, сел за стол против Клавдии.
— Выслушай меня, Клашенька, а потом суди.
— Гляди, — предупредила Клавдия, — порешит суд, так будешь худ.
— Я про себя уже рассказывал, да не до конца. Не нужен я тебе, не пара мы. Моя дорога другая. Ты с Нагорным не дружишь, а я такой же, как он. Каждую ночь сюда может нагрянуть полиция, меня арестуют. Не миновать тебе неприятностей. Зачем тебя в грех вводить?
Клавдия менялась на глазах у Василия. Еще несколько минут назад она с тоской говорила о своей одинокой женской судьбе, а сейчас, переборов боль, взяла себя в руки и дерзко показала:
— Вот бог, а вот порог!
Василий молча встал, надел шинель, перебросил через плечо сумку и, не простившись, поспешил на улицу. Он шел, убыстряя шаг, не оглядывался. По-человечески ему было жаль Клавдию, но считал, что поступил честно, сказав ей всю правду. Миновав кремль со Спасской башней, выстроенной еще при Иване Грозном, он неожиданно остановился, подумал и возвратился той же дорогой.
Василий шел к Нагорному.
Летом шестнадцатого года Василий сказал Нагорному:
— Теперь, Антон Иванович, можно и в партию вступить.
— Похвально! Поговорю с Анисимом, с другими дружками, поедем в воскресенье вроде как на рыбалку, а там и порешим — принимать тебя или нет. Думаю, что ты заслужил.
— Крепкий мужик, — сказал про него Анисим Нагорному, — твердый как кремень. Из него толк выйдет.
— Да, да, совершенно согласен, — поддакивал Нагорный, — и голова светлая. Когда пришел в первый раз, из скромности уверял, что малограмотный, а на деле оказалось, что знает не меньше гимназиста шестого класса. А ведь самоучка.
— Что гимназия, любезный, — шутливо передразнил Кривочуб. — Он университет кончил.
— Перегнул ты, сударь.
— По-твоему, Бутырки не университет?
Нагорный понимающе улыбнулся.
В августовский день Василия неожиданно вызвали к Остерману. Он снял с себя фартук и пошел в контору.
— Здравия желаю! — чеканно произнес он и стукнул каблуками.
Михаил Евгеньевич был так же гладко выбрит, чистенький, в фулярном галстуке под белым крахмальным воротником, каким его впервые увидел Василий, и ему показалось, что Остерман с того дня и не уходил из конторы. «Зачем я ему понадобился?» — подумал он в ожидании разговора.
— Ты что это, солдат, мутишь моих рабочих? — нахмурился хозяин.
— Никак нет!
Остерман бросил внимательный взгляд на Василия. Ему нравилась его солдатская подтянутость, короткие ответы. Кривочуб уверял, что у солдата золотые руки и не было случая, чтобы он запорол хотя бы один гранатный колпак. Это по-хозяйски, но вот его вмешательство в заводские дела переходит всякие границы.
— Тебе известно, что я уволил Баширова?
— Так точно!
— Ты имеешь право вмешиваться в мои распоряжения?
— Никак нет!
— Зачем тогда подбивал рабочих на забастовку?
— Обратно надо принять Баширова.
— Тебе какое дело? — вспылил Остерман.
— Парень старательный, а за ошибку наказывать нельзя.
Остерман, выведенный из терпения спокойными ответами Василия, решил, что солдат над ним посмеивается.
— Ты мне голову не морочь. В другой раз вмешаешься — уволю и тебя.
— Никак нельзя, я георгиевский кавалер.
— Плевать я хочу на твои кресты. Ты этими железками на фронте щеголяй, а на заводе я хозяин!
— Мне их дали за то, что я вашу жизнь защищал.
— Нет, вы поглядите на моего защитника, — цинично воскликнул Остерман так громко, что сидевшие в конторе служащие вздрогнули.
— Чему удивляетесь? — продолжал все так же спокойно Василий. — Пока вы тут деньгу зашибали, русский солдат кровью истекал. Вам бы мою израненную спину — другим языком говорили бы.
— Убирайся вон! — закричал Остерман. — Получай расчет! Вон отсюда!
— Пожалеете, хозяин.
— Вон! — не унимался Остерман. — Вызвать полицию!
— Не кричите, вас ведь не режут. Работу я себе найду, а вот вас не забуду. Придет праздник на нашу улицу, вспомните слова солдата, да поздно будет.
Василий повернулся, словно ему скомандовали: «Кругом арш!» — и вышел твердым шагом на улицу.
«Так, — сказал он самому себе, — и с Казанью покончено. Поехать, что ли, в Нижний или в Самару? В Самаре, говорят, большой Трубочный завод, рабочих тысяч сорок, а то и пятьдесят. А долго я буду колесить по России? Питер, Москва, Казань, Самара… Какой путешественник выискался!»
На завод Василий не вернулся, а пошел домой и рассказал обо всем Нагорному.
— Сожалею, что так печально закончилось, — признался Нагорный, — а угроза Остермана абсолютно никакого значения не имеет. Вот я для полиции личность не новая, а к тебе они придраться не могут.
Вечером пришел Кривочуб. Посоветовавшись втроем, они пришли к решению, что всему заводу бастовать нет смысла.
— Нас мало, — доказывал Анисим, — забастовка ста человек не даст эффекта. Было бы пятьсот — другой разговор. Я за то, чтобы Василий поехал в Самару. Дойдет до пристани, сядет на пароход — и вниз по Волге. Денег-то тебе хватит? — обратился он к Василию.
— Завтра получка, обойдусь.
На другой день Василий попрощался с Нагорным и Кривочубом. Долго думал, идти ли в госпиталь проститься с Клавдией, и уж было собрался, но, когда вышел на улицу, передумал. Бросив взгляд на домик, в котором жила Клавдия, он зашагал к пристани.
Пароход «Советник» готовился к отходу. Василий успел купить билет и прошел по мостику на палубу. Приметив на корме простой народ, он направился туда. Команда хлопотала, готовясь к отвалу. Из камбуза доносился запах щей. Найдя для себя местечко, Василий положил на деревянный настил шинель, прилег и задумался. Ехал он в незнакомый город, не зная, что его ждет. Нагорный рассказывал, что Самара лет двадцать назад была вдвое меньше Казани, а сейчас понаехало много народу из уездных городишек и деревень, и населения теперь не меньше двухсот тысяч. На одном Трубочном заводе в сто пятьдесят раз больше рабочих, чем в гранатной мастерской Остермана. Хоть десять лет проработай, и то всех не узнаешь.
Пароход прокричал хриплым гудком и отошел от пристани.
Василий оторвался от своих мыслей и осмотрелся. Неподалеку от него сидели на мешках полуобнаженные татары, изнемогая от жажды. Он знал их по Казани: добродушные и тихие, они не пили водки, не любили драк и робели, когда муэдзин звал их с минарета к вечерней молитве. Жена какого-то матроса, заткнув подол юбки за пояс, полоскала в корыте белье команды. На тумбе сидел в потертом зипуне, мятом картузе и в новых лаптях мужчина лет тридцати пяти. На загоревшем от солнца лице пробивалась рыжая щетина, и Василий сразу дал ему кличку Рыжик.
Когда пароход вышел на середину реки, Рыжик извлек из мешка балалайку и, ловко перебирая пальцами, заиграл вальс. Отовсюду сбежались любопытные слушатели. Свыше получаса он забавлял слушателей, потом пискливым голоском крикнул:
— Дай вам бог, господа, доброго здоровья, а мне тоже не умирать, — и протянул свой помятый картуз. Со всех сторон посыпались медяки.
Василий поднялся, подошел к борту. По обе стороны тянулись пустынные берега, лишь мелкая заросль — остаток некогда вековых лесов, безжалостно вырубленных лесозаводчиками. Чем ближе к местам, где Кама впадает в Волгу, тем заметнее менялся пейзаж. Вот возник косогор, по которому сползает к реке слобода. На откосе стоит церковь, глубокий лог отделяет от слободы несколько домиков и погост, кое-где видны садики.
К вечеру волжская гладь остекленела, лишь изредка осетр или белуга, играя, разводили по воде большие круги. Берега припали к реке. Кругом видать на десятки верст, даль окуталась прозрачной дымкой, и на востоке чудятся высокие горы.
За холмом догорал закат. С окрестных полей и лугов донесся свежий ветерок, пропитанный запахом сена. Где-то на берегу скрипел коростель. На реке маячили рыбачьи лодки.
Облокотившись о перила, Василий смотрел вдаль. Спокойное небо, раскрасневшееся у закатного края, темная зелень берегов, тихая волна и бедные селения на высоких холмах умиротворяли душу, звали к покою. Но Василию захотелось, чтобы эта зеркальная тишина дрогнула, возмутилась, разбилась. Никогда он не смирится, наоборот, его душа еще больше ожесточится в борьбе с теми, кто отнимает у него право на труд.
В сумерках пароход подвалил к небольшой конторке. У деревьев стояли две тележки. Никто из пассажиров не сошел на берег. От конторки наверх тянулась в темноту деревянная лестница без перил. На горе — одинокий тусклый фонарь с суетящимися вокруг него бабочками и жучками. И вдруг в тишине отчетливо послышался стук пролеточных колес о булыжник. «Вот сойду сейчас на берег, — подумал он, — и пойду в ночь куда глаза глядят». Но пока он нерешительно размышлял — пароход отшвартовался. За бортом потянулись каменные обрывы, на дне которых светились огоньки. Жизнь на пароходе постепенно замерла. Матросская жена, давно развесив белье, ушла в кубрик. Рыжик куда-то запропастился.
На рассвете солнце поднялось, и по голубому безоблачному небу побежали багряные стрелы. Мерно рассекая неподвижную волжскую воду, пароход оставлял за кормой пенящиеся усы. Вот Волга сделала крутую излучину, и вода зачернела темными пятнами разводьев. По высокому правому берегу, покато спускающемуся к воде, необозримо потянулись леса, а на левом неподвижно лежали приземистые коробки — склады, паровая мельница, амбары.
Василию казалось, что он видит не только берега, а весь мир. Вот на склоне горы возникла пещера, да такая широкая, что в нее можно проникнуть без труда. Под пещерой бассейн, и в него бежит вода, а над пещерой часовня.
Чем ближе к Самаре, тем выше взбегают берега. Среди сосен и елей появилась темно-зеленая пихта, красавица сибирских лесов, любящая и приволжские степи. Ее сразу отличишь от других деревьев: густая, взлетевшая стрелою ввысь, она чем-то напоминает южный кипарис.
— Чьи это леса? — услышал Василий голос какого-то мужчины в соломенной шляпе.
— Удельные, — ответил другой, — потому и стоят они, а то бы купец давно до них добрался и живо по Волге сплавил. Плохо только мужику от удела — уж больно он его со всех сторон жмет.
Широко разлила Волга свои воды. Широко разлилась Россия в своих берегах: купец торговал, мужик смотрел скорбным взглядом на чужую землю, рабочий голодал. А сейчас реки людской крови растеклись по русской земле — шла жестокая война.
В Самару прибыли в полдень. На пристани торговцы, маклеры, грузчики. Все горланят, суетятся. Тут же и господа в мундирах и сюртуках, дамы в длинных платьях, стянутых в талии, в широкополых шляпах, купцы в картузах. У пристани сонно дремлют лошаденки извозчиков. В лопухах роются свиньи, на мостиках, повисших над водой, стоят бабы, задрав подолы юбок выше колен, и бьют вальками прополосканное белье. Примостившись на полусгнивших сваях, ребята ловят раков. И над всем несется церковный гул — звонари бьют во все колокола.
Василий прошел мимо складов и амбаров на Преображенскую улицу, поднялся по Москательной. Очутившись у цирка, занимавшего целый квартал, он обошел его со всех сторон и остановился на углу Предтеченской. На стенах висели афиши с раскрашенными львами и лошадьми.
Отсюда Василий прошел к Троицкой площади, на которой выделялась лавка москательщика Улусова, а неподалеку расположился мануфактурщик Палин. На Панской улице он постоял у магазина табачного короля Бостанжогло.
«Богатый городок, купеческий», — подумал он и вернулся к цирку. Мимо прошел чиновник. Василий остановил его:
— Осмелюсь спросить, сударь, где Трубочный завод?
Чиновник посмотрел на кресты и медали — и охотно объяснил дорогу.
Начальник завода, старый генерал Зыбин, слыл грозным человеком. К нему не подступиться. Его помощник по технической части в то время болел. Пришлось обратиться к младшему механику.
— Валяй к мастеру третьей мастерской, ему, кажется, нужны люди.
Мастер выслушал Василия и отказал.
— Езжай, солдат, в Петровск, там маслобойный завод. Недавно наведывался главный механик, искал моториста, не нашел и уехал с пустыми руками.
— Далече туда? — спросил Василий, отчаявшись найти работу.
— Поездом поедешь. Помогай тебе бог!
На этом разговор кончился. Василий задумался: «Денег осталось в обрез. Если в Петровске не найду работы — в петлю полезай». С такими невеселыми мыслями он ушел на вокзал, купил билет и уехал. Поезд шел медленно, бесконечно долго тащился от одной станции до другой. Сквозь черные клочья паровозного дыма проплывала за окном дремавшая земля, мелькали телеграфные столбы да стайки нахохлившихся воробьишек на проводах.
Завод был небольшой. Василия охотно приняли слесарем-мотористом, и в душе он благодарил самарского мастера, который надоумил его поехать сюда. Комнату снял у одинокой вдовы. Вскоре написал Нагорному, жаловался на то, что, не имея в Самаре явочной квартиры, ни с кем не мог связаться и пришлось поневоле ехать в эту «дыру».
Осень хотя и выпала дождливая, но быстро пробежала. Наступила зима. За несколько месяцев Василий сумел привлечь многих рабочих к чтению газет. По вечерам они приходили к нему, и за чаем начиналась беседа. По газетам чувствовалось, что в стране нарастает недовольство в связи с нехваткой хлеба, мяса, сахара и круп.
— Не миновать взрыва, — уверял он своих новых друзей, — народ терпит, но до поры. Зато когда взорвется — полетят все министры, а с ними и царь.
Весть о февральской стачке в Петрограде и Москве докатилась до Петровска к концу месяца, а о революции — лишь в первых числах марта. Газеты сообщали, что войска в Питере отказались стрелять в рабочих, перешли на их сторону и помогают арестовывать царских министров и чиновников.
В эти дни Василий был так сильно возбужден, что не знал, какое принять решение. Думал о Казани, там все же остались Нагорный и Кривочуб, — и тут же поймал себя на озорной мысли, как бы он распорядился судьбой Остермана: «Говорил я вам, а вы не послушались. Теперь зачисляю вас в пожарники, а с заводом мы сами управимся». Но до Казани далеко, а к Самаре рукой подать. Решение было принято вынужденное. Получив расчет, он выехал туда в конце марта.
Приволжский город бурлил. Местная дума сформировала комитет безопасности. Им заправляли Бостанжогло, Палин, Улусов, князь Кугушев. Хитер был табачный король. «Надо менять вывеску, — посоветовал он, — обкрутить вокруг пальца голоштанников и их заправилу Куйбышева. Этот всю кашу нам портит». Бостанжогло поддержали, и новый «комитет народной власти» выпустил воззвание к населению, призывая к благоразумию. Губернатор князь Голицын поддержал эту инициативу.
Куйбышева в Самаре знали. Его любили, уважали рабочие Трубочного завода, на котором он работал токарем и вел революционную работу. Еще не так давно он был арестован вместе с Бубновым и выслан 25 января в Туруханский край. Только через месяц они прибыли в Красноярск и тут в тюрьме узнали о революции в Петрограде. Им бы вернуться обратно, но начальник тюрьмы наотрез отказался их выпустить. «Я, говорит, присягал царю и, пока не получу приказа, не выпущу».
Освободили их жители селения Казачинского 8 марта, а через десять дней Куйбышев вернулся в Самару.
Рабочие не поверили «комитету народной власти» и сформировали свой комитет, поручив ему организовать выборы в Совет рабочих депутатов. Но комитет не рассчитал своих сил, и выборы кончились победой меньшевиков. Возвратившегося Куйбышева, вопреки сопротивлению меньшевиков, удалось все же ввести депутатом в Совет.
В двух комнатах бывшего ресторана «Аквариум» расположился городской комитет большевиков. Здесь же помещалась редакция «Приволжской правды». Сюда и пришел Василий, возвратившись в Самару. Робко он заглянул в одну из комнат, и сразу на него, солдата с георгиевскими крестами и медалями, но без погон, обратили внимание.
— Подойдите-ка ко мне! — услышал он мягкий голос высокого плотного человека с большой головой, сидевшего за письменным столом. В серо-голубых глазах застыло пристальное любопытство. — Кого вы ищете?
Оживление, царившее в комнате, неожиданно затихло.
— Мне бы председателя большевистского комитета. Поговорить надо, — робко произнес Василий.
— Давайте знакомиться! Моя фамилия Куйбышев. А вас как зовут?
— Василий Блюхер.
— Ого! Какая громкая фамилия! Давно вы, фельдмаршал, с фронта? Не смущайтесь, садитесь!
Василий коротко рассказал о себе.
— Хочу слесарем-механиком на Трубочный завод, — закончил он. — Помогите, если можете.
Куйбышев не то что сердито, но жестко ответил:
— Для вас есть работа поважней.
Василий разочарованно посмотрел на Куйбышева:
— К другой работе не способен.
— Нам лучше знать, голубчик. Вы ведь пришли не в лавку, а в партийный комитет.
Василию не понравился ни тон, ни настойчивость Куйбышева. Ему захотелось встать и уйти, хотя бы потому, что в глазах собеседника мгновенно исчезло любопытство.
— Какая же это такая важная работа? — ради интереса спросил он, заранее зная, что откажется от нее.
— Вы, как георгиевский кавалер, должны записаться добровольцем в сто второй запасный полк, который квартирует в городе.
— Это зачем?
— Солдатскую массу перетянуть на нашу сторону. Это раз! Избрать полковой комитет. Два! Постараться его возглавить. Три!
Василия обожгло. Он сразу понял, какая это, в сущности, важная работа именно сейчас, и тут же представил себя в новой роли.
— Слушаюсь! — выпалил он так, словно перед ним сидел полковой командир.
— Вот это другой разговор, — улыбнулся Куйбышев, — а слесарем-механиком успеете.
102-м пехотным запасным полком командовал полковник Курбатов. Рьяный царский служака отделился казарменной стеной от города и оберегал солдат от влияния событий и проникновения революционных агитаторов. Пышная черная борода и длинные усы придавали его лицу, на котором выделялись зеленые, как трава, глаза, суровое выражение.
— Мы, военные, не политики, — кричал он офицерам. — Наше дело — сторона. Увольнительные отменяю!
С трудом Василию удалось добиться разговора с Курбатовым.
— Ваше высокородие, прикажите зачислить рядовым в вверенный вам полк.
Полковник разгладил бороду обеими руками.
— Ну зачем ты мне нужен? И кому ты будешь присягать?
— Тому царю, который сядет на трон.
— Сейчас, голубчик, неопределенное положение.
— Ваше высокородие. — умолял Василий, — опять же примите во внимание, что я унтер-офицер и георгиевский кавалер.
— Это я вижу. С рядовым разговаривать бы не стал. Что же мне с тобою делать?
— Вы отец солдатам, ваше высокородие, вам и решать.
— Как звать? — спросил полковник, сдаваясь под напором Василия.
— Унтер-офицер Василий Блюхер!
— Вот так знатная фамилия! Ладно!
И Василия зачислили унтером 102-го запасного пехотного полка. Теперь он не переступал ворот казармы, не имел связи с комитетом партии, но знал, что Куйбышев ждет его решительных действий.
Полковник Курбатов был недалекого ума, не понимал, что солдат нельзя отгородить от революции. В полку шла незаметная, но большая внутренняя борьба.
Новый унтер быстро освоился с обстановкой, подобрал несколько смелых солдат и ночью поговорил с ними.
— Ты не бойся, — уверял его солдат Кошкин, высокий, белобровый весельчак. — Мы тебя поддержим.
— Пять человек не поддержка, — объяснил Василий. — Здесь надо навалиться всем полком, Курбатову дать коленом под зад, а офицеров, которые будут нам мешать, — в карцер.
— За две недели все будет готово, — убедил его Кошкин. — Не сразу бог сотворил мир.
Как-то на занятиях Василий заметил, что командир полка стоит у окна и наблюдает за ним. «Все вижу, — подумал он, — меня не проведешь». Вызвав из строя Кошкина и поставив его рядом с собой, Василий стал показывать, как надо колоть чучело штыком. Курбатову, очевидно, это понравилось. Он вышел на плац и, приблизившись к Василию, одобрительно воскликнул:
— Молодец! Вот так и учи солдатушек.
— Рад стараться, ваше высокородие!
Курбатов удалился, а Василий, желая узнать, как солдаты к нему относятся, прошипел вслед:
— Царская шкура! Скоро посадим тебя на наш харч.
Солдаты втихомолку рассмеялись, но Василий тут же пригрозил:
— Цыть! — И снова, оглянувшись, спросил: — Не убрать ли его, землячки? Сами справимся с полком. Как думаете? Повсюду комитеты, а мы вроде как за решеткой.
— Давно пора! — решительно поддержал Кошкин, не выходя из строя.
— Братва! Вам сообщат, на какой день и час мы возьмем полк в свои руки, — повторял Василий чуть ли не каждому, проходя вдоль строя. Скосив глаза, снова заметил в окне полковника. — Смирно! — мгновенно раздалась его строгая команда. Солдаты замерли.
— Артист! — прошептал Кошкин своему соседу, намекая на унтера. — Понимает дело.
Встречая Кошкина, Василий оглядывался и, убедившись, что никого рядом нет, всякий раз спрашивал:
— Что твой бог сотворил?
— Ночью доложу.
Василий, Кошкин и привлеченная ими группа солдат тайком готовились к перевороту. Уговорились арестовать Курбатова, всех офицеров и открыть ворота казармы. Решено было проделать это в воскресный день за полчаса до начала подъема. Стоявших на внутренних и наружных постах предупредили — никого из начальства не выпускать из казарм.
— Это плевое дело, унтер, — уверял Кошкин, — я наших солдат знаю.
Кошкин оказался прав. Стоило Василию сколотить вокруг себя несколько расторопных и верных солдат, как арест кучки офицеров оказался вовсе не трудным делом.
В назначенное утро у Василия, как назло, разболелись раны на спине, но он скрыл это от друзей. Превозмогая боль, он вошел к Курбатову на квартиру и арестовал его.
— Сволочь! — процедил полковник, натягивая с трудом сапоги.
— Зачем так грубо? — осклабился Василий. — Мы с вами потом поговорим культурненько.
Непокорные офицеры были обезоружены, их посадили под замок.
После завтрака полк собрался.
— Лишнего не болтать, — начал свою речь Василий. — В России давно революция, а нас держат взаперти. Война с германцем нам не нужна. Солдату охота вернуться домой и отхватить себе землицу. Кресты мне больше не нужны, да и погоны тоже. — Он тут же сорвал их и спрятал в карман. — Я предлагаю избрать полковой комитет. Называйте фамилии, а Кошкин запишет. Проголосуем. Выбирать надо таких, которые никого бы не боялись и дрались за народную власть. Я принадлежу к партии большевиков, они думают о рабочем и мужике, а не о помещике и фабриканте.
Не обошлось без шума. Солдаты курили, каждый хотел «высказаться». Василий терпеливо слушал всех, подбадривал, хлопал им в ладоши. Под конец избрали полковой комитет во главе с председателем Блюхером.
В то же утро Василий, не застав Куйбышева в горкоме партии, отправился к нему домой на Предтеченскую улицу.
— Где пропадал, солдат? Достанется тебе, — шутливо пригрозил Куйбышев.
— Революцию делал в полку, — ответил в тон Василий. — Разрешите доложить?
— Садись, рассказывай! — Куйбышев подчеркнул этим, что принимает не рапорт, а информацию большевика, которого горком направил в полк.
— Час назад сто второй запасный пехотный полк избрал Совет солдатских депутатов. Командир полка полковник Курбатов и часть офицеров под арестом.
— Кого председателем комитета?
Василий смущенно опустил глаза:
— Меня!
— Хорошо! А ты упрямился: «Хочу слесарем-механиком, к другой работе не способен». Теперь, голубчик, надо продумать план работы, но в полк ни одного меньшевика и эсера на пушечный выстрел не подпускай.
Только через неделю Блюхер вызвал к себе бывшего командира полка.
— Садитесь, гражданин Курбатов! — пригласил его Василий, сидя за столом в том самом кабинете, где совсем недавно полковник кричал и грозил наказанием всем, кто снюхается с революционерами. — Я не собираюсь с вами детей крестить, — продолжал Василий. — Вы думаете о том, какую, дескать, змею отогрели на своей груди. Пустое дело. Не я, так другие бы вас арестовали и посадили в карцер. Никто вас не обижает. Рукоприкладство, которое вы так любили, отменено, поэтому бояться вам нечего, а харчи получаете с солдатской кухни. Все в полном порядке. Спасибо скажите, что солдаты вас пощадили, а могли и вздернуть, как в других полках. Это очень просто, гражданин Курбатов. Давайте поговорим по-деловому.
— Какие у меня могут быть дела с бунтовщиками? — окрысился Курбатов.
— Неужели вы не понимаете, что вся Россия взбунтовалась и дала царю по шапке. Теперь у помещиков отберем землю, у фабрикантов заводы.
— Я присягал царю и останусь верным ему, — упрямился Курбатов.
— Не поплывете со всеми — волна вас смоет, и не станет гражданина Курбатова. Подумаешь, одним полковником меньше. Вы боитесь самосуда? Этого в полку не будет. Я от вас требую одного: дайте подписку, что не будете участвовать в борьбе против большевиков, — и через час вы свободны. Катитесь куда глаза глядят.
— Отказываюсь! — глухо произнес Курбатов.
Василий поднялся, подошел к полковнику, заглянул ему в лицо:
— Вот у вас и Станислав и Анна. А за что? Вы в глаза видели немцев и австрийцев? Вшей кормили в окопах? Баланду ели из грязного котелка? А вот у меня не спина, а мясное варево. Два года не залечиваются раны, два года тяжело лежать на спине. За кого я воевал? За царя-батюшку? А он мне что дал? Смог бы, так набил бы мне полный рот свинца. А мы, большевики, великодушны. Мы вас не расстреливаем, а просим — уходите к чертовой бабушке и не мешайте нам. Помешаете — запомните! — тяжелая рука опустится на ваши головы. Всё! Идите и обдумайте! — И громко крикнул: — Товарищ Кошкин!
В комнату вошел Кошкин в сопровождении двух солдат.
— Уведите арестованного!
— Есть увести!
На другой день Курбатов и арестованные офицеры дали подписку и были отпущены на свободу.
Едва сошел снег на полях, как с Каспия потянул теплый ветер. На высоких берегах Волги земля под вековыми лесами парила. Еще шелестела под ногами прелая листва, еще на рассвете кое-где блестели пятна инея, но природа уже пробуждалась к жизни.
Омытые первыми дождями леса расправили ветви и раздались вширь. В мае зацвела черемуха, пряный запах ее дурманил. Волга горделиво понесла тяжелые воды. С полей доносился терпкий запах свежей земли.
Василий вышел на берег. Над рекой раскинулось просторное, свежее, чуть подсиненное небо. При виде этой красоты ему стало грустно: покинув деревню мальчонкой, он почти не знал ее. Величественные закаты и восходы солнца он по-настоящему наблюдал только на фронте. С фронта же хорошо помнил осенние нудные дожди на протяжении всей ночи, а утром все, пропитанное влагой, темнело и тяжелело. С оголенных ветвей, шурша, падали капли, — казалось, деревья плакали, мечтая о солнце, которое поможет им одеться в листву. Он помнил и пахнущий хвоей лес, в котором приятно было вязнуть, и тот же снег, но уже пористый, в грязных точечках, холодивший ноги и спину в сырых окопах.
Теперь красавица Волга, река надежд, вызывала в нем прилив сил, и он вспомнил стихи о Волге своего земляка Некрасова, которые проникновенно читал Нагорный:
Иных времен, иных картин Провижу я начало В случайной жизни берегов Моей реки любимой. Освобожденный от оков, Народ неутомимый Созреет, густо заселит Прибрежные пустыни.Он вспомнил рассказы отца про тяжелую жизнь тех, кто строит тихвинки и полулодки, про мужиков, которые готовы были за два пятиалтынных работать от зари до зари, вспомнил как уже о прошлом России, и от этого стало радостней на душе.
«Волга! — вздохнул он полной грудью, глядя на могучую реку. — Теперь тебе придется кормить много людей, и ты не услышишь больше о себе грустных песен. Веселье, задор, молодость придут на твои берега».
Как Василий ни радовался весенней Волге, запахам земли и леса, но его тянуло на завод, к станкам. Он без сожаления расстался бы с солдатским комитетом и пошел бы на Трубочный. Еще в госпитале он знал, что ему никогда больше не быть в армии, и радовался этому. В памяти часто возникал кровавый день на Дворцовой площади, тяжелые бои на фронте, смерть товарищей по роте.
Он медленно брел в раздумье по высокому берегу. Нет, на одиночество он не мог пожаловаться, повсюду встречались верные друзья: в Казани Нагорный и Кривочуб, сейчас товарищи по полку, в горкоме опытные большевики. Но хотелось чего-то своего, интимного и прочного, а суровое время требовало полной самоотдачи.
Приглашенный Куйбышевым на заседание горкома, Василий, слушая выступления товарищей, приободрился, стал лучше понимать, что надо делать, к чему готовить себя и солдат. Куйбышев рассказал о поездке в Питер на Седьмую Всероссийскую конференцию большевиков.
— Владимир Ильич выступил с тезисами, в которых выдвинул лозунг завоевания власти рабочим классом мирным путем.
— Как это понять? — спросил Василий.
— Поясню! — ответил Куйбышев. — Нам, большевикам, надо завоевать большинство в Советах. Первый этап революции завершен. Наступает второй, более сложный. Сейчас у нас двоевластие: с одной стороны, Временное правительство, с другой — Советы. Для тебя, Блюхер, работы непочатый край. Сто второй запасный пехотный полк — наша опора в Самаре, но кроме него в городе большой гарнизон. Его тоже надо сделать большевистским.
Эта простая и ясная речь открыла Василию глаза. Он готов был, как на фронте, ринуться в атаку и сразу завоевать весь гарнизон. Куйбышев его понял.
— Вижу — уже загорелся, — предупредил он. — Это хорошо, но делать надо не с горячей головой. Взрывать надо не с краю, а изнутри. Пусть лучшие агитаторы проникнут в части, завоюют сердца солдат, и тогда нам обеспечено большинство в Совете.
Накал политической борьбы в стране достиг предела. В июне Керенский погнал солдат в наступление по всему фронту. Снова оросились поля русской кровью. Возмущенные питерские рабочие вышли на улицы с протестом, но в них стреляли по приказанию Временного правительства. Демократические свободы были попраны. Ленин предложил созвать шестой съезд партии. На насилие буржуазии решено было ответить другой тактикой — свергнуть Временное правительство и силой взять власть.
Самарские рабочие и солдаты гарнизона собрались на митинг и поддержали большевиков.
Каждый день из столицы приходили неожиданные новости. Говорили, будто Керенский приказал арестовать Ленина, но Владимир Ильич успел уйти в подполье и оттуда руководит большевиками. О главнокомандующем русской армии Корнилове говорили, что он поднял мятеж, двинул с фронта на Петроград казачьи части, чтобы разгромить Советы, но рабочие и революционно настроенные солдаты подавили мятеж, а самого Корнилова арестовали.
Это там, в Питере. А здесь, в Самаре, на выборах в Совет победили большевики — за них голосовал почти весь гарнизон. Блюхера избрали заместителем председателя военной секции.
— Вот теперь тебе надо заняться формированием отрядов Красной гвардии, — поучал Куйбышев Василия. — Не всякого бери, а того, кто согласен бороться за власть Советов до последней капли крови. Вербуй как можно больше рабочих, на них вся надежда.
Наступили горячие дни. Свободного времени в обрез, дел по горло. 102-й полк распустили. Половина солдат записалась в отряд Красной гвардии, другая не согласилась. Блюхер приказал выдать уезжающим на родину хлеба, сала, сахару и махорки. Их проводили на вокзал и попрощались. Все были уверены, что против Советов эти солдаты не пойдут, а домой их тянет боязнь лишиться при разделе земли своей доли.
Началась сложная и кропотливая работа по созданию новой армии, а кругом враги. Возвращаясь как-то поздним вечером в казармы, Василий проходил через Струковский сад. Днем отсюда открывался просторный вид на Волгу. В самом саду цветники, фонтаны. Некогда он принадлежал богатому чиновнику Струкову, но его отобрала казна за недоимки. Сейчас из темной тенистой аллеи доносился тоненький тенорок:
Все б на тот простор глядел, вместе с Волгой песни пел.Неожиданно перед Василием выросли два здоровых парня, один из них был в матросском бушлате и бескозырке.
— Дай закурить, браток! — попросил матрос.
Василий достал из кармана кисет и, подавая, предупредил:
— Махорочка, не табачок.
В ту же минуту матрос сильно ударил Василия кулаком в грудь. Он отлетел в сторону, но удержался на ногах и, выхватив из кобуры револьвер, выстрелил в темноту. До него донесся возглас: «Береги, Блюхер, голову!» И все смолкло. Голос в аллее уже не пел. В небе светились звезды.
Василий сошел с дорожки и укрылся за деревом. Так он простоял с полчаса и, только убедившись, что никого нет, выбрался из сада. На другой день он приказал ежевечерне с наступлением темноты отправлять патрули по всему городу. Жители почувствовали установление нового, революционно строгого порядка.
Весть о свержении Временного правительства пришла в Самару вечером. На другой день был сформирован Военно-революционный комитет во главе с Куйбышевым. Блюхера избрали членом Ревкома. Стремительный темп новой жизни захватил его целиком. Весь день он то в отряде, то в гарнизоне, то в горкоме партии. Теперь он почувствовал, как круто повернулась его жизнь. Он не помнил, где и когда спал, что ел. Он подписывал приказы, сколачивал отряды, разбирал жалобы, выступал с речами до хрипоты, похудел, осунулся, но никогда голова так ясно не работала, как сейчас. Он даже позабыл о ранах. Никто не догадывался о физических болях, которые мужественно переносил Василий, порой ему самому казалось, что их вовсе не было. Напоминала о спине только перевязка. Выпросив как-то в лазарете за Лесной пристанью новые бинты, а у какого-то городского аптекаря пузырек рыбьего жира, Василий ночью в кабинете полкового комитета, где спал на диване, решил сменить перевязку. Он вызвал Кошкина и завел с ним разговор.
— Тяжела служба? — спросил Василий.
— Выдюжим, товарищ командир.
— Ты тутошний?
— Так точно!
— На фронте был?
— Два раза ранили, потом в запасный полк попал.
Василий почесал мизинцем свои щетинистые усики и, повременив, снова спросил:
— Язык за зубами умеешь держать?
Кошкин недоуменно пожал плечами и в свою очередь смело спросил:
— Вы чего хотите, товарищ командир?
— Понимаешь, дружок, меня в бою покалечило. Лечился в госпитале, раны понемногу зажили, но бинтов я не снимаю. Хорошо бы их сменить. Один не справлюсь. Подсоби! Но никому про это не рассказывай.
Он вышел на середину комнаты, снял с себя гимнастерку. Кошкин пристально следил за тем, как Василий с предосторожностью стянул нательную рубаху, и перед ним предстал человек, забинтованный от подмышек до пояса сбившейся в комок марлей. Долго искал Василий концы, наконец нашел, развязал их и быстро освободился от бинтов. При свете электрической лампочки перед Кошкиным вырисовалась красно-лиловая спина, словно обваренная кипятком.
— И здорово же вас покалечило, товарищ командир, — произнес он сочувственно. — Дотронуться можно?
— Только не дави.
Василий бережно смочил тряпочку рыбьим жиром, — перед глазами невольно возник образ Клавдии с ловкими руками и женской умелостью, — подал ее Кошкину и сказал:
— Смажь!
Кошкин легко провел от лопаток до пояса и спросил:
— Чего таите от всех?
— Стыжусь.
Кошкин понимающе посмотрел на Василия, безмолвно перебинтовал спину и вышел из комнаты. И только Блюхер остался один, как проворной походкой вошла девушка в зеленой стеганке и сапогах. Василий узнал ее — она работала в горкоме.
— Чего тебе, дочка? — Василий неловко приподнял плечи оттого, что Кошкин туго забинтовал его.
— Валериан Владимирович срочно вызывает.
«Что бы это могло случиться?» — подумал он.
Куйбышев встретил его приветливо.
— Я тебя вызвал ночью потому, что час назад получил телеграмму от Ленина. — Куйбышев испытующе посмотрел на Блюхера и спросил: — Гарнизон нас не подведет?
Блюхер пожал плечами («На совесть забинтовал Кошкин», — подумал он) и ответил:
— Вроде как надежный.
— В других городах тоже так думали, а вышло наоборот, — как бы разъясняя, сказал Куйбышев. — У нас есть люди, которые считают, что царские генералы смирились и уже сказали: рады, мол, служить советской власти. Вышло же по-другому. Вот полковник Дутов со своими казаками захватил Оренбург, отрезал Среднюю Азию от центра и идет на Челябинск. Если он его захватит, то питерским и московским рабочим не видать сибирского хлеба. Ленин приказывает помочь челябинцам. Надо им послать пятьсот красногвардейцев с пушками. Мы в Ревкоме посоветовались и решили назначить тебя комиссаром отряда. Что скажешь?
Василий, растерявшись, молчал. Он понимал, что этот отряд вступит в неравный бой с опытными казаками, у которых большая военная выучка, и кто знает, как он потом посмотрит в глаза Куйбышеву, если Дутов разобьет отряд.
— Молчишь? — спросил Куйбышев, стараясь его приободрить.
— Поле боя — не казарма. Где мне, унтер-офицеру, командовать чуть ли не полком?
— Есть такая поговорка: «Не боги горшки обжигают». Характер у тебя, Василий Константинович, спокойный, человек ты осмотрительный, то, что тебе поручала партия, выполнял аккуратно. К тому же ты военный. Вот почему я на тебя надеюсь. До утра продумай это дело, а я займусь подготовкой железнодорожных вагонов и паровоза.
— Ладно! — с трудом согласился Василий. — Но если что не так — не судите строго.
— Не выйдет! — предупредил Куйбышев. — Это не разговор большевика. Ты член Ревкома и несешь ответственность за отряд. Помогать будем, но у тебя самого голова на плечах. Не на счастье надейся, а на силы отряда, на мужество людей. Счастье что? Придет и на печи найдет, а счастье без ума — дырявая сума.
Василий приободрился. «Да как я мог раздумывать? — ругал он себя. — Кому же командовать-то?»
Через два дня Самарский ревком проводил эшелон на Челябинск. Блюхер, одетый в кожаную куртку с перехваченной через плечи портупеей, стоял на подножке вагона и махал рукой оставшимся товарищам.
ГЛАВА ПЯТАЯ
За станицей стыла тишина, а в добротном доме верхнеуральского казака Прова Ефремовича Почивалова собрались гости. И станичный атаман, и урядник, и писарь знали, что неспроста хозяин так щедро угощает, — по-видимому, они ему понадобились.
Пров Ефремович верховодил в станице. Его слово — закон. Звали казака на военную службу — он первым делом шел к Почивалову за советом. Церковного старосту надо выбирать — опять же к Почивалову. А уж если ранней весной нехватка в семенах или какому-нибудь казаку надо сына пристроить на работу, то уж без Прова Ефремовича не обойтись. У него и гурт овец, и десяток коров, и быки, и кони — резвей не найти.
Хозяин и гости были одеты в казачьи штаны с синими лампасами — в отличие от донцов и кубанцев — и в мундиры, словно собрались на парад. Жена Почивалова в шелестящем поплиновом платье и в темной кофте, стягивавшей грудь, расставляла на столе всякую снедь.
Раздирая крепкими зубами жирного куренка и чавкая, Пров Ефремович спросил у станичного атамана:
— Так что ты слыхал, Митрич?
Станичный атаман вытер ладонью губы.
— Гуторят, будто в Челябу пришло несметное войско с немецким генералом.
— Гм! — промычал Почивалов. — И войско немецкое?
— Кабы! — с сожалением ответил Митрич. — Войско-то собрали с бору по сосенке: которых из Уфы и Самары, которых из Троицка и Стерлитамака, а больше фабричные да с ко́пей.
— А немецкий генерал откуда взялся?
— За деньги, вестимо, купленный. Деньги, Пров Ефремович, не пахнут, на них что хочешь купишь, хоть всю нашу станицу. А фамилия ему Блюхер.
Станичный атаман, по-видимому довольный тем, что сообщил новость, выпил кружку холодного кваса и потянулся к поросенку с гречневой кашей.
— А в Троицке что слыхать? — снова спросил Почивалов.
— Был я у атамана Токарева. Связь у него с Челябой справная. Ему из городской думы верный человек донесения шлет. Пишет, что придавить бы Совет — и вся недолга.
— Токареву это сподручно, — подсказал урядник, — в Троицке два казачьих полка. Станичный атаман тяжело вздохнул.
— Чего ты, Митрич? Аль веру потерял в казацкую силу?
— Казак казаку тоже рознь. Раньше, бывало, выйдет казак…
— Про раньше забудь, — оборвал его Почивалов, — мы про нонешний день гуторим.
— А ноне не всякий казак с нами. Их большевики взбаламутили, они и кричат: «У нас тоже права, мы по-своему желаем жить». Токарев хоть их держит в узде, да не легко ему. Послал он в Челябу две сотни с есаулом Титовым. Тот подошел к поселку Шершни, это под самым городом, и послал Совету ультиматум.
— Едрена палка, — вскипел Почивалов, — нашелся дипломат. Его дело идти и бить, а он — ультиматум… Ну, а дальше?
— Пришлось Совету власть вернуть думе.
— Вот это другой разговор, — пробурчал Почивалов, удовлетворенный действиями Титова, — а то — ультиматум.
За окнами зафыркали лошади. У дома остановилась караковая с подпалинами в пахах пара, запряженная в широкие санки. С облучка спрыгнул зайчишкой молодой, вылощенный есаул с тонкой ниткой усов, ловко отбросил медвежью полость и помог казачьему полковнику пройти в дом. В сенцах они стряхнули с себя веничком снег.
— Милости прошу! — раздался голос Почивалова. — Дорогому гостю низкий поклон!
Полковник бравой походкой вошел в комнату. Станичный атаман, урядник и писарь мгновенно, словно их подбросило пружиной, вскочили и замерли.
— Садитесь, господа! — вежливо попросил полковник, сел за стол и обратился к Почивалову: — Как живете, Пров Ефремович? Сынок сказывал, что жалуетесь на ноги.
— Премного благодарствую, Александр Ильич, за заботу обо мне и сыне. Что ноги дюже болят — верно, а больше душа. Прямо огнем горит. Невмоготу жить с красными.
Есаул, сын Почивалова Сашка, приехавший с полковником, наклонился над его ухом и что-то прошептал. Полковник одобрительно покачал головой.
— Господа казаки! — раздался тоненький голосок есаула. — С нами высокий и глубокоуважаемый гость — наказной атаман Александр Ильич Дутов.
В глазах гостей застыл страх. «Господи! — подумал станичный атаман, — сам Дутов пожаловал. Так вот зачем Почивалов нас позвал».
— Уж не знаю, чем вас потчевать, — забегала жена Почивалова. — Уж мы так рады вам, так рады… На вас одна надежда…
Сухое лицо Дутова выражало горделивую уверенность. Перед ним всегда маячил образ генерала Корнилова, которому он верил и был предан душой. После неудачного восстания Корнилова Дутову удалось избежать ареста. Явившись к Керенскому, он стал развивать ему план мобилизации оренбургского казачества на помощь Временному правительству.
— Подумайте, Александр Федорович, — убеждал его Дутов, — в одном Оренбурге две школы прапорщиков и казачье юнкерское училище. Даже с этими силами я разгоню Советы, передам всю власть эсерам. Россия никогда не забудет своего спасителя.
Адвоката Керенского опьяняло славословие казачьего полковника.
— Слушайте меня! — произнес после мучительного раздумья Керенский. — Вы едете в Оренбургскую губернию и Тургайскую область особоуполномоченным Временного правительства по заготовке хлеба. Понятно? Ни пуха ни пера!
Прощаясь, Дутов произнес:
— Car tel est notre bon plaisir![1]
— Вы знаете французский, полковник? — удивился Керенский.
— Я закончил академию генерального штаба.
Керенский ухмыльнулся, и они расстались почти друзьями.
Сейчас Дутов смотрел на Почивалова и его гостей, которых он приказал позвать через Сашку, как на сообщников, оценивая их способности.
— У меня мало времени, господа, но я прошу вас помочь. Вам, — обращаясь к Почивалову, — уже трудно, а остальных прошу безотлагательно выехать в станицы и сообщить, что я формирую казачьи сотни и полки для борьбы с большевиками и Советами. Пусть казаки собираются в станицах под Оренбургом. Их там разыщут мои вербовщики. Я же буду находиться у своей жены в Краснинском поселке, но это секрет.
Почивалов, станичный атаман, урядник и писарь, накинув на себя шубы, вышли на улицу проводить Дутова и молодого есаула. Все понимающе молчали. Лишь один Пров Ефремович перекрестил полковника и сына, тихо шепча про себя молитву.
Застоявшиеся кони рванули с места и вскоре скрылись в снежном облаке.
Старый казак Дмитрий Иванович Каширин за долголетнюю службу в должности атамана Верхнеуральской станицы был произведен в первый казачий офицерский чин подхорунжего. Теперь он уже состарился и ушел в отставку, а атаманом стал Митрич, давно покорившийся Почивалову.
Два сына Каширина — Николай и Иван — окончили Оренбургское юнкерское училище, поступили на военную службу и были произведены в офицеры. С фронта оба писали отцу заботливые письма.
Не раз Николай, глядя с затаенным презрением на своих однополчан-офицеров, тешил себя мыслью, что когда вернется домой, то выйдет в отставку и будет в станице сеять хлеб, а не пить водку и играть в карты. Он с отвращением смотрел на бритых до синевы генералов, которые больше знали толк в железнодорожных накладных на интендантское имущество и в акциях крупных акционерных обществ, нежели в тактике, и с восторгом встречали шляхтичей, приезжавших к ним со своими расфранченными дочками. Свои мысли он скрывал, ни с кем не делился, а отцу писал, что жив и здоров и по возвращении привезет ему полную фурманку гостинцев.
Иван был горяч, несдержан. В одном похож на старшего брата — жалел, что пошел по «военной линии», и не скрывал этого. Казаки любили его за доброе к ним отношение и между собой говорили: «Нам бы такого станичного атамана — во как бы жилось!»
Уже в зрелых годах жена Дмитрия Ивановича родила еще девочку, а потом, рассорившись с мужем, уехала к сестре в другую станицу. Остался Каширин бобылем коротать жизнь.
Почивалова он не любил и понимал, что тот, как паук, опутывает всех паутиной, даже станичным атаманом и урядником управляет, как наездник конем. На все сходы он приходил, скромно садился позади всех и всегда молчал.
— Ты почему слова не скажешь, Дмитрий Иванович? — спрашивал Почивалов. — Сыновья твои в офицерах ходят, да и сам ты подхорунжий.
Каширин только махнет рукой и молча уйдет домой. А дома тоска без жены и детей. Вот уж спасибо соседу — тот его не забывает.
— Садись, Прохор Иванович, — приглашал он его, — закурим трубки, вспомним молодые годы. Ты службу начал вперед за меня аль после?
Прохор Иванович Семушкин был беден как церковная мышь, и Каширин нередко ему помогал. Сын Прохора служил казаком в одном полку с Николаем Кашириным, а тот в письмах просил отца не забывать Прохора Ивановича и из денег, посылаемых ему, отдавать часть старику: дескать, на наш век нам хватит.
До полуночи старики, водившие много лет хлеб-соль, беседовали, вспоминая молодые годы, казачью удаль и службу.
В тот день, когда Дутов с Сашкой Почиваловым приезжали в станицу, Семушкин пришел к Каширину ранее обычного.
— Садись, Прохор Иванович, закурим, вспомним молодые годы, — предложил по обыкновению Каширин. — Загуляла Расея, не поймешь, кто за кого.
— Нам с тобой, Дмитрий Иванович, в сторонке быть. Чуял я сегодня, что к Прову гости наведывались.
— Гости! — с усмешкой повторил Каширин. — Какие у него могут быть гости? Он как женился — человека на порог не пускает, думает, что утаит от людей свое богатство.
— Были гости, были, — повторил Прохор, — Сашка приезжал, а с ним полковник Дутов.
— Ты пошто знаешь?
— Меланья забегала к уряднику, а он крепко выпимши кричал на кухне: «Всех разнесу, мать вашу растак, с самим Дутовым у Прова Ефремовича виделся, наказ от него получил».
— Не к добру, знать, — тихо произнес Каширин и закурил обгоревшую по краям вишневую трубку.
В воскресные вечера на углу Безаковской улицы и Чистяковского переулка в Оренбурге останавливалась пролетка, в которой обычно сидел высокий, сухой человек военной выправки, в черном пальто и в широкополой мягкой шляпе. Он незаметно проходил через двор к маленькому особнячку, и в эту минуту, словно по сигналу, перед ним открывалась дверь. Он поспешно входил, и дверь тотчас плотно закрывали. На улице оставались невидимые для публики шпики, охраняя человека, скрывшегося в особнячке.
Когда пришла зима, незнакомец сменил пролетку на санки, а пальто и шляпу на доху и каракулевую шапку.
Как и всегда, его встретила сегодня нарядная женщина с пышной прической и протянула руки.
— Какой вы аккуратный, Александр Ильич, — произнесла она свою обычную фразу, увела его в полутемную спальню и усадила на широкую тахту.
Он ласково потрепал ее, как дородного коня, по оголенным плечам и при этом произнес непонятные ей французские слова, которые она приняла как комплимент.
В этой полутемной комнате Дутов, повысив себя по просьбе Надежды Илларионовны в чин генерала, проводил всю ночь до понедельника и на рассвете незаметно уезжал.
Никто не знал, как Дутов познакомился с Надеждой Илларионовной, но сам генерал распространил версию, что она его кузина, мужа которой расстреляли большевики в Петрограде за участие в корниловском мятеже.
Надежда Илларионовна через своих агентов получала сведения, что замышляет Совет, и рассказывала Дутову все подробности. Александр Ильич вел себя в обществе Надежды Илларионовны как богатый человек, умеющий щедро награждать. Он дарил ей золотые кольца и брошки, которые ему добывали казачьи офицеры, нападавшие под видом большевистских комиссаров на богатые дома, а Надежда Илларионовна прятала их в свой ларец, находившийся в потаенном месте кухонной стены. Она была горда тем, что ей нежданно-негаданно привалило счастье в лице наказного атамана оренбургского казачества, и тайно мечтала о супружестве с ним.
Прощаясь на рассвете во второй понедельник ноября семнадцатого пода, Дутов поцеловал ее в обе щеки и предупредил:
— Может случиться, что я не приеду в следующее воскресенье. Предстоят важные дела.
— Да хранит вас господь для меня и России, — ответила Надежда Илларионовна.
Митрич, урядник и писарь отправились по станицам. В Аннинском поселке, в Великопетровском, Александро-Невском и Куликовском их ждала удача. Казаки внимательно слушали дутовских посланцев, готовили коней и себя к походу.
Иногородним ничего не говорили. Им не верили, хранили все в тайне. Не раз, бывало, казак кричал иногороднему на дороге: «На казачьей земле, гад, живешь, а казаку не поклонишься. Зарубить тебя — святое дело для бога сделаю».
Проселочными дорогами и тропками тянулись к Оренбургу обозные двуколки, фургоны и телеги с продовольствием.
Сашка Почивалов ликовал. Хорошо жилось ему в адъютантах у наказного атамана. Еще не так давно он робел перед грозным родителем, а теперь отец сам гордился сыном и готов был слушать его команду. Неудовлетворенное честолюбие Сашки еще больше требовало от жизни, хотелось подчинять, покорять, заставить любить себя.
Выйдя однажды из здания кадетского корпуса, стоявшего на набережной реки Урал, он увидел женщину, которая прошла мимо и направилась по Троицкой улице. Сашку словно оглушило. Он поплелся за ней. Женщина дошла до Чистяковского переулка, и тут Сашка, не в силах себя сдержать, подошел, небрежно взял под козырек и произнес:
— Прошу прощения, но ваша красота заставила меня…
— Вы так молоды, — перебила женщина, — а я для вас так… — и не договорила.
— Это не имеет никакого значения… — Сашка не знал, о чем говорить, но настойчивость его росла.
Они дошли до угла Безаковской улицы. Женщина юркнула во двор, а Сашка, не отставая, за ней. Она открыла ключом дверь каменного особнячка и молча впустила Сашку. Он пробыл у нее до вечера.
Надежда Илларионовна узнала, что он адъютант Дутова, и посоветовала ему приехать вместе с полковником.
Дутов приехал, любезно беседовал с хозяйкой особняка и через час отправил Сашку за пролеткой. Когда адъютант ушел, Дутов сказал привычным для него тоном приказа:
— Если ему вздумается приехать сюда одному — не принимать. Я буду бывать по воскресным дням, но никто не должен об этом знать.
Надежда Илларионовна понимающе кивнула в ответ.
Сашка злился, что атаман вырвал у него из зубов добычу, но не подавал вида, хотя тоску унять не мог.
— Поезжайте к отцу, — приказал ему Дутов, — проверьте, как идет вербовка.
Сашка повиновался. Невдалеке от станицы он придержал своего подбористого коня и поехал шагом. Мимо пролетели две вороны и закаркали, Сашка подумал, что не к добру, и, рассердившись, пришпорил коня.
Подъезжая к Верхнеуральской, он увидел скачущего навстречу казака. Поравнявшись, с трудом узнал в нем Ивана Каширина, вернувшегося на днях домой. До войны они не встречались: и Ваня и брат его Николай были старше Сашки. Почивалов натянул поводья и ловко осадил коня.
— Здравия желаю, Иван Дмитриевич!
Широкоплечий Каширин, приподняв правую бровь, строго посмотрел на Сашку и спросил:
— Не сынок ли Почивалова?
— Так точно!
— Кому служишь? — без хитрости спросил Каширин.
— Оренбургскому казачеству.
— Дутову, значит, — ухмыльнулся Иван.
— А Дутов чем плох? Он большевикам не продался.
Каширин хотел что-то ответить, но, по-видимому, передумал и без слов — с места машистой рысью — погнал коня, оставив Сашку в недоумении.
Дмитрий Иванович от радости чуть было не лишился рассудка: через неделю после приезда Ивана явился Николай. Оба рослые, крепкие, мужественные.
— Что же это выходит, сынки? — спросил Дмитрий Иванович, подобрав заскорузлыми руками бороду, поседевшую по краям. — Раз революция взошла, значит, должно выйти замирение, а тут обратно война.
— Так не с германцем, а с Дутовым и Почиваловым.
— Не осилите, войско у него большое. Не один там Сашка, а рать. Всех казаков вербуют, грозят, что красных и иногородних… — и прижал большой ноготь к столу. — Господи! До чего дожили!
— Дело, батя, простое, — вмешался Николай. — Мы с Иваном уже порешили: вербуем отряды и пойдем на дутовцев.
Старик вытаращил от удивления глаза, но не проронил ни слова.
— Идите и вы с нами. Если не сдюжите на коне — повезем на санях, на бричке, на чем хотите. Мы с Иваном за советскую власть, а не за царя.
— Так царя и нет, — вырвалось у Дмитрия Ивановича.
— Это, батя, для детишек утеха, а мы знаем, что Дутовы его найдут, посадят на трон, а народ как травили, так и будут травить. Мы пойдем верной дорогой. И иногородние пойдут с нами, и башкиры, и все, кто хочет вольной жизни. Останетесь здесь — Почивалов все порушит, пожжет, камня на камне не оставит, а вы у него, как вол, под ярмом ходить будете.
— Не бывать этому, — вскипел Дмитрий Иванович и ударил кулаком по столу. — Я и без царя и без Дутова проживу.
— Кто-то же должен государством править, — пытаясь втолковать отцу, объяснял Николай, — не царь, так Керенский, не Керенский, так Дутов. Хоть мы с Ваней и офицеры, а стоим за особого человека. Фамилия ему Ленин. Не о себе у него забота, а о казаке да рабочем, иногороднем да мужике.
Дмитрий Иванович слушал, смотрел на сыновей, переводил глаза с одного на другого, где-то глубоко в душе соглашался с ними, но не хотел сразу сдаваться. «Как так, — думал он, — мне уже под семьдесят, сколько я годов переворошил, а они меня учат. Не маленький, я свои понятия имею».
Ночью старик, лежа на кровати, ворочался, не мог уснуть после разговора с сыновьями и вспоминал своего отца, деда, сестер, чуть ли не весь род. Испокон веку жили они на этой земле, которая кормила и поила их.
Память — удивительная вещь: то, что случилось недавно, вышвырнула вон, зато хранила шестидесятилетней давности рассказ деда.
…Полтора века назад на оренбургской земле сколотилось казачье ядро из самарских, устинских, алексеевских и исетских казаков. Вместе с ними заселили край мещеряки, башкиры, калмыки, украинские и донские казаки. Собралось до четырехсот тысяч человек. И хотя среди них было пятнадцать тысяч раскольников и вдвое больше магометан, но жили дружно, не чинили друг другу обид. Хлеб сеяли яровой, выставляли тридцать конных сотен, а в военное время — восемнадцать конных полков. Казачки ткали из козьего пуха шали, шарфы да полушалки, славившиеся на всю Россию.
Прабабка Дмитрия Ивановича, а может, и прапрабабка Варвара родилась в Озерках. И она и ее родители были крепостными. Когда Варя подросла, то стала ходить на барщину. Барин под старость занемог и богу душу отдал, а земля и дом достались по завещанию далекой родственнице. Прошел положенный срок, и новая владелица оповестила всю округу, что, дескать, продает все имущество с торгов, а вместе с имуществом и крепостных. На троицын день съехалось много господ и управляющих. Были среди них и офицеры Самарского гарнизона, а один, такой моложавый, все ходил, на девок посматривал. Увидел Варю и спрашивает: «Ты дворовая новой барыни?» — «Да», — отвечает, а сама отворачивается и прячет лицо от страха в платок. «А звать-то как?» — спрашивает офицер. «Варварой». Тут он ей сунул леденцов в руку и говорит: «Я тебя куплю». Варя в слезы, да они не помогли. Офицер увез ее и поместил в чулане, рядом со своей комнатой. Прошла неделя, и стала Варя думать, что Зимин — так звали офицера — хороший человек. Но вот однажды ночью он к ней пробрался в чуланчик и сгреб в охапку. Варя не струсила, вырвалась, схватила медный подсвечник и бросилась на обидчика. Зимин ушел к себе, а наутро она ему говорит: «Ежели ты, барин, купил меня для срамоты, то не бывать этому. Тебя убью, на себя руки наложу, но о чем думаешь — того не будет». Призадумался Зимин. Вдруг к нему жена из Уфы прикатила. Увидела Варю и увезла девчонку с собой, назначила скотницей и каждый день плевала и била в лицо. «Узнаю все, подлая тварь, соблазнительница», — кричала она ей. Варя клялась, божилась, а барыня пуще била. Три года мучилась и весенней ночью убежала из Уфы. Двое суток шла голодная по степи, а на третьи свалилась без памяти. Нашли ее мужики помещика Сивашова и приютили. А у того помещика работали каторжники из Оренбургского ведомства конторы строений. Год проработала Варя, сдружилась с каторжником Савелием Кашириным и вышла за него замуж. Савелий любил ее, не обижал, копил копейки, чтоб выкупить ей вольную. Родились у них два сына, и Варя, как ни тяжело ей было, радовалась детям. «Вот, Митя, откуда наш род пошел», — рассказывал дед, словно гордился тем, что Варвара сумела постоять за себя, убежать от извергов и обзавестись семьей.
И вот сейчас Дмитрий Иванович вспомнил этот рассказ со всеми подробностями. Он никогда не поведал бы его ни другу своему Прохору Ивановичу, ни сыновьям своим и твердо решил унести его, как тайну, в могилу.
«Ехать мне с ними аль не ехать?» — спрашивал он себя который раз и вдруг уснул, не дав себе ответа.
Вскочив чуть свет, он свесил ноги с кровати, призадумался, потом торопливо всунул их в валенки и вошел в одних исподниках в горенку, в которой спали Николай и Иван.
— Так будем ехать, сынки? — спросил он задорно, как будто давно решил это сделать.
— Я знал, батя, что вы от нас не отстанете, — обрадовался Иван и, потянувшись, добавил: — Теперь держись, Почивалов!
Поезд шел из Петрограда. В одной из теплушек, примостившись на нарах, лежал в солдатской шинели и кожаном картузе бритоголовый молодой человек с продолговатым лицом и большими черными глазами. Рядом — красивый скуластый казах. По сторонам солдаты, и поди узнай, куда и зачем едут. Бритоголовый, оглянувшись, тихо спросил:
— Ленина давно знаете?
— Еще до революции встречал. Недели две назад получаю телеграмму из Питера от Свердлова: дескать, нужен я ему. Приехал, пошел в Смольный, предъявил телеграмму — пропустили. Встретил меня Яков Михайлович, я бы сказал, внимательно, даже заинтересованно. «Хочу, говорит, свести вас с Лениным». Повел меня к Ильичу. Поздоровались. Ильич смотрит на меня внимательно, словно изучает, и спрашивает: «Так это вы Алибей Джангильдин?» — «Да», — отвечаю. «Где-то я вас видел», — уверенно говорит Ленин. «В Швейцарии». — «Совершенно верно. У меня память на людей хорошая». Беседовали мы долго. Владимир Ильич развивал план борьбы. Вот что он мне сказал: «Буржуазная революция ничего не даст угнетенному народу. В программу большевиков входит твердое намерение освободить угнетенные народы и дать им возможность самостоятельно развиваться. Наша тактика должна быть такая, чтобы привлечь на нашу сторону интеллигенцию, культурные слои населения».
— Тише говорите, — толкнул бритоголовый Джангильдина в бок и кивнул в сторону солдат.
— Я все слушал, — продолжал Джангильдин шепотом. — Потом Ильич встал и говорит: «Так вот, поезжайте в Степной край, работайте, защищайте лозунг «Вся власть Советам». В случае серьезных сомнений запрашивайте, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне лично. Вы назначаетесь правительственным комиссаром Тургайской области». И подает мне заготовленный мандат.
За Самарой в вагон набились казаки и бабы. Бритоголовый и Джангильдин замолкли. Воняло махорочным дымом и приторным до тошноты потом. Молодой казак с покатым лбом и вьющимся начесом с левой стороны, играя черенком нагайки, стоял над молодухой, закутанной в шаль. Он часто улыбался ей, подкручивая усы длинными пальцами с обкуренными ногтями.
— Твой-то где? — допытывался казак.
— Я сама по себе.
Казак наклонился и пошарил рукой по груди.
— Не балуй, покеда не осерчала. Отойди отсель.
— Не шуми, дуреха.
— Ах ты, чертово семя, еще ругаешься?
Казак ухмыльнулся и пуще заиграл черенком.
Бритоголовый хотел вмешаться, упрекнуть казака, но Джангильдин его одернул.
В Оренбург поезд прибыл на рассвете. Человек в кожаном картузе попрощался с Джангильдиным, перебросил через плечо вещевой мешок, выбрался из вагона и вошел в вокзал. Протолкавшись, он добрался до дверей и с облегчением глотнул свежего воздуха. Над сияющим куполом собора неподвижно висела черная туча, предвещая снег. По Госпитальной площади к Неплюевскому кадетскому корпусу шагала рота пеших казаков. Город дремал в предутренней тишине.
Человек пересек Соборную площадь и, пройдя по Инженерной улице, остановился на углу Артиллерийской. Он незаметно вошел во двор и постучал в закрытую ставню. Дверь ему открыла заспанная старушка и пробормотала:
— Уж не чаяли, что приедете.
Он наскоро умылся, напился чаю и ушел.
В полдень собралась местная организация большевиков. Все знали, что со Второго Всероссийского съезда Советов приехал в Оренбург правительственный комиссар Цвиллинг. Имя его здесь было не ново, хотя сам он тобольчанин и за участие в событиях пятого года царский суд приговорил его к смертной казни через повешение, но из-за несовершеннолетия меру наказания заменили пятилетним тюремным заключением. В 1915 году после отбытия наказания он редактировал в Троицке газету «Степь», потом работал в «Уральской жизни», а в конце 1916 года прибыл по мобилизации с маршевой ротой в Челябинск.
Цвиллинг был первым большевистским председателем Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов, а позже председателем городского комитета большевиков. И вот сейчас он прямо со съезда Советов прибыл в Оренбург.
— Вы уже знаете из телеграмм, — сказал он, — что на этом съезде сформирован Совет Народных Комиссаров. Мы разъехались на места, чтобы разнести радостную весть о победе в столице. Надо в Оренбурге взять власть в свои руки и парализовать деятельность дутовских банд. Сегодня же мы изберем Военно-революционный комитет.
Ночью Цвиллинг не вернулся домой. Его, как и остальных членов Ревкома, неожиданно арестовали в Караван-сарае и заключили в тюрьму. Караван-сарай — двухэтажное каменное здание, расположенное четырехугольником, со двором внутри. В середине двора красивая мечеть и рядом тонкий ствол минарета. После изгнания из Караван-сарая последнего оренбургского генерал-губернатора, перенесшего сюда свою резиденцию с Набережной, большевики разместили в нем Совет депутатов и городской партийный комитет.
Караван-сарай был окружен обширным садом и обнесен каменной оградой. Казалось бы, при надежной охране Дутову никогда не проникнуть в эту крепость, но беспечность Цвиллинга и его друзей стоила жизни многим оренбургским большевикам.
В ту же ночь Дутов за сообщение о приезде Цвиллинга привез Надежде Илларионовне золотой браслет, который она спрятала в свой заветный ларец и сказала:
— Приходится думать и о черном дне.
— Это зачем? — удивился Александр Ильич.
— Современное положение так же неустойчиво, как мужская любовь. Если этот день придет, то мой Сашенька будет обеспечен.
Дутову ответ не понравился, но он не рискнул спросить, про кого она думает: про него или Сашку Почивалова? Впрочем, она могла ответить, что наказному атаману неуместно сравнивать себя с есаулом.
— О черных днях забудьте, — Дутов нахмурил пушистые брови, — завтра утром в городе не будет ни одного красного.
— Наконец-то вы поняли, что решительность нужна не только в моем будуаре, но и в борьбе с красными, — цинично сказала Надежда Илларионовна.
От Челябинска до Троицка каких-нибудь семьдесят верст. В Челябе грязно, пыльно, глазу нечем полюбоваться, если не считать степной реки Миасс. В Троицке того хуже: Увелька с низкорослыми ракитами по берегам вовсе непривлекательна. В самом городке тишина, скука. Трактир золотопромышленника Башкирова один на весь Троицк, но он для заезжих купцов. Видеть, как в пьяном угаре они бьют посуду и зеркала, расплачиваясь потом ассигнациями, — привычное для полового дело. Народ же веселится только на торжке под успенье, в день смерти богородицы, да зимой на масленой неделе. Богаты здесь Зуккер с Лорцем да Яушев с Дзюевым, а мильонщик Гладких — бог и царь, перед которым покорно склоняются полицеймейстер, исправник и заседатель. Они многосемейные, безденежные. Один только смотритель уездного училища, ловкий и пронырливый старикашка, владеет салотопенной заимкой.
Против города, к востоку от прижатого куполом собора, — гора. Давным-давно на ней был Меновой двор, куда стекались в старину караваны верблюдов, навьюченных товарами. Троицк тогда заполнялся многоязычным говором погонщиков.
Далеко за городом — станицы с чужеземными названиями, невесть откуда занесенными на исконные русские земли.
— Далече едешь? — спрашивает на Меновом дворе оренбургский казак другого.
— В Париж за сеном. А ты?
— А я в Берлин за овсом.
Неподалеку от особняка Гладких, в хибарке машиниста Иванова, у которого поселился с фальшивым паспортом питерский большевик слесарь Изашор, собираются втихомолку несколько рабочих. О чем беседуют — великая тайна до поры до времени. Когда в столице вспыхнула революция и гул ее докатился до Троицка, то Изашор, столяр Щибря, наборщик Шамшурин, маляр Попов и старый большевик Сыромолотов сумели поднять рабочих на борьбу и были избраны в Совет.
Собрался народ на площади у городской больницы, депутаты рассказывали про наказ Ленина, и вдруг откуда ни возьмись две сотни казаков на лошадях стали окружать площадь. В схватку вступили солдаты. Казаки повернули на Оренбургскую улицу в надежде поживиться. Подъехали они к спиртоводочному заводу, убили охранника, открыли ворота. За ними погнались солдаты. Началась стрельба, на булыжник заводского двора упали убитые и раненые.
Потом из Челябинска приехали кадеты и эсеры, собрали городской народ, станичных атаманов, кулаков и стали поносить большевиков, от них, мол, все зло. Один кадет, такой солидный господин в очках, прямо сказал:
— Землю крестьянам бесспорно надо дать, но за выкуп.
В зале сидели и большевики. Сыромолотов толкнул плечом Щибрю и прошептал:
— Задавай вопросы.
Щибря поднялся с места и, прикидываясь простачком, спросил:
— Скажить мне, господин хороший, откуда у Лерха, Переслухина и Бобринского тысячи десятин земли?
Кадет задумался, а потом бойко ответил:
— Они ее заслужили, голубчик.
— Чим?
— Чим? — передразнил кадет. — Заслужили на военной службе.
— Як же так, — не унимался Щибря, — мий дид служив в армии двадцать пять рокив, а земли ему дали всего-навсего три аршина писля смерти.
Тут кадет не выдержал:
— Вот видите, граждане, это настоящий подстрекатель.
Кто-то из толпы крикнул:
— Ты как попал к нам в Троицк?
Щибря не выдержал и пошел к трибуне. В президиуме смутились. Атаманы кричат: «Убирайся отсюда, хохол». Большевики трубят: «Дайте слово простому рабочему». Шум, гам. Председатель зазвонил в колокольчик, но все же дал Щибре слово. Посмотрел столяр на сидевших в зале, отыскал глазами атамана, что обидным словом обозвал, и говорит:
— Вот тот чоловик спрашивал, як я попав в Троицк? Дозвольте рассказать. Батько мий — тоже столяр. В семье нашей було тринадцать душ. В седьмом року моего батька, маты, мене та сестру Анисью арестовали, сказали — за аграрное подстрекательство — и посадили в Лукьяновскую тюрьму, що в Киеве. Ни я, ни батько не знали, що это за аграрное подстрекательство, с чим его кушают. Батька в тюрьме замордовали, а нас отправили в челябинскую тюрьму, а оттуда в станицу Усть-Уйскую. Девять маленьких моих братив и сестер оставили на голод. Четверо умерли сразу. Как отбыл я свой срок, так получил разрешение в Троицк на строительство железной дороги.
В зале мертвая тишина. Щибря тоже умолк на минуту и, обернувшись к кадету в очках, продолжал:
— У станичников до хохлов кровавая ненависть. Нам с ними, понятно, не жить як телятам: где сойдутся, там и лижутся, а все ж таки за що нас так хаять? Вот вы, господин хороший, говорили, что я подстрекатель. Що же это получается? При царе я был подстрекатель и опять же при революции подстрекатель. Тьфу!
В зале раздался хохот и чей-то голос:
— Вы же подстрекаете народ, говоря, что помещики грабители.
Щибря не смутился и ответил:
— Я вас замечаю, господин Гладких, потому у меня глаз-алмаз. У вас на заводе сотни людей задарма работают. Я сам у вас столяром работал, договаривался за рубль двадцать, а при расчете уплатили по рублю. Кто украл с рабочего человека двадцать копеек? Вы!
Обвинение Щибри вызвало шум. Кадет в очках зашептал председателю: «Закройте собрание». Атаманы повскакали с мест, бросились к выходу, а народ не расходится. Прошло полчаса. Прибыла сотня казаков и всех разогнала.
Над зданием обширного двухэтажного дворца с балконом на Набережную Урала, или, как говорили в старину, Яика, взвился трехцветный флаг Российской империи. Дворец был построен в прошлом веке по рисунку Брюллова, дружившего с тогдашним оренбургским генерал-губернатором Перовским и его чиновником для особых поручений Владимиром Далем. Теперь в этом доме разместился дутовский штаб.
Сашка Почивалов решил, что Дутов избрал своей резиденцией этот дом потому, что отсюда до особняка Надежды Илларионовны рукой подать.
Перед лестницей, спускавшейся к реке, высились каменные Елизаветинские ворота, а в нишах столбов по обеим сторонам ворот — уродливые каменные статуи с отбитыми носами. Когда-то они изображали ангелов, держащих в руках по щиту, копью и пальмовой ветви. Башкиры ненавидели эти ворота, они знали, что царица Елизавета повелела их соорудить в память усмирения башкирского бунта в 1755 году.
Набережная, или, как позже ее стали называть, Пушкинский бульвар, засаженный деревьями по приказанию генерал-губернатора Катенина в шестидесятых годах прошлого столетия, стала излюбленным местом гуляний. Особенно привлекала она горожан весной, когда чуть ли не у самых ног бушевал разлив Урала, а вдали, за Зауральской рощей, зеленым ковром расстилались беспредельные степи.
Теперь по бульвару прохаживались казачьи патрули, охраняя наказного атамана и его штаб.
Еще сильнее охранялась тюрьма. Кто в ней только не сидел! В 1755 году ее камеры были переполнены бунтовавшими башкирами. Потом в ней отбывали наказание яицкие казаки, тысячи пугачевцев, умершие под ударами кнута. В семидесятых годах XVIII и в тридцатых годах XIX столетия томились поляки, увезенные из Варшавы и Лодзи, Кракова и Познани. В 1875 году тюрьму заполнили правнуки казаков яицкого войска, не пожелавшие принять новый закон о всеобщей воинской повинности 1874 года. В 1905—1907 годах в ней умирали от чахотки русские революционеры, а сейчас в ней томились большевики, арестованные Дутовым в ночь на 15 ноября.
Начальнику дутовского штаба полковнику Сукину нельзя было отказать в опытности и изобретательности. Это по его плану были схвачены оренбургские большевики в Караван-сарае и водворены в тюрьму. Но вместе с деловитостью он любил пышность. Его кабинет в штабе был обставлен разностильной мебелью, свезенной сюда из разных губернских учреждений. Убежденный холостяк, он предпочитал всему вино и карты. Карты были его слабостью. Он мог играть всю ночь напролет в преферанс, и не потому, что его интересовал выигрыш, а ради самой игры.
Устроившись в удобном кресле, Сукин укрепил на переносице пенсне, сквозь толстые стекла которых глядели не в меру увеличенные острые глаза. В дряблую шею, иссеченную морщинами, вонзился белый подворотничок, подшитый к мундиру. Читая донесения, полковник время от времени приподнимался над картой, лежавшей на широком дубовом столе, и цветными карандашами делал отметки стрелками и кружочками. На пепельнице из итальянской майолики лежала недокуренная папироса, а старинные напольные с боем часы мерно отсчитывали минуты в этом тихом кабинете, куда не доносился городской шум.
В первые дни захвата Оренбурга Сукин предложил Дутову заманчивый, с его точки зрения, план.
— Не надо дразнить гусей, Александр Ильич. Нам выгодно играть сейчас в демократию.
— Что вы предлагаете? — строго спросил наказной атаман, щелкая пальцами.
— Создать комитет спасения родины. Комитет будет на авансцене, а мы за кулисами.
— Кого же мы привлечем в этот комитет?
— Во всяком случае, не барона Таубе и не генерала Эверсмана. Кандидатуры я уже подобрал. Председателем будет бывший городской голова Барановский, личность довольно бесцветная, — кстати, он эсер, — а членами — комиссар Временного правительства Архангельский и вы. Они уже дали согласие.
Дутов нахмурился: «Какую роль мне готовит Сукин?»
Начальник штаба понял выражение лица Дутова и поспешил его успокоить:
— Я все продумал и распределил роли. Барановский и Архангельский нужны вам как театральная мебель, без которой пьесу не сыграете. Вы же дик-та-тор! Любое ваше приказание — закон!
Дутов протянул руку в знак согласия, и Сукин крепко пожал ее.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Тусклый свет ламп дрожал и отражался в замерзших окнах, как в позеленевших от времени зеркалах. Ветер дул с севера, неся с собой холодище. В замусоренном зале вокзала битком набито разного люда с баулами, мешками, чемоданами. Все нервные, нетерпеливые, всем надо ехать, у всех аршинные мандаты. Кто-то уверяет, что через три часа отойдет на Самару эшелон с хлебом — есть надежда проехать на буферах.
По обледенелой платформе разгуливали несколько человек. К ним незаметно подошел дежурный по станции и тихо сказал:
— Поезд на подходе. Сейчас переведу стрелки, приму его на запасной путь и загоню в тупик.
Вот уже несколько часов члены Челябинского Совета Елькин, Болейко, Тряскин, Колющенко и Васенко ждут с нетерпением самарского поезда. Дежурный по станции их успокоил: поезд скоро прибудет, — значит, самарскому отряду удалось пробиться к Челябинску. Зато третьи сутки нельзя отправить ни одного хлебного эшелона в Петроград — дутовцы в пути останавливают поезда и безнаказанно грабят хлеб, увозя его в станицы на сохранение к кулакам.
Поезд вынырнул из темноты и приблизился к станции. Он шел без огней прямо в тупик. Мимо проплыли темные вагоны.
Первым выскочил на платформу Кошкин. Осмотрелся и заметил людей, стоявших кучкой. Один из них отделился и пошел ему навстречу.
— Вы товарищ Блюхер? — с опаской спросил незнакомец.
— А ты кто будешь? — поинтересовался Кошкин, сняв с плеча карабин.
— Председатель Челябинского Совета Елькин.
— Это другой разговор. Прошу пройти со мной!
Кошкин подвел Елькина и представил его Блюхеру. Вслед за Елькиным подошли остальные члены Совета.
— Выгружайтесь по возможности без шума, — попросил председатель Совета. — Для всех приготовлено помещение и обед. Мы ждем вас с утра. Здесь останется ваш представитель для связи, а ты, Блюхер, давай с нами!
Радушный прием сразу поднял настроение у Василия, и он тут же крикнул:
— Кошкин!
— Я! — ответил порученец, словно он дожидался за спиной у Блюхера.
— Выгружай коней, людей, пушки — и айда в город! Слышал, что говорил товарищ Елькин?
— Есть выгружать! — ответил исполнительный Кошкин.
До полуночи члены Совета рассказывали Блюхеру о положении в Оренбурге, Троицке и в других городах.
— Как видишь, веселого мало, — заключил Елькин, — но верим, что самарцы крепко нам помогут.
— У Дутова большая сила? — спросил Блюхер.
— Семь тысяч казаков.
«Один красногвардеец против четырнадцати казаков, — подсчитал в уме Василий, погладив в раздумье свою бритую голову, — говорил я Куйбышеву, а он свое: «Ленин предложил, — значит, выполняй».
— Ладно, товарищи, утро вечера мудренее, за ночь обмозгую, с чего начать.
Члены Совета согласились и разошлись по домам.
— Пойдем ко мне, — предложил Елькин.
Председатель Совета понравился Блюхеру. Крупное лицо, копна мягких каштановых волос, глубоко сидящие глаза, обрамленные дугами бровей, и усы, свисавшие по краям губ, напоминали Блюхеру портрет Петра Первого.
Они лежали на тощих матрацах, укрывшись байковыми одеялами.
— У меня есть план, хочу с тобой поделиться, — откровенно признался Елькин.
Блюхер лежал на животе, — у него опять разболелась спина, — смотрел на председателя Совета и молчал.
— Чего ты так лежишь? — удивленно спросил чуткий Елькин.
— Привычка с детства. Выкладывай свой план!
— Я считаю, что на первых порах надо обеспечить Троицк, уничтожить несколько мелких отрядов, которые бродят вокруг нас, и тем самым показать Дутову, что у большевиков сила. Попутно надо взять под наблюдение железную дорогу, иначе маршруты стоят без движения.
— Много хлеба вы отправили питерским рабочим?
— Из одной Уфы ушло сто пятьдесят вагонов. Если обеспечить провоз, то до конца месяца можно послать еще столько же.
— Совет у вас крепкий?
— Один к одному, — произнес Елькин с гордостью.
— Что представляет собой тот член Совета, который говорил о формировании рабочих отрядов? — неожиданно, изменив тему разговора, поинтересовался Блюхер. — У него такая острая бороденка и опущенные большие усы.
Елькин улыбнулся:
— У нас таких двое: Дмитрий Колющенко и Евдоким Васенко. Колющенко с Украины, родился в Чернигове, батрак, потом работал токарем в Киеве. Забавный человек, с колючим юмором, хороший товарищ. Он с третьего года в партии, сюда переехал накануне русско-японской войны токарем на завод «Столль и компания». Васенко же с Кубани, кажется из Ейска, тоже старый большевик. Он тут отбывал ссылку и теперь остался с нами.
— А ты сам? — спросил Блюхер.
— Я обыкновенный, без заслуг, хотя мне уже двадцать девять лет, — нехотя ответил Елькин и добавил: — Давай спать!
Уже позже Василий узнал, что Елькин из скромности умолчал о себе. Отец его, владелец типографии в Челябинске, не знал, что вся семья — пять сыновей и две дочери — состояли в социал-демократическом кружке, из которого позже выросла челябинская группа большевиков. Старший сын Елькина по секрету от отца печатал листовки и с братом расклеивал их на заборах. В пятом году Елькин с группой рабочих ворвался в тюрьму, намереваясь освободить политических заключенных. Его арестовали, судили. Приговорили к смертной казни. Елькин не знал, что отец обратился с прошением к царю и тот помиловал семнадцатилетнего юношу. Когда начальник тюрьмы пришел в камеру и стал читать акт о помиловании, Елькин перебил его и закричал: «Я не желаю принять свободу от царя-кровопийцы, меня освободит революция! Вон отсюда!»
За оскорбление царя Елькин был вторично осужден на двадцать лет каторги.
На другой день стало известно, что Дутов захватил Оренбург, арестовал сто двадцать пять членов Совета, в том числе и Цвиллинга, бывшего председателя Челябинского Совета.
— Промедление смерти подобно, — гремел басистый голос Елькина на заседании городского комитета партии. — Я предлагаю сегодня же избрать Ревком, наделить его всей полнотой власти. Дутов не ограничится Оренбургом, он целится на Троицк, на Уфу, Стерлитамак, на наш город. Гражданская война начинается.
Елькина поддержали все. В тот же день был избран Ревком во главе с председателем Галактионовым.
— Надо избрать в Ревком Блюхера, приехавшего с самарским отрядом, — добавил он. — Блюхер коммунист, рабочий, сидел три года в тюрьме. Что еще могу о нем сказать? — Елькин улыбнулся. — На войне дослужился до унтера и награжден двумя георгиевскими крестами.
— Давай унтера тоже, — пошутил Колющенко, — сделаем его главкомом. И фамилия у него военная.
Через три дня челябинская тюрьма приняла сто человек. Блюхер подписывал ордера на аресты без тени сожаления, считая, что только таким путем можно отвести меч, занесенный врагами над головой челябинского пролетариата.
Выехав с конной сотней вдоль железной дороги на Златоуст, Блюхер столкнулся с дутовскими бандами. Сотня двигалась бесшумно. Василий в кожаной тужурке ощущал холод, но крепился. На шее у него висел бинокль, подаренный ему Елькиным. Впереди шла разведка во главе с Кошкиным. За станцией Полетаево Кошкин («Фамилия подходящая, — шутили по его адресу, — потому он и ночью видит») заметил вдалеке двух всадников. Приказав разведчикам остановиться, он один, крадучись, взобрался на железнодорожную насыпь и обнаружил десять казаков, затем вернулся и доложил Блюхеру.
Василию стало еще холоднее. Он съежился, подумал: «Это потому, что в немца или в австрийца стрелял без разбору, а в своих рука может дрогнуть, — и тут же засовестился: — Какие они свои, если готовы пустить любому большевику пулю в лоб? К черту малодушие! Воевать так воевать!» Поделив сотню, он приказал солдату бывшего 102-го запасного полка Кудинову, хорошему наезднику, продолжать свой путь, а сам с другой полусотней двинулся в обход дутовским бандитам. Обогнув дугой стоянку казаков, Василий без бинокля уже различал темно-гнедую масть лошадей и синие струи на казачьих штанах. Их было не десять, а двадцать пять — поджидали, очевидно, поезда из Челябинска.
Кудинов, пришпорив коня, рванулся шибкой рысью на дутовцев. Казаки заметили конников и поскакали им навстречу. Вот-вот они сойдутся. И в эту минуту сзади вихрем налетел Блюхер со своей полусотней. Неожиданный удар обескуражил казаков.
— Сдавайсь! — закричал Блюхер громовым голосом.
Подняв коней на дыбки, скакавшие позади казаки оглянулись и поняли, что попали в западню.
— Руби! — послышалась издалека команда Кудинова.
Чернобровый казак, первый соскочивший с коня, запрокинул правой рукой фуражку на макушку и мгновенно выстрелил. Василий услыхал над ухом шелест пролетевшей пули и тут же ловко опустил на голову казака шашку. Конник безжизненно свалился навзничь.
Из двадцати пяти дутовцев шестеро были убиты, остальные взяты в плен.
В полдень хлебный эшелон ушел из Челябинска на Самару.
С той же сотней Блюхер двинулся через два дня на Троицк. Миллионер Гладких успел бежать в Оренбург, зато удалось арестовать атамана Токарева и отправить его в Челябинск.
В обширном купеческом доме собрались делегаты 6-го и 9-го казачьих полков, квартировавших в городе. Перед ними выступил Блюхер. Он заметно волновался, не знал, с чего начать, боялся, что не встретит сочувствия, не сумеет убедить казаков и даже изложить суть дела. Наконец ему удалось взять себя в руки: вернулось самообладание, но только он встал из-за стола и увидел казачьи чубы, как от страха заныли раны. «Будь что будет», — решил он и начал:
— Казаки, за что тонете в кровях?
С места кто-то с усмешкой бросил:
— Пошто тонуть? Едим сало с кашей, не жалуемся. А ты кто есть?
Какой-то азарт охватил Василия. Нужно было парировать удары уже не штыком и саблей, а словом. Сейчас требовалось что-то неожиданное, смешное, чтобы заставить их слушать.
— Когда есаул приказывал ввалить тебе пятнадцать пряжек, то ты, казак, молчал как рыба, а унтер-офицеру, кавалеру георгиевских крестов и медалей, с порубленной спиной на фронте, хочешь плюнуть в лицо через всю залу. Это правильно, казаки?
В зале наступила тишина.
— Он у нас за балабола считается, вроде как придурок, — послышался голос старого казака, поднявшегося со стула в знак уважения к Блюхеру. Обернувшись к нему спиной, он гаркнул на весь зал: — Цыть!
Василий еще больше осмелел и коротко рассказал о себе.
— Теперь вам все известно, — заключил он. — Пойдем дальше!
Овладев вниманием казаков, он уже не сомневался в том, что его дослушают до конца.
— В России законная власть Совета Народных Комиссаров во главе с Лениным. Повсюду в нашей стране свобода. Довольно мы натерпелись розог, пряжек, шомполов. Теперь надо нашим насильникам всыпать по тому месту, откуда ноги растут.
— Это ты правильно гуторишь, — засмеялся тот самый казак, который собирался вступить с Блюхером в спор.
— Слушай, балабол, — крикнул миролюбиво Блюхер, — ты мне не мешай. Я кончу, тогда выходи сюда и сыпь сколько хочешь.
— Виноват! — серьезно ответил казак и умолк.
— Помню, как к нам в госпиталь приехала какая-то графиня, — продолжал Блюхер. — Приодели нас, как полагается, приказали причесаться, сменили грязное белье на чистое и сказали, как себя держать с этой кралей. Подвели ее ко мне, а я лежу срамным местом до горы, потому вся спина разорвана шрапнелью. Доктор графине про меня лопочет, а она, стерва, отвернулась и носом повела так, будто ее в нужник загнали. Ей плевать на то, что лежит русский солдат, который кровью своей поливал родную землю. Теперь мы всех этих графинь и княгинь к едреной тетере послали. Сами будем управлять страной, не надо нам ни царя, ни генералов. Но не повсюду так получается. В Оренбурге сидит наказной атаман Дутов, захватил незаконно власть в свои руки, арестовал весь Совет, пытает наших товарищей, вешает, расстреливает, а сам грабит, играет в карты и насильничает. Где справедливость? Ладно! Довольно про этого гада! Пойдем дальше. Здесь, в Троицке, квартируют два казачьих полка. Надо вам дело решать: кто хочет — пусть идет к себе в станицу, а кто желает — переходи к нам воевать с белогвардейской сволочью. Мы боремся за счастье человека на земле. Но хочу добавить: у нас сейчас не дюже сладко, потому сала, про которое говорил казак, мало, и махры мало, и патронов мало, всего мало. Но у нас сильный дух и вера в победу. Поживем — увидим, чья возьмет. Я кончил. Кто хочет — записывайся, выходи на мое место и говори.
Блюхер никак не ожидал, что его наградят аплодисментами. Значит, дошло! На смену вышел старый казак, откашлялся, подобрал левой рукой упавший чуб и посмотрел на Блюхера:
— Извиняйте, унтер, как вас звать?
— Василий Константинович.
— Так вот слухай, Василий Константинович, слово старого казака Шарапова. Я учености не имею, расписываюсь крестом. Но умом бог не обидел. То, что ты гуторил, — истинная правда. Есть промеж нас такие, что хотят домой до бабы. Я хоть и старый, а все же и меня тянет…
— Загорелась кровь, — крикнули с места.
— Правильно, казаки! Загорелась кровь, но не до бабы, а до Дутова. Били нас пряжками и без провинности по морде, по спине, по ж… Молокосос есаул кровь из меня пил… Не скажу за весь шестой полк, но за себя ручаюсь. Я с Дутовым не пойду. Моя стежка — с тобой, Василий Константинович.
Блюхер решил поблагодарить казака за выступление, чувствуя, что за ним должны потянуться молодые. Он поднялся с места, подошел к Шарапову и громко сказал:
— Дозволь мне, рабочему человеку, обнять тебя, папаша!
И на виду у всех казак с Блюхером расцеловались.
За исключением трех эскадронов, оба полка перешли на сторону красных, дав клятву биться до полной победы.
Из Питера приехал новый правительственный комиссар Оренбургского края Кобозев и рассказал Ревкому, что Совнарком, заслушав доклад о положении в крае, принял предложение Ленина послать в Челябинск экспедиционный отряд балтийских моряков под командованием мичмана Павлова.
— Ну как, главком, — обратился Елькин к Блюхеру, — веселее стало?
— Послушай, Салка, — ответил Блюхер, по-дружески обращаясь к Елькину, — для тебя есть интересная работа. Поезжай в Тугайкул к шахтерам и сколоти там хороший отряд.
Елькин буквально зажегся этой мыслью. В тот же день он выехал верхом на лошади, подаренной ему Блюхером.
Много лет назад в Тугайкуле жили скотоводы-казахи, а казаки кто обманом, кто хитростью, а кто и силой поотнимали у них землю, и скотоводам оставалось только покинуть свой край. Пришел однажды в эти места геолог Редикорцев и вблизи Тугайкула, на берегу реки Миасс, обнаружил уголь. В ту пору строили великую сибирскую железную дорогу и повсюду искали уголь для паровых машин. В 1907 году в Тугайкуле появился богач Ашанин и заложил первую шахту, а за Ашаниным и другие промышленники. Потянулся на копи лапотошный народ шахтерского счастья искать, многих нужда гнала. Селились в землянках, бараках, не отличавшихся от собачьих конур, спали вповалку, измученные тяжким трудом. В глазах всегда темно — день под землей, а вечером в бараке и лучины не сыскать. На шахте смрад от мазутных коптилок, сырость под ногами, в штреке двоим не разойтись, выпрямиться нельзя. Ползет человек на четвереньках, тащит санки с углем, встречные бранятся, ругаются.
Каторга! Опытный шахтер больше двадцати пяти копеек за день не зарабатывал, а женщина или подросток — от трех до двенадцати копеек. Ашанин на шахте свою лавку держал и вместо денег талоны выдавал, по которым можно было получать хлеб, крупу и сахар. Как получка — денег в конторе не дают, говорят — долг накопился в лавке.
Копи разрослись. Тугайкул стали называть Копями, а после революции — Копейском.
Вот сюда, в край тяжелой шахтерской судьбы, и приехал Елькин. Зашел после работы к шахтеру Лысикову, познакомился и спрашивает:
— Как жизнь, Михей Севастьянович?
Лысиков улыбнулся и ответил:
— Извини, что не могу принять как полагается. Сам видишь, как живу. У нас шахтер должен всегда маяться в хозяйском бараке или на квартире у казака, а заиметь собственную мазанку никак не выходит. Нашелся два года назад такой смельчак Дюльзин, думал перехитрить Ашанина. Забил он колья, оплел их хворостом и стал верх горбылями покрывать. На ту пору случилось управляющему со стражником проезжать мимо. Увидел это строительство, подскочил и залаял бешеной собакой: «Ты что, сукин сын, задумал?» — «С семьей тесно в бараке, господин управляющий, — отвечает Дюльзин, — да и клопы одолели». Тут управляющий огрел его тростью, а стражник подошел и еще помог. Шахтер еле жив остался, а мазанку разобрали. — Лысиков тяжело вздохнул. — Вот так и живем. А ты зачем пожаловал?
— Хочу сформировать отряд — и на Дутова.
— Хорошее дело задумал. У нас тут геройский народ. Вот Михаила Меховов вернулся с фронта полным георгиевским кавалером, он тебе крепко может подсобить, опять же Иван Стряпухин, Яков Бойко, Григорий Сутягин. В общем, ребят много, все смелые.
Елькин возвратился в Челябинск с отрядом в девятьсот человек. Вместе с отрядом пошел и Михей Лысиков.
— Гляди за детьми, — наказал он, прощаясь с женой. — Может, стрену управляющего, так шкуру с него сниму за Дюльзина и за всех шахтеров.
Популярность Блюхера росла. Не один казачий разъезд ему удалось разогнать и пленить, теперь дутовцы опасались близко приближаться к Челябинску и к железной дороге. Помимо самарского, челябинского и копейского отрядов, двух троицких казачьих полков, явились небольшие отряды из Златоуста, Миасса, Сима, Миньяра и латыши, эвакуированные из Риги и Либавы во время империалистической войны. Формирование шло по такому принципу: в составе отряда несколько дружин; конники сведены в сотни и полусотни. Одно только плохо — на людях старые шинели, ветхие пальто, а снега выпало по пояс. Шел последний месяц семнадцатого года.
Василий стоял у окна в Ревкоме и смотрел на улицу. Высоко в небе светила луна, освещая только половину улицы, а по другую лежала темная тень от домов. Зазвенели бубенцы, у подъезда остановились крошечные санки. «Наверное, Галактионов», — подумал он, зная, что председатель Ревкома не ездит верхом.
Так и есть. Галактионов прошел в свой кабинет, позвал Блюхера и озабоченно сказал:
— Дай-ка команду всем членам Ревкома собраться на срочное заседание.
Когда собрались, Галактионов коротко сообщил:
— Меня отзывают в Екатеринбург возглавить Бюро Уральского краевого партийного комитета. Надо избрать нового председателя Ревкома.
— Блюхера, — порывисто предложил Елькин. — Расписывать его не надо, все теперь знают, что он за человек.
И Василия Блюхера единогласно избрали председателем Ревкома.
Негреющее, но ослепительное солнце поднялось над Челябинском, брызнуло лучами на снег, засверкавший зеркальной чешуей. Паровоз, изрыгая из трубы черные клубы дыма, остановился у станции. На глазах у изумленных пассажиров из вагонов высыпали моряки. Для Челябинска — зрелище необычное.
Из Петрограда прибыл Северный летучий отряд мичмана Павлова.
Народ смотрел на крепких, рослых балтийцев в черных шинелях и бескозырках с золотыми надписями на ленточках: «Андрей Первозванный» и «Петропавловск».
За спиной у моряков карабины, у некоторых болтаются до колен маузеры в деревянных кобурах.
— Стройся! — раздалась команда.
Поеживаясь от холода, моряки пошли нестроевым шагом по улице, ведущей от вокзала к городу. Павлов шел со стороны рядом с Васенко.
Моряк-гармонист, растянув мехи, весело заиграл. В морозном воздухе раздался задорный голос, запел на популярный в то время мотив:
Пойдем на Дутова, братишки, Не миновать ему беды. Ему мы вывернем все кишки —и весь отряд гаркнул:
Алла-верды! Алла-верды!Васенко усмехнулся в усы и повернул лицо к Павлову:
— Озорные!
— Зато ни один живьем не сдастся, — сказал Павлов в их защиту.
Гармонист затянул второй куплет:
Мы наведем порядок полный, И морякам врать нет нужды, Буржуев всех утопим в волнах —и отряд снова подхватил:
Алла-верды! Алла-верды!За отрядом бежали мальчишки, шли взрослые, понимая, что приезд матросов связан с предстоящими боями против дутовцев, и думали: «Что же будет?»
Разместив отряд и отдав распоряжения, Павлов поспешил в Ревком. Мичман выглядел молодо, в лице задор, решительность. От Блюхера не ускользнула его готовность к бою, и он сразу предупредил Павлова, что отдыхать матросам не придется.
— Ну что же, как говорится, с корабля на бал. Нам это с руки, — без рисовки сказал Павлов и, прищурив глаза, будто вспоминал что-то, спросил: — Вам в Петербурге приходилось бывать, товарищ председатель?
— Приходилось, — осклабился Блюхер. — Именно в Петербурге. А матросов не знаю, они завсегда в Кронштадте, а я на Боровой улице у купца Воронина драп продавал.
По лицу мичмана пробежала кислая улыбочка, и это тоже не ускользнуло от внимательных глаз Блюхера.
— Значит, переменили профессию? — кольнул Павлов.
— Переменил. — Блюхер, поднявшись из-за стола, зашагал по кабинету. — А вы давно мичманом?
— Я, видите ли, прапорщик. Меня Дыбенко произвел в мичманы.
— За буйные успехи, — пошутил Васенко.
Все засмеялись.
— Я вот сразу узнал, что вы прапорщик, — уверенно произнес Блюхер.
— Это почему же? — Павлов смутился.
— Фронтовой унтер даже ночью распознает офицера.
— Значит, вы тоже военный человек, товарищ председатель?
— Дело не в этом, мичман. Вот, к примеру, у нас тут есть товарищ Елькин. Он до революции знал только тюремщиков, а теперь бьет дутовцев в хвост и в гриву. Как видите, дело в убеждениях.
— Согласен с вами, — как бы извиняющимся тоном ответил мичман.
— Вот мы и познакомились! А теперь начнем деловой разговор.
Через три дня балтийский отряд выступил на Троицк, вокруг которого снова появились многочисленные дутовские разъезды. Прощаясь с Павловым, Блюхер предупредил:
— Казака не просто взять. Он на коне, а матрос на земле. Поэтому действуйте больше хитростью, устраивайте засады, ройте волчьи ямы.
— Понятно, Василий Константинович.
Весь день Блюхер мотался то по городу, то за городом, проверяя боеспособность прибывающих отрядов. Спал он теперь где попало. И вдруг телеграмма из Самары: отряду возвратиться обратно. На заседании Ревкома выступил Колющенко. На этот раз он говорил без прибауток и даже раздраженно:
— Дутовцы повсюду в Оренбургской губернии. Сегодня они в самом Оренбурге, а завтра, глядишь, захватят Верхне-Уральск или Троицк. Может, в Самаре заявился другой атаман, — этой сволочи хватает в России, — может, в Самаре нет войск и нужда в отряде большая, но против отъезда Блюхера я категорически возражаю. Он не только командует всеми отрядами, но и председатель Ревкома, а мы не собираемся его освобождать.
Колющенко окинул взглядом всех с надеждой, что его поддержат.
— Я согласен с Дмитрием Васильевичем, — простуженным голосом прохрипел большеголовый, с глубокими залысинами и темно-русой бородкой Васенко.
— И я! — покачал головой Тряскин и тут же предложил: — Давайте проголосуем.
Блюхер смущенно молчал. Он не ожидал, что его так оценят, и уверял себя, что незаслуженно перехвалили. Впрочем, уезжать ему так же не хотелось, как и управлять в Ревкоме. Куда важнее поехать по станицам и поднять казачество против Дутова.
— Что скажешь, Блюхер? — спросил Васенко.
— Я думаю, что отряду надо безоговорочно отправиться в Самару, а заодно и я поеду. Поговорю с Куйбышевым, объясню положение.
— Не вернешься ведь?
Блюхер пожал плечами:
— Как прикажут.
— А мы тебе приказываем остаться. Я настаиваю на том, чтобы проголосовать предложение Тряскина.
Отряд уехал, а вдогонку Ревком послал телеграмму Куйбышеву, требуя возвращения Блюхера. Прошла неделя, и в субботу, когда звонарь по старому обычаю ударил в церковный колокол к вечерне, в Ревком вошли Блюхер и Кошкин. Сидевший за столом Васенко бросился навстречу.
— Неужто из церкви? — рассмеялся он. — Добились мы своего, садись за стол и управляй!
В полночь Кошкин принес откуда-то ворсистое одеяло, подушку и положил на неуютный диван, обитый облезлым плюшем.
— Вам пора отдохнуть.
Где спал Кошкин, Василий не знал, но если он ночью кликнул бы его — тот вырос бы из-под земли.
Сняв с себя портупею с револьвером, саблю и кожаную тужурку, Василий разулся и лег на диван. Сон сразу сковал глаза, но приснилось ему такое, что размахнулся рукой, ударил о кресло и проснулся. Смотрит: стоит Кошкин с всклокоченными волосами, босой, без ремня.
— Ты чего?
— Да я только зашел, а вы стонете и выражаетесь. Тут к вам товарищ пришел, говорит, бывший председатель Совета.
— Кто такой? — с трудом приходя в себя, спросил Блюхер. — Пусть заходит.
Кошкин вернулся с незнакомым человеком. Тот был одет в солдатскую шинель и треух, лицо обросло щетиной, на губах запекшаяся кровь. Глаза воспалены, словно их терли целый день. На лбу синел свежий шрам.
— Чего тебе, голубчик? — Василий спустил ноги с дивана на холодный пол, растер лицо.
— Вы Блюхер? — Голос у незнакомца дрожал.
— Да, я!
— Вы меня… не знае… те. Я — Цвил… линг… Правительственный комиссар в Оренн… бурге… Бежж-жал…
— Да вы садитесь! — и поспешно убрал с кресла револьвер и кожаную тужурку. — Садитесь, пожалуйста! А ты, Кошкин, разыщи Васенко. Быстро, одна нога здесь, другая — там.
Васенко прибежал и с трудом узнал Цвиллинга.
— Не чаял тебя увидеть в живых, — признался он. — Крепко, видать, мордовали. Как же ты бежал?
— Завтра расскажу, а сейчас спать…
Язык у него стал заплетаться, и голова тяжело упала на грудь.
Василий поспешно подскочил к Цвиллингу и, подняв его, бережно уложил на диван, укрыл одеялом, а сам обулся и сел в кресло.
Утром пришло донесение, что дутовцы захватили Троицк. Телефонная и телеграфная связь прервалась.
Блюхера занимал один вопрос: неужели казаки, находившиеся в городе, не оказали сопротивления? А старик Шарапов, который говорил про новую стежку? Если это так, то рассчитывать на них нельзя. Но и без конницы не обойтись. Он мучительно долго размышлял, пытаясь найти одно, но правильное решение. Он давно обзавелся картой губернии, предусмотрительно захватив ее в доме Гладких во время обыска, и внимательно изучал. От Челябинска уходила железная дорога на Чебаркуль — Миасс — Златоуст — Бердяуш и дальше на запад, в Россию, где уже рождались полки и дивизии Красной Армии. К югу тянулась железная дорога на Троицк, а дальше на Карталы и Оренбург. На север шла дорога к Екатеринбургу, а на восток — к Кургану и Омску. Челябинск являлся как бы стратегическим центром Урала, который надо было защищать всеми силами. «Черт побери, — сердился он на себя, — как понять на карте, где лес да степи, где болота и горы?»
— Кошкин! — нерешительно позвал Блюхер, и порученец тотчас очутился перед ним. — Седлай коней, поедем в Троицк!
— Есть седлать, ехать к Дутову в гости! — весело выпалил никогда не унывавший Кошкин и стремительно вылетел из кабинета.
Василий, сев на рыжего коня, подседланного новым казацким седлом и дорогим нагрудником, дал ему шпоры. Кошкин не отставал. За Ключами лошади припотели, пришлось перейти на шаг. Василий поглаживал потемневшую от пота шею рыжака, всматриваясь порой в бинокль. Даль мгновенно приближалась к самым глазам, но на дороге ни бойца, ни казака. У Кичигинской станицы Кошкин заметил матросов.
— Братишки впереди! — весело сообщил он. — Я их без окуляров вижу.
В станице шум. Многие собираются выезжать, тащат на телеги сундуки, одеяла, мешки с хлебом, подушки. Матросы уговаривают их, но казаки отмахиваются.
— Где тебе, бесшапочный, знать дутовцев? — шамкая беззубым ртом, шипел дряхлый казак на матроса. — Откель ты взялся, чтоб меня уговаривать? — И, повернувшись к худощавой девке, сказал: — Тащи, Дунька, иконы!
Блюхер разыскал Павлова, и тот нерешительно, словно тая правду, рассказал:
— Неожиданно на рассвете дутовский разъезд подъехал к станице и зарубил казака. А у того казака сын в красном отряде. Я решил реагировать на это злодейство и выслал двадцать пять матросов. Прячась за домами, братишки уложили троих дутовцев, остальные бежали. Население боится, что головорезы возвратятся, потому и эвакуируется.
— Вы нарушили мой приказ. — Голос Блюхера был жестким, но не грубым. — Вашей задачей было идти на Троицк и выбить из города противника.
— Как видите, в пути произошли непредвиденные обстоятельства, — возразил Павлов, пытаясь оправдаться.
— Мичман! Извольте выполнять мой приказ! Я еду вперед, а вашему отряду двигаться за мной.
Павлов, сдерживая недовольство, круто повернулся и ушел. Когда Блюхер остался один, он мысленно вернулся к разговору с мичманом. «Кто из нас прав? — подумал он. — На его месте я поступил бы так же. Зачем же было так строго говорить с ним? Не возомнил ли я себя генералом?» Ему захотелось снова встретиться с Павловым и объяснить, что не надо обижаться: время суровое, некогда думать о такте, но неожиданно подъехал Кошкин, и его вмешательство снова изменило мнение Блюхера о поступке Павлова.
— Я так скажу, — как бы невзначай промолвил порученец, подравнивая своего коня к блюхеровскому рыжаку, — раз приказано, значит, выполняй. А то получается — кто в лес, кто по дрова. Верно я говорю?
Блюхер скосил глаза на порученца, задумался, но не ответил. Уже приближаясь к Карсу, он неожиданно поднял коня на дыбки, повернул его в обратную сторону и, подъехав к Павлову, спросил:
— У вас впереди хотя бы есть разведка?
— Нет! — Павлов виновато отвернулся.
В эту минуту Блюхер бесповоротно решил, что он был прав в разговоре с мичманом, и приказал Кошкину:
— Спешься, возьми мой бинокль — и в разведку! С тобой пойдет матрос. — Обернувшись к Павлову, он добавил: — Дайте-ка одного расторопного человечка.
Перед Блюхером очутился высокий статный матрос с прозрачным взглядом светлых глаз и с надвинутой на правую бровь бескозыркой. Во рту дымилась папироса, которую он держал уголками посиневших от холода губ.
— Позвольте мне пойти!
— Папиросу вон! Стоять смирно! — зло крикнул Блюхер. — На корабле перед командиром вы тоже так стояли? Сейчас, дескать, революция, все можно, на все наплевать… Мичман Павлов, наведите порядок в своем отряде, иначе пойдете под суд… Кошкин, нога в руки — и айда один!
Кошкин мгновенно исчез, будто накрылся шапкой-невидимкой.
— Замаскировать отряд! — приказал Блюхер.
Павлов молча отвел матросов в сторону. Блюхер, взяв кошкинского коня за повод, отъехал к ближайшей рощице. Он злился на себя, что доверил Павлову отряд, и твердо решил после операции отстранить его. Кошкин возвратился только через три часа.
— Видел Елькина, — доложил он, — дерется как черт, но патронов кот наплакал. Пулемет у него перестал работать, я его малость наладил.
Блюхер нервничал — задача казалась трудной, — и он усомнился в своих силах: «Ротой могу командовать, а полком никак. Не за свое дело взялся. Честно признаюсь — пусть назначат другого командира!» Он чувствовал, как краска стыда заливает его лицо, а Кошкин, стоя перед ним, что-то чертил от нечего делать черенком нагайки по снегу. Блюхер жалел, что возвратился из Самары. Он не чувствовал ни морозного ветра, ни болей, возникших совершенно неожиданно. Казалось ему, что скоро, может быть даже сегодня, в нем разуверятся и Елькин, и троицкие казаки, и красногвардейцы. Но обстановка требовала твердых и определенных решений. Нужно было подавить свою слабость.
— Передумали ехать к Дутову? — как будто с сожалением спросил Кошкин, и Блюхеру показалось, что в этом вопросе звучит недвусмысленный упрек. Не дождавшись ответа, Кошкин попросил: — Подъедем к Елькину, ему ведь подсобить надо.
Простая, бесхитростная просьба вернула Блюхера к действительности. Дав волю коню, он помчался туда, откуда доносились выстрелы. Рыжак шел хорошим ходом, ветер хлестал Блюхеру в лицо, обжигая кожу, и совсем иные мысли возникли теперь у него. Он представил себе, как расставит отряды и штурмом овладеет городом. Ему самому вовсе не обязательно командовать, важно принять правильное решение и добиться его выполнения.
Елькин встретил Блюхера сдержанно, негодуя на самого себя за то, что не может выбить дутовцев из Троицка. Он старался не смотреть в глаза Блюхеру, но даже по скупым словам, в которых сквозили раздражение и неловкость, легко было понять, что Елькин надеется на помощь, — ты, мол, возьми, пожалуйста, все в свои руки. Блюхер же, сохраняя через силу спокойствие после истории с Павловым, спросил:
— Можешь ли толково доложить обстановку? — Желая его приободрить, он добавил: — Давай! В худших переплетах бывали, и то не терялись.
— Дутовцы одним полком с ходу ворвались в город, — сообщил Елькин. — Троицкие казаки могли им дать отпор, но у них начался разброд: одни были за то, чтобы сдаваться, другие держали нашу сторону. Началась перепалка, стрельба. Дутовцы воспользовались этой неурядицей и легко захватили город…
— Сколько человек у тебя в отряде? — перебил Блюхер.
— Осталось пятьсот, — Елькин тяжело вздохнул.
— Кошкин докладывал, что у тебя мало патронов.
— Это правда.
— Кто же должен об этом заботиться, товарищ Елькин? Я или вы? — Это было сказано с такой резкостью и прямотой, что Елькин, который был выше Блюхера на полголовы, сразу поник, словно он врос в землю, и опустил глаза. — У вас помощник, — продолжал сердиться Блюхер, — вы должны были послать его в Челябинск с приказанием доставить боеприпасы. Воевать надо с умом.
Елькин виновато молчал, он даже не удивился тому, что Блюхер, отчитывая его, говорил «вы», а не «ты». «Не до обиды сейчас».
— Кошкин! — кликнул Блюхер, приняв решение. — Скачи обратно и передай мичману Павлову: возвратиться в Кичигин, разместить матросов по избам, выставить охрану и дозоры. В четыре часа приеду проводить совещание.
Кошкин мгновенно умчался, а Елькин так удивленно посмотрел на Блюхера, что в его глазах нетрудно было прочесть упрек: «Воевать, говоришь, надо с умом, а сам созываешь какие-то совещания».
— Бойцы в окопах? — спросил Блюхер.
— Какие тут окопы, — смущенно удивился Елькин, — лежат на снегу и стреляют.
— Слушайте, Елькин! Первое — прекратить стрельбу. Казаки сейчас все равно дальше Троицка не пойдут, а если они вздумают это сделать, то тогда встретите их дружным огнем. Второе — пошлите не менее двадцати человек в ближайшую станицу и реквизируйте лопаты, ломы, топоры. Пусть бойцы расчищают снег, роют окопы, чтобы не замерзнуть ночью. Третье — курение строго запретить и огня не разводить. Четвертое — к четырем часам вам надлежит прибыть в Кичигин на совещание, оставив здесь своего помощника. Понятно?
— Понятно!
В четыре часа, когда уже смерклось, в опустевшем доме станичного правления собрались Блюхер, Павлов и Елькин. На грязном столе горела оплывшая свеча в облепленном окисью и ржавчиной медном подсвечнике. Кошкин то и дело выходил проверять посты, но прислушивался к разговорам.
— Чтобы разгромить противника, нужно иметь о нем, выражаясь военным языком, разведывательные данные, а на рожон лезть нечего. Опять же надо держать свои отряды в крепких руках, — произнес Блюхер без того волнения, которое охватило его утром. — Вам обоим не понравились мои замечания, а я буду еще строже в своих требованиях. Чем сильна армия? Дисциплиной. Командир приказывает — солдат выполняет. На фронте приказание офицера было для меня законом. Прав он или нет — другой разговор. Но в нашей армии командир бойцу друг, ведь это два крестьянина или двое рабочих, за одно дело борются, крови своей не жалеют. И я не позволю, чтобы матрос разговаривал со мной, как волжский босяк!
— Кто это? — сердито спросил Елькин, вскочив с табурета. Сейчас он понял, почему Блюхер был так резок с ним утром.
— Виноват Павлов, а не матрос. Скажите, мичман, в вашем отряде есть коммунисты?
— Не знаю, — смутился Павлов.
— Вот где собака зарыта, Елькин, — сделал вывод Блюхер. — Надо хотя бы десять коммунистов передать из твоего отряда в павловский, пусть они выявят всех коммунистов, сколотят ядро — и тогда все изменится. Вы, Павлов, заработали у ваших братишек дешевый авторитет. Вот такой, как вы есть, вы нам не нужны и можете возвратиться обратно в Питер. Я как председатель Челябинского Ревкома пошлю телеграмму Ленину и Дыбенко о ваших «заслугах».
Павлову, молчавшему все время, хотелось ответить, но Блюхер остановил его поднятой рукой:
— Мне ваши оправдания не нужны. Я вас проверю в бою и тогда приму решение, а Ревком меня поддержит.
— Можешь не сомневаться, — утвердительно закивал головой Елькин.
— Теперь я изложу свой план, — продолжал Блюхер. — Дутовцы считают, что мы слабы. Днем как-никак еще постреливали, а ночью — нам не по силам. Так вот, в пять часов утра, когда казаки будут спать, мы тихо подойдем к Троицку и с двух сторон ворвемся в город. Сейчас вы вернетесь в отряды и расскажете всем красногвардейцам и матросам, как будем наступать.
Блюхер долго и настойчиво растолковывал Елькину, как надо действовать. Сверили часы и разошлись.
…В пять утра матросы, заняв позицию на правом фланге, рассыпались цепью и двинулись на город. Они шли, проваливаясь в снегу, но не останавливались. Их вел Павлов, он знал, что ему надо вернуть доверие Блюхера.
Дутовцы не ожидали внезапного нападения. Появившийся чуть ли не первым в городе Блюхер приказал матросам захватить казачьих лошадей, оседлать их и отвести к северной окраине города.
В одном из сараев Елькин с красногвардейцами обнаружили сотню казаков. Они спали на соломе без оружия.
— Выходи, бандиты! — закричал Елькин, не выпуская из рук гранату.
— Сам ты бандюга, сукин сын, — проворчал хриплым голосом казак со спустившимся до мочки уха чубом.
— Дутову служили, верноподданные, — продолжал с издевкой Елькин.
Казак бросил на него презрительный взгляд:
— Я Дутова, пропади он пропадом, в глаза не видел и видеть не хочу.
— Зачем же служил ему?
— Кто служил? Нас обманом разоружили и в сарай заперли, как телят. Я первый присягал верой и правдой служить советской власти, а ты меня Дутовым попрекаешь. За такие речи тебя бы разорвать от головы до…
Елькин растерялся, но его выручил подъехавший в эту минуту Блюхер. Узнав Шарапова, он приветливо крикнул с коня:
— Здорово, папаша!
Казак сурово посмотрел на Блюхера и строго сказал:
— А ну-ка спешься! Подойди ко мне!
Блюхер сразу понял, что произошло, но не высказал своей догадки. Он послушно спешился, подошел к Шарапову и протянул руку. Казак стоял, расставив ноги, упершись руками в бока.
— Не хочешь здороваться? — усмехнулся Блюхер.
— Это твой человек? — Шарапов ткнул пальцем в грудь Елькина.
— Мой!
— За что обижает нас?
— Гранаты испугался? — подзадорил Блюхер.
— Я гранату съем, и ни хрена со мной не будет, а обзывать меня дутовцем и бандитом не позволю.
— Помиритесь! Ты как попал сюда?
— Гуторил я тебе, Василий Константинович, что промеж нас есть косоглазые. Как дутовцы на город напали, так они к нему и переметнулись, а нас разоружили, коней поотбирали и в сарай под замок посадили. Ох и времечко!
— Много вас?
— Сотня.
— Скажи хлопцам, чтобы о конях и оружии не пеклись. Через полчаса все будут сидеть в седлах.
— Ты правду гуторишь аль байку сказываешь?
— Коммунисты не врут, папаша, запомни это на всю жизнь. Сейчас подам команду. Кошкин, сто коней пригнать сюда!
В полдень, когда солнце, пробившись сквозь тучи, взошло над Троицком, Ревком уже работал, матросы и красногвардейцы спали в домах, а по городу патрулировала сотня со своим командиром Шараповым.
К Павлову пришел крестьянин.
— Я из села Николаевки, — сказал он, — у нас граф Мордвинов мужикам морду бил да скулы сворачивал. Терпели, потому как николаевский режим был. А теперь за что терпеть?
— Ты меня не агитируй, а говори, чего хочешь? — недоумевая спросил мичман.
— Правды.
— Мы за эту правду и боремся, голубчик.
— А ты мне, командир, зубы не заговаривай. — Он подбоченился и задорно поднял голову. — Почему при советском режиме опять морду бьют?
— Это кто ж тебя побил?
— Не меня, а соседа. Побил твой братишка с ленточками за то, что сосед уберег дочку от насильника.
Павлов сразу посуровел:
— Ты его в лицо узнаешь?
— Узна́ю, потому я ему сдачи дал в ухо, а он пригрозил, что убьет меня.
— Пойдем со мной!
Павлов вышел из дома размашистым шагом. Он волновался сейчас больше, чем ночью, когда вел матросов на штурм Троицка. «Что будет, если Блюхер узнает про этот случай? — думал он. — Матроса прикажет расстрелять, а меня отправит в Петроград с позорной характеристикой. Надо исправлять».
— Построить отряд! — приказал он, разыскав начальника штаба.
Матросы строились неохотно. Они не знали, зачем их подняли на ноги, не дав выспаться. Павлов медленно, но с заметным волнением обходил ряды, всматриваясь в заспанные лица. Он сосредоточенно вглядывался в каждого матроса, и они удивленно пожимали плечами. «Чего он хочет? — недоумевали матросы, теряясь в догадках. — Ну пусть скажет». А Павлов, как назло, молчал, продолжая угрюмо обходить ряды уже в третий раз. К нему подошел один из тех коммунистов, которых Елькин прислал в отряд моряков. Судя по узлам на больших, едва сгибающихся пальцах, это был шахтер. Он выделялся высоким ростом и кавалерийской шинелью, доходившей ему до щиколоток.
— Дозволь мне, мичман, сказать слово перед строем.
Павлов остановился и сердито посмотрел на шахтера. Он готов был обругать его и прогнать, но, вспомнив проступок матроса, устыдился и ответил так, чтобы его не слышали:
— Говори, но знай, что ребята свирепые.
Шахтер махнул рукой, — дескать, не учи меня, — и, повернувшись лицом к строю, громким голосом произнес:
— Балтийцы! Один из ваших товарищей совершил контрреволюционное преступление. Он пытался изнасиловать молодую крестьянку. За честь дочери заступился ее отец. Кончилось тем, что матрос побил отца. Как могло случиться, что среди вас оказался преступник?
Из рядов донеслись голоса:
— Чего врешь? Катись к едреной бабушке!
— Меня не застращаете, — сильнее крикнул шахтер. — Вы еще пацанами были, когда я…
— Брось заправлять! — перебили его. — Чего кляузы разводишь? Дорогу к Духонину[2] знаешь?
Шахтер приметил одного крикуна и грозно скомандовал:
— Четвертый с правого фланга, выйти из строя на два шага вперед!
Павлов, слушая возникшую перебранку, попытался остудить распалившихся матросов и повторил команду шахтера. Из строя вышел тот самый матрос, которого Блюхер не пустил в разведку.
— Молокосос! — с презрением крикнул шахтер. — Я такого гада, как ты, на корабле задушил бы. С тобою говорит бывший матрос «Потемкина» Гавриил Андреев. Стоять смирно! Балтийцы! Не по своей воле я сменил бескозырку на кепку — списали с броненосца за участие в восстании. Не для того мы кровь проливали в пятом году и опять же теперь проливаем, чтобы потакать таким субчикам.
К Андрееву подбежал жалобщик.
— Это он, я его узнаю, — закричал он, указывая рукой на матроса.
— Балодис! — не своим голосом вскричал Павлов. — Это вы отличились в Николаевке? Это вы позорите отряд?
Балодис, насупив белобрысые брови, молчал.
— Сдать винтовку и патроны! Вон из отряда!
— Гони его в шею! — послышались отдельные голоса матросов.
Балодис снял с плеча карабин, отстегнул от поясного ремня подсумок с патронами, шваркнул на снег к опрометью бросился бежать.
Блюхер снова созвал совещание командного состава. На этот раз кроме Павлова и Елькина присутствовали приехавший из Челябинска Цвиллинг, командир сотни Шарапов, Гавриил Андреев, командир отдельной батареи Григорий Пивоваров, командир пулеметного взвода Алексей Фролов, троицкие большевики Сыромолотов, Щибря, Изашор и Шамшурин.
Блюхер присматривался, наблюдал. Павлов сильно изменился. У него уже было несколько стычек со своими матросами, и его всегда выручал Андреев, который лучше поручика знал душу моряка. Балтийцы поняли, что в лице героя с прославленного броненосца они встретили старшего по годам и опыту друга, и прислушивались к нему. Андреев сумел спокойно, без суматохи и излишней крикливости, внести в отряд дисциплину и уважение друг к другу.
Старику Шарапову, может быть, следовало бы уйти на покой, но даже малейший намек на это мог не только обидеть казака, но и лишить его душевного равновесия, которое он приобрел с тех пор, как его назначили командиром сотни. Он уже с трудом садился на коня, рука нетвердо держала шашку, зато он умел заставлять казаков слушать себя, и они готовы были сражаться не на жизнь, а на смерть.
До начала совещания Блюхер, доброжелательно взглянув на Шарапова, спросил шутливо:
— Семен Абрамыч, как идет твоя революционная жизнь?
Шарапов провел рукой по седеющим кудрям, потом подобрал согнутым пальцем пушистые усы кверху.
— По плану.
— Цвиллинг прижился?
— Я его в обиду не даю.
— Он сам за себя постоит, — вмешался подошедший Елькин.
— Ты неправ, Елкин-Палкин, — беззлобно сострил Шарапов. — Казацкую душу надо знать, поверь мне, старику. Казак — обнаковенный человек, да атаманы и старшины с мамкиным молоком кормили его своей наукой, — дескать, ты не кто-нибудь, а казак, тебе все можно, тебе все нипочем, а иногородний есть ползучий гад, революционер и смертельный враг. Таперича все ломать надо.
— Я с тобой согласен, Семен Абрамыч, — бросил через стол Блюхер. — Вот у матросов тоже свой характер, мичман перед ними робеет.
Задетый за живое, Павлов на этот раз не смолчал:
— Пусть Андреев скажет о дисциплине. Если не верите, спишите меня — и в цейхгауз.
— Мы не дети, чтобы играть людьми, как матрешками, — усмехнулся Блюхер. — Андреев вам крепко помог, Дмитрий Сергеевич, но командовать вы умеете, бесспорно, лучше его. Если мы сообща сумеем создать в наших отрядах революционную дисциплину, разъясним цель нашей борьбы, то никаким дутовцам нас не взять.
Шарапов, сидевший рядом с Цвиллингом, слегка задел его плечом и тихо спросил:
— Что, учиться будем политике?
— Даже старикам это на пользу.
План Блюхера заключался в том, чтобы, двигаясь на юг к Оренбургу, привлекать казаков на свою сторону.
— Как будут расставлены силы — последует мой приказ, а сейчас мне хочется поговорить о другом. Ни для кого не секрет, что в наших отрядах есть матросы и казаки, рабочие и крестьяне. В царской России мы жили по пословице — всяк сверчок знай свой шесток. Теперь так нельзя. За этим столом сидят революционеры, просидевшие в тюрьмах многие годы. Мы их уважаем. Это Елькин и Цвиллинг. Есть боевые и закаленные командиры — Шарапов, Павлов, Андреев. Все мы знаем, за что боремся с Дутовым, всех нас объединяет одна цель: добыть народу свободу, чтобы он мог спокойно жить, не бояться черного дня. Наши люди будут после войны крепко уважать друг друга, они не потерпят ни вора, ни душегуба. Все будут равны перед законом: казак и иногородний, матрос и шахтер. Через тяготы и великие трудности они кровью скрепят свою дружбу и придут к радости. Но надо об этом рассказать нашим бойцам. Как это сделать?
Шарапов, слушавший Блюхера с большим интересом, загорелся и поднял руку:
— Дозволь мне слово, Василий Константинович.
— Пожалуйста!
— За почтение к нам — низко кланяюсь от всех казаков. Но мне сдается, что не время теперь решать мирские споры. Возьмем Оренбург, повесим Дутова на суку, а тогда — давай!
— Именно теперь, уважаемый Семен Абрамыч, — подчеркнуто возразил Блюхер. — Это не мирской спор, а наша политическая работа. Люди должны идти в бой спаянными. Вот у матросов есть гармонист, казаки славно поют, повсюду наш народ умеет плясать, а кто фокусы показывать. Соберемся сегодня на плацу, споем, сыграем, а Цвиллинг или Елькин сделают небольшой доклад о внутренней и международной политике Советской республики.
«Цельный шурум-бурум», — подумал про себя Шарапов и ничего не ответил.
Днем отряды запрудили площадь. Подъехав на своем Рыжаке, Блюхер услышал, как молодой казак задорно затягивал, а остальные подхватывали:
Выходил приказ такой: Становиться бабам в строй, Эй, Тула, пер-вернула Подходи-ка, баба, к дулу! Становитеся, мадам, Поравняйтесь по рядам. Эй, Тула, пер-вернула Подходи-ка, баба, к дулу! Пятки вместе, носки врозь, Гляди весело, не бойсь! Эй, Тула, пер-вернула Подходи-ка, баба, к дулу!Потом матрос-гармонист запел, аккомпанируя самому себе:
Эх ты, яблочко, Куды котишься? К Дутову попадешь — Не воротишься. Эх, девчонка, С виду, глад’кая А на пробу возьмешь — Ох и гад’кая!Смех, веселье, шутки. Вот три матроса отплясывают чечетку, на смену им пошли в пляс казаки. Появились городские девчата.
Шарапов с Цвиллингом наблюдали со стороны.
— Толковый мужик Блюхер, вот что придумал, — подмигнул Цвиллинг Шарапову, — и Елькин хороший доклад сделал. Вот это и есть политическая работа.
В сумерках к Кошкину пришел Балодис.
— Ты меня, братишка, знаешь? — спросил он заискивающим тоном.
— Вперво́й вижу, — схитрил Кошкин.
— Да ведь я хотел с тобой в разведку идти, а Блюхер отказал. Помнишь?
— Харя у тебя малоприметная, потому не запомнил.
— Чего лаешься? Я к тебе пришел как к человеку, а ты…
— Как девица! — перебил Кошкин. — Ну, будем считать, что у тебя личико, а не харя. Доволен?
— Будет надсмехаться, не то осерчаю.
— От ворот поворот, а то я тебе всыплю несколько пряжек. Подумаешь — «осерчаю».
— Идол ты! — огрызнулся Балодис. — Гидра!
— Чего, чего? — У Кошкина забегали зеленые глаза. — Кругом арш!
В комнату неожиданно вошел Блюхер. Балодис выпрямился, как натянутая струна, сомкнул ноги в каблуках, но от страха опустил глаза.
— Шляется всякий сброд да еще гидрой обзывает, — прошипел Кошкин.
Блюхер сел за стол, переложил с одного края на другой какие-то бумаги и, словно не замечая матроса, спросил у Кошкина:
— Чего сердишься?
— Ходят тут всякие.
— Разве матрос с «Андрея Первозванного» — это всякие? — переспросил Блюхер и сам ответил: — Бескозырка — почетный головной убор, но только некоторые братишки ее ни в грош не ставят и честь матросскую на босяцкую удаль меняют.
— Виноват! — гаркнул Балодис.
— В чем? — спросил Блюхер. — Садитесь и рассказывайте.
Балодис коротко рассказал о себе, закончив словами:
— Судите по всей строгости. Черт меня попутал.
— На черта сваливать нечего, — вмешался Кошкин. — Ты что думаешь теперь делать?
Балодиса злило, что порученец вмешался в разговор, хотел обрезать его, но побоялся, что Блюхер прогонит. Поборов свой гнев, он покорно произнес:
— Вину искупить.
— Решение правильное, — согласился Блюхер, — вину искупить дисциплинированной и примерной службой. Возьму тебя к себе в порученцы.
Балодису показалось, что он не то ослышался, не то над ним шутят, и серьезно возразил, кивнув в сторону Кошкина:
— Он меня живьем съест.
— Хорошему человеку он друг и товарищ, а босяку — враг, — пояснил Блюхер в защиту своего порученца.
— Из него дурь надо вышибить. Василий Константинович, — продолжал свою издевку Кошкин. — Мне с ним возиться недосуг. Может, он трус, я ведь с ним вместе не воевал.
— Посмотрим, авось человека из него сделаем.
— Трудно, — почесал Кошкин затылок. — Горбатый он и языкатый.
Никто не хотел продолжать спор. Балодис дрожал от негодования, но молчал, словно ему кляпом заткнули рот. Уж лучше терпеть унижения от Кошкина, но зато заслужить одобрение Блюхера.
И Балодис остался порученцем.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Каширины выехали на зорьке, покинув с чувством горечи родную станицу. Накануне Дмитрий Иванович простился с Прохором Семушкиным.
— Бог даст, свидимся.
— Езжай, Дмитрий Иванович, с такими орлами не пропадешь. Кабы мой вернулся — разом бы поехали.
Старик отказался от саней, надел на голову старую казачью фуражку с широким козырьком и с трудом взобрался на коня. Сидя в седле, он который раз силился ответить самому себе: правильно ли сделал, что покинул дом и кровать, на которой ему надо было умирать, и пустился в неведомый путь? «Куда меня несет и зачем?» — эта мысль все время выплывала, как вода над талым снегом.
— Ваня, — обратился Николай к брату, — скачи в Заберовскую станицу, узнай, вернулся ли казак Евсей Черноус. Он нам подсобит.
Иван послушно пришпорил коня. Из-под копыт полетели комья снега.
Когда меньшой сын скрылся, отец посмотрел в одну сторону, потом в другую, снял фуражку, перекрестился и нерешительно спросил у Николая:
— Не умрем под чужим тыном, сынок?
Николай надвинул папаху на брови.
— Батя, вы богу верите больше, чем мне с Иваном.
— Я и в бога не верю, а по-стариковски себя осеняю.
— Воевать вы, батя, не будете. Нет у вас больше силы в руках, а оставаться в станице нельзя. Зарубят дутовцы.
— Было время, когда мне за баклановский удар командир сотни ручки пожимал. — Старик тяжело вздохнул. — Теперь из меня вся сила вышла.
Часа через два показались два всадника. Это возвращался Иван Каширин с Черноусом.
— Здравья желаю! — живо произнес Евсей, осадив коня на задние ноги перед Николаем Кашириным.
— Здравствуй, Евсей! Как она, жизнь?
— Сами знаете, ваше… — и запнулся.
Николай Дмитриевич укоризненно покачал головой:
— Евсеюшка, пора отвыкать от старого. К тебе заехать можно?
— Низко кланяюсь и рад принять с превеликим удовольствием.
— Иван гуторил с тобой?
— Эге! Двадцать два казака наберем.
— Верные люди?
— Мне верите, Николай Дмитриевич, да? Так и им!
Евсей Черноус жил с матерью Ульяной. Тихая и безропотная казачка слушалась во всем сына, но в душе боялась его речей против станичного атамана. По комнате она семенила неслышными шажками. Ульяна понравилась Дмитрию Ивановичу, и они, словно старые знакомые, быстро нашли тему для разговора.
— Ноне молодые шибко прыткими стали, — сказал старик Каширин. — Моих сынов, к примеру, в Питербурх звали, а они, — от досады он махнул рукой, — сама видишь…
— Кабы у Евсеюшки умишко был, так мы бы жили как у Христа за пазухой, — сказала в свою очередь Ульяна. — Вернулся с фронта о двуконь, мне привез шелковый платок и ситчику на платье. Все шло хорошо, а на прошлой неделе сцепился с дутовским прихвостнем, тот ему одежонку испластал и кровь пустил. Уж я его и в бане правила, и мазью натирала, очухался наконец. Спрашиваю: «Кто тебя убил?» А он не обмолвился, крепкий на язык. Раньше никогда озорным не был, а теперь ему в глаза плохого слова про советскую власть не скажи — убьет. Какой-то он особенный уродился.
— Не он один, — соглашался Каширин, — ноне все, кто супротив советской власти, значит, за царя. А от нашего царя какой толк был? Царица с Распутиным, а Николка срамницы боялся пуще огня. Прямо скажу — дерьмовый царь…
— Хучь дрянной, а все же царь. Не ущитили.
С каждым днем отряд братьев Кашириных пополнялся. Иван то пулемет притащит, то патроны привезет, а Николай сотни формирует. Шли отрядами от станицы к станице оренбургские казаки, чтобы добыть себе вольную жизнь под красным знаменем.
Дмитрий Иванович помолодел с виду, а силы его истощались, и сыны, видя, что отцу нужна подмога, прикомандировали к нему молодого казачка, но старик прогнал его прочь.
— Не слепой я, все вижу, — с досадой жаловался он Ульяне. — Мне казачок нужен, как бабе борода.
Падение Троицка вызвало у Дутова гнев. Он бесновался, кричал на начальника штаба Сукина, на Сашку Почивалова, грозил, что будет расстреливать без суда и следствия городских жителей за робость перед красными, и, арестовав многих, заполнил ими не только тюрьму, но и военную гауптвахту, служившую некогда складом для губернаторского архива.
Александр Ильич по заведенному правилу проводил воскресные ночи с Надеждой Илларионовной. В ее агентурных сведениях он больше не нуждался, но отказаться от нее как женщины не хотел.
В один из воскресных вечеров Сукин разыскал Почивалова и, хитро улыбаясь, спросил:
— Не знаешь, где генерал?
— Знаю, — похваляясь, ответил есаул, — а пойти к нему не осмелюсь.
— Дело есть, и притом не терпящее отлагательств.
Почивалов задумался. Надежда Илларионовна запретила ему приходить к ней. Он догадывался, что приказание исходило от самого Дутова. Нарушение грозило отставкой, а то и просто изгнанием. Сейчас ему представился случай побывать у нее дома, увидеть ее, вспомнить первую ночь, проведенную вместе. Искушение было велико. «Авось она загорится, когда увидит меня, поманит… — размышлял он. — А винить меня атаман не станет. Не по своей воле пошел, а по просьбе начальника штаба — дело безотлагательное. Рассердится — всю вину на Сукина свалю».
— Допустим, что я повидаю его, — сказал Почивалов, испытывая удовольствие от того, что его просит начальник штаба. — А что я скажу? Дескать, вас хочет видеть начальник штаба? Да он меня в три шеи прогонит.
— Я вам, Александр Прович, пакет дам. — Так Сукин назвал есаула впервые. — На словах же скажете, что полковник Сукин потребовал от вас незамедлительно повидать наказного атамана.
— Была не была! — выпалил Почивалов с затаенной радостью. — Давайте пакет!
Подойдя к дому Надежды Илларионовны, Сашка струсил и хотел повернуть обратно, но пробивающаяся сквозь расщелины старой ставни узенькая полоска света притягивала. «Не спят еще». Он несколько раз дотрагивался до ручки звонка, собираясь дернуть за цепочку, но дрожащая рука бессильно опускалась. Борясь с желанием и страхом, он решил уйти и, побродив по двору, направился на улицу.
Сквозь мчавшиеся по небосклону облака, озаряя тихую улицу, застенчиво выглядывала луна. Под ногами хрустел снег, слезились от мороза припухшие глаза. Где-то затенькали бубенцы, но звон их быстро затих. И луна, которая выбегала из-за туч и так же поспешно пряталась, и скрипучий снег, и безмолвие пугали Сашку, но вернуться обратно в штаб и доложить Сукину, что не нашел атамана, он тоже не решался. Вдруг в пакете важное донесение — не жди от атамана пощады, разнесет его как мальчишку. «Вы ведь знали, где я». Он бессознательно позвонил и тотчас оробел, но когда за дверью послышался знакомый женский голос: «Кто там?» — подавил в себе волнение и ответил:
— Надежда Илларионовна, это я, Сашенька! — Он сказал так, как она его раньше называла. — Откройте! Мне срочно нужен атаман.
Сашка вошел, принеся с собой на бекеше морозный воздух, вытер ноги о половичок и шепотом спросил:
— Он здесь?
Надежда Илларионовна, держа в руках подсвечник с зажженной свечой, кивнула головой, а Сашка, заглянув в ее глаза, готов был поклясться, что она рада его приходу. Он не посмел переступить порога коридора и войти в столовую, откуда дверь вела в спальню, хотя этот путь был ему знаком. Сознание того, что он здесь сейчас в роли посыльного, вызвало в нем бешеную злобу против атамана, но эта злоба мгновенно угасла, как только он услышал шаги Дутова. Атаман вышел в коридор в черном костюме.
— Что случилось? — спросил он спокойно, не сердясь на Почивалова, который ни разу его здесь не беспокоил.
— Полковник Сукин приказал незамедлительно вручить вам пакет.
Читая, Дутов сохранял каменное спокойствие, только губы безмолвно шевелились, но Сашке показалось, что атаман вот-вот разъярится. Дутов, прочитав до конца, повернулся и бросил через плечо:
— Проводите его, пожалуйста, Надежда Илларионовна.
Сашку всего обожгло. Ему хотелось надерзить атаману, но он сдержался, почувствовав почти над самым ухом теплое дыхание Надежды Илларионовны.
— Я жду вас послезавтра в девять вечера, — прошептала она.
Пров Ефремович, узнав от Митрича об отъезде старика Каширина с сынами, пришел в ярость:
— Куда они могли уехать со старым хрычом?
— Никто не ведает, Пров Ефремович.
— Я доведаюсь. Созови-ка сход, погуторим насчет Кашириных.
На сход пришел и Семушкин.
«Вот ты-то мне и нужен, — подумал Почивалов, — тряхнем твою душу, так все поведаешь».
В станичном правлении собралось много казаков, даже с хуторов и те притащились. Митрич поднялся из-за стола, подправил свисавшие к подбородку усы, разгладил старый измятый мундир и надсадно откашлялся.
— Станичники, — громко начал он, — объявляю сход открытым. Перво-наперво передаю вам поклон от нашего наказного атамана, полковника Дутова. Дошли до него слушки, будто казаки, а то и ахфицеры подаются к красным. Из нашей станицы подхорунжий Каширин с сынами уехали на ту сторону. Куда казакам ехать и бросать свою землю? Счастья искать? Значитца, земля им нужна, как собаке пятая нога. Подпишем общественный приговор: землю отдать станичному правлению, а дальше будем судить. Опять же запишем: кто пойдет к большевикам — бродягам и каторжникам — разорять с ними святую Русь, того ждет наша немилость. Все мы, как один, станем за поруганную веру.
— Правильно! — закричали с мест отдельные казаки.
— А на мою думку, неправильно рядите.
Все обернулись, узнав по голосу Семушкина.
— Креста на тебе нет, Прохор. Ты что, заодно с супостатами? — спросил Митрич и сплюнул на пол.
— С крестом аль без креста, а с каторжниками я чужого не крал и на чужое не зарился. Зачем забирать землю Каширина?
Со скамьи поднялся Почивалов. Все тотчас умолкли.
— Господа станичники! Почивалов свой хлеб ест, а не чужой.
— Я к тебе за подачкой не ходил, — бросил с места Прохор Иванович.
— Ты помалкивай, потому твое время прошло. Пошумели — будя! Разорять казачью жизнь не позволим. Отцы наши и деды эту землю кровью и потом поливали, а Каширины норовят ее отдать коммунистам и иногородним. Ты, Прохор, знал, что Каширины уезжают из станицы. Почему молчал?
— Кто ты такой, чтобы тебе докладать? — усмехнулся Семушкин.
— Почивалов! — с гордостью произнес свою фамилию Пров. — Не у тебя гостил наказной атаман, а у меня.
— Ты его и целуй в ж…
Лицо Почивалова налилось кровью, и он заговорил так, словно у него во рту лежала большая слива:
— Мы вот сейчас запишем тебе общественный приговор: ввалить двадцать пряжек.
— Руки коротки! — не остался в долгу Прохор Иванович.
Казаки расшумелись. Многим не понравилась мера наказания: сегодня всыпят Семушкину, завтра другому. Позор на всю станицу. Кто в рукав улыбается, кто ногой пинает один другого, — дескать, Почивалов не шутит.
В шуме Прохор Иванович, поднявшись со скамьи, хрипло крикнул от подхлестнувшей его жгучей боли:
— Станичники! Где же это видано, чтобы старых казаков секли? Сын мой еще не вернулся, воюет за веру и отечество, я не сегодня-завтра богу душу отдам, а кровосос Почивалов здеся командует, как наказной атаман.
— Не мути, Прохор, старикам головы, — перекричал его Почивалов и тут же приказал станичному писарю: — Пиши общественный приговор про землю Кашириных.
Общественный приговор был написан, и казаки, держа корявыми пальцами ручку, которую им подавал Митрич, нехотя ставили кресты да закорючки, понимая, что они незаслуженно наносят обиду своему бывшему станичному атаману Каширину.
Прохор Иванович тоже подошел к столу, взглянул на бумагу, лежавшую перед писарем, и плюнул на нее. Почивалов вспыхнул и, сжав кулак, сильно ударил Прохора Ивановича в грудь. Старик зашатался, грохнулся на пол. Его подняли, усадили на скамью. Он тяжело дышал, из выцветших глаз катились слезы на морщинистое лицо. Прохор Иванович посмотрел с ненавистью на Почивалова, и взгляд его говорил: «Вернется сын — даст тебе сдачи». С трудом он дотащился до дому и упал на старую, расшатанную кровать.
На другой день Прохор Иванович умер.
Под вечер в дом Евсея Черноуса вернулся Иван Каширин, ездивший по станицам вербовать казаков.
— Ложись, Иван Дмитриевич, отдыхай! — предложил Евсей.
Иван ничего не ответил, только снял папаху, сел за стол и поник головой, сдавив ее обеими руками.
— Заболел, сынок? — участливо спросила Ульяна. — Я те дам чайный настой из трав, дюже помогает.
Дмитрий Иванович понял, что сын чем-то огорчен, и не тревожил его вопросами. «Сам расскажет», — решил он.
Долго молчал Иван, не шелохнувшись. Наконец он оторвал руки от головы, поднялся и глухим голосом промолвил:
— На зорьке, батя, еду в нашу станицу.
Старик удивленно развел руками:
— Ты что забыл дома?
— Ничего! А проучить кое-кого не мешает.
— Да ты уж толково гуторь. Чего тебе дома-то надобно?
— Я вам, батя, ответил: ничего, но хочу повидать Прова Почивалова, Митрича и погуторить с казаками.
— В загадки не играй.
Иван тяжело вздохнул и с трудом выговорил:
— Умер Прохор Иванович, твой старый друг.
— Царствие ему небесное, — прошептал старик Каширин и, повернувшись к образу, перекрестился.
— Господи Иисусе Христе, — вслед за Кашириным произнесла Ульяна.
— Его на сходе Почивалов в грудь ударил за то, что он вступился за нас, — продолжал Иван. — Общественный приговор подписали — землю нашу забрать. Прохор Иванович распалился, обозвал Почивалова кровососом, а тот все хотел дознаться, где мы.
— Ну и Провушка! Чистая сибирская язва. Вернется сын Прохора — потребует ответа.
— Не вернется, батя, — сказал невесело Иван. — Не хотели мы с Николаем сердце старика растравлять. Убили его сына в бою. А с Провом надо кончать.
— Ты что надумал?
— С полусотней поеду в станицу, созову сход, будем судить Почивалова с Митричем.
— Дозволь мне с тобой, — попросил с горячностью Евсей.
— Уж коли судить Прова, то и я поеду, — твердо заявил Дмитрий Иванович. — Жаль, что Николая нет, хотел бы его думку знать.
В разговор снова вмешался Евсей:
— Не знаю, как бы судил Николай Дмитриевич, а я вот своим умишком считаю, что спуску белым давать нельзя. Насмотрелся я, Дмитрий Иванович, и на фронте и в тылу. Прямо скажу — або мы их, або они нас. Сердобольному места нет. В кажной станице есть свои почиваловы и митричи. Разменяем их — и конец!
— Правильно судишь! — одобрительно отозвался Иван.
Каширин с сыном, Евсей Черноус и полусотня казаков въехали в станицу в полдень другого дня. Над станицей лежало серое, как солдатское сукно, в черных подтеках небо, из степи дул ветер, предвещая снег, а его и так много.
По стежке, протоптанной к станичному правлению, Дмитрий Иванович прошел один. Открыл дверь, и в глаза бросилось хмельное лицо Митрича.
— Дозволь взойти?
— Давай! — ответил пьяным голосом Митрич и, скривившись, икнул. Присмотревшись, он узнал Каширина. — Вернулся? Прогнали красные? Тебе, брат, теперь здеся не жить.
— Это почему же?
— Казаки общественный приговор подписали, — выпалил Митрич. — Их воля.
— Это вы с Провом порешили?
— А хучь бы так.
— На вон, выкуси! — и Дмитрий Иванович повертел дулей перед сизым носом Митрича.
— Супротив станичного атамана идешь? — вспылил Митрич. — Я тебе голову сверну.
— Ты ишо, гад, ответишь за смерть Семушкина. Сдохнешь, бугай!
Митрич бросился на Каширина, но в эту минуту вошел Евсей, поджидавший за дверью.
— Что за шум? — спросил он, подойдя вплотную к Митричу, и осклабился. — Вас, папаша, обижают?
— Откедова ты? — спросил Митрич.
— От атамана Дутова. Он мне наказал харю твою разукрасить моим кулаком.
Митрич, чувствуя себя в западне, боязливо сел за стол и завертел шеей, словно за воротник насыпали колючей мякины. Хмель из головы сразу вышел, осовелыми глазами трусливо смотрел он то на Каширина, то на незнакомого казака.
— Душегуб, — качая головой, сказал Дмитрий Иванович, — сгноил ты Прохора Ивановича, мово верного друга. Не пройдет тебе дарма его смерть.
Митрича подмывало ответить, но в эту минуту дверь отворилась и в правление втолкнули со связанными на спине руками Прова Почивалова. Он молча свалился на лавку, опустив низко голову.
— Полюбуйтесь, батя! Доверенный Дутова, убийца Прохора Ивановича. Сегодня мы ему покажем, где раки зимуют, а завтра — его выродку, Сашке.
— Не губи меня, Каширин, — глухим голосом взмолился Почивалов. — Никто Прохора не убивал, своей смертью помер.
— А землю отцовскую отобрал? — вскипел Иван. — По какому праву?
Почивалов поднял на Ивана глаза, налитые гневом, и закусил губы.
К вечеру собрался сход. Иван Каширин взволнованно произнес речь.
— Станичники, — закончил он, — не дутовы и почиваловы будут править Россией, а народ. Погубил Пров Семушкина, всякого погубит, кто ему суперечить будет. Царское время сгинуло и никогда не вернется.
— Ишь какой, — возразил ему рыжеусый казак, — без царя-то и выходит антимония.
— Советская власть будет, а не антимония, — блестя глазами, ответил Иван.
— Коммуния, — снова подзадорил с места рыжеусый.
Каширин пропустил мимо ушей и продолжал:
— Я офицер, но всякий казак мне братеник, потому нас одна казачья земля вскормила.
— А иногородние? — не унимался рыжеусый.
— Разве они хуже нас? — спросил Иван.
— Доехали, станичники! С иногородними побратались, а нам, казакам, больше привилегий нет. Поравнялись, значитца.
— Да, поравнялись! — властно сказал Каширин. — Всех в России поравняем.
— Спасибочка! — ехидно откликнулся казак и поклонился в пояс.
— Не об том сейчас речь, а о Почивалове и Митриче. Собакам — собачья смерть. За кровь невинного казака Прохора Ивановича требуется ответ. Кто за то, чтобы покарать Почивалова и Митрича?
Каширины первыми подняли руки, а за ними не совсем уверенно и другие.
— Мы уезжаем, но вернемся. Сила у нас большая, Дутову скоро придет конец.
Отряд уехал, уводя с собой Почивалова и Митрича, которых Евсей вел на веревке. Далеко за околицей их расстреляли и засыпали снегом.
Сашка Почивалов тайком прошел к особняку Надежды Илларионовны, воровато озираясь по сторонам. Он опасался, что шпики могут заметить его и донести атаману. Не снести тогда есаулу головы. И снова, как в тот памятный вечер, когда он относил Дутову пакет от Сукина, Сашка подавлял в себе страх.
На звонок никто не откликнулся. Сашка уж со брался с горечью уйти, но неожиданно дверь отворилась и на пороге показалась Надежда Илларионовна.
— Заходите! — тихо произнесла она. — Где он?
Сашка понял, на кого она намекает, и так же тихо ответил:
— В гостях у Барановского.
Сашка прошел в спальню Надежды Илларионовны, опустился на пружинистую тахту. Радость, с которой он шел сюда, предвкушая встречу, исчезла, уступив место неуверенности. Движения его стали неловкими, в ушах стояла давящая глухота: то ответит невпопад, то переспросит несколько раз.
Надежда Илларионовна сразу почувствовала его настороженность. Приняв независимый вид, она с язвительной усмешкой произнесла:
— Вам бы погоны труса, а не есаула.
Слова ударили Сашку хлыстом по лицу. Тяжело дыша, он поспешно встал и прерывистым голосом сказал:
— Вы его плохо знаете. В вашей постели он кутенок, зато в штабе — волк. Дознается — заклюет меня и вас.
— Я не из трусливого десятка, — смело ответила Надежда Илларионовна и, обхватив руками Сашкину голову, приблизила к себе и прижалась к его губам.
В этот полночный час Дутов сидел у Барановского за столом, накрытым белоснежной скатертью. По одну сторону развалился в кресле грузный Барановский, председатель «Комитета спасения родины», бывший оренбургский городской голова, по другую — пышная, с копной рыжих волос, женщина, его разведённая дочь, лет тридцати пяти, в черном муаровом платье с глубоким вырезом. Дутов с непроницаемой холодностью смотрел на Барановского, его дочь и остальных гостей, а они видели в нем главу Российского государства. «Вот только такой может взять власть в свои руки, — думал Барановский, — и заставить себе подчиниться. Будущее выглядит довольно заманчиво, особенно если он, Дутов, обратит благосклонное внимание на мою дочь. А вот она может завлечь его и подчинить себе. На то она и женщина».
— Вы считаете наше положение прочным, несмотря на потерю Троицка? — поинтересовался оренбургский губернатор барон Таубе.
— Бесспорно! Через две недели вся Оренбургская губерния и Тургайская область будут освобождены от красных, — без намека на улыбку ответил Дутов.
— Господа! Я предлагаю выпить за талантливого и бесстрашного Александра Ильича, в лице которого мы видим спасителя нашего отечества! — предложил тургайский губернатор генерал Эверсман.
Все подняли бокалы, потянулись к Дутову. На мгновение наступила торжественная тишина, но неожиданно ее разорвал оглушительный взрыв пушечного снаряда.
В столовую вбежала жена Барановского и истерически закричала, падая на чьи-то руки:
— Господи! Неужели красные?
Гости опустили бокалы. По неосторожности кто-то пролил вино, в тишине послышался недовольный голос: «Как вы неосторожны». Потом все бросились к вешалке. Дутов второпях успел раньше всех схватить чью-то шубу и выбежал на морозный воздух. За ним едва поспевал ее хозяин барон Таубе.
Шуба Таубе мешала Дутову бежать. Поддерживая полы, он в темноте угадывал дорогу к штабу. По улицам скакали в разные стороны казаки, и они выглядели чудовищами, невесть откуда появившимися в городе. Прижимаясь к домам, чтобы какой-нибудь сорвиголова не свалил его с ног или не зарубил шашкой, Дутов с трудом добрался до штаба, но у дверей его задержали часовые.
— Назад давай, шкура! — резко прозвенел в его ушах окрик, и только сейчас наказной атаман сообразил, что его не узнали в необычном одеянии. Сбросив с себя шубу, он остался в мундире и на глазах у изумленных часовых прошел в свой кабинет. На его звонок вбежал дежурный адъютант.
— Почивалова ко мне! И полковника Сукина!
Сукин доигрывал преферанс. По донесениям он знал, что у станции Карталы казакам удалось задержать красных и те давно топчутся на одном месте. Где ему было догадаться, что Блюхер, оставив у станции ложно атакующий батальон, вышел с павловскими матросами и всеми отрядами на Фершампенуаз, спустился на юг, скрытно перешел севернее Орска на правый берег Урала, потом западнее Орска снова на левый берег и двинулся к Оренбургу, а невдалеке от города опять перешел на правый берег Урала. Петляя таким путем, Блюхер избежал встречи с крупными силами Дутова. Несколько пушечных выстрелов Сукин расценил как озорство своих артиллеристов и послал трех штабных офицеров арестовать виновников.
Начальник штаба вошел к Дутову в довольно веселом настроении, ибо сегодня ему сопутствовала удача в игре, но, увидев гневное лицо наказного атамана, растерянно остановился.
— Болван! — закричал Дутов. — Красные бьют по городу, а вы в карты режетесь. И это начальник штаба? Я сам рас-с-с-тре-ляю вас, — просвистел он, вращая белками.
То ли страх охватил Сукина, то ли неожиданное оскорбление, нанесенное ему Дутовым, привело его в бешенство. Не говоря ни слова, он выбежал из кабинета.
Почивалова нигде не могли разыскать. Он ведь недавно уснул на постели Надежды Илларионовны таким крепким сном, что никакая канонада не могла бы его разбудить.
Дутов быстрым шагом шел по комнатам. Он убедился, что начальник штаба оставил офицеров на произвол судьбы и те растерянно шепчутся, роются в ящиках столов, словно собираются бежать.
— На коней, господа! — скомандовал он.
Вот когда все завертелось, закружилось! Офицеры поспешили к лестнице. Они бежали по коридору, суетились, каждый пытался как можно скорей очутиться на конюшне, оседлать коня и ускакать.
Дутов считал, что он родился под счастливой звездой. Ему действительно повезло в эту морозную январскую ночь. Каким-то чутьем он угадал свободную дорогу и с пятьюстами казаков бежал в сторону Верхне-Уральска, скрывшись в станицах.
Дутовские казаки, узнав, что их наказной атаман сбежал, прекратили сопротивление. Большинство из них двинулось по направлению к Верхне-Уральску, и часть казаков подалась к братьям Кашириным.
Смелый маневр и его блестящее выполнение принесли Блюхеру славу талантливого командира. Его стали называть главкомом. Василий протестовал, но его убедили, что главком — это лишь главный командир, а не главнокомандующий.
В Хлебном переулке, в доме Брагина, разместился Военно-революционный штаб города. Матросы заняли пятиэтажный дом Панкратова. Артиллеристам выделили форштадт, или, как говорили, Казачью слободку. Это название сохранилось со времен Пугачевского восстания, когда оренбургский губернатор Рейнсдорп приказал сжечь слободку, чтобы не дать сподвижнику Пугачева Чике Зарубину в ней основаться. С паперти Георгиевского собора, стоящего на берегу Яика, пугачевцы обстреливали из батареи оренбургскую крепость. За полтора века слободка снова отстроилась, и сейчас в ней отдыхали красные артиллеристы.
Против Гостиного двора в здании контрольной палаты разместился губернский комитет партии. Над зданием развевалось кумачовое знамя.
Сам Блюхер облюбовал для себя небольшой старинный домик, пришедший уже в ветхость, но сердцу Василия он был дорог — рассказывали, что в этом доме жил губернатор Перовский и в 1833 году у него останавливался Пушкин, с которым он был знаком по Петербургу; поэт приезжал в Оренбург собирать материал для истории Пугачевского бунта.
Из тюрем были освобождены заключенные, их перевели в городскую больницу.
Балодис сдержал свое слово. Первое время Кошкин на каждом шагу старался задеть матроса, но тот молчал.
— Зарой свою бескозырку и надень треух, — посоветовал Кошкин.
— Я бескозырку подбирал по голове, а не наоборот.
— Дураку хоть кол теши на голове.
Балодис не отвечал.
— Молчишь? — донимал его Кошкин. — Что с дурня спрашивать? Сказал-то я на глум, а ты бери на ум.
Однажды Блюхер услышал, как Кошкин донимает матроса.
— Ты что же сдачи не даешь? — спросил он у Балодиса.
— Сам образумится, товарищ главком.
На другой день Кошкин подошел к матросу, протянул руку и серьезно сказал:
— Испытательный срок закончился. Экзамен выдержал. Теперь пусть только тебя кто обидит — спуску не дам. Как твое имя?
— Янис!
— Что за странное имя? И фамилия у тебя нерусская. Ты кто, татарин?
— Латыш из Либавы. По-русски Янис — Иван, а Балодис — вроде как Голубев.
— Так бы и сказал. Буду звать Ванькой Голубевым.
— А я тебя Петькой Собакиным, — нашелся матрос.
— Но-но! — пригрозил Кошкин.
Потом они крепко подружились. В бою под Оренбургом Янис показал себя героем. У него, как у порученца Блюхера, был резвый конь, доставшийся ему от убитого казака. Кошкин научил матроса седлать и чистить коня.
— Конь — твой первый друг. Он в бою спасет не раз, но только ты люби его, как самую красивую деваху на свете, — наказал ему Кошкин.
И вот на этом коне, которому Кошкин дал имя Дружок, Янис Балодис первым ворвался в Оренбург и, проскакав по его безлюдным улицам, возвратился и доложил Блюхеру, что дутовцы оставили город.
Придя ночью с заседания в «Пушкинский домик», Блюхер позвал Кошкина и сказал:
— Перевязку мне надо сделать, а бинтов и рыбьего жира нет.
Кошкин с досадой сдавил свою голову.
— А еще адъютант! — сказал он с издевкой в свой адрес (он не любил слово «порученец»). — Как же это я забыл про вас, товарищ главком! — И тут же решил проверить преданность матроса. Он вышел из комнаты и прошел к Балодису.
— Надо раздобыть широких бинтов примерно на пятьдесят аршин, а сумеешь на сто — в пояс поклонюсь. И еще достать баночку рыбьего жира.
Янис недоуменно посмотрел на Кошкина и махнул рукой.
— Балодис, — внушительно произнес Кошкин, — если я говорю, то не зря. Раздобудь и принеси — тебе сам главком спасибо скажет. Потом все узнаешь.
Янис нахлобучил бескозырку, перебросил через плечо маузер на ремне и вышел на улицу. Через час он вернулся с бинтами и рыбьим жиром.
— Если бы я имел Георгия, ей-богу, снял бы с себя и тебе прикрепил, — искренне признался Кошкин. — Идем к главкому.
Порученцы перебинтовали Блюхера и ушли спать. Укладываясь, Янис долго крепился, но наконец признался:
— Как увидел его спину — все в душе перевернулось. Сколько надо терпения и силы, чтобы так мучиться. Ты меня, Петя, уже знаешь. Слово мое крепкое. Так вот, я решил — никогда не покидать его.
Наутро Янис, встретившись с Блюхером, посмотрел на него восхищенным взглядом.
— Хочу вам одну мысль подать, товарищ главком, — обратился к нему Балодис.
— Говори!
— Я ночью в госпитале был — Кошкин меня послал, — видел раненых, — кто спал, кто по нужде в клозет брел, няньки дрыхают, дежурного доктора нет. Это все терпимо в городе, а вот в бою — ни доктора, ни санитара, ни бинта — ни хрена.
Блюхер задумался. Тот самый матрос, что с такой наглостью говорил с ним под Троицком, решительно изменился, стал послушным, а сейчас своим предложением даже устыдил самого главкома. Раздобыли пушки, пулеметы, коней, повсюду действуют хозяйственные части, а вот до санитарных двуколок, врачей и медикаментов никто не додумался.
— Молодец, Балодис! — похвалил его Блюхер, — Поручаю тебе организовать санитарный отряд и через неделю доложить о выполнении приказания.
— Есть, товарищ главком!
Со всей энергией Янис принялся за новое дело. Он пришел в Ревком, отбарабанил для себя на пишущей машинке бумажку и, проникнув к Цвиллингу, попросил: «Прошу, товарищ председатель, собственноручно затвердить мандат». Заняв особняк доктора Войцеховича, бежавшего с дутовцами, он отобрал несколько бойцов из отряда Елькина, распределил между ними обязанности, начал обзаводиться хозяйством.
В поисках белья для будущих раненых Янис набрел на особняк Надежды Илларионовны и был радушно встречен самой хозяйкой.
— Я вдова, — сказала она с наигранной грустью в глазах, — мужского белья у меня нет, но я хочу помочь вам и пожертвую несколько простынь и наволочек.
— Спасибо за это, гражданочка, — от души поблагодарил Янис, любуясь осанкой и красотой женщины. — За вашу сознательность готов и вам помочь. Заходите когда хотите в дом доктора Войцеховича, там мой штаб, спросите Яна Карловича Балодиса.
Уходя, он уловил на себе взгляд Надежды Илларионовны и, усмехнувшись, сказал:
— У вас на носу веснушечка.
— Одна весны не делает, — многозначительно ответила она.
Янис понял намек.
— Зайду, как говорят, на огонек, поговорим по душам.
Он ушел, и у Надежды Илларионовны сразу стало легко на сердце. Как просто ей удалось спровадить красивого матроса, который даже не осмотрел ее квартиру. Ведь на кухне, переодевшись в женское платье, с перевязанным до глаз лицом, лежал на койке Сашка Почивалов, не успевший скрыться. Вид его смешил Надежду Илларионовну и в то же время вызывал в ней отвращение, потому что лихой есаул обмяк, превратился в трусливое и никчемное существо. Она принесла ему мужской костюм, скользнула равнодушным взглядом по его испуганному лицу и тоном, не допускающим возражений, приказала:
— Переоденьтесь и уходите! В народе говорят, что и на печи лежа умрешь, а в сражении судьба помилует.
Сашка даже не пытался упрашивать. Пока Надежда Илларионовна причесывалась в своем будуаре, он переоделся и незаметно ушел, проклиная вероломную любовницу и наказного атамана.
Казак села Кочердык, Усть-Уйской станицы, Николай Томин в девятьсот пятом году восемнадцатилетним парнем был уличен в том, что давал грамотным казакам революционные листовки. Ему грозила каторга, но он сумел прикинуться простофилей и избежал кары — отец упросил станичного атамана не чинить расправы.
— Поганец! Купоросная кислота! — распекал родитель. — С тебя бы штаны стянуть и двадцать пряжек всыпать, чтобы задница взошла, как тесто в квашне.
— Чего лаетесь, папаня? Разве я знал? Поднял бумажки на шляху…
— Брешешь, сибирская язва!
— Побей меня бог.
— Ты ведь грамотный, чужеяд.
Николая призвали в армию солдатом, а не казаком. Он терпел насмешки фельдфебеля, который кричал ему: «Казака из тебя не вышло, а здеся я втемяшу в твою башку солдатскую науку», безропотно молчал. Был день, когда ему хотелось украсть коня, оседлать его, ветром умчаться в Сибирь и там под чужим именем начать новую жизнь. Но началась война, и Томина погнали на румынский фронт. Революцию он принял восторженно, мечтая поднять казачество против всех атаманов. За пламенные речи его избрали председателем дивизионного солдатского комитета, и он с тремя приятелями втихую покончили с фельдфебелем.
— Эта мразь свободному народу не нужна, — сказал он, — зудит у меня рука против всех подлюг.
После Октябрьской революции дивизия, в которой служил Томин, оставила румынский фронт и двинулась на Москву. В пути к Томину в вагон явилась делегация.
— Кто такие будете? — спросил он, поглаживая свою короткую и черную как воронье крыло бородку. На запястье правой руки висела плетка, с которой он никогда не расставался. Томинский взгляд был тяжел, — казалось, глаза его, широко расставленные, видели то, чего обычные глаза не замечают.
— Мы к вам, гражданин Томин, по поручению генерала Каледина, — заговорил вкрадчивым голосом глава депутации.
— Каледина? — удивленно переспросил Томин.
— Так точно!
— Вон отсюда! — загремел его зычный бас, и синие глаза налились кровью. — Вон к едреной бабушке, иначе всех засеку плеткой. Сволочи! Оренбургского казака хотели подкупить?
В Бердичеве к Томину в вагон ввалился рослый дядька в синем жупане и синей папахе. Вслед за ним внесли тяжелый мешок и опустили на пол.
— Дозвольте познакомиться, пан Томин! Я представник атамана Петлюры — полковник Хижняк.
Петлюровский полковник снял папаху, и Томин увидел бритую голову с оставленным посередине чубом, свисавшим на правый висок.
Рядом с Томиным стояли все члены дивизионного комитета. Помня встречу с калединской депутацией, они ожидали такой же развязки с полковником Хижняком, но последний не спешил объяснить причину своего визита.
— Чи нема у вас чаю або горилки? — оскалил зубы Хижняк.
— Вода есть, — равнодушно ответил Томин.
— Жалеете! — укоризненно бросил Хижняк. — А пану Петлюре не жалко подарувать вам цилый мишок с золотом. Берите, пан Томин! Нам ничего не жалко для добрых людей.
— Вы в царской армии тоже полковничали? — с подчеркнутым интересом спросил Томин.
— Я Миколаю не служил. Я полковник украинской армии пана Петлюры.
— Ясно! — с иронической усмешкой заключил Томин. — А золото где накрали?
— Мы не бандиты, а честные украинские казаки… — Хижняк, обиженный подозрением Томина, неожиданно принял воинственный вид и добавил: — Вы находитесь на территории Украины, где мы хозяева. У нас банк, казначейство, а бы розмовляете со мной, як с бандитом.
— Что вы! — успокоил его Томин. — Мы на вашу землю не заримся, воевать с вами не собираемся.
— Це инша справа, — улыбнулся Хижняк. — Знаете, шо я вам скажу? Вот вы едете в Москву. А шо в Москве? Ленин, мабуть, хороший человек, но его комиссары продались жидам…
— Зачем вы принесли мне мешок золота? — перебил Томин.
— Пан Петлюра вам подарунок шлет.
Томин вплотную приблизился к Хижняку:
— Я тебя, подлюга, своими руками на две часта поделю. Снимай штаны!
Хижняк побледнел.
— Я полковник, — дрожащими губами промямлил он.
— Снимай штаны! — грозней закричал Томин. — Сейчас я проверю, какой ты полковник.
Вложив два пальца в рот, Томин свистнул, и тотчас стоявшие подле него солдаты, подхватив Хижняка за ноги и плечи, выбросили из вагона, как бревно, а вместе с Хижняком и мешок с золотом.
…Николай Томин возвратился в Кочердык не один. На румынском фронте он подружился с солдатом Саввой Коробейниковым, прибывшим в полк после излечения и сразу завоевавшим всеобщую симпатию. После Февральской революции Савва решил удрать с фронта, но Томин его удержал:
— Ишо повоюем, Савка. Ты, видать, тоскуешь по своей бабе?
Коробейников, сидя в окопе на пустом зарядном ящике, снял сапоги, размотал прогнившие от пота и сырости портянки и, подогнув босые ноги в коленках, растирал узловатые пальцы.
— Вишь как притомились ноги. Вот-вот лопнет жила, а кровь не брызнет, потому иссох на фронте. А насчет моей бабы не сказал бы. За четыре года поотвык, будто и не было ее. Вот с землей что делать, ей-богу, не знаю. Всю жизнь отхожим промыслом занимался. Про тоску ты правильно сказал, гложет она меня, злодейка.
Томин, накручивая на палец завиток своей бороды, смотрел синими глазами, сидевшими глубоко под бархатными дугами бровей, и тихо говорил:
— Теперь вся Россия ходуном пойдет. Четвертый год перевалило, как меня в окопы загнали. Воевал, стрелял, в меня стреляли. Миллионы сложили свои головы, а мы с тобой остались жить. Значит, нам пофартило.
— Вот и думаю сигануть отседа, потому как революция взошла, — значитца, отчаливай по домам, — сказал Савва.
— Дезертиром признают.
— Россия большая, от окияна до окияна, где хошь проживу, потому в руках ремесло, столяр я.
— Ты голодал до войны?
— Приходилось, уж такая доля русского человека. Как от титьки дитя оторвут — тут его и поджидает голодуха.
— Мне бы дивизию дали, — уверенно сказал Томин, — повернул бы ее на восток и всех бы буржуев полосовал. — Он извлек из кармана кожаный кисет, достал из-под кубанки слежавшийся по краям кусок газеты, оторвал косой угол, свернул козью ножку и аккуратно насыпал в нее махорку. Приторный дымок лениво поплыл по окопу. — Погоди, Савва, бежать. Окажу когда — вместе подадимся на мою сторону.
— Чего это я к тебе поеду? Баба моя принимает нужду четыре года, я тут целую дивизию вшей покормил, а ты меня кличешь на край света.
— Чудак! Работы тебе у нас непочатый край. Землей наделим, потом за бабой поедешь, заживешь с мое почтение.
Коробейников задумался: «Может, правду казак сулит. Волга не прокормит — станица даст» — и спросил:
— Далеко к тебе?
— Не близко, а в России.
Когда выбирали солдатский комитет дивизии, Томин предложил кандидатуру Саввы:
— Коробейников сдюжит защищать солдатский интерес.
Прибыв в Москву с дивизией, Томин явился к военному комиссару.
— Все как один готовы бороться за советскую власть, — доложил он. — Принимайте дивизию, а я поеду поднимать оренбургское казачество.
Вместе с Томиным поехал и Коробейников. Как хотелось ему заглянуть хоть бы на недельку в Новоселки, выйти на берег родной Туношеньки, где в детстве с ребятами по несколько раз на день кувыркались в воде, обнять жену, а потом уснуть на трое суток.
Томин разгадал его мысли и властно сказал:
— Кабы дети были — пустил, а то баба. Успеешь свидеться.
В родном селе Кочердык жила томинская сестра Груня. Шел ей со сретенья двадцать четвертый год, но осталась в девках. В войну никто замуж не выходил — всех молодых казаков погнали на фронт, а за вдовца да старика Груня ни за что не хотела. Николая она встретила удивленно, бросилась к нему и трижды расцеловала.
— Не ждала, Грунюшка?
— Переменился, браток, будто чужой. Зачем бороду отрастил? Тебе только тридцать, а уж в старики метишь. По глазам узнала, ты ведь в них все небо спрятал. — Бросив взгляд на незнакомого солдата, она спросила: — Гостя-то где прихватил?
— Друзьяк мой. Саввой Коробейниковым зовут, человек сурьезный, из Расеи, с Волги-матушки.
Савва протянул руку и ощутил в ней крепкую ладонь. Груня была одного роста с братом, даже чуть повыше, такая же смуглая и с завитками на высокой шее. На тяжелом узле волос торчала желтая под янтарь гребенка, а полные плечи и налитую спину обхватывала бумазейная кофточка в голубых васильках, застегнутая спереди на мелких пуговичках.
«Не моей чета, — подумал Савва, — я бы такую любил пуще всего, а она бы мне детей рожала. Может, Томин меня для этого и позвал».
Через неделю после приезда Томин подобрал десять казаков, согласившихся с ним, что надо-де самим, без офицеров, добывать волю. По его настоятельной просьбе Груня сшила ему из красной материи длинную рубаху с широкими рукавами, и он теперь не расставался с ней.
— Полк сформирую и назову его именем Степана Разина. Память об этом казаке никогда не должна погаснуть, — сказал он Савве и сестре.
Через неделю отряд Томина вырос до сорока человек.
— Теперь можно и зачинать, — сказал он. — Завтра на зорьке двинемся на Введенку, а там посмотрим.
Утром отряд покинул Кочердык. Савва неуклюже вертелся в седле. Перед отъездом Груня с усмешкой заметила:
— Сидел бы дома, работу тебе найду.
— Отвоююсь, Грунечка, поговорим, а поговорить с тобой есть об чем.
За Введенкой Томин повстречал десять казаков.
— Откель едете? — опросил он, расстегивая зимнюю куртку наподобие венгерки, бока которой были оторочены черной смушкой, — ему хотелось щегольнуть красной рубахой.
— Из Верхне-Уральска, — ответил казак с перебитым носом.
— Дутовцы? — напрямик спросил Томин.
— Были, да вышли.
— Атаман в Оренбурге?
— Бежал, а куда — неведомо. Красные понаперли в город.
— Далеко путь держите?
— А кто ты есть? — задорно спросил встречный казак.
— Николай Дмитриевич Томин из Усть-Уйской станицы. Формирую красный казачий полк.
— Во́йска у тебя жидковато: вошь на аркане, блоха на цепи, — усмехнулся казак. — К масленой эскадрон сколотишь?
Казак задел Томина, и он сам это почувствовал, а ответить надо, да так ответить, чтобы и казака не посрамить в глазах его товарищей, и на свою сторону всех склонить.
— Такого, как ты, я в полк не возьму, — беззлобно сказал он. — Трепальщиков теперь сколько хошь, ими хучь пруд пруди, а сознательных казаков у меня пока только сорок человек. С ними всю Расею объеду, ни одного бедняка, ни одного иногороднего не обидим.
— Меня возьмешь? — спросил другой казак, с русым чубом и серьгой в левом ухе.
— Расскажи, кто ты есть, казаки мои послухают. Признают тебя — зачислю.
Русочубый с серьгой приподнялся на стременах и во весь голос прогорланил:
— Я из Кочкаровской станицы Назар Филькин. На фронте воевал только два года. По мобилизации попал к Дутову, а он себя показал как старорежимный полковник, пропади он пропадом. Принимаете, казаки?
— Подходит? — спросил Томин у своего отряда.
— По всем статьям подходит, — вмешался Коробейников, — но только пусть даст слово, чтоб в станицах не насильничал и к жалмеркам не лазил. Наш отряд должен себе уважение завоевать.
Слова Саввы понравились всем, и особенно Томину.
— Это беспременно, — согласился Филькин. — На казачьей земле довольно стыдно такое делать.
— Не только на казачьей, а повсюду, — настоял Коробейников.
— Согласен!
Филькина приняли в отряд.
Один за другим казаки повторяли примерно то же, что и Филькин.
В пути кони устали. Томин сделал привал в ближайшей станице. И здесь подвезло — в отряд записались свыше сорока казаков. Ночью, сидя в курене, Томин слушал рассказ Филькина.
— У красных немецкий енерал воюет. Казаки гуторили, что голова у него с казан, а в голове государственная дума. Какого хочешь нашего енерала обставит. Под Оренбург подкрался неслышно ночью и ка-а-ак звезданул, так сам наказной атаман в штаны наклал. Отрежь ухо с серьгой, если вру.
— Как звать его? — спросил Томин.
— Точно не знаю, но, гуторят, Блюхер.
Коробейников, сидевший тихо в углу, подскочил как ужаленный и спросил:
— Ты его в глаза видел?
— Дурак! — раскатисто рассмеялся Назар. — Он что же, позовет меня и спросит: «Ты почему, Филькин, против меня воюешь?»
— Почему же ты решил, что он немецкий генерал?
— Блюхер-то кто: аль жид, аль немец. Жидовских енералов нет, — значит, немец.
— Николай Дмитриевич, — обратился Савва к Томину, — ежели Филькин точно дознался, что фамилия ему Блюхер, то это мой земляк.
Казаки заржали, как молодые жеребята.
— Ой, братцы, дайте скорее выйти до ветру, — завопил Филькин. — Видели такое представление? Земляк немецкого енерала!
Коробейников хотя и был разволнован тем, что услышал знакомую фамилию, но спокойно ответил:
— Бог даст, свидимся. Если он — выкусишь у меня, — беззлобно пригрозил он Филькину и тут же подумал: «Спорол я глупость. Василий только унтер, ему теперь топора в руки не взять, — и вспомнил его покореженную спину, — не то что воевать. И дернул меня черт вмешаться».
— Ладно! — примирил спорщиков Томин. — Блюхер сам по себе, а мы сами по себе. Повоюем, — может, встретимся, тогда узнаем, чья правда.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Сформировав санитарный отряд, Янис доложил об этом Блюхеру.
— Может, останешься командиром этого отряда? — предложил главком.
У моряка задрожали губы.
— У тебя лихоманка, что ли?
— Я здоров, товарищ главком, но прошу вас, не гоните от себя. Я не тот, кем был под Троицком. А без вас могу опять надурить.
В разговор вмешался Кошкин:
— Товарищ главком, работы у меня много, одному не справиться, а с Балодисом…
— Ладно! Оставайтесь вдвоем!
Вечером Янис доверительно сказал Кошкину:
— Я тут одну дамочку встретил, обещал зайти. Сбегаю сейчас на часок.
Кошкин махнул рукой: дескать, понимаю, иди.
Янис шел по улицам, угадывая дорогу к особняку Надежды Илларионовны. То ему казалось, что он давно миновал ее двор, и возвращался обратно, то останавливался у незнакомых домов и гадал — не здесь ли она живет. После долгих поисков он наконец нашел особняк и позвонил.
Дверь открыла сама Надежда Илларионовна и удивленно пожала плечами.
— Не узнаете, гражданочка? — весело спросил Янис, потирая от мороза руки. — Раньше не мог зайти, дел, как говорится, по горло.
Надежда Илларионовна тотчас изменилась и, желая задобрить матроса, притворно улыбнулась.
— Я вас не забыла, Ян…
— Карлович, — подсказал Балодис.
— Совершенно верно, Ян Карлович. Я хворала всю неделю, да и сейчас чувствую себя скверно.
Надежда Илларионовна незаметно прикрыла ногой дверь в столовую, откуда донесся сдавленный кашель, и это сразу насторожило Балодиса. Из визитера и кавалера он тотчас преобразился в матроса и порученца главкома.
— Сожалею, гражданочка, что болели и не дали мне знать, а сейчас я не на огонек забежал, а поговорить по важному делу. Пройдемте в столовую!
На лице Надежды Илларионовны вспыхнул яркий румянец. Она не спеша открыла дверь и пригласила:
— Пожалуйста!
В столовой никого не оказалось, и матрос был немало удивлен. Ведь он ясно слышал, как именно в этой комнате кто-то сдержанно кашлянул.
— Присядем! — бесцеремонно пригласил он хозяйку и, отодвинув стул, уселся первый, небрежно положив на стол деревянную кобуру с маузером.
Надежда Илларионовна, боясь смотреть на страшный револьвер, который, как ей казалось, неминуемо выстрелит, все же повернулась к матросу и произнесла:
— Я вас слушаю, Ян Карлович.
Матрос видел перед собой красивый женский профиль, сколотые на затылке пышные волосы, готовые вот-вот рассыпаться. В первый раз она была куда любезней и ее взгляды так много обещали, что могла закружиться голова. Сейчас она была так же хороша, пожалуй еще соблазнительней.
— Я организовал санитарный отряд, — словно докладывая, сообщил он ей серьезно. — Требуется, понятно, доктор. Не укажете ли на подходящего человека в городе?
Надежда Илларионовна, не поворачивая головы, ответила чужим голосом:
— К сожалению, среди моих знакомых нет врачей.
— Жаль, — сказал матрос, наклонив голову набок, словно ему так было удобнее ее рассматривать, и постучал пальцами по кобуре. — Может, все-таки вспомните?
— Нет, нет, никого из врачей я не знаю. Чем могла — помогла, надо будет — еще помогу.
— Вы что ж, одна живете? — поинтересовался Янис.
— Со мной еще родственница по матери, двоюродная тетушка.
— А там что у вас? — показал он рукой на портьеру.
Только сейчас Надежда Илларионовна заметила у него на сгибе кисти синее, слинявшее сердечко с пронзенной стрелой и дрогнувшим голосом ответила:
— Моя спальня.
— Пройдемте туда! — без стеснения предложил Балодис, поднявшись со стула, и торопливо застегнул бушлат.
— Что вы? — испуганно пролепетала Надежда Илларионовна. — Это по меньшей мере неудобно. Если сюда зайдет моя тетушка — я сгорю со стыда. Ведь она может бог знает что подумать.
— Мне все равно, что она подумает. Берите свечу, и идемте, — приказал Балодис. — Я к вам пришел не по любовным делам. Вы, видать, мадам высокого полета, а нам попроще надо.
Дрожащими руками Надежда Илларионовна взяла подсвечник и, тяжело ступая, медленно подошла к портьере. Раздвинув ее, она, не переступая порога, протянула подсвечник вперед. На стенах заколыхались лохматые тени. Балодис, наблюдая за ее руками, спокойно забрал подсвечник и спросил:
— Значит, здесь вы спите?
— Да.
— Одна?
— Ну, понятно.
— А кто кашлял, когда мы беседовали в коридоре?
— Ах, это мой племянник, — нашлась Надежда Илларионовна, — я совершенно забыла вам о нем сказать. Он только вчера приехал из Уральска и отдыхает.
Балодис вернулся к столу, поставил подсвечник, вынул из кобуры маузер и строго скомандовал:
— А ну, племянничек, выходи в столовую!
В спальне зашебуршили, потом послышался стук упавшего кресла, и из-за портьеры выглянул молодой человек с таким испуганным видом, что матрос невольно улыбнулся, показав Надежде Илларионовне два ряда белоснежных зубов.
— Ты что ж в темноте сидишь, как крот?
— Спал на тетиной тахте. — Зубы у молодого человека клацали.
— Дрожишь?
— Холодно спросонок.
— Покажи документы!
— У меня их выкрали в дороге.
— Ну одевайся, молодчик, пойдем!
Надежда Илларионовна мысленно проклинала Сашку за то, что он вернулся к ней, а себя за сострадание к нему и отворачивала лицо от матроса, а матрос злился на себя за то, что поверил ее лукавой улыбке. «Чуть было не сплоховал, братишка», — подумал он.
Когда Балодис ушел, уводя Почивалова, Надежда Илларионовна закрыла за ними дверь, быстро прошла в свой будуар и бросилась на тахту.
Тщательно выбритый и одетый в новый трофейный френч Цвиллинг сидел в своем кабинете с Елькиным.
— Я убедился, что разговоры о военном счастье — болтовня, — запальчиво сказал Елькин. — Чтобы командовать и принять правильное решение, нужен талант. Блюхер им обладает.
— Согласен с тобой, но как бы эта победа не вскружила ему голову.
— Да как ты можешь так говорить? — обижаясь за Блюхера, возразил Елькин. — Вот уж кто действительно скромный человек, так это он. Что он тебе давеча сказал? «Ты, говорит, Цвиллинг, предревкома — ты и бери власть в руки». Ты слышал об отрядах братьев Кашириных и Томина? Мне рассказывали, что в станицах висят их приказы и каждый подписывается — главком такой-то. Возможно, что они революционно настроены и искренне борются против Дутова, но каждый из них мнит о себе по меньшей мере как о Крыленке. Блюхер же ни одной листовки пока не издал и не любит, когда его называют главкомом. В Блюхере рабочая закваска и настоящая идейность коммуниста.
— Что он думает дальше делать? — спросил Цвиллинг.
Елькину не пришлось ответить, в кабинет вошел Блюхер и весело поздоровался:
— Кажется, речь обо мне? — Он сел в кресло, провел рукой по коротко остриженным волосам. — Дутов, к сожалению, улизнул, но дутовщина осталась. Сейчас матросы задержали бывшего тургайского губернатора генерала Эверсмана. Старая кляча! Но из него можно выжать немало сведений. На допросе у Павлова он рассказал много интересного. В Екатеринбурге контрреволюция вспыхивает то в одном месте, то в другом. Это вполне понятно. Ведь в самом городе сидит вся романовская семейка, и всякие мазурики норовят освободить Николая. Пермские анархисты готовились увезти его к себе, а какой-то капитан Ростовцев даже в Японию. Поэтому я считаю, что екатеринбургский отряд надо откомандировать обратно. Я увезу в Челябинск казачью сотню Шарапова и твой отряд, — он взглянул на Елькина, — а остальные, в том числе и балтийские моряки, останутся здесь. И хотя все военные силы подчинены мне и я — челябинский предревкома, но пришел сюда сообща решить этот вопрос.
Елькин готов был обнять Блюхера.
— Это правильное решение. Что ты скажешь, Цвиллинг?
— Я такого же мнения.
На другой день на Чернореченской площади был выстроен екатеринбургский отряд.
За ночь мягкий снежок опушил стволы городских деревьев и кустов, а сейчас яркое солнце, поднявшись в небе, блестело на золотых куполах собора. Бесшумно взмахивая крыльями, перелетали с дерева на дерево вороны и галки, и тогда невесомый снежок мохнатыми комьями осыпался вниз.
Бойцы в стеганках, изношенных шинелях и пальто, с хлопающими шапками-ушанками постукивали каблуками худых сапог и ботинок. Много бородачей, хотя лица молодые. У всех винтовки, пулеметные ленты, сабли, револьверы. На левом фланге конники, на повозках сбруя, мешки с продовольствием, а позади две пушчонки. Впереди бойцов в непомерно большой папахе, которую поддерживают оттопыренные уши, стоит командир отряда Ермаков.
Все ждут начала.
Вот появились Цвиллинг, Блюхер, Елькин, Павлов, Андреев. Цвиллинг проворно взошел на помост, огороженный перилами, и заговорил. Речь его, хотя и плавная, длилась бесконечно долго. Поеживаясь от холода, бойцы терпеливо слушали, а комиссар Малышев откровенно сказал Ермакову:
— Пошла писать губерния…
После Цвиллинга выступил Блюхер. Он начал сочувствующе:
— Не замерзли, ребята?
В отряде раздался смех и чей-то голос:
— Видать, сознательный.
— Я, рабочий человек, не больно-то речист. Скажу только несколько слов. Спасибо вам за помощь! Спасибо Ермакову и Малышеву, спасибо комиссарам, спасибо вам всем! Езжайте домой, но порох держите сухим. Гидру контрреволюции нужно уничтожить без остатка. Да здравствует власть Советов и Владимир Ильич Ленин!
Бойцы дружно гаркнули:
— Ура-а!
Блюхер выждал и добавил:
— Товарищ Ермаков, командуйте отрядом!
— Вот это здорово! — донесся до многих чей-то голос. — Коротко и ясно.
Блюхер сошел с помоста и стал прощаться со всеми за руку. Ермаков шел рядом с главкомом, он знал всех в лицо и докладывал:
— Шадринский, ирбитский, из Ревды, камышловский, наш — екатеринбургский…
Отряд двинулся. Кто-то запел на мотив «Марсельезы», и по площади прокатились бодрящие слова:
Мы пожара всемирного пламя, Молот, сбивший оковы с раба. Коммунизм — наше красное знамя, И священный наш лозунг — борьба.Впереди шел знаменосец, держа за древко кумачовый флаг, развевавшийся над головами бойцов. Они оборачивались, махали руками, ушанками, надетыми на штыки винтовок, и задорно пели.
Спустя неделю в вагоны погрузились елькинский отряд и сотня Шарапова. Старый казак прохаживался по платформе, часто подкручивая усы. Казалось, что он сбросил два десятка лет и помолодел.
Проводить их собрался весь Ревком. И снова речи, и нестройная музыка духового оркестра, который успел сколотить Павлов, и дружеские пожатия. Прощаясь с Блюхером, Павлов раскаянно просил:
— Не сердишься больше на меня, Василий Константинович? Ведь спорили мы с тобой.
— Спорщик лучше потакалы. А матросам передай мой горячий привет!
Подошел Балодис и, улучив подходящую минуту, протянул мичману руку.
— Ты что ж в отряд не возвращаешься? — спросил Павлов.
— Рад бы, да главком не пускает, — схитрил Янис и тут же испугался своих слов: «А вдруг Блюхер прикажет вернуться».
— Не пущу его, — вступился за него Кошкин. — Он нам в Челябе пригодится.
Прощание затянулось бы надолго, но Блюхер подмигнул Балодису и шепнул:
— Скажи дежурному, чтоб отшвартовал эшелон.
Поезд тронулся. Из вагонов, где находились шараповские казаки, доносились песни под звуки гармошки.
К Сашке Почивалову подсел заросший арестованный в хорошо сшитом военном костюме.
— Второй день к тебе присматриваюсь, есаул. Никак, Почивалов, адъютант наказного атамана?
— Хучь бы так.
— Не так, а факт. Узнаешь меня?
Почивалов, не глядя на соседа, ответил:
— Нет!
— Скоро запамятовал. Я хорунжий Енборисов, частенько заходил к полковнику Сукину перекинуться в картишки… Они меня и погубили. Мы в ту ночь играли… Атаману, видать, удалось бежать, да и Сукину тоже. А я…
Енборисов не договорил и с досады поник головой, на которой курчавились каштановые волосы. Сашка пристально смотрел на него, все отчетливее вспоминая красивого офицера, всегда одетого с иголочки. Он даже однажды подумал: «Был бы я такой — Надежда Илларионовна не выпустила бы меня из рук». А сейчас его трудно было узнать: лицо заросло щетиной, глаза глубоко впали, нос заострился.
— Не миновать штаба Духонина как пить дать, — тихо произнес хорунжий.
Эти слова произвели на Сашку тягостное впечатление. Ему так хотелось жить, ведь он еще молод и мало успел повидать. «Может быть, мне бы и удалось скрыться, если бы я не возвратился к этой… Впрочем, все дело случая и счастья. Не пришел бы матрос — я бы спокойно там переждал, пока красных снова не вышибли из города. И долго я здесь буду томиться? Допросили всего раз — и всё. Вот придут сюда на днях и всех приставят к стенке». От этих мыслей Сашке стало еще тяжелей, и он невольно застонал.
— Молчи, щенок! — Енборисов ладонью зажал ему рот. — Я тебя спасу.
Сашка мгновенно пришел в себя. Ему показалось, что он сам произнес эти слова, и уставился на Енборисова.
— Спасу, — повторил Енборисов, — но уж потом, когда вернется атаман, ты мне служить будешь.
— Полжизни отдам! — Сашка болезненно воспаленными глазами посмотрел на хорунжего, искренне веря тому, что тот его спасет.
Енборисов полулежал на соломе, подперев рукой голову. Глазами поманил к себе Сашку, и тот приполз.
— Надо менять политику, — сказал хорунжий.
Сашка глядел на Енборисова, не догадываясь, о чем тот намерен говорить.
— Надо проситься на допрос, а там прямо скажем: «По несознательности пошли к атаману. Мы — за трудовое казачество и хотим служить советской власти. Берите нас к себе».
— Не поверят, — усомнился Сашка.
— Все надо испробовать, авось поверят. Зато когда выпустят на волю — ищи ветра в поле. На допросе говори, что служил при Сукине для поручений, пакеты возил и прочее такое, а я командиром эскадрона был. Когда попадем к нашим, скажем, что скрывались в Казачьей слободке… Понял?
Сашка кивнул головой. План Енборисова ему понравился: не все ли равно, что наболтать, лишь бы выйти на волю.
Через неделю Почивалов и Енборисов были выпущены из тюрьмы и зачислены в формируемый ими же самими казачий полк. С большим трудом им удалось завербовать в форштадте десять казаков, раздобыли для них коней, седла и приказали казакам носить на левой стороне груди небольшой красный бант.
Сашка радовался неожиданной перемене. Не раз он задумывался над тем, чтобы зайти к Надежде Илларионовне, но благоразумие взяло верх. «Все равно не поймет и донесет на меня атаману». Больше всего Сашка боялся матросов. В каждом из них видел Балодиса и считал, что рано или поздно эта встреча произойдет и он снова очутится в тюрьме. Тогда Сашка решил бежать в родную станицу. Он не знал ни о станичном сходе, ни о суде над отцом и Митричем, но Енборисов постоянно приглядывал за ним, и это мешало Сашке осуществить свой план.
Енборисов явился к Цвиллингу и добился приема.
— Я не могу доказать свою преданность советской власти, — сказал он. — Полк можно сформировать, но не в городских условиях.
— Что вы предлагаете?
— Дозвольте выехать в станицы с мандатом Ревкома, в котором прошу указать, что формируется красный полк революционного казачества.
Цвиллинг молчал.
— Не доверяете, товарищ председатель? — продолжал Енборисов. — Тогда переведите меня рядовым казаком и назначьте другого командира. Есть даром советский хлеб — не в моем характере.
— Ладно, езжайте! — доверчиво согласился Цвиллинг.
Енборисов уехал, наказав Почивалову нести охрану Ревкома и быть примерным, чтобы войти в доверие к властям. Возвратился он с полусотней казаков, выстроил их перед зданием Ревкома и, явившись к Цвиллингу, попросил:
— Скажите казакам несколько теплых слов.
Сашка неоднократно приставал к Енборисову:
— Пора бежать, чего мы ждем?
— Поедем с тобой опять вербовать, тогда и побежим.
И они поехали. Впереди простирались холодные дали слепящего снега, а на горизонте чернели облака, напоминавшие своей причудливой формой высокие холмы. Вокруг ни деревца, ни кустика, лишь снег и серый купол неба. Звенящая тишина, извечный покой. В этой тишине Енборисов бесшумно извлек из кобуры наган и выпустил три заряда в затылок Почивалову. Убитого Сашку он бросил в снег и вернулся в Оренбург, ведя почиваловского коня.
— Иначе не мог поступить с этой гидрой, — доложил он Цвиллингу и рассказал тут же выдуманную историю: — Этот щенок мне сказал: «Прощай» — и драпанул к дутовцам. Мне за него отвечать перед вами. Пусть я беспартийный казак, но у меня же совесть. Что было делать?
— Правильно поступил, — одобрил Цвиллинг.
Так Енборисов заслужил доверие и, прикинувшись архикрасным, сумел убедить доверчивых людей, что он коммунист.
…Поезд приближался к Троицку. В вагонах шумно, весело. Недалеко от станции Блюхер взобрался в теплушку к казакам. Шарапов взял руки по швам и по форме доложил.
— Вольно! — скомандовал Блюхер.
— Извиняйте, товарищ главком, садитесь на нары.
Молодой казак, выхватив из кармана не первой свежести большой платок, стал им стряхивать хлебные крошки с досок. Никогда раньше этот самый казак не стал бы того делать для есаула, а Блюхеру он искренне хотел услужить. В этом Шарапов видел уважение казаков к главкому, и в то же время ему нравилась простота отношений начальства с конниками.
— Ну как, ребятушки, жалобы есть? — спросил Блюхер. — Кормят досыта?
Шарапов по привычке подкрутил усы и попросил:
— Дозволь рядом сесть, Василий Константинович.
— Я за место не платил, — пошутил Блюхер. — Где хочешь, там и садись.
— Помню я, главком, как ты в Троицке гуторил. И сала мало, и хлеб на досталях, в обчем не весело. А я так скажу: хучь бы половину того, что имеем, а от советской власти не уйдем, как пацаны за мамкин подол держаться будем. Нас учили так: нельзя земле без царя стоять, а на поверку получается брехня, потому и слепая лошадь везет, коли зрячий на возу сидит.
— Я с тобою не согласен, — возразил Блюхер. — По-твоему выходит, что народ слепой, один Ленин зрячий.
— Извиняйте, главком, что встреваю в разговор, — неожиданно вмешался рябой казак с горбинкой на носу, — гуторил один хуторной, что ему доподлинно известно про Ленина — незаконный сын енерала Бенкендорфа, а брат его при Корнилове служит.
Шарапову интересно было послушать, что ответит Блюхер, и потому добавил:
— И я про то слышал.
Блюхер усмехнулся:
— И про меня дутовцы говорят, будто я немецкий генерал.
— Дурни! — рассмеялся Шарапов.
— А ведь говорят. И головы казакам забивают. На самом же деле Ленин простой русский человек.
— Ты его видел, главком? — допытывался рябой казак.
Блюхер решил, что в этом случае соврать не грех, и быстро ответил:
— Как тебя.
— И за ручку здоровкался?
— Ленин со всеми за руку здоровается, а к казакам особое расположение имеет.
Рябой казак задумался, упершись руками в бедра, и про себя сказал: «Едрена матрена, стрену этого хуторного — рожу всю заплюю. Пошто мне голову морочил, гад». И громко произнес: — Ох и выпил бы сейчас!
— Ишо чего захотел? — спросил Шарапов.
Рябой казак уперся маленькими глазами в командира сотни и, глотая слюни, ответил:
— У нас в станице яблоки спасовку водой в кадке заливают, а после духовитой травкой заправляют и в погреб до первых журавлей. Кого хочешь свалит с ног.
— Этого чаю и я бы не прочь, — улыбнулся Шарапов.
Неожиданно поезд остановился, и от вагона к вагону пронесся лязг буферов. Через несколько минут в теплушку заглянул Кошкин и поспешно спросил:
— Главком тута?
Он успел заметить Блюхера. Ловко подскочив, он ухватился за поручень и взобрался в вагон.
— Товарищ главком, семафор закрыли, начальник станции не принимает эшелона.
— Почему? — спокойно спросил Блюхер.
— Балодис уже ходил узнавать, а ему дежурный ответил: «Главком Томин приказал. Блюхера дожидается».
— Что за человек? Откуда он дознался, что я еду? — удивился Блюхер.
— Шила в мешке не утаишь.
Шарапов беспокойно поднялся с нар, выглянул из вагона и сказал:
— Видать, шельма Томин, потому коней по сходням не свести, насыпь мешает. Вроде как ловушка.
Через несколько минут прибежал, запыхавшись, Балодис и доложил:
— Прибыл Томин и дожидается в вашем вагоне.
— Один или со своим штабом?
— С ним казак и солдат. Я их по форме пригласил и спрашиваю: «Вам кого?» А Томин — он в красной рубахе, и бородка у него черная-черная — отвечает: «Хотим повидать товарища Блюхера». Не пойму: в гости приехали или с подвохом.
— Пойдем с нами! — предложил Блюхер Шарапову. — Может, узнаешь этого казака.
Когда Блюхер вошел в свой вагон, гости поднялись, и бородатый казак сказал:
— Дозвольте представиться: главком Николай Дмитриевич Томин. Этот человек — казак Назар Филькин, а этот — солдат Савва Коробейников.
Блюхер удивленными глазами посмотрел на Коробейникова, а тот на Блюхера, и оба одновременно воскликнули:
— Земляк!
Они стали хлопать друг друга по плечам, но Блюхер тут же съежился. Коробейников оторопело оторвал руки.
— Прости меня… Забыл… Ну как?
— Так себе, — уклончиво ответил Блюхер и, чтобы замять этот разговор, которого никто, кроме Балодиса и Кошкина, не понял, обратился к Томину: — Если бы не красная рубаха, то я принял бы вас за дутовца.
— Как я вас за немецкого генерала, — ответил Томин и рассмеялся.
— Выкусишь теперь у меня, — прошептал Коробейников Филькину.
— Посля погуторим, — ответил казак с уважением к Савве и подумал: «Не врал солдат».
— Так с чего начнем, Николай Дмитриевич? — спросил Блюхер.
Томин, которому не сиделось, — он всегда был в движении, — с большим трудом сдерживал себя, чтобы не выпалить все, что он думает.
— Коробейников оказался прав. Вы тот самый георгиевский кавалер Блюхер, с которым он лежал в госпитале. Он мне про вас рассказывал. А теперь я вам расскажу про себя.
Когда Томин закончил, Блюхер протянул ему руку:
— Я вас приветствую не как главком, а как председатель Челябинского ревкома.
Томин сразу стушевался, поднялся со стула и по-военному ответил:
— Слушаю ваши приказания!
— Чего вы встали? — удивленно спросил Блюхер. — По уставу чинопочитания? Ни мне, ни вам этого не надо. Поговорим лучше о деле. Какие у вас силы, Николай Дмитриевич?
— Отряд у меня на три с плюсом. Помощником я себе выбрал бывшего унтера Баранова. Мужик грамотный, честный. Есть у меня кавалерийский полк имени Степана Разина, — правда, не полный, но три сотни насчитаю. Полком командует казак Карташев. Звезд с неба не хватает, но казаки его крепко уважают. Одет всегда по форме, в казацкой офицерской шинели голубого сукна. В полку одна беднота. Это раз! — и Томин, не выпуская из рук нагайки, загнул мизинец. — Есть у меня троицкая батарея. Командует ею казак Назар Филькин, вот он сидит перед вами. Был у Дутова, а теперь красный до зарезу. Уважает советскую власть и любит спорить с Коробейниковым, моим советником. Это два! — и загнул безымянный палец. — Есть у меня семнадцатый уральский стрелковый социалистический полк — всем полкам полк. На румынском фронте именовался семнадцатым Сибирским. Шестнадцать коммунистов из этого полка белое офицерье расстреляло под Ригой. После Октябрьской революции все стали коммунистами и потребовали отправить их в Сибирь драться с белыми. Солдаты шли через Дон, потом попали в оренбургские степи и добрались до Троицка. А с солдатами ушли два офицера. Один — прапорщик Кононов с рыжей бородой, как яичный желток, другой — штабс-капитан Гвоздиковский, бритый, но с длинными усами, которые можно перевязать на затылке. Есть еще один офицер, по фамилии Суворов. Внук ли он Александра Васильевича или правнук, а может, просто седьмая вода на киселе — не знаю, но ручаюсь, что наш человек с головы до ног.
Все рассмеялись, а Томин невозмутимо добавил:
— Говорю правду. В полку есть еще пулеметная команда с тридцатью двумя пулеметами и фурманка Красного Креста и даже сестра милосердия Шура. Имеете три! — и загнул средний палец.
— Замечательно! — отозвался Блюхер. — Со мною едет в Челябинск казачья сотня, командует ею старый казак, к которому я питаю особое почтение, Семен Абрамович Шарапов. Вот он!
Шарапов важно покрутил усы и крякнул, словно опрокинул в себя стакан водки.
— Думаю, что эту сотню следует влить в твой полк имени Разина, — добавил Блюхер, перейдя неожиданно на «ты» с Томиным, и обратился к казаку: — Согласен, Семен Абрамыч?
— Мое дело исполнять приказания, но интересно, что скажет Николай Дмитрич.
— Если ты за Ленина, — ответил Томин, — то нам делить нечего.
— Этот вопрос мы обсудим в Челябинске, — опять заговорил Блюхер. — Все твои силы, Николай Дмитриевич, мы объединим в троицкий отряд, и ты продолжай им командовать. Об остальном поставлю тебя в известность.
Все поднялись и стали прощаться. Коробейников, подойдя к Блюхеру, негромко спросил:
— Когда свидимся? Клавдия в Казани или здесь с тобой?
Блюхер невольно усмехнулся:
— Приезжай в Челябу — там покалякаем. Жена твоя здорова?
— Писал ей, а ответа нет, — пожал плечами Коробейников, и Блюхер по интонации понял, что Савва рад отсутствию писем.
Весть о бегстве Дутова из Оренбурга дошла до станицы Зиберовской, в которой размещался штаб Кашириных. Если Николай считал, что в борьбе с дутовщиной всем отрядам, действовавшим разобщенно, следует объединиться, то Иван категорически возражал. Среди казаков Иван пользовался большим авторитетом хотя бы потому, что, отказавшись от манер, которые ему привили в офицерской школе, он старался говорить просто с казаками, ввертывать в свою речь озорные шутки и даже крепкое словцо. Иным был Николай. Помимо знаний, приобретенных в школе, он читал книги, изучал немецкий язык и был знаком с политической литературой.
Оба брата были коммунистами, но в Иване жило анархистское начало, и потому он нередко ошибался, считая при этом, что цель оправдывает средства. Он говорил, что за советскую власть надо беззаветно бороться, но прислушиваться ко всему, чему учит партия, вовсе не обязательно.
— Казак все равно не поймет, что такое марксизм, — спорил он с братом, — ему надо втемяшить в голову одно: богачи твои враги, — значит, их надо уничтожать, и тогда казаки вольготно заживут. Ты ему подай яичницу с салом, а марксизмом он сыт не будет.
— Ошибаешься, — возражал Николай, — этак можно показать казакам на иногородних и сказать: «Они на вашу землю зарятся» — и казаки начнут их рубить.
— Я их крепко держу в руках.
— А ты кто — жандарм?
— Сравнил, — обиделся Иван. — Спроси любого казака, и он скажет: «Куда Каширин — туда и я».
— В этом твоя вина, — заметил Николай. — Казак сам должен знать, за что он борется, а не держаться за нас, как жеребенок за кобылицу. Если я сегодня изменю партии, то, по твоей теории, и казаки изменят, потому что они за Кашириных.
— Что осемнадцать, что двадцать без двух, — пробурчал Иван, — пошло на да и нет, а нам отряды формировать.
— И к Блюхеру ехать, — добавил Николай.
— Я к немецкому генералу на поклон не поеду. Посадит он меня на лопату, да и вынесет за хату.
— Неужели ты веришь этим байкам? Коммунисты никого не нашли, как немецкого генерала? А может, этот Блюхер сам коммунист?
— Поживем — увидим.
Дмитрий Иванович, молча слушавший спор сыновей, кашлянул несколько раз и как бы мимоходом сказал:
— Не стало паю́ в кулачном бою́.
Иван со злости встал, собираясь уйти, но неожиданно в комнату вошел рослый казак и спросил:
— Дозвольте взойти!
— Пожалуйста! — ответил Николай.
Казак снял папаху, обвел всех жестким взглядом и спросил:
— Который здесь Иван Дмитриевич Каширин?
— Чего тебе? Говори скорей!
— Наскоре слепых рожают, — ответил вошедший. — Меня один городской торопил, так я плюнул и ушел. — Он сел на табуретку, пододвинутую ему Ульяной. — Фамилие мое Енборисов, бывший хорунжий, теперь член рекапе. Формировал казачьи сотни для Оренбургского Ревкома. Был у меня помощничек, худой поросенок, ножки трясутся, кишки волокутся. Поехали мы с ним по станицам вербовать казаков в революционный полк, а он, зараза, деру дал к Дутову. Пришлось уложить его. Возвратился к председателю Ревкома, доложил — так-то и так. Правильно, говорит, сделал. А потом ему на ухо кто-то набрехал на меня, и стал он меня попрекать. А этот самый дутовец Почивалов, как довелось мне узнать…
— Стой! — неожиданно вскричал старик Каширин. — Ты кого убил?
— Казака, — смутился Енборисов.
— Не дутовского ли адъютанта? — вмешался Иван.
— Его самого.
— Спасибо, что прикончил эту шваль. Давно его ищу.
Енборисов почувствовал, что ему неожиданно привалило счастье и важно не выпустить его из рук.
— Не знаю, Иван Дмитриевич, кем тебе приходится покойничек, — повел хитрую речь хорунжий, — но если бы он встал из земли, то я опять пустил бы ему пулю в затылок. А меня предревкома Цвиллинг прижимать стал, — дескать, надо было его приволочь в Оренбург, учинить над ним суд и прочее такое.
— Это кто же такой Цвиллинг? — живо заинтересовался Николай.
— Председатель Оренбургского Ревкома. В военном деле ни гугу. Видать, из жидов. Так я решил: раз ты мне, казаку, члену рекапе, не доверяешь — хрен с тобой, пойду до Кашириных, про них все казаки гуторят.
— Вопрос ясный, — решил неожиданно Иван. — Оставайся, будешь командовать сотней.
К вечеру разыгралась метель. Над Кочердыком черные тучи заволокли небо от края до края. Еще с полудня мокрыми хлопьями повалил снег, наметая сугробы до самых застрех.
Томин с Филькиным уехали с утра в Троицк на несколько дней.
Груня, истопив печь, села в угол под образами, а Савва принялся чинить свою худую шинель. Он старательно вдевал в иглу нитку и завязывал узелок, но исподлобья смотрел на Груню, боясь с ней заговорить о том, что его мучило с первого дня приезда. Груня примечала его пугливые взгляды. Савва ей нравился: тихий, никогда, видно, жену свою не бил, хозяйственный и аккуратный. Давно бы ей, Груне, замуж, вот возвратились с фронта многие казаки, да в голову им лезут одни драчки и война. Щемит у нее сердце, молодость отцветает, а баловаться Николай запретил, сказал, что не простит, и Груня боится брата. Савва на вид не квелый, он может крепко руку скрутить, навалиться всем телом и зацеловать так, что еле отдышишься, но то ли не хочет, то ли стыдится.
«Чем бы его пронять?» — подумала Груня и тихо запела грустную песню, а когда закончила, спросила:
— Скучаешь по своей бабе?
Савва не ответил, продолжая чинить шинель.
— Язык отнялся? — Она скупо улыбнулась уголками губ.
— Язык на месте, а сказать нечего, — ответил Савва и, к удивлению Груни, добавил: — Кабы вольный был — на руках тебя носил.
— Надорвешься, во мне весу во сколько! — и развела руками. — Опять же, если с чужой девкой зачнешь баловаться, — вилами проколю.
— От такой, как ты, к чужой не пойдешь. Такую я голубил бы до самой смерти.
— Поверю тебе… Все вы на одну колодку. Мужик ночью какую хочешь бабу к плетню притиснет.
Савва опустил глаза.
— Обратно молчишь?
— Не трожь меня, Груня, не то уйду на ночь глядя из дому. Лучше не ехать было мне сюда с Николаем.
— Поздно жалеть, непутевый.
— Ох, и правду сказала. Подожду еще малость, ответ какой получу с родины — тебе сообщу.
— А если она померла? — бесцеремонно спросила Груня, намекая на жену.
— Зачем такое говорить? Пусть живет, она мне худого слова никогда не молвила.
— Ну и держись за нее, — резко бросила Груня, отвернув лицо. — Разбирайся, спать пора.
— Ты ложись, а я маленечко посижу. Может, Николай с Назаром приедут.
Груня ушла в горенку, сняла там с себя кофточку и возвратилась, чтобы показаться в юбке и сорочке. Савва, как увидел ее пружинистые плечи, обомлел, заскрежетал зубами.
— Искушаешь? Беду хочешь накликать? Не будет милости от Николая ни мне, ни тебе.
Груня стояла перед ним с высоко поднятой упругой грудью, тяжело дышала. «Устоит или нет?» — думала она, загадывая свою судьбу. Если бы в эту минуту вошел брат, она все равно не убежала бы.
Савве казалось, что, если Груня приблизится хотя бы еще на шаг, он потеряет над собой власть. Он резко поднялся с табуретки. Груня, задорно улыбаясь, стояла в ожидании: сейчас она убедится в том, что солдат решится на все и покажет свою смелость и силу. Но Савва, оборвав нитку, швырнул ее вместе с иголкой на стол и, накинув на себя шинель, стремительно бросился на улицу.
Груня с усмешкой посмотрела ему вслед, сердито подвернула фитиль в лампе, ушла в горенку, разобралась и легла на кровать. Уснуть она не могла, прислушиваясь к завыванию ветра. Она искусала губы до крови, беззвучно плакала, исходя в слезах, но продолжала неподвижно лежать, закинув руки за голову, и думать о своей одинокой девичьей доле. Только за полночь, услышав, как Савва вернулся, она успокоилась, повернулась на бок и прижалась к мокрой от слез подушке.
— Хороший, честный ты мой Саввушка! — прошептала она. — Господи, пошли ему поскорей ответ!
И уснула тяжелым сном.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Солнце хотя и пригревало и в воздухе уже разносился едва уловимый запах разогретой хвои, но от снега все потягивало холодком. Еще каких-нибудь две-три недели, и на деревьях лопнут липкие почки. А сейчас еще может взыграть снежный буран, и если с востока подует ветер, то несдобровать тому, кого застигнет в степи. Его страшная сила валит с ног, и не только человек, но и конь захлебнется морозным воздухом, леденящим кровь. Налетит буран — сразу потемнеет, словно ночь опустилась на землю, с сатанинской силой засвистит ветер, и незримые ведьмы поведут хоровод, завывая на все лады.
В такой день Блюхер, застигнутый бураном, пробивался в санной кибитке с Балодисом к Челябинску. Конь остановился, опустив морду вниз, ища защиты. Быть бы беде: и Блюхера, и Балодиса, и коня замело бы снегом, но, к счастью, буран утих, и конь, отдохнув, медленно поплелся. Только глубокой ночью путникам удалось добраться до города и заночевать в первом же доме на окраине. А утром Блюхер уже выступал на заводе «Столль и К°», призывая рабочих записываться в полки Красной Армии.
Дутов, бежав из Оренбурга в Тургайские степи, нашел приют у богатых казаков и стал скликать своих головорезов. Шли к нему офицеры, которые не хотели мириться с тем, что у красных нет больше погон и чинов, шли казаки, защищавшие свое богатство, и те, что, вкусив разбойную жизнь, уже не хотели иной. Теперь Дутов решил не ограничиться захватом Оренбурга, а изгнать красных из Троицка, Челябинска, Уфы и Стерлитамака, отрезать от Советской России богатый железом Южный Урал и прервать железнодорожное сообщение между промышленными районами страны и хлебной Сибирью. Вокруг станиц появлялись и исчезали, как привидения, разрозненные дутовские банды, крадучись поджигали дома, и тогда красные языки пламени взвивались над станицей, угрожая спалить ее всю дотла.
Из Екатеринбурга прибыли в Челябинск четыре отряда и в числе их тот, которым командовал Ермаков. В тот же день Блюхер направил их в Троицк и предложил командиру всех отрядов Цыркунову и начальнику штаба Рыбникову связаться с Томиным.
Разведка донесла Дутову, что Блюхер сосредоточивает свои силы у Троицка и Верхне-Уральска. Тогда атаман решил захватить сперва Оренбург. Ему удалось изгнать красных из некоторых станиц и приблизиться к городу.
В Ревкоме шла спешная мобилизация. Цвиллингу тяжело было без Блюхера. Теперь он должен был сам доставать винтовки и патроны, пулеметы и продовольствие. Каждый день приходили вести, одна тревожнее другой: якобы дутовцы миновали Ильинскую и движутся к Озерной, железнодорожное сообщение с Челябинском через Орск — Троицк прервано.
В тот день, когда малочисленный отряд во главе с Цвиллингом, не обладавшим военным опытом, выступил из города, чтобы отогнать приближающихся дутовцев, солнце ярко сияло над Оренбургом. По едва уловимым приметам чувствовалось приближение весны: запахи, доносившиеся из степей, теплые потоки воздуха. И все же люди предусмотрительно прятались в погребах в надежде, что в конце концов установится чья-то крепкая власть.
Надежда Илларионовна не осталась в стороне. Она отнеслась к борьбе красных с белыми, как в карточной игре, в которой ей, как шулеру, хотелось сорвать куш краплеными картами. И, как шулер, она действовала решительно. Узнав о предстоящем выступлении отряда Цвиллинга, она накануне выехала в пароконных санях. Сам атаман едва бы узнал ее. Укутанная по-старушечьи, Надежда Илларионовна спешила к Дутову предупредить его о предстоящем походе оренбургских большевиков. Ночной морозец прихватил раскисшую за день дорогу. Полозья, скользя по обледенелой колее, резали тонкий лед. Согретая шубой и шалями, Надежда Илларионовна сонно дремала. Она ехала потому, что твердо решила завладеть атаманом и подчинить его себе. Ведь Сашка Почивалов — мимолетная ее прихоть, и если он так нелепо попал в руки матроса, который, очевидно, уже давно его расстрелял, то предаваться отчаянию не следует. Таких, как Почивалов, она встретит на своем пути немало, а вот Дутов — это тот козырь, с которым она выиграет партию в своей одинокой жизни. После долгих поисков ей удалось напасть на след дутовского штаба. Ее принял полковник Сукин, успевший уже помириться с атаманом. Он был поражен, встретившись с пожилой, малопривлекательной женщиной, и уверовал в то, что Александр Ильич действительно не искал приключений, как ему в пьяном виде рассказывали Сашка Почивалов и партнер по карточной игре хорунжий Енборисов.
— Устройте мне свидание с наказным атаманом, — настойчиво просила она.
— Это исключено, — вежливо ответил Сукин. — Он неотлучно находится при своей семье, и проехать к нему совершенно невозможно, но о вашей ценной информации он будет поставлен в известность, а пока я приношу вам свою благодарность.
Надежда Илларионовна была разочарована приемом, однако сумела не выдать себя, решив, что рано или поздно эта встреча состоится и атаман оценит не только ее чувства, но и преданность тому делу, которому он себя посвятил.
Ее поездка, как она и ожидала, сыграла большую роль для дутовцев. По указанию Сукина у станицы Изобильной казаки засели в засаду и стали дожидаться красных.
Цвиллинг, не встречая сопротивления по дороге, был уже близок к Елецкой защите. У станицы Изобильная отряд оказался в мешке. Казаки, выскочив из засады, стали без разбору рубить оренбургских большевиков. В неравной борьбе красные храбро сражались, но устоять против больших сил казаков они не смогли. Цвиллинг с небольшой группой бойцов сумел подыскать выгодную позицию, поливая дутовцев свинцовым огнем из пулемета. Но вот отказал пулемет — в нем перекосился патрон. Казаки сразу набросились на смельчаков. Один за другим гибли бойцы. Укрывшись за трупами, Цвиллинг из нагана отстреливался от наседавших на него казаков. И вдруг страшной силы удар. Кровь хлынула из горла, из онемевшей руки выпал револьвер. Перед глазами проплыло бородатое, распаленное, безумное лицо…
…Вечером тем же путем возвращались в Оренбург пароконные сани, и в них сидела укутанная по-старушечьи Надежда Илларионовна.
Томин уже дважды приезжал к Блюхеру в Челябинск. Прибывших на помощь спешно направляли к Верхне-Уральску и Троицку. До поздней ночи главком отмечал на карте движение своих сил. Екатеринбургский отряд, переименованный в Пермский полк, был направлен в Троицк и получил приказание двинуться на Санарский — Подгорную — Степную — Сухтелинский. Вторым отрядом командовал Геренгросс, с задачей занять обороту у станции Карталы. Третий отряд под командованием Бабурина двинулся на Бородинский — Березинский. Комиссаром его был Елькин.
Сделав необходимые распоряжения в Ревкоме, Блюхер с Кошкиным и Балодисом спешно выехали вслед за отрядами, обогнали их и поскакали вперед. У Аннинского поселка Кошкин заметил казаков и по погонам определил — беляки. Ехать лесом было небезопасно, и они свернули в сторону.
— Вернемся обратно, — предложил Балодис. — Кругом дутовцы, дальше не проедем.
— Струсил, морячок, — подзадорил Кошкин. — Если к ним в тыл заехать, то такую панику можно сотворить, что…
— Что и сами не рады будем, — перебил Балодис. — Не о себе думаю, а о нем, — и кивнул в сторону главкома.
В эту минуту до них донеслась пулеметная дробь. Блюхер поспешил на выстрелы. За ним порученцы. Неожиданно перед всадниками выросла старая казачка. Блюхер придержал коня и осадил его на задние ноги.
— Далеко идешь, маманя? — спросил главком.
— Спаси Христос! Подальше от светопреставления.
— От кого бежала?
— От своих.
— А твои красные или белые?
— Хучь бы их всех землей засыпало. Одни гуторят — дутовцы, ить другие — блюхерцы, один чертило, другой вислоухий, все чисто умом тронулись, а нам жизни нету.
Блюхер улыбнулся и снова спросил:
— В Аннинском поселке-то кто?
— Казаки.
— Дутовцы?
Казачка обернулась и обвела рукой в воздухе полукруг.
— По всей Гумбейке они, — пояснила она, — и в Аннинском, и в Елинском, и в Куликовском, по всей реке. Здеся все чертилы, вислоухих не любят.
Главком сразу понял, как в этих станицах и поселках называют дутовцев и красных. В другое время он от души похохотал бы, хотя не считал себя вислоухим и не понимал, почему за ним упрочилась среди казачества такая кличка, но сейчас ему было не до смеха. Дав коню шенкеля, он умчался. Выехав снова на шлях, Блюхер столкнулся с Елькиным.
— Твои стреляют, Елкин-Палкин? — весело спросил Блюхер.
— Это казачья разведка, человек восемьдесят. Наши ребята сейчас очистят дорогу, полковника в плен захватили.
— На помощь к тебе идет Пермский полк, будешь в нем комиссарствовать, — поспешил Блюхер обрадовать Елькина и подумал: «Изменился Салка, разведка у него работает хорошо, знает, какой перед ним противник». И добавил: — Полковника, говоришь, захватили? Вот добыча! Только бы не прикончили.
Кошкин, встретившись с взглядом главкома, понял, в чем дело, ускакал вперед и вскоре возвратился, ведя на поводу связанного по рукам дутовского полковника. Он был одет в теплую зеленую бекешу с золотыми погонами, папаха съехала на затылок, а глаза жмурил, словно сова, застигнутая врасплох утренним светом.
— Откройте глаза! — приказал Блюхер.
Пленник посмотрел на главкома, и все увидели неуверенный и блуждающий взгляд полковника.
— Какой-то дурак смазал мне по физиономии, и я уронил пенсне в снег, — откровенно пожаловался он. — Без них абсолютно ничего не вижу.
— Очень жаль, — с поддельным сочувствием вздохнул Блюхер. — Кто вы?
— Начальник дутовского штаба полковник Сукин. За потерю Оренбурга атаман назначил меня командиром сотни. С кем имею честь разговаривать?
— С главкомом Блюхером.
Полковник, не моргая, смотрел безжизненными глазами, которые казались искусственными, как у чучела зверя.
— Как некстати я потерял пенсне, — произнес он тоном сожаления, словно сидел в кресле и держал перед собой альбом с фотографиями, которые ему очень хотелось рассмотреть. — До зарезу жаль, что не могу разглядеть знаменитого немецкого генерала, про которого мне прожужжали уши.
— Я другой Блюхер, — с напускной серьезностью сказал главком. — Тот действительно генерал, а я бывший унтер-офицер девятнадцатого Костромского полка, пятой пехотной дивизии.
Порученцы засмеялись.
— Ну и трепачи собрались в моем штабе, — непринужденно признался полковник.
— Мы успеем с вами поговорить обо всем на досуге, — сказал Блюхер, — а сейчас извольте дать точные и верные сведения. Где атаман? Сколько у него сил? Где они дислоцируются?
— Судя по вашим вопросам, вы офицер без приставки «унтер», но я вам все равно отвечу. Силы атамана мне сейчас решительно неизвестны. Предполагаю, что в общей сложности наберется до четырех тысяч казаков. Они сосредоточены в основном у Верхне-Уральска и станицы Красниковой.
— Куда Дутов может отступить?
— Только не за Урал. Там его не жалуют. Остается один путь — по станицам.
— Полковник, — перебил Блюхер, — если вы чистосердечно все расскажете, то я прикажу вас отправить к Дутову.
— Тогда я буду молчать. Служить у красных я не намерен, но извольте не возвращать меня к атаману.
— Боитесь его?
— Дутовым я сыт по горло. Ему ничего не стоит обругать последними словами своего начальника штаба. Да и вообще, признаться, он бездарная личность.
— Служить у нас я вам не предлагаю, но от Дутова уберегу. Так вы говорите, что в станицах у него поддержка?
— Не только среди казаков, — ответил Сукин, — но и нагайбаков, а их довольно много.
— О нагайбаках я ничего не знаю, — признался главком. — Кто они такие?
— Вы офицер — и не знаете, кто такие нагайбаки? — с укором заметил Сукин. — Это потомки крещенных в восемнадцатом веке нагайцев. Они возвращались то в ислам, то снова в христианство, потом смешались с татарами и башкирами. С казаками нагайбаки дружны и помогают им.
— Правда ли, что по всей Гумбейке казаки сочувствуют дутовцам?
Сукин задумался и, пожав плечами, ответил:
— Пожалуй, это так. Александро-Невский, Великопетровский, Куликовский поселки, да и остальные по реке, — постоянное пристанище дутовских казаков. Знайте одно — никакого плана у атамана нет, но дутовщину вы не уничтожите, пока не снимете головку. Атаман пользуется большим авторитетом у казаков.
— Кошкин! — приказал главком. — Отведи полковника и накажи от моего имени, чтобы его отправили в Троицк. Пусть там находится под арестом. Допрашивать его запрещаю. И чтобы не забыли накормить его.
— Вы очень великодушны, — сказал на прощанье Сукин.
Томин, получив приказание выступить, стал поспешно собираться в Троицк к своим сотням. Коробейников, наоборот, медленно седлал коня, намереваясь заговорить с Томиным.
— Пошто не весел? — спросил сердито Томин.
— Боюсь за Груню.
— Сестра не дите.
— Дите-то не тронут, а ее ненароком зарубить могут.
— Это за что же?
— Не прикидывайся мальцом, — пожурил его Савва. — Сегодня в Кочердыке мы, а завтра дутовцы. Кто не знает, что Томин главкомом у красных? Языки найдутся, донесут. Для казака же девка — не приманка, а забава. Зарубят ее за брата — и концы в воду.
— А ты чего хочешь?
— Пусть с нами едет.
— Где же видано, чтобы бабы с войском ходили?
— На фронте милосердные сестры ехали в каретах, — санитарках и на фурманках. Сам небось видел. А у нас почему нельзя?
— Пальцем тыкать будут в меня, — состроил кислую мину Томин. — Каждому не скажешь, что моя сестра.
— Эту заботу я на себя возьму.
Томин, прилаживая подпругу, задумался. Груню он любил, но никогда о ней не заботился, считая, что в таком возрасте она сама знает, как ей поступать. Предложение Коробейникова застало его врасплох, и он не знал, на что ему решиться.
— Как управлюсь — погуторю с ней, — сказал он, словно соглашаясь с доводами Саввы.
Коробейников только и дожидался этого. Он поспешил в дом и на пороге столкнулся с Груней.
— Где Николай? — спросила она озабоченно. — Садись за стол, картошка поспела.
— Грунечка! — взволнованно произнес Савва. — С Николаем сейчас разговор вел, и порешили тебя взять с собой.
— Это куда? — широко раскрыла она синие, как у брата, глаза и подняла широкие брови.
— В войско.
— Мне и дома не плохо.
— Нельзя тебе одной оставаться.
Груня никак не могла понять, к чему клонит Савва, и, слушая его невнимательно, взяла хлеб со стола, уперла его в упругую грудь и стала резать ножом.
— Нельзя, — повторил Савва. — Злая война идет по станицам, ни мы белых миловать не станем, ни они нас. За твоим Николаем еще охотиться будут, а за брата и сестре достанется. Опять же и моя душа неспокойна будет.
— Не верю.
— Знала бы, как я тебя люблю, — послушалась, жить одному не мило, но хочу быть не полюбовником, а мужем тебе и отцом наших детей.
Груня, дорезав хлеб, застыла с ножом у груди.
— Сбрешешь, — сказала она решительно и грозно, — зарежу тебя и себя.
— Режь, Грунечка, а сейчас слушай меня.
— Как же я до Троицка доберусь?
— Завтра на зорьке вернусь за тобой и коня приведу.
Савва крепко сжал ее в объятиях, почувствовав тепло, от которого трудно было оторваться. Груня, припав к плечу Саввы, беззвучно шептала ласковые слова.
На другой день Коробейников вернулся. Груня встретила его холодно, словно накануне никакого уговора не было.
— Собирайся! — сухо предложил Савва.
Она села на сундук, скрестив руки на груди, и уставилась в одну точку. По выражению ее лица Савва догадался, что она сейчас обдумывает важную задачу, от которой зависит вся ее жизнь, и решил ей помочь.
— Полюбовно с тобой обсудим, — сказал он, опасаясь задеть ее неосторожным словом, — видно, сама судьба меня сюда послала, чтобы нам спароваться. — Савва снял с головы ушанку, расстегнул шинель, гимнастерку и сбросил с шеи нательный крестик на черной тесемке. — На вот, надень! Перед богом клянусь, что ты мне жена.
Груня подняла свои глаза на Савву — тот оробел перед ее независимым взглядом, в котором были усмешка и презрение.
— Ты свой крестик к сбруе прицепи, мне он так нужен, как казаку юбка. Я неверующая, а человека вижу сквозь стеклышко. Клялся ты не от сердца, совесть принудила, а такой ты мне не нужен.
Коробейников оглядел ее с головы до ног. Под густыми бровями синели смелые и строгие глаза, руки от работы большие, а под кофточкой, туго облегавшей талию, поднималась упругая грудь.
— Грунечка, — взмолился он, — не мучь меня. Да я согласен хоть сейчас…
— Езжай до Николая. После боя вернешься — погуторим, а сейчас — уходи. — Она тяжело вздохнула и повторила: — Уходи!
Коробейников медленно поплелся к двери, держа в руках свой нательный крестик.
Не обернувшись, он вышел на улицу, с трудом сел на коня и ускакал.
Весна ворвалась дружно. Из бурой земли, освободившейся от снега, выглянула зелень травы и разлеглась необозримым ковром. Вот-вот она подсохнет и вспыхнут в степи весенние палы. Там, где земля обуглится и почернеет, неприхотливый суслик, почуяв горький смрад, обежит ее сторонкой, только орел, размашисто распластав крылья, пролетит, закрывая от солнца плешивые островки.
Под Троицком в неодетых лесах от запушивших сережек, казалось, уже тянуло запахом грибов и слегка подсоленным укропом, зато в самом Троицке со всех дворов несся запах конского навоза — в городе собралось множество конных отрядов.
Блюхеру доложили, что из Смеловской, Воронинской и Нижне-Озерковской станиц прибыли двести пятьдесят казаков служить советской власти, но сперва они заявили: «Подайте нам Блюхера».
Блюхер вышел в своей неизменной кожаной тужурке.
— Об чем спрашивать будете? — спросил он громким голосом.
Казак с каштановой бородой и в старой фуражке с высоко поднятым верхом хриплым и прокуренным голосом сказал:
— Порешили мы служить Советам, но только хотим доподлинно знать, не свояк ли Ленин ерманскому императору? Ежели так, то служить нам нет резону.
Блюхер лукаво улыбнулся, а потом прыснул со смеху, а за ним Шарапов, которого он привел с собой. Казаки посмотрели на них и сами стали чуть посмеиваться.
— Вы у него спросите, — показал он пальцем на Шарапова.
Семен Абрамович пожевал губами, лихо заломил свою фуражку и сказал:
— Казаки! В кровях родился Ленин. Сам он симбирской, жандармы мытарили его по тюрьмам. Про то, что он свояк ерманскому императору, так это дутовская побасенка, потому атаману выгодно его в грязь затоптать.
— Все понятно, — быстро решил каштановый казак. — Мы тебе верим. В какую сотню кому идти?
После беседы с казаками Шарапов подошел к Блюхеру и сказал:
— Порядок надо навести, Василий Константинович, иначе перебьем друг друга.
— Ссоритесь?
— Один другому в зубы даст — так разве это ссора? Привычное дело. Я про другое. Вот как в поиск идем — неразбериха случится.
— Ну какая?
— Мы казаки, и встречные — казаки. Мы без погон и встречные тако ж. А может, это дутовцы? Пока разберемся — перебьем друг друга. Вот я, к примеру, сотник и повстречал разъезд, а рази я могу знать, наш он или нет?
— Чего ты хочешь, Семен Абрамыч?
— Хочу, чтобы приметный знак был.
— Какой?
— Ну, значитца, встретились, к примеру, мы с тобой. Я левой рукой фуражку снял, махнул три раза в сторону, а правая у меня вытянута по плечу. Спрашиваю тебя: «Кто такие?» — «С Урала». — «От кого?» А ты отвечаешь: «От дедушки с бородой». Значитца, мы одного толку. Но знать должны только сотники да командиры эскадронов.
— Эх, Семен Абрамыч, — шутливо вздохнул Блюхер. — Умней ты любого полковника, а ходу тебе в старой армии не давали. Обязательно введу твой приметный знак.
Предложение Шарапова Блюхер принял серьезно во внимание и в тот же день сообщил об этом командному составу казачьих сотен. Томину, как начальнику гарнизона города, было поручено согласовать действия отрядов.
— Где Груня? — спросил Томин у возвратившегося Коробейникова.
— Не поехала.
— Это почему же?
— Наотрез отказалась, не верит в мою любовь.
— Сам расхлебывай, я Груне не родитель.
Коробейников отвернулся. Хотелось ему рассказать обо всем тому, кто понял бы его. «Филькину поведаю — засмеет, — размышлял он. — Василию не до меня, он теперь главком». Слезы душили его, руки опускались. «Что мне до войны? Надоела она горше редьки».
А Троицк шумел. На улицах полно народу и бойцов. Тут и смех и озорная брань, шутки и споры. Кто спешит с пакетом, кто коня ведет в кузню подковать, кто песню заводит под гармошку.
В местной типографии наборщик Шамшурин быстро нанизывал на верстатку строку за строкой, набирая воззвание к оренбургскому казачеству. Воззвание краткое, но выразительное:
«К вам, братья, наше слово! Мы говорим, что не должно быть на земном шаре ни бедного, ни богатого, ни барина, ни мужика. Если вы не с нами, то против нас. Докажите, казаки, на деле, что вы за трудящуюся бедноту. Ловите Дутова, ловите дутовцев, всю бежавшую к ним сволочь и приведите к нам для справедливого народного суда. Иначе мы поймаем их и на пути сметем все живое, но добудем этих палачей, изменников народа, живыми или мертвыми».
Отряд братьев Кашириных не мог соперничать по численности с другими отрядами, зато дисциплина в нем была поистине железная.
Енборисов получил в свое распоряжение сотню. Казаки этой сотни в первое время боялись его, ни о чем не говорили с Кашириным, опасаясь навлечь на себя гнев Енборисова. Разлагающее влияние бывшего хорунжего они приняли сперва с опаской, потом с охотой.
— Это он для виду лает, а знает, что казак без бабы и водки не проживет, — говорили они между собой. — Правильный он человек.
Не раз, бывало, енборисовские разъезды захватывали молодых казачек, насильники связывали их по рукам, затыкали рот кляпом; обесчестят и скроются — ищи ветра в поле. Енборисов знал об этом и с напускной строгостью наказывал: «Чтобы все было шито-крыто, иначе засеку до смерти». Енборисовские молодчики с каждым днем смелели, меняли насильно коней в станицах, обманывали жителей именем Блюхера, а братья Каширины не могли догадаться, что это дело рук Енборисова. Лишь один Евсей Черноус, зорко следя за сотней Енборисова, как-то сказал дома за ужином:
— Не серчай на меня, Николай Дмитрич, но Енборисов, как ящерица, проползет в какую хочешь щель.
— Все люди по-разному, — ответил Николай. — Енборисов человек, как бы тебе объяснить, иного склада. Заносчивый он, но сотню крепко держит в узде.
— На фронте мы таких не жаловали, а здесь он каждый раз ить что гуторит: «Я член рекапе и лучше знаю душу казака». Это почему же член рекапе лучше знает, чем я, беспартийный?
— Бахвалится по молодости, а со временем образумится. Я на собрании ему об этом скажу.
— Опять же про Ивана Дмитрича, — продолжал Евсей, — он к человеку подход имеет, и все у него в акурате, а брататься с другими отрядами — ни в какую. В чем дело? У Томина уже два, а у нас и полуполка нет, да и Томин с Блюхером теперь заодно. А мы что, рыжие?
Николай Дмитриевич удивлялся тому, как Черноус читает его мысли, и думал: «Поговорю с Иваном серьезно, станет упрямиться — поделим отряд, и я уйду к Блюхеру».
Евсей решил высказать все, что у него накопилось под спудом.
— Статочное ли дело, что мы топчемся на одном месте, как быки в стойле? Ни одного боя с белыми не знали, а вокруг Верхне-Уральска видимо-невидимо дутовцев. Не обижайся, но скажу, что на душе: знал бы наперед — не пошел бы в ваш отряд.
Последние слова Черноуса Николай Каширин расценил уже не как упрек, а как прямую угрозу. А тут еще сам старик Каширин подлил масла в огонь:
— Ить правду гуторит, сынок. Из своей станицы уехали, на чужом горбу сидим, а все без пользы. Почивалова нет, — значитца, сами можем управлять. А Иван свое: «Я да я».
Случайный разговор между Евсеем и Николаем Дмитриевичем грозил перерасти в открытое недовольство Иваном, но неожиданно в дом вошел сам Иван Каширин. Как охотничья собака, он повел носом, почуяв, что речь идет о нем.
— Едем, братцы, в поиск, — Не давая им опомниться, быстро произнес он. — Курсировать будем от Верхне-Уральска до Троицка. На этом участке дутовцам поставим кордон.
— Слава те господи, образумился, — сказал старик Каширин в сторону Ульяны.
— Это вы, батя, про кого? — хитро, но беззлобно спросил Иван.
— Со старухой гуторили про одного человека.
— А звать того человека Иваном Кашириным? Знамо! Видать, не по душе пришелся своему братцу.
При этих словах Черноус резко повернулся к Ивану:
— Извиняй, Иван Дмитрич, замутил все я, а не твой брат, которому и тебе не срам в ноги поклониться. Самостоятельный он человек, рассудительный, и казаки его сильно уважают. И я не последняя спица в колеснице и свое соображение имею. А что не ахфицер, а простой казак без чинов, то в том беды нет, мы за это и воюем теперя против ахфицеров.
— Погоди, Евсей! — вмешался Николай Дмитриевич. — Ты сейчас сказал то, о чем я давно толкую Ивану, а он уперся и все стоит на своем, — дескать, мы без Блюхера усмирим Дутова. У брата то, что на политическом языке называется анархизмом. Ваня меня понимает.
Старик Каширин тревожно посмотрел на старшего сына.
— Как видишь, Ваня, — продолжал Николай, обращаясь уже к брату, — я был прав. Черноус по-своему говорит правильно, но он не догадывается, что беда нашего отряда в отсутствии политической работы, а ты сознательно ее игнорируешь. У нас есть коммунисты, но они растворены в общей массе, как сахар в воде. Чем мы отличаемся от дутовских казаков? Не носим погон, не говорим «ваше благородие», не грабим людей. Это очень мало. Что знают наши казаки про политику советской власти, про Красную Армию в Советской России? Ни-че-го! Нам нужны в сотнях и эскадронах комиссары, нужны политические работники. Ты хотя и коммунист, но с кропоткинским душком.
Иван молча расхаживал из угла в угол, и но тому, как он слушал брата, можно было сделать вывод, что в нем борются противоречивые желания. То он был готов тотчас начать раздел отряда, чтобы одному довести задуманное дело до конца, то его брало сомнение и ему казалось, что в словах Николая много горькой истины и не лучше ли чистосердечно сознаться.
— Побеседуем на досуге, а сейчас надо выступать, — сказал он решительно и вышел на улицу. Вслед за ним вышли и Николай с Евсеем.
Блюхер двинул екатеринбургский отряд к Верхне-Уральску. Первый же поселок Берлинский был занят без единого выстрела. Население встретило красных без видимого удовольствия. Днем состоялись выборы в Совет казачьих депутатов. На сходе никто не кричал, все сидели смирнехонько, вяло поднимали руки — голосовали — и бесшумно расходились по домам. Такая же картина повторилась в Подгорной, Степной и Сухтелинской станицах, но когда отряд двинулся дальше, то в двух верстах от околицы передовой разъезд неожиданно столкнулся с невесть откуда появившимися дутовцами.
Начальник штаба екатеринбургского отряда Рыбников, находившийся среди бойцов, приказал наспех подготовить окопы, прикрывшись кизяком и навозом. По спешившимся за увалом белоказакам грохнула трехдюймовая пушка. Бой возник сразу. Неожиданно к Рыбникову подскакал исполинского роста конник с устным приказанием Цыркунова отступить.
— Ты почему, сукин сын, не привез письменного приказа? — набросился на него с иеной у рта Рыбников. — Кто тебя подослал?
Конник, несмотря на свою богатырскую силу, по бледнел от страха, но собрался ответить, а Рыбников не дал ему слова сказать и, приблизившись к нему, закричал:
— Ты меня знаешь?
— Знаю, — пролепетал испуганно конник.
— Кто я?
— Сталевар с Верх-Исетского завода.
Рыбников одобрительно покачал головой, подумал: «По-видимому, из моих мест, а не дутовский казак», но не успокоился.
— Тебя послал сам Цыркунов?
Конник молча кивнул головой.
— Ладно, — решил Рыбников, — вернешься разом с нами. Если ты, чертова душа, изменил — я тебя своими руками разменяю. — И тут же подумал: «Почему все-таки Цыркунов приказал отойти? Горе наше — воевать вместе с офицерами. Цыркунов бывший штабс-капитан, успел уже снюхаться с контрой, хотя до сих пор ни в чем не был уличен… До сих пор не был, а теперь переметнулся».
В полдень отряд возвратился в Степную. Рыбников поспешил к Цыркунову.
— Не кипятись, — пытался его успокоить командир отряда. — Мы и здесь не останемся, а отойдем к Троицку. Тыл наш оказался неприкрытым, боеприпасов не подвезли.
— Кто же накуролесил?
— Отряд Томина не подтянул своих сил. К тому же Блюхер узнал, что Дутов воспользовался бездеятельностью отряда Кашириных и занял Верхне-Уральск большими силами. Если бы я вовремя тебя не отозвал — висел бы ты сейчас на казачьей пике, как шашлык на вертеле. Опять же в станицах припрятались дутовцы.
— Ерунда! — возразил Рыбников. — На моих глазах в трех станицах выбирали в Совет казачьих депутатов.
— Ты хотя и коммунист, но слепой, как кутенок, — уже строгим голосом прикрикнул Цыркунов. — Выбирать-то выбирали, а кого — знаешь? Дутовцев выбирали. Да я тебя часослову, что ли, учу? Раз приказал — исполняй, а мне Блюхер приказал.
Под вечер отряд покинул Степную, и при выходе из станицы ему вдогонку полетели шальные пули.
— Дошло до тебя? — спросил Цыркунов у Рыбникова. — Ты прикажи из трехдюймовки дать один снаряд по станице.
Рыбников послушно исполнил приказание Цыркунова — выстрелы из станицы прекратились.
Отряд шел всю ночь, утром миновал поселок Берлинский и снова приблизился к Троицку. У Черной речки, возле которой тянулся небольшой лесок, Цыркунов услышал возглас «ура», и тут же показалась белоказачья лава. Она летела на застигнутый врасплох отряд, грозя его смять. Решали минуты, и вот в эти минуты командир батареи успел развернуть пушки и дать по лаве три залпа шрапнелью. Под прикрытием артиллерийского огня командир пешей сотни Колмогоров повел верх-исетских рабочих в атаку, но тут же упал, сраженный пулей. Подбежавший Рыбников заменил Колмогорова. В бой вступили и другие сотни. Цыркунова ранило, его заменил Ермаков, но через несколько минут ранило и Ермакова. На поле боя вылетел тот самый конник, которого Рыбников заподозрил в измене. Он рубил с остервенением, пытаясь добраться до моста, где залег дутовский пулеметчик. Рыбникова хотя и жгла рана, но он не спускал взгляда с конника. Вдруг по его лицу пробежала судорога — он ясно увидел, как налетевший сзади белоказак вышиб конника пикой из седла.
— Сволочи, — вырвалось у него из груди. — Такого Муромца уложили.
Екатеринбургскому отряду грозила смертельная опасность, но спасение пришло неожиданно. На белоказаков стремительно налетел подоспевший Томин со своими сотнями. Впереди в кумачовой рубахе летел на сером жеребце сам Томин, а за ним сотня Шарапова. Старик прижался к гриве коня и, вложив два пальца в рот, свистел сатанинским свистом.
Дутовцы не выдержали и бросились наутек.
Только к ночи екатеринбургский отряд возвратился в Троицк. В штабе Блюхера шло совещание.
— Пусть бойцы отдохнут два дня, а потом возобновим наступление, — сказал главком.
— Я считаю необходимым послать специальный отряд на усмирение непокорных станиц, — предложил Цыркунов, нервно подергивая левым плечом, которое ему успели перевязать после ранения.
— Вы говорите точнее, — поправил его Блюхер, — не специальный отряд, а карательный.
— Хотя бы так.
— Это вредная затея. Поймите раз и навсегда, что не все казачество на стороне Дутова. Томина вы со счетов сбросили. И Шарапова. И казаков их сотен. Карательные отряды — метод царского правительства. Я на этот путь не стану, хоть бы сам Крыленко мне приказал. Нам нужно расслоить казачество: бедняков и малоземельных — к нам, богатеев — к Дутову. Вот тогда мы обрастем силой.
— Нам в спину стреляют, а вы теорию разводите, — возразил Цыркунов, недовольный Блюхером.
— Я эту теорию познал на заводах и в тюрьме.
Цыркунова все же поддержали другие командиры, а Томин злобно крикнул им: «Это офицерские замашки». Поднялся шум, все заговорили разом.
Блюхер не ожидал, что его слова вызовут такую бурю.
Он считал себя правым, но ему казалось, что он не смог объяснить, в чем кроется политическое недомыслие Цыркунова и других, предлагающих карательные меры против станиц, поддерживающих Дутова. Спор мог перерасти в ссору между командирами отрядов, но тут вдруг поднялся Шарапов и надсадным голосом крикнул:
— Дозвольте мне, старому казаку, слово сказать!
— Успокойтесь! — призвал Блюхер командиров. — Послушаем самих казаков.
Шум улегся, но для каждого было очевидным, что это ненадолго, ибо среди спорщиков нет человека, который мог бы силой своего авторитета примирить и подчинить их себе.
— Товарищи, которые из ахфицеров, и товарищи из рабочих, — спокойно начал Шарапов. — Я уважаю всех, кто идет с советской властью. Казака всю жизнь учили, — и между прочим, учили их ахфицеры, — что рабочий есть враг престола и за это его надо стегать нагайкой, Так то было при Николае. А теперь обратно получается. Теперь гуторят, что казак есть враг советской власти. Ну какой я враг, если я кровь проливаю за эту власть? А Василий Константинович Блюхер? Он же первейший революционер, Хучь он рабочий, а душу казака понимает. Но карать казака надо, а растолковать, что к чему.
В комнату незаметно вошел Елькин. Он слышал нескладную речь Шарапова и догадался, о чем идет разговор.
— Мое слово такое, — продолжал Шарапов, — раз главком приказывает, значит, выполняй. За неисполнение — трибунал. А ты, товарищ Цыркунов, как поступил бы на фронте за неисполнение приказания? Ты где находишься — на фронте или вечерять до дружка пришел?
Дальше Шарапов не знал, о чем говорить, и, не закончив, грузно сел на скамью. С места вскочил Цыркунов, но к столу стремительно подошел Елькин и, обведя всех взглядом, внушительно спросил:
— Что здесь происходит — митинг или совещание командиров? Сядьте, товарищ Цыркунов, вам никто слова не давал. Урок политграмоты вы получили от казака Шарапова. — Повернув голову в сторону Блюхера, он четко произнес: — Товарищ главком, продолжайте совещание. — И сел рядом с Шараповым.
— Моя ошибка в том, — сознался Блюхер, — что я своим ложным демократизмом довел совещание командиров до говорильни. Больше этого не будет. Вас, товарищ Цыркунов, предупреждаю, что если вы осмелитесь нарушить мой приказ, то будете отстранены от командования и преданы суду. Всё! На этом совещание закрываю.
До утра Блюхер не мог успокоиться. Ему стыдно было перед самим собой, что не одернул как следует Цыркунова с самого начала. «Может быть, потому, что он бывший штабс-капитан? — думал он. — А быть может, я устал?» Рассуждая с самим собой, он уснул за столом. Балодис молча следил за ним. Убедившись, что главком крепко спит, он с трудом поднял его, перенес на походную койку, а сам лег на пол.
Одна часть отрядов двинулась на запад от Троицка к Верхне-Уральску, другая на восток.
— Зачем распылять силы? — спросил Томин у Блюхера.
— Дутовцы очень подвижны: то они появляются в одном месте, то в другом. Братья Каширины мне не подчинены, но они могли бы нам оказать большую помощь. Я послал к ним человека с предложением действовать вблизи Верхне-Уральска и по возможности у Белорецка, а ты, Томин, двинь своих конников в степь на станицы Полтавка, Аннинская и Парижская. Туда же я посылаю екатеринбургский отряд.
— Значит, в степь, — повторил Томин с тоскливым, как показалось Блюхеру, видом.
Томина не пугала степь, которую он знал с детства, ему хотелось быть поближе к родной станице. Ведь там осталась Груня, и ее могла постигнуть печальная участь. Впрочем, встреча с большими силами противника тоже не сулила радостей.
Весна в тот год хотя и наступила рано, но в степи среди зеленых побегов еще лежала прошлогодняя трава, и потому казалось, степь перенесла тяжелую болезнь.
Томин ехал впереди отряда и зорко всматривался в даль. К нему подъехал Шарапов, подравнивая коня.
— Может, мне мою сотню поближе к сырту подать? — И показал рукой.
Томин молча кивнул головой.
— Пошто печалишься? — спросил Шарапов.
— На степь смотрю, вроде она после белой горячки.
— Так завсегда, пока не раскисли под сыртами снежные плеши да солнце не припалило. Посля заиграет радугой.
Шарапов отъехал, и вскоре до Томина донеслась его команда: «Сотня, полоборота вправо, марш-а-марш!» За командой — топот копыт. Вспомнил Томин, как в детстве ехал он степью с дедом в плетеной кошевке. Весенний день угасал, косые лучи солнца играли в буйном цветении бобовника и чилаги. Огненно-желтые адонисы и фиолетовые касатики манили в лазоревую даль, где солнце садилось за сырты. И вдруг конь, прядая ушами, пустился во всю прыть. Николай не сразу догадался и повернул лицо к деду, а тот, откинувшись на спинку кошевки, выпустил из рук вожжи. Смерть неожиданно свалила старого казака. Вспомнил сейчас Томин, как он еле живой добрался до Кочердыка, белое лицо отца с искусанными губами, голосистый плач сестренки Груни… И вот сейчас он вновь в степи, может быть где-то вблизи той дороги, по которой ехал с дедом, но думал он совсем о другом: сумеет ли отряд устоять в открытом бою и победить. Иначе смерть. Интересно, о чем сейчас думает Шарапов? Ему за шестьдесят перевалило, и, наверное, мечтает о такой жизни, в которой бы ни один станичный атаман или урядник не цыкнул на него. Ради такой жизни стоит повоевать. Не мало крови впитает в себя степная земля, не мало костей, омытых дождями, будут валяться в ковыле, зато спустя пятьдесят или сто лет героям поставят памятник и на нем высекут имена. Только вместо креста будет звездочка.
Отряды идут, а степной дали все нет конца. От Бузулукского бора в Заволжье до истоков Тобола тянутся оренбургские степи с разбросанными горбатыми сыртами. По крутым откосам пламенеют малиновые глины и розовые мергеля, а между сыртами извиваются маловодные реки. Необозримой лавой текут на восток, и только перед Уральским хребтом, остановившись у исполинских гор, укутавших себя густыми лесами, они огибают их с юга. Зато, выйдя снова на простор, разливаются по всей Западной Сибири.
Оренбургская степь! Едешь по ней дни и ночи, и нет ей конца. Весною буйное цветение кружит и дурманит голову. Тюльпаны и тонконог, ковыль и дикая вишня расписывают замысловатый узор ковра. После обильных снегов земля разбухает от талой воды, но пригреет горячее солнце, выпьет жадно всю влагу, и начнет земля сохнуть, пока вся не потрескается, как старая кожа.
Шарапов с сотней давно исчезли за обрубленным шиханом сырта. И вдруг издалека донеслись гулкие выстрелы. Томин тотчас преобразился. Приказав екатеринбургскому отряду рассыпаться подковой, он поманил к себе Назара Филькина.
— У тебя добрый конь. Гони обратно к Блюхеру с моей запиской. Но только наметом.
— Ясно! — ответил Филькин и, спустив на подбородок ремень фуражки, рванул коня с места в карьер.
Томин же, дав шпоры своему серому жеребцу, увлек за собой конников. Обогнув сырт с другой стороны, он столкнулся с Шараповым.
— Нащупал? — спросил он нетерпеливо.
— Утекли, — с сожалением ответил Шарапов, заломив от злости фуражку на макушку. — Одного из седла вышиб, зад ему продрал, а живой. Крестится, что Дутов в станице Бриены.
— Я уже послал к Блюхеру за подмогой.
— Ить дело! Пресвятая богородица поможет нам разбить супостата. Костры бы зажечь на ночь. Пущай Дутов знает, что в степи лагерь.
— Подумает, что палы, — предположительно сказал Томин.
— Им еще рано.
Вечером, когда смеркалось, поднялся пламень костров. Наутро подоспел Блюхер с резервными отрядами. Войска выступили в поход. Под станицей Бриены возник бой. Посланный в обход Шарапов вышел к реке, отбил двести подвод из дутовского обоза и зарубил несколько офицеров.
Недалеко от станицы сгрудилась белоказачья лава. Над головами сверкал ливень стальных клинков. Внезапно с восточной стороны станицы раздались три пушечных выстрела. Среди белоказаков началось замешательство.
«Молодец Шарапов, — подумал Томин, — но сдюжит ли он против такой лавы?»
Мелкими перебежками екатеринбургский отряд приближался к станице. Блюхеру удалось окружить ее, заставив Дутова расколоть свои силы. В решительную минуту Томин бросился с конниками в атаку. В кумачовой рубахе он был заметен, как факел, и именно в него посыпался град пуль. Филькин, выскочивший вперед, заслонил Томина своим телом и тут же, смертельно раненный, вылетел из седла, а конь Томина, стелясь по степи, унес его в сторону.
Справа один из отрядов прижал вплотную к Бриенам дутовцев. Заметались белоказаки. Дрожала земля от топота конских копыт. Над станицей уже стлался дым загоревшихся домов. Дико мычали коровы, задыхавшиеся в дыму и пламени.
Шарапов, потеряв свыше полусотни и сам раненный в левую руку и плечо, укрылся у околицы за домами.
Дутов мог и на этот раз, как под Оренбургом, сокрушить красные отряды, но он неумел маневрировать своими силами и приказал отступить. Ему удалось вырваться из кольца именно там, где осталась шараповская полусотня, которая не могла причинить ему большого вреда, но страх так охватил белоказаков, что, встреченные огнем пятидесяти конников, они стали давить друг друга, ища спасения.
Дутовцы бежали в Тургайские степи. За ними гнался Томин, но у горной реки Ай прибыл приказ Блюхера прекратить преследование.
Над станицей парилась от теплого ветра дорога. Догорали зажженные снарядами дома, вокруг бродили погорельцы. Неподалеку у лужи отряхивались равнодушные гуси.
Через станицу возвращались смертельно уставшие от боя, но все же радостные отряды. Где им было знать, что с запада на них надвигался грозный враг.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Блюхер, вызванный срочной телеграммой, спешил в сопровождении Кошкина и Балодиса в Екатеринбург. В пути он почувствовал, что раны на спине вскрылись. До чего ему надоела эта волынка! Хотелось сорвать бинты, сжечь их. Но это только в первую минуту, потом смирился, помнил совет врачей, что только длительным лечением можно укрепить кожу. Стоит ему рассказать, и его отправят в госпиталь, а то и вовсе отпустят из армии, но ведь совесть заест. Он и сейчас сидел на скамье, не выдавая себя ни одним мускулом в лице. Выйдя из вагона на перрон, он вдруг покачнулся, но Балодис успел его поддержать.
— Доктора, — тихо произнес Блюхер и побледнел.
В городской больнице бережные руки сестры сняли почерневшие от пота и грязи бинты. Доктор долго расспрашивал, осматривал больного и пришел к выводу, что он окрепнет не раньше чем через два месяца. Но уже спустя неделю Блюхер тайно ушел из больницы и явился к военному комиссару Урала Голощекину.
— Почему вас так долго не было? — набросился на него комиссар.
— Я к вам прямо с поля боя, — соврал Блюхер.
— Мне еще неделю назад доложили, что вас видели на станции в пьяном виде. Какой-то матрос вас поддерживал.
— Обознался кто-то, товарищ комиссар.
Голощекин пристально посмотрел на Блюхера. Внешне главком произвел на него хорошее впечатление, но его возмущало и злило, что он целую неделю где-то пьянствовал, не являлся. «Было бы кем его заменить — тут же подписал бы приказ», — подумал он.
— Дутова треплете, а разбить по-настоящему не можете, — колко заметил комиссар. — Он уже опять к Оренбургу подбирается.
— Так ведь у него сил в пять раз больше, чем у меня.
— Слушайте, Блюхер, — загорячился Голощекин, — я вам дам войска, патроны, снаряды, но кончайте с Дутовым раз и навсегда.
— Какие же это войска?
Голощекин, не задумываясь, стал перечислять:
— Вы получите сформированный мною Первый уральский полк Красной Армии, я возвращаю вам временно находившийся здесь челябинский отряд, екатеринбургский эскадрон. Оголяю город, все отдаю вам, а вы еще недовольны.
Главком иронически улыбнулся:
— Я приехал сюда не торговаться, а по вызову. Что ни дадите — скажу спасибо.
Голощекину ответ понравился.
— Так вот, отправляйтесь сейчас же в Первый уральский полк, — сказал он тоном приказания и протянул руку.
Полк размещался в старых казармах. Повсюду царил порядок, и это понравилось Блюхеру. Командир полка, розовощекий молодой человек лет тридцати, с офицерской выправкой, принял его приветливо.
— С кем имею честь беседовать? — вежливо спросил он.
— Я — главком Блюхер!
— Очень приятно. Моя фамилия — Павлищев. Так это вы действуете против Дутова? Прошу садиться! Чем могу быть полезен?
По манерам, жестам и разговору Блюхер догадался, что командир полка бывший офицер и, очевидно, из числа тех, кто без печали расстался с царской армией.
— С сегодняшнего дня полк передан в мое распоряжение, — пояснил Блюхер. — Завтра же начнете погрузку в вагоны. Выезжаем в Челябинск. Нам предстоит покончить с Дутовым.
— Слушаюсь! — ответил Павлищев в привычной для него форме подчинения начальству и, сделав небольшую паузу, спросил: — Как долго, по вашему мнению, займет эта операция?
— Странный вопрос, — вскинул удивленно пушистые брови главком, — на войне трудно предвидеть. И почему это вас так интересует?
Павлищев не спеша достал из серебряного портсигара папиросу и с трудом раскурил ее.
— Дело в том, — ответил он, сохраняя невозмутимое спокойствие, — что по долгу элементарной честности я должен доложить вам о составе полка, коим командую. Солдаты, то есть бойцы, — фабричный и заводской народ, среди них много вернувшихся с фронта. Командиры же — бывшие кадровые офицеры, в том числе я. Мы заключили договор с екатеринбургским военным комиссаром на полгода. По истечении этого срока договор теряет силу, любой из нас вправе уйти на все четыре стороны.
— Чудно! — изумился Блюхер. — Вы что, вроде ландскнехтов?
Павлищев удивился тому, что главком, такой простой на вид, знает про средневековые наемные войска.
— Это не совсем так.
— Чего краснеете? Ведь мы с вами не дети, будем называть вещи своими именами. Об этом договоре я никому не скажу, но признаюсь, что меня, как главкома, не радует такая войсковая единица.
— Должен вам еще доложить, — добавил Павлищев, — что по договору у нас не должно быть военного комиссара.
— Ну и филькина грамота, — вырвалось у Блюхера. — А коммунисты в вашем полку есть?
— Честное слово, не знаю.
— Могу ли я положиться на офицерский состав?
— За себя ручаюсь головой. Думаю, что и остальные не подведут.
Блюхер порывисто встал. Павлищев последовал его примеру.
— Итак, завтра начинайте погрузку!
Весь вечер Блюхер предавался размышлениям. «Стоило меня вызывать в Екатеринбург, чтобы обвинить в пьянстве, — сердился он, — и дать мне наемный офицерский полк. Черт знает что такое! Мне бы плюнуть на Голощекина, поехать в Питер и рассказать самому Ленину обо всем. Впрочем, зачем к Ленину? Можно и в Самару к Куйбышеву». Мысли его прервал Кошкин.
— Чаю бы напились, — предложил он. — Мигом раздобуду самоварчик. Нам с Янисом видать, что вы кручинитесь.
Ну что особенного сказал Кошкин? Простые слова, а Блюхер принял их как утешенье, сразу повеселел. Он даже рассказал порученцам про свой разговор с екатеринбургским комиссаром и про беседу с Павлищевым.
Балодис показал свой увесистый кулак:
— Я бы не стерпел. Пусть судят, а морду бы набил.
— Нам контру бить надо, а не своих, — произнес Блюхер.
— А главком — хвост телячий? — не унимался Балодис.
— Рано сейчас делать выводы, — рассудил Блюхер. — Допустим, через год кончится война. Мы победим… — Он остановился, сосредоточенно посмотрел на Балодиса, задумался. В комнате тихо, лишь мерно тикали ходики. А потом закончил: — Ты, Янис, пойдешь обратно на корабль, меня — на завод. И Кошкину работа найдется. И Голощекин займется чем-нибудь… А лет через двадцать будем вспоминать наших главкомов, комиссаров и начальников, как далекий сон.
…В пути Блюхер пригласил к себе Павлищева.
— Какое настроение в полку? — спросил главком.
— Бодрое.
— Скажите, Павлищев, почему офицеры заключили договор именно на полгода, а не на два? Вы говорите искренне, а если не хотите, то уж лучше молчите.
— Не собираюсь вам лгать, — без раздумий ответил Павлищев. — Мы много беседовали между собой, раньше чем подписать договор. Откровенно говоря, никто из нас не любит монархию, но мы не сочувствуем и пролетарской диктатуре. Мы хотели бы демократическую власть и боеспособную армию. До чего довели Россию — сами видите, а Россия должна вернуть себе подобающее ей положение в Европе.
— Очень хорошая мысль! — одобрительно заключил Блюхер.
Павлищев посмотрел на главкома доверительным взглядом и продолжал:
— Большевики стремятся создать армию, но делают это нерешительно. И дисциплина нужна крепкая… Нет, не то слово. Железная дисциплина. Безоговорочное подчинение.
— И зуботычины, — добавил Блюхер. — Забыли про них?
— Зачем? — с обидой спросил Павлищев. — Ведь это возврат к отвратительным традициям царской армии. Но я уклонился от темы. Видите ли, в стране такая неразбериха, что мы, честные русские офицеры, не знаем, что делать.
— Проще всего служить Дутову.
— Нет уж, увольте. Головорезам мы не намерены помогать.
— А в большевиков верите?
— Верим, но не до конца. Поживем — увидим.
После ухода командира полка Блюхер задумался. «Воевать не на жизнь, а на смерть под командованием военспецов — опасное дело, — говорил он самому себе. — Чуть что — переметнутся на сторону белых. Без них тоже трудно, одной удалью врага не сломить. Комиссары могли бы сыграть большую роль, но Павлищев и его подчиненные не примут их: дескать, по договору не полагается».
С тяжелыми и нерешенными мыслями Блюхер приехал в Челябинск, приказав войскам не выгружаться из вагонов. В этот же день он сдал дела Ревкома Колющенко, оставил Балодиса в городе для наблюдения за погрузкой немногочисленного челябинского отряда, а сам с полками поспешил на фронт.
— Мы двинемся через Уфу на Кинель, а оттуда на Бузулук — Оренбург, — сказал он Павлищеву и Елькину. — Путь, быть может, несколько длиннее, чем через Троицк — Орск, но по железной дороге скорее доберемся до Оренбурга. К тому же я не уверен, что дорога от Троицка до Оренбурга свободна. Она проходит вблизи казачьих станиц и уже потому небезопасна.
Павлищев слушал Блюхера с таким вниманием, как ребенок слушает сказку. Он не отнесся к главкому как к выскочке, ибо сам прошел трудный путь. Сын петербургского коллежского асессора, Павлищев стремился выйти из нищеты. Не надеясь на помощь отца, он упорно занимался, добился приема в военное училище, дав себе клятву получить чин полковника. Война помогла ему достигнуть желанной цели, но с таким же успехом он мог сложить голову на поле брани.
Революция спутала все карты. Его тянуло на сторону тех, кто звал к новой жизни, и в то же время ему было жаль расставаться со счастьем, пусть еще маленьким, но завоеванным большим воинским трудом.
Оказавшись в Екатеринбурге, Павлищев наслышался от горожан про царскую семью Романовых, находившуюся в этом городе под арестом, таких омерзительных историй, которые невольно вызывали в нем гнев против царя. Как человек, очутившийся перед шатким мостиком, проложенным через бурный поток, он не рисковал принять решение и чего-то выжидал, но чего — он и сам не знал. Лишь случайный вызов к военному комиссару Голощекину и беседа с ним помогли ему сделать выбор — найти свое счастье, которого он искал так много лет.
Он знал, что Блюхер бывший унтер-офицер, но его это не коробило, может быть потому, что он сам еще не успел подняться высоко по военной лесенке, может быть потому, что все больше проникался доверием к большевикам, среди которых повстречал много интеллигентов.
Ночью эшелон покинул Челябинск.
Блюхер шел снова в поход против Дутова.
Неистовый вихрь проносился над Россией. Миллионы людей, поднявшихся с насиженных мест, растеклись по необъятным просторам страны. И завертелось, запенилось людское море.
С каждым новолунием то на юге, то на севере, то в центре самой России возникали восстания. Нежданно-негаданно появлялись безвестные капитаны, подполковники, генералы, формировавшие штабы; они обрастали батальонами, полками, к которым льнули, как мухи к сахару, темные дельцы, беглые каторжники, улизнувшие из тюрем воры, объявляли себя правителями уездов и губерний, печатали воззвания к населению, фабриковали бумажные деньги, вешали и расстреливали коммунистов.
Из Архангельска и Мурманска прибыло донесение: английские и французские войска высадили десант и готовы помочь белогвардейским мятежникам.
На Северном Кавказе генералы Корнилов и Деникин сформировали Добровольческую армию и громят Советы.
На Дону казачьи генералы Краснов и Мамонтов подняли мятеж.
В приемном зале германского посольства в Москве эсер Блюмкин, с целью спровоцировать войну с Германией, убил посла Мирбаха.
В Екатеринбурге безвестные капитаны Ростовцев и Ардашев подготовляли заговор, намереваясь освободить из-под ареста Николая Романова. Павлищев знал этих капитанов как завзятых карточных игроков и прожигателей жизни.
На Дальнем Востоке войска японского императора захватили Приморье.
Солдаты кайзера Вильгельма хозяйничали на Украине, восстановив права помещиков.
Даже в Москве левые эсеры захватили Трехсвятительский переулок и, раздобыв орудия, открыли артиллерийский огонь по Кремлю.
Трудный восемнадцатый год.
…Над Челябинском догорал огненный закат, обрамленный зловеще черными полосами. Верующие судачили, что скоро грядет антихрист карать непокорных.
Балодис, проводив Блюхера, зашел к начальнику станции.
— Через два дня надо будет отправить небольшой отряд, — предупредил он. — Вагончики будут?
Начальник станции бесстрастным взглядом посмотрел на матроса, провел рукой по небритым щекам и успокоительно ответил:
— Раздобудем.
Ночью набежали тучи, разразилась гроза, а утром на станции появились чехословацкие солдаты. По городу поползли слухи, один нелепее другого: дескать, Блюхер расстрелян, полки его разбиты, что не сегодня-завтра прибудет генерал Гайда, командующий чехословацким корпусом, что Николай Романов бежал в Петербург и снова взошел на трон.
Балодис примчался к Колющенко.
— Блюхер приказал мне проследить за погрузкой последнего отряда, а начальник станции не дает вагонов, — пожаловался он.
— Вы говорили с ним? — спросил Колющенко.
— Два дня назад он уверял, что вагоны будут, а сегодня отказывается. «Сам, говорит, видишь, что творится. Теперь не я хозяин, а чехи». Здесь какая-то контра, товарищ председатель. Откуда чехи взялись?
Колющенко со свойственной ему мягкостью ответил:
— Все уляжется.
— Чехи, спрашиваю, откуда?
— Чехи из России, — как бы нехотя ответил Колющенко. — Военнопленные… Совнарком разрешил им проехать до Владивостока, а там их пересадят на пароходы и увезут во Францию.
— Ишь какое дело! — сказал Балодис, словно понял объяснение Колющенко.
— Чехи тоже хотят быть свободными, — продолжал Колющенко. — Сражаться за свою независимость. Теперь, голубчик, такое время, когда революция может начаться в мировом масштабе. Завтра эшелон с чехами отойдет на Сибирь, а здесь, в Челябинске, они дальше линии железной дороги не пойдут.
Так думал Колющенко, так думали другие. Но ночью начался мятеж. Ружейные выстрелы разбудили город. Подстрекаемые эсерами, белочехи арестовали Колющенко, Васенко и остальных членов Ревкома и зверски убили их.
В эту ночь Балодис дремал на станционной скамье. Он тоже был разбужен стрельбой. Протерев слипшиеся ото сна глаза, он увидел пробежавших через вокзальный зал чешских и русских офицеров в погонах. В бушлате и бескозырке его легко можно было заметить. Невольно вспомнил совет Кошкина: «Зарой свою бескозырку» — и тут же скомкал ее и спрятал в карман бушлата. «Что делать? — подумал он. — Побегу в город к Колющенко». Незаметно пробравшись к дверям, он выскользнул на привокзальную площадь… Его обступила темнота.
— Капитан! — услышал он незнакомый голос. — Это вы? Я ничего не вижу в этой кромешной тьме.
— Не кричите, — спокойно ответил Балодис, словно обращение относилось к нему, и, приблизившись к офицеру, сильным ударом кулака в висок свалил его наземь и стал душить. Малейший страх мог расслабить напряженные нервы матроса, и тогда он погубил бы себя, но даже в темноте ему казалось, что он видит посиневшее лицо и остекленевшие глаза офицера. Разжав дрожащие пальцы, он наклонился и прислушался: враг не дышал. Балодис с трудом приподнял безжизненного офицера, расстегнул пуговицы на кителе и сорвал его. Стоя на коленях, он долго искал фуражку, а когда нашел, то примерил — она оказалась большой. «Куда идти?» — подумал он и вернулся на станцию. Вокзал опустел, в углу дремал, свернувшись калачиком, какой-то одноногий, рядом лежали костыли. «Знаю, что помянешь плохим словом, — сказал ему мысленно Балодис, — но тебя не тронут, а мне надо спастись». Он протянул все еще дрожавшие руки, поднял костыли, неловко сунул их под мышки и согнул правую ногу в колене. В эту трагическую минуту Балодису стало смешно. Костыли путались, он неумело передвигал ими, и ему хотелось выбросить их далеко вперед, чтобы сделать большой шаг, но приподнятая правая нога невольно опускалась, и Балодис никак не мог понять — ноги ли мешают костылям или наоборот.
Выйдя снова на привокзальную площадь, он быстро сорвал с кителя погоны, швырнул их вместе с офицерской фуражкой далеко в сторону, укоротил ремень, на котором висел маузер, чтобы не вылезал наружу, и заковылял по направлению к городу.
Светало. Город, умытый с вечера грозовым дождем, притаился за закрытыми дверями и ставнями. У здания Ревкома стояли чешские часовые. Скосив незаметно на них глаза, Балодис прошел мимо, с трудом опираясь на костыли. «Надо бежать», — решил он и возвратился на вокзал. Трупа задушенного офицера на площади уже не было, его, очевидно, успели убрать, зато в станционном зале шумели солдаты. Балодис бросил взгляд туда, где лежал одноногий, но ему помешали человеческие спины. Кто-то толкнул его, и он, изобразив плаксивую гримасу на лице, жалобно спросил:
— За что бьешь несчастного инвалида?
— Odpusť, příteli, nechtěl jsem tě nějak urazit[3], — ответил виновато солдат и посторонился.
Балодис сделал вид, что понял извинение, покачал головой и, с трудом орудуя костылями, вышел на перрон.
Все пути были заняты вагонами. У первой платформы пыхтел паровоз. Матрос подошел к машинисту.
— Далече, голубчик? — спросил он.
— В Самару.
— Возьми меня с собой. По гроб жизни помнить буду. В Кинели бедуют жена и детки.
— На паровозе не дозволено. Вишь, кто хозяйничать стал. Эх, дела, дела!
— А чего они хотят? — прикинулся Балодис.
— Ломают хребты Советам. В Самаре, Пензе, да и здесь уже вешают и расстреливают. Теперь чужеземцы правят на русской земле.
— А тебе зачем возить их?
— Вернусь в Самару — и шабаш. Уйду с железной дороги.
— До Кинели все же довезешь меня?
— Не могу.
— Можешь! — внушительно произнес матрос, как приказание. — Можешь! — повторил он. — У меня костыли для виду, а бескозырка спрятана.
— Залезай! — махнул рукой машинист, досадуя, что затеял разговор с незнакомым матросом.
Со станции Кинель блюхеровские отряды свернули на Бузулук, но станция их не приняла и закрыла семафор.
— Кошкин! — крикнул Блюхер.
Кошкин показался на мгновенье и тотчас исчез, не выслушав главкома, — по интонации голоса он догадался, что от него требуют.
— Был на станции, — доложил он, возвратившись через полчаса, — там отряд балтийских матросов.
— Павловские? — обрадованно удивился Блюхер.
— Другие. Командует какой-то Зиновьев.
— Большой отряд?
— Сто пятьдесят братишек и пятьсот бойцов. Говорил с начальником станции, боится нас принимать. «Вам же хуже, говорит, впереди дутовцы».
— Вызови ко мне Павлищева и Елькина!
— Есть вызвать! — по-обычному ответил скороговоркой Кошкин и исчез.
Они пришли вместе, и Блюхеру показалось, что до прихода они мирно беседовали, как два закадычных друга. Он вкратце изложил обстановку.
— Начните высадку, вынесите на руках два орудия и все пулеметы. Отгоним белоказаков, а потом двинемся дальше.
— Толково! — согласился Елькин. — Надо пробиваться к Оренбургу.
— А вы как думаете, Иван Степанович?
— Согласно договору выполним любой приказ.
Блюхер хотел выругаться, но сдержал себя.
Только через два часа отряд подошел к станции. Зиновьев, узнав о приходе красных отрядов, поспешил к Блюхеру. Высокий, с огромной копной каштановых волос, он напоминал тигра. Голос у него был грудной, и Блюхер с нескрываемым удовольствием слушал его неторопливую, плавную речь.
— Вы не полковник царского времени? — спросил Блюхер.
Зиновьев скупо улыбнулся:
— Шесть лет грызу юриспруденцию и столько же занимаюсь партийной работой. А отрядом командую, — он сделал небольшую паузу, — один месяц.
Блюхер звонко рассмеялся, ему понравился бесхитростный ответ. Через час они говорили друг другу «ты» и им казалось, что они знакомы с детства.
— Коммунист коммуниста видит издалека. Не так ли? — спросил Блюхер.
— Ты прав. Я ничего плохого не могу сказать про Павлищева, но Елькина, тебя и даже твоего Кошкина я вижу, как говорят, насквозь.
Решено было выступить одному Уральскому полку. Блюхер неотступно следил за тем, как Павлищев построил батальоны и, выбрав направление, двинулся на белоказаков. Полк без особого труда разогнал небольшой вражеский отряд и заслужил благодарность главкома. Тем временем семафор открыли, станция приняла эшелон. Возвратившиеся бойцы уселись в вагоны, и поезд двинулся дальше.
В Тоцком эшелон встретил начальник станции. Бойцы стали соскакивать на платформу. На улице было безветренно, казалось, что станция прислушивается к тихим шорохам. И вдруг выстрелы разорвали тишину. Блюхер взглянул на небо — высоко-высоко в небе застыли невесомые белые облака. От станции шла дорога, высокие стройные березки, склонив ветви, убегали туда, откуда доносилась пулеметная стрельба. Несколько бойцов упали, возникла растерянность, которая могла разрастись в панику. В эту опасную минуту раздалась спокойная команда Павлищева:
— Полк, стройся по батальонам!
Уральцы, к удивлению других отрядов и матросов, быстро построились.
Блюхер с затаенной завистью следил за Павлищевым, который быстро, без нервозности отдавал приказания, уводя с собой полк. Перебежками батальоны продвигались вперед, занимая выгодные позиции. Дутовцы откатывались верста за верстой.
Так двигались отряды от станции к станции. Позади остались Сорочинск, Новосергиевка, Покровка, Переволоцк. Но Оренбург был обложен белоказаками, и надо было разорвать кольцо, чтобы спасти осажденных.
В полдень на станцию Переволоцк прикатил на дрезине Балодис. Он сошел на полотно железной дороги и оттого, что увидел своих, счастливо улыбнулся. Блюхер и Кошкин не узнали его сразу — лицо заросло щетиной. Безрадостный рассказ матроса погрузил главкома в тяжелые думы, но он решил скрыть от всех опасное положение до взятия Оренбурга и приказал своим порученцам никому ничего не рассказывать.
— Не грусти, Савва, не такое нынче время. В пятом году, когда меня арестовали, я еще желторотым был, и то веру не потерял, носа не повесил. Били — ни разу не заплакал.
Коробейников притулился к тому самому сундуку, на котором сидела Груня, когда он в последний раз видел ее. Сгорбившись, слушал успокоительные слова Томина, но думал о своем. Что-то недоброе чувствовал он, когда думал о Груне и упросил Николая поехать с ним в Кочердык, чтобы увезти его сестру. Дом оказался заколоченным, никто из соседей не знал, куда девалась Груня. Утверждали, что она исчезла в ту ночь, когда на Кочердык наскочили дутовцы, и больше ее с тех пор не видели.
«Убили Грунюшку, — шептал про себя Савва, молчаливо терзая себя за то, что не сумел ее уговорить уехать, — грех на моей душе». Его раздражал Томин, который ни разу не прослезился, а рассказывал о себе, каким он был в пятом году. «Зачем мне это знать? Ты вот Груню разыщи — я тебе в пояс поклонюсь. Без нее мне и свет не мил. Надоела война до тошноты. Четыре года с австрияками дрался, теперь со своими. Земли, что ли, мало, хлеба не хватает?».
Обратной дорогой ехали молча. Из глубокой балки, темной от леса, выбежали зазеленевшие дубки и маленькая березовая рощица, чистая и свежая, — глаз не оторвать. Степь подсохла от весенних вод, солнце с каждым днем сильнее припекало. Савва смотрел вокруг, ища Груню, которая, казалось, вот-вот откуда-нибудь покажется, но напрасно. Заедала тоска. Спешиться бы с коня, лечь на казачью землю, завыть волком. «Какого рожна я поехал на чужую сторону искать счастья?»
Томин ехал шагом. Жалел, что не нашел сестры, но больше тревожился об отряде. «Как там без меня? Баранов, правда, способный командир, ему можно все доверить, но с казаками надо уметь ладить. И Блюхер почему-то давно не дает о себе знать». Он взглянул на скисшего Коробейникова, в сердцах выругал себя за то, что затащил его в свои края, и, стеганув со злостью плеткой коня, вихрем понесся по полю.
Поздней ночью примчался в Троицк. Баранов сидел в накуренной комнате, положив голову на стол, и дремал. Томин шумно вошел, разбудив Баранова:
— Дежурного подменяешь?
— Сегодня я сам решил дежурить, — ответил Баранов и стал растирать онемевшими руками сонное лицо.
— А где студент?
— Спит. Толковый парнишка.
— Я его фамилию запамятовал.
— Русяев, — напомнил Баранов.
— Где ты его нашел?
— Говорил тебе, что в окопе. Сидит в студенческой шинельке, пуговицы на ней блестят, как надраенные кирпичом пятаки, а сам жмется от холода. Поманил его пальцем, вылез он из окопа, смотрит на меня гордецом. Глаза у него прозрачные, как вода в озере, а росту — выше меня на голову. «Ты откуда взялся такой?» — спрашиваю. «Я, говорит, здешний, учился в Златоусте на техника-механика. Как прослышал, что Дутов лютует, пошел к секретарю партийного комитета и говорю — дескать, доучусь потом, а сейчас воевать надо. Тот ни в какую, а только так, между прочим, сказал: «Поезжай в Троицк, разузнай, что там и как, и возвращайся». Приехал, да не стал расспрашивать, а упросил зачислить меня в семнадцатый сибирский полк. Вот и воюю. Не знаю — худо иль хорошо, а воюю».
— Из него начальник штаба выйдет?
Баранов пожал плечами:
— Он коммунист, — значит, выйдет. Ты не сомневайся. А где твой Коробейников?
— Догоняет, — нехотя ответил Томин и ушел спать.
Темная, безлунная ночь. Спит городок, тихо на его пустынных улочках, и только порой до часовых штаба доносятся отдаленные шаги торопливого прохожего.
Наутро Русяев разбудил Томина. Николай Дмитриевич заспанными глазами посмотрел на него и не то с усмешкой, не то с удивлением сказал:
— Батюшки! Да ты ведь, чай, выше Петра Великого. — И тут же сердито спросил: — Чего разбудил, чертов сын?
— У меня важные донесения, товарищ командир.
— Я тебе не командир, а главком.
Русяев не смутился, только повел своими округлыми плечами.
— Не будете слушать — пойду докладывать Баранову.
— Ты меня, паря, не пугай, я чертей не боюсь.
— Черти вас не запугают, а вот чехи могут, — нашелся Русяев.
— Ты что такое мелешь? — рассерженно спросил Томин, продолжая лежать на скамье. Ему просто боязно было подняться и стать рядом с Русяевым — он едва достигал его плеча. — Какие чехи?
— Товарищ главком, вам докладывает начальник штаба. Не хотите слушать иль я вам не подхожу — отпустите обратно в окопы.
— Не лезь в бутылку, а садись поближе и докладывай. Ты мне, Русяев, нравишься. Ершистый, но толковый. Как тебя по имени?
— Виктор Сергеевич.
— Сколько тебе годов?
Русяев смущенно ответил:
— Восемнадцать, — и, спохватившись, добавил: — Скоро минет девятнадцать.
— Едрена тетеря! — рассмеялся Томин. — Хучь студент, а все же молокосос. Но на вид ты представительный, прямо дипломат какой-то. Так меня, говоришь, напугают чехи?
— Факт! — ответил Русяев.
— Откедова они взялись?
— Этого я не знаю, но Челябинск в тревоге.
Томин вскочил словно ужаленный:
— Шуткуешь? Откедова это чертово семя?
— На рассвете звонили из Челябинска. Слышимость плохая, кто со мной говорил, не знаю, — сдается, начальник гарнизона.
— Что же он сказал? — торопил Томин.
— Мы, говорит, отходим. Чехи и белогвардейская сволочь приближаются к нам, режут коммунистов.
— Труби тревогу! — крикнул Томин и, ударив черенком нагайки по голенищу, бросился на улицу.
День зачинался ясный. Солнце, поднявшись в степи, залило светом нежданно потревоженный, как муравейник, городок. Жители невесть откуда прослышали, что в Челябинске появились офицеры и какие-то белочехи, вешают коммунистов на столбах. Не сегодня-завтра придут в Троицк, и не бывать здесь Томину, казаку в кумачовой рубахе. Всех поразгоняют, главарей расстреляют, восстановят законы. А какие такие законы — никто не знает, но догадываются: все будет, как было при Николае Романове.
Томин часто забегал в штаб в сбившейся набок кубанке, из-под которой свисала добрая половина косматых волос, и, насупив лохматые брови, спрашивал:
— Отрок, звонили?
Русяев всякий раз поднимался из-за стола, заставляя тем самым и Томина поднять свою голову.
— Никак нет-с!
В штаб вошел Баранов, за ним молодой боец в щегольских желтых сапогах, офицерском кителе и кожаном картузе.
— Где же ее взять, товарищ помглавкома? — произнес он умоляющим голосом.
— Где хочешь, а чтобы через полчаса пролетка стояла возле штаба, — сердито ответил Баранов.
— На кой леший она вам сдалась?
— Обалдуй! — вскипел Баранов. — Я тебе толкую который раз. Не в гости собираюсь ехать, не барахло возить с собой, а надоть ее в конницу поставить и пулемет на ней возить.
— Это другой разговор, а пролетки-то все-таки у меня нет.
Русяев подошел к бойцу, посмотрел на него сверху вниз и сказал грозным тоном:
— Сейчас напишу бумажку, пойдешь с ней к купцу Яушеву и выбери у него на дворе подходящую. — Он вынул из брючного кармашка часы величиной с луковицу и подсчитал в уме: — Если через тридцать пять минут не вернешься с пролеткой — подпишу тебе смертный приговор. — Потом он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и быстро стал писать по шершавой бумаге. Перо царапало, но Русяев упорно писал. Закончив, он извлек из кармана печать, дохнул на нее несколько раз и прижал к бумаге. — Получай мандат!
Боец сложил бумажку вдвое, спрятал под фуражку и сказал:
— С мандатом я и пять пролеток доставлю. Это я авторитетно заявляю.
За станцией Переволоцк отряды покинули вагоны. Блюхер приказал окопаться и выслать к Оренбургу разведчиков. Под вечер, когда померкли пурпурные обводы облаков и остывшее солнце медленно приблизилось к горизонту, из степи повеяло легкой прохладой. Густая небесная синь потемнела, тени растворились, высоко над землей весело заморгали звездные искринки.
Блюхер медленно брел по лагерю, почему-то вспомнил разговор с Голощекиным. Что он за человек — не поймешь. То ли дело Елькин или Шарапов. У них что на уме, то на языке, а Голощекин весь в себе. Другим не верит, и ему не веришь. Впору бы разжечь сейчас костер, у огня всегда рождаются легкие и безмятежные думы, но огня разводить нельзя — это знает каждый боец.
В тишине Блюхер услышал голоса. Прислушался — никак, Павлищев. Подошел ближе, но так, чтобы не приметили. Неторопливо командир полка кого-то укорял:
— Уж лучше помолчали бы. Ведь эта честь давно продана и перепродана.
— Эпоха, любезный, эпоха, — ответил незнакомый Блюхеру голос. — Кому охота терять голову?
— А жить с опустошенной душой лучше? Нет, поручик, я так не могу. Я первый поставил свою подпись под договором, а сейчас воюю по велению сердца.
— Довольно вам сентиментальничать, Павлищев, вам это не к лицу. Унтер-офицер Блюхер строит из себя главкома, адвокат Зиновьев командует братишками, да и Елькин, как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. А я, русский офицер, должен рисковать жизнью во имя бредовых идей этих выскочек. Дико, когда вы хотите уверить меня в обратном.
— Вспомните нашего командира полка, — сказал Павлищев. — Полковник — а в голове мусор с дерьмом. Вы его побаивались, считали настоящим воякой.
— Ну, неудачник.
— А Блюхер, по-вашему, удачник? Откровенно говоря, я уверен, что у него высшее образование, но он скрывает от нас, подлаживаясь к казакам и матросам. Впрочем, мне наплевать на это. Одно скажу, человек он правдивый, разумный, честное слово, разумнее нашего полковника. А насчет бредовых идей, это вы, батенька, бросьте. Мы с вами их не разделяем, а миллионы людей за них.
— Голоштанники, но только не интеллигенция.
— Вот это уже ложь, — заволновался Павлищев, и Блюхер мысленно представил себе его лицо. — Нам бы столько рот, сколько интеллигентов пошло служить советской власти, мы бы стали непобедимой армией. Давайте бросим этот бессмысленный спор. Завтра пойдем в бой, и предупреждаю: за измену — пулю в затылок. Я хочу жить и умереть с чистой совестью.
— Надоели мне ваши угрозы.
— А мне ваше хныканье, — ответил в тон Павлищев и умолк.
Блюхер бесшумно удалился. Он был обрадован тем, что невольно оказался свидетелем очень важного спора и что ему теперь ясна позиция Павлищева. Но сколько у того противников в полку? Важно, что Павлищев честно относится к принятым обязательствам и не изменит, а уж он заставит и остальных следовать своему примеру. Но ощущение у Блюхера было такое, будто он стоит на горе и следит за ходом боя, а его командиры разбегаются кто куда, оставляя войска на произвол судьбы.
Утро пробудилось свежее, словно умытое в ключевой воде. Солнце поднялось багровым шаром, потом порозовело, стало блекнуть, поднимаясь в поголубевшее небо.
Возвратившиеся разведчики доложили, что дутовцы тесным кольцом обложили Оренбург и прорваться к осажденным трудно. Одновременно из Бузулука прикатил на дрезине начальник станции и рассказал, что из Самары нагрянули белочехи и неминуемо придут сюда. Какое принять решение? Повернуть полки лицом к Бузулуку — тогда дутовцы ударят в спину. Уж лучше прорываться к Оренбургу, но не забывать и о тыле.
После долгих размышлений Блюхер приказал Елькину двинуться со своим отрядом к Бузулуку и задержать белочехов.
— Плохо, Салка, — признался ему Блюхер с глазу на глаз, — хочешь, командуй вместо меня, а я поведу отряд к Бузулуку.
Елькина взорвало.
— Уж не считаешь ли меня трусом?
Они простились трогательно, ласково заглядывая друг другу в глаза, словно предчувствуя, что больше не встретятся.
После ухода отряда Блюхер приказал Балодису:
— Нагони Елькина, будешь связным и почаще меня информируй.
Их было трое: Николай Каширин и с ним два казака — Михайло Калмыков и Евсей Черноус. Приутомленные кони медленно шли, позвякивая уздечками. Над всадниками раскинулся голубой купол с курчавыми облачками. Солнце, поднявшись на притин, палило огненным потоком, даже глазам больно смотреть. Дорога шла под гору мимо речки с приземистыми ракитами по бережкам, а дальше степь.
За речкой Салмыш повстречали молодого паренька.
— Куда идешь? — спросил Каширин.
— В Ермолаевку.
— Зачем?
— Все зачем да зачем. Вчерась красных повстречал, и они — зачем? Сегодня вас, и вы — зачем?
— Где же ты красных повстречал? — обрадованно спросил Каширин.
— В степи. На голове срамота какая-то, ленточки висят, матюкаются в бога и кузькину мать и всё выспрашивали: «Зачем идешь? Где дутовцы?» Ить не знают. — Парнишка лукаво улыбнулся и сплюнул сквозь щербатые зубы. — Они вас ищут, а вы их.
— А ты за кого, за красных или белых? — мягко спросил Каширин, боясь напугать парнишку и в то же время пристально следя за выражением его лица.
— За тех, с кем батя.
— А он? — не отставал Каширин.
— Кабы знал, — сокрушенно ответил парнишка. — Бабка гуторит, что ноне казаки перемешались, из одного казана едят с жидами, полное светопреставление.
Каширин и казаки рассмеялись.
— Иди, паря, своей дорогой, — простился Николай Дмитриевич и тронул коня.
В степи пересвистывались сурки да из-под ног лошадей порой выскакивал суслик, ища свою норку. Каширин знал и любил степь. Пройдет еще какой-нибудь месяц, и речки пересохнут. Исстари их так и зовут: Суходол, Сухоречка, Песчанка. И только Урал — мощная степная река. Истоки ее лежат в высоких горах Уральского хребта, невдалеке от вершин Иремель. Безмятежно течет Урал с севера на юг до Орска, а там словно тайфун его стремительно сворачивает на запад. Пересохнут речки, зажелтеют ковыль с типчаком, одна только полынь еще долго будет держаться, наполняя воздух терпким запахом. И на память пришли стихи, заученные с детства:
Степной травы пучок сухой, Он и сухой благоухает!В воздухе что-то прожужжало, словно шмель над ухом пролетел.
— Никак, стреляют, Николай Дмитриевич, — сказал один из казаков и с опаской оглянулся.
— Этак под шальную пулю угодим, — ответил Каширин и, достав из кармана носовой платок, надел его на острие клинка и поднял в воздух.
В степи снова стихло, но вдруг прямо из-под земли перед казаками выросли пять матросов, один с гранатой в поднятой руке.
— Ни с места! Слазь с коней, сдавай оружие!
— Спешиться! — громко приказал Каширин казакам и вложил свой клинок в ножны. — Бояться нечего, к своим попали.
— Свои, свои, — с иронической издевкой повторил матрос, не выпуская из рук гранату. — Думали к Дутову, а попали…
— К Блюхеру, — закончил за него Каширин.
— Ты почем знаешь, к кому? Может, тебе здесь амба будет?
— Слушай, братишка, — сказал наставительно Каширин. — Коней наших веди сам, а оружие сдавать не будем. Нам к Блюхеру. И дурака не валяй! Мы не дутовцы, а красные казаки. А зовут меня, между прочим, Николай Каширин.
— Пошли! — доверчиво сказал матрос, поняв, что казаки не заблудились, а держали путь к красным.
Блюхер обрадовался Каширину, они долго и обстоятельно беседовали о тяжелом положении, сложившемся в результате мятежа белочехов.
— Так ты с братом в разладе? — спросил под конец главком.
— Не сказал бы. Отряд мы поделили. Иван остался в Верхне-Уральске, для него город чуть не престольным стал, а я решил податься к тебе. Вместе сподручнее бить врага. — Повременив, он добавил: — У Ивана сейчас еще одно увлечение: ищет военнопленных, хочет сформировать интернациональный отряд.
— Сколько человек ты привел?
— У меня три сотни, да и у Калмыкова две.
— Откуда этот Аника-воин взялся?
— На досуге расскажу.
Калмыков, которого Блюхер в шутку назвал Аникой-воином, служил в царской армии старшим унтер-офицером, а до того работал стеклодувом. На груди у него красовались три георгиевских креста, георгиевская медаль и сербская. Коренастый и кряжистый как дуб, с бритой головой и пышными усами, доходившими до ушей, он лукаво улыбался круглыми, как пятаки, глазами, часто вскидывая пушисто изогнутые брови.
Когда в апреле семнадцатого года по всему фронту прошла шумиха: наступать или не наступать, Калмыков в революционном экстазе, охватившем многих фронтовиков, поспешил в Петроград, чтобы разобраться в событиях и правоте большевиков, предсказывавших неминуемый крах другим партиям. На одном из многолюдных митингов он под напором логических умозаключений выступавшего большевика, — как оказалось, это был Свердлов, — решил покинуть фронт и уехать на свою сторону поднимать массы на борьбу. В Богоявленском заводе его долго ждала мать и, как каждая мать, вздыхала и плакала по своему кормильцу, потеряв надежду увидеть сына. Калмыков приехал, и у него хватило времени лишь на то, чтобы прижать ее к груди, подарить гостинцы и тут же заняться, как он выразился, государственными делами: разделом земли помещика Пашкова и формированием богоявленского отряда.
За короткий срок Михайло Калмыков успел испытать горечь поражения в стычках с белогвардейцами, когда приходилось поднимать полк неожиданно, по звону церковного колокола или по сигналу пулеметной очереди, и радость побед, когда белые откатывались в горы или степи, не устояв перед рабочими, вооруженными берданками и устаревшими винтовками «гра». В кармане у Калмыкова лежал аршинный мандат на право конфискаций, реквизиций, арестов.
Николай Каширин понимал, что для разгрома Дутова нужны объединенные усилия. Расставшись с братом, он ушел со своими сотнями к Калмыкову, и тут бы Михайле Васильевичу взять командование над каширинскими казаками, но он отдал предпочтение не чувству, а разуму, который диктовал ему подчиниться Каширину, человеку трезвого ума, но задорных дел. На собрании бойцов он с рабочей прямотой предложил: «Если вы мне доверяете, то голосуйте за Каширина».
— Далеко твои люди? — спросил Блюхер.
— За Салмышом.
— Веди их сюда, надо пробиваться к Оренбургу.
На совещании, созванном Блюхером после прибытия каширинского отряда, Зиновьев сделал общий обзор и дал оценку боеспособности каждого отряда.
— Главкомов много, как семечек в подсолнухе, а порядка мало, — сказал он в заключение. — И я главком, и Николай Каширин главком, опять же Калмыков, а уж Блюхер главком над всеми главкомами. Один Павлищев скромный командир полка. Пора кончать этот базар. Ты меня прости, Василий Константинович, — обратился он к Блюхеру, — но в военном деле нужна твердость, которой тебе, пожалуй, не хватает. Все мы — командиры отрядов и подчинены одному главкому. Никакой партизанщины. Партия такого разлада не терпит.
Блюхер раздумывал: в том, что командиры отрядов называют себя главкомами, он ничего предосудительного не видел и готов был возразить Зиновьеву, но когда тот назидательно сказал, что партия не терпит разлада, то тотчас встал и громогласно заявил:
— Я согласен с Георгием Васильевичем и передаю ему командование.
Каширин, наслышавшись про отвагу и успехи Блюхера, сумел порвать с братом и отцом и пришел сюда. И не жалел. Хотя Блюхер был скуп на ласковые слова, зато он не кичился, здраво рассуждал, прислушивался к советам и умел убедить спорщика. И вдруг какой-то Зиновьев! Не выйдет дело: ни он, Каширин, ни казаки не согласятся на замену Блюхера.
— Я возражаю! — заявил он. — Василий Константинович уже дважды побил Дутова. Казакам и хуторным это доподлинно известно, а вы, товарищ Зиновьев, для нас фигура, как бы сказать, новая.
— Вы беспартийный? — неожиданно спросил Зиновьев, и всем показалось, что он задал этот вопрос с целью застать Каширина врасплох.
— Я бывший казачий офицер и…
— Все понятно, — перебил Зиновьев.
— А вы дослушайте, — продолжал Каширин, немного волнуясь, — я, как вам сказал, бывший казачий офицер, но и коммунист с шестнадцатого года. Командовать я, бесспорно, умею лучше вас, а Блюхер, хотя и бывший унтер, даст мне десять очков вперед.
Спор грозил превратиться в серьезный разлад. Блюхер решил во что бы то ни стало предотвратить его. Но как? Либо уговорить Каширина, либо отказаться от своего намерения сдать командование Зиновьеву. Он обвел взглядом всех командиров, пытаясь прочесть в их глазах решение, но неожиданное появление Балодиса смутило его больше, чем вопрос о назначении главкома. Матрос вошел со смертельной усталостью на лице и тихо произнес:
— Отряд медленно отходит с боем… Елькин убит.
Слова Балодиса не сразу дошли до сознания Блюхера. Не придав им значения, он продолжал совещание и тоном, не допускающим возражений, сказал:
— Я пойду с челябинским отрядом навстречу отступающим, а товарищу Зиновьеву принять на себя командование. Помощником его назначаю Каширина. План наступления на Оренбург я разработал. Все свободны, а Зиновьева и Каширина прошу остаться.
Блюхеру не пришлось идти к Бузулуку — белочехи, заняв эту станцию, остановили на время свое наступление.
События заглушили в памяти Василия воспоминания о юных годах. Да и когда было предаваться воспоминаниям, если каждый день приносил такие неожиданности, что от них голова шла кругом. Жил бы он в Питере — может быть, и вспомнил учителя Ковалева, тетю Лушу, Настеньку и, пожалуй, купца Воронина. Но за несколько тысяч верст от столицы их лица стерлись в памяти, как медные монеты от времени. Впрочем, Блюхер не вспоминал и тех, с кем он сошелся незадолго до революции. Клавдия, Нагорный, Кривочуб казались уже далекими призраками. Быть может, потому, что Цвиллинг, Колющенко, Васенко и Елькин вытеснили их, а теперь их место уже заняли Томин, Шарапов, Каширин, Павлищев, именно те, с которыми ему приходилось ежедневно встречаться. Он думал не о прошлом, а только о настоящем и о тех, кто свершал это настоящее, а настоящее было столь же прекрасно, сколь и опасно. Ничего, что он, Блюхер, очутился сейчас в очень тяжелом положении. На юге и востоке — банды Дутова, на севере и западе — белочехи. «Нам сдаваться нет охоты!» — вспомнил он стихи, читанные Нагорным. Нет, не сдадимся, ведь нам о мировой революции думать надо. Жаль, невыразимо жаль, что гибнут лучшие командиры отрядов. Погиб не просто хороший парень Елькин, а коммунист и солдат революции, который в тюрьме и на каторге верил в победу рабочего класса. Но и кручиниться нельзя, надо идти на выручку осажденным. Времени в обрез, а тут еще Балодис в который раз пытается рассказать, как Елькина убил какой-то бородач. Не все ли равно, как убил, ясно лишь одно — нет больше Салки, чудесного товарища.
— Так что делать с этим гадом? — снова спросил как бы виновато Балодис у Блюхера. Ему казалось, что главком не простит ему смерти Елькина.
— Ты про кого?
— Толкую вам, что живьем схватил того гада, который застрелил Елькина в упор.
— Ну и что?
— Как что? Я его притащил сюда, а Кошкин связал.
— Напрасно тащил. Надо было давно разменять, — очнувшись от мыслей, скороговоркой произнес Блюхер.
— Так видать, что лихая собака, а с такой хоть и шерсти клок. Идейная контра! Его по кумполу стукнуть разочек — все выложит про белочехов.
Блюхер призадумался: «Почему бы не допросить этого пленника? Авось расскажет, с чего это чужаки подняли мятеж».
— Ну, приведи! — сказал он без особой заинтересованности и присел на большой, обтесанный дождями и ветрами камень.
Пленного привели. Он был одет в засаленный френч и чрезмерно широкие штаны, заправленные в сапоги. На голове непокрытая копна волос. Обросший светлой бородой, он напоминал священника, на которого надели полувоенный костюм.
— Развяжите его! — приказал Блюхер. — Никуда он не убежит.
Пленник размял онемевшие руки, — Кошкин не пожалел сил, чтобы связать его намертво, — и подобрал волосы назад привычным, очевидно, движением.
— За какие грехи попались, батюшка? — с усмешкой спросил Блюхер.
— Не вашего ума дело, — грубо и безбоязненно ответил бородач.
— Он нас за дураков считает, — вмешался Кошкин. — Пока лежал связанным, все норовил мне втолковать: дескать, дергают вас коммунисты за веревочку, как куклу, а вы руками и ногами машете.
— Мы с ним сейчас поговорим по душам. — В словах Блюхера прозвучала издевка, — мол, я тебе покажу кузькину мать.
— Я не духовного звания, поэтому беседа наша будет носить строго материалистический характер.
— Отставить дурацкий разговор!
— Не я его начал.
Блюхер смутился: по-видимому, Балодис захватил интересного человека, и надо умело допросить его. Он вспомнил, как в Москве следователь, придя в Бутырскую тюрьму, начал с того, что предложил ему, Блюхеру, папиросу, а потом стал задавать вопросы: откуда родом, как попал в Петербург, как очутился в Мытищах. Стоит ли повторять?
— Ваша фамилия? — не глядя на пленного, быстро произнес Блюхер.
— Ковалев.
Блюхер вздрогнул, как больной от укола неопытной медицинской сестры. Теплая волна, прокатившись от ног к голове, застряла в горле, вызвав тошноту. Он не ослышался. Руки слегка задрожали, вслед за теплой волной пробежал озноб, и кончики пальцев похолодели.
— Имя-отчество?
— Николай Николаевич.
«Это он, — пронеслось мгновенно в сознании. Скользнул по нему невидящим взглядом. — Зачем судьба меня с ним столкнула?»
— Какой партии?
— Эсер.
У Блюхера подкосились ноги. Сомнений не могло быть. Перед ним стоял тот самый студент, который некогда жил на Расстанной улице и занимался с ним и Настей. С неудержимой быстротой перед глазами пробежали картины прошлого. Листовки и прокламации… Рулоны драпа и велюра… «Эсер! Так вот почему он так хорошо знал историю убийства Гапона! Впрочем, может быть, он ни в чем не виноват. Мобилизовали его, дали винтовку в руки и сказали: «Стреляй!» Разве он знал, что Елькин золотой человек! Двенадцать лет маялся Салка в тюрьме и на каторге. Но ведь и Ковалева арестовали и выслали в Сибирь. Как могло случиться, что два революционера встретились как враги? Не лучше ли расспросить у самого Ковалева».
Сколько мыслей нахлынуло! И ни на одной Блюхер не мог остановиться. На счастье, удачно вмешался Кошкин. Состроив сладкую гримасу, он спросил:
— По своей воле, господин эсер, воевали аль приказали?
— По своей, по своей, — поспешно ответил Ковалев, как будто хотел скорей освободиться от назойливого допроса.
Блюхер обрадовался — Кошкин одним вопросом внес ясность. Теперь он уже знал, о чем спрашивать.
— Белочехи, — сказал он, — подняли мятеж против народа, а эсеры пришли им на помощь. Так ведь, гражданин Ковалев?
Ковалев убедился, что перед его носом не размахивают револьвером, что ему не угрожают казнью, и, подняв указательный палец, охотно ответил:
— Не против народа, а против красных, насильно захвативших власть.
— А, понятно! По-вашему, народ одно, а красные — другое.
— Совершенно правильно! — подтвердил Ковалев.
— Красные, значит, за царя и жандармов, а эсеры за народ?
— Я этого не сказал.
— А как же?
— Эсеры действительно за народ, но у них методы не такие, как у красных. Мы против террора, мы против подавления человека-индивидуума… Впрочем, вы меня не поймете и будете извращать мои же слова.
— Почему же? Мы всё поймем. Азбуку изучали в церковноприходской школе, а революционную теорию в тюрьмах. — В глазах Блюхера зажглись огоньки, голос его стал пружинистым. — Я, к примеру, учился в Питере у одного студента на Расстанной улице. Учил он меня правильно, но когда рабочие стали строить свое государство, то этот студент отрастил себе бороду и пошел войной против ученика. Я думал, что студент настоящий большевик, а на поверку оказалось, что он эсер и расстреливает вкупе с белогвардейцами и белочехами старых рабочих. Вы латынь, наверное, изучали, гражданин Ковалев? Вспомните золотую поговорку: «Ex nihilo nihil!» Вы когда-то спросили у одного парня, которого учили: «Ты кого дерьмом обозвал: меня или царя?» Парень не ответил, а сейчас я вам отвечу: и вы и эсеры — мусор, который надо выбросить на помойку. Вы просто сволочь и разговор с вами окончен…
У Блюхера от злости побелели губы. Взволнованный, он поднялся с камня, на котором сидел, и пошел навстречу закату. Ему хотелось вернуться, подойти к Ковалеву и дать ему пощечину, но противно было взглянуть на лицо с бородой. Он только обернулся, и голос его, обычно гибкий, прозвучал хрипло!
— В расход его!
Надежда Илларионовна рассуждала логично: Дутов пытается прорваться к Оренбургу, но осажденные сопротивляются. Значит, нужно сломить это сопротивление изнутри. Как это сделать? Главаря их уже нет в живых, — гибель Цвиллинга дело ее рук, — но его сменил Яковлев. Вот его-то и надо убрать или подкупить. За день у нее возникали десятки планов, коварные, хитроумные, сложные. Поди реши, какой из них легче всего осуществить…
После бессонной ночи она с трудом поднялась с постели, и именно в ту минуту ей пришла в голову новая мысль. Накинув на себя халат, она стала швырять из спальни в другую комнату подушки, одеяла, платья, туфли, потом вбежала в столовую, опрокинула кресла и стулья, разбила несколько чашек и блюдец. Как одержимая она носилась по комнате, спотыкаясь и наступая на подушки, шепча про себя со злостью слова: «Вот что они натворили!» Завершив разгром своей квартиры, она оделась и побежала в Ревком. Прохожие смотрели ей вслед: одни с сочувствием, предполагая, что с человеком стряслась беда, другие с усмешкой, — дескать, женщина дошла, как говорят, до ручки.
Проникнуть в кабинет к председателю Ревкома не представляло труда. Надежда Илларионовна, приняв обычный вид, вошла в комнату, в которой сидели несколько человек. Ее настойчивый взгляд упал на того, кто сидел на председательском месте, положив тяжелые руки на высокие подлокотники. Она не знала, что это ловкий авантюрист Страхов, сменивший Яковлева. Волнистая копна волос, широко раскрытые карие глаза с блеском и гордо выделявшаяся горбинка на носу невольно привлекали внимание.
— Сядьте!
Кто-то уступил Надежде Илларионовне стул. Подобрав театральным жестом выбившиеся из-под полушалка пышные волосы, она дружелюбно взглянула на Страхова и спокойно сказала:
— Я понимаю, что вам не до меня и не до обид, незаслуженно нанесенных мне вашими красноармейцами. Я помню прекрасные слова вашего предшественника Цвиллинга о революционной законности. Очевидно, и вы не собираетесь ее нарушать. Мне вовсе не хотелось бы выглядеть в ваших глазах дамочкой, у которой задрожало сердце — ах-ах! — лишь оттого, что к ней в дом ворвались несколько красноармейцев. Я не собираюсь писать жалоб, — голос ее стал более гибким, — но я была бы удовлетворена, если бы вы лично взглянули сейчас на мою обитель. — Надежда Илларионовна поднялась, давая этим понять, что не он, председатель Ревкома, а именно она считает разговор законченным. — До моего дома пять минут ходьбы.
То ли в ее последних словах Страхову почудилось прямое приглашение, то ли ему понравилась Надежда Илларионовна, но, к удивлению остальных членов Ревкома, он тоже поднялся и решительно сказал:
— Я пойду с вами и сам посмотрю.
Когда Надежда Илларионовна, сопровождаемая Страховым, вышла из кабинета, один из оставшихся возмущенно сказал:
— Можете меня судить, но как не верил Яковлеву, так не верю и Страхову.
Надежде Илларионовне просто повезло. Где было ей знать, что этот человек, любивший власть над людьми, пришел к выводу, что дутовцы рано или поздно повесят всех большевиков на телеграфных столбах и его своевременный переход на сторону белоказаков, как и бегство Яковлева, может принести ему выгоду. Глядя на беспорядок в комнатах, он с поддельным сожалением сокрушался, обещая разыскать и наказать виновников, но не спешил уходить. Очутившись лицом к лицу с Надеждой Илларионовной, он обхватил ее сильными руками.
Как ни старался Блюхер забыть человека со светлой бородой и в засаленном френче, которого он приказал расстрелять, но ему это не удавалось. Если этот образ на минуту все же заволакивался дымкой, то еще рельефнее возникал другой Ковалев. Тот был в студенческой куртке с золотыми наплечниками, живой, энергичный. Глаза умные, глянут — все высмотрят. «Мне хоть шестнадцать было, а я его понимал, тянулся к нему, завидовал знаниям, уму». Блюхер не мог и не хотел примириться с мыслью, что человек в студенческой куртке и человек в засаленном френче одно и то же лицо, ибо молодой Ковалев сыграл в его жизни хорошую роль, рано толкнул на революционный путь, а этот Ковалев — враг и убийца Елькина. Казалось бы, это самоубеждение должно было успокоить Блюхера и восстановить его душевное равновесие, но из глубины сознания зримо возникал и выделялся, как жирное пятно на воде, образ Ковалева с бородой, заслоняя студента Ковалева.
Блюхер был недоволен собой, его раздражало ненужное малодушие, назойливые мысли, от которых он не мог так просто избавиться, и только возвратившийся Балодис заставил его прийти в себя.
— Три сбоку, и ваших нет, — с грубой похвальбой сказал Янис, потирая руки, словно стряхивая с них хлебные крошки. — Даже не пискнул.
Блюхер пропустил мимо ушей слова Балодиса. Если бы они относились к незнакомому человеку, он сам расспросил бы, как Балодис выполнил его, Блюхера, приказ, но именно о Ковалеве ему неприятно было слушать. «Боюсь сознаться, — думал он, уличая самого себя, — что во мне зашевелились какие-то нелепые мысли и они могут поползти, как черные тараканы из щелей». Он отчетливо вспомнил и даже услышал, — да, да, услышал сквозь гул времени, — как тараканы копошились на кухне за сундуком, на котором он спал в доме купца Воронина, их возню до рассвета и причитания Луши: «Свят, свят, не вскочи на шею». Но совершенно неожиданно он приобрел ту твердость, которая шагала рядом с ним с того дня, когда его посадили в одиночную камеру Бутырской тюрьмы.
— Позови-ка Каширина! — приказал он решительным тоном.
Николаю Дмитриевичу Блюхер понравился с первой минуты их встречи. Именно в отряде Блюхера он убедился в своей правоте и написал брату, советуя последовать его примеру и привести свой отряд. «Здесь каждый знает, за что он воюет с Дутовым, — писал он Ивану, — здесь коммуниста крепко уважают, с него берут пример рядовые казаки». Иван ответил, что «всему придет свое время, но сейчас еще рано идти на поклон к Блюхеру». Каширин прочитал ответ брата Блюхеру, но тот не рассердился, а с простодушной усмешкой заметил: «Созреет яблочко, само к ногам упадет». Николаю Дмитриевичу нравилась в Блюхере решительность, с которой он бросался в бою на врага, а в спорах — на противника.
— Что хорошего скажешь, Василий Константинович? — спросил он, подойдя к нему вплотную.
— Степь уж больно хороша, — ответил Блюхер и надул щеки, отчего его простецкое лицо стало удивительно приветливым.
— Уж так и поверю, что звал ты меня только для того, чтобы сказать о степи, — резонно заметил Каширин.
— Эх ты, Фома неверный! Спросил ты, что хорошего, — я тебе и ответил, что степь хороша. Спросил бы про Оренбург или Яковлева — я бы другое сказал. Уж если очень хочешь знать, то скажу прямо — никак ума не приложу, почему Яковлев не пытается установить с нами связь и разом выступить против дутовцев. Придет время — разберемся в этом деле, а сейчас я думаю послать в Оренбург Балодиса. Пусть переоденется казаком, научи его вашим острым словечкам, чтобы отбрехался, если дутовцы его перехватят.
На другой день Янис, выряженный казаком, покинул лагерь. Кошкин, прощаясь с ним, напутствовал:
— Ты того, гляди в оба. Чуть что — на коня и ходу.
Балодис не принадлежал к сентиментальным людям. Ему свойственна была замкнутость, которую порой принимали за суровость, но все знали, что под тельняшкой этого матроса бьется смелое сердце. С фанатичной преданностью он думал всегда о Блюхере и Кошкине, но сказать об этом вслух не рискнул бы. Он не умел ни притворяться, ни льстить, все его поступки носили прямолинейный характер, и эта черта больше всего подкупала и Блюхера и Кошкина. Балодис не мог солгать и презирал того, кто пытался изворачиваться перед главкомом, боясь осуждения, а может быть, и наказания. Убедившись в том, что Кошкиным руководили честные намерения, когда тот протестовал против предложения главкома назначить Балодиса порученцем, он простил ему все обидные слова, сказанные по его адресу.
Выслушав напутствие Кошкина, Балодис скупо улыбнулся, надвинул казачью фуражку, как бескозырку, на правую бровь и с места в карьер помчал коня к Оренбургу. Без приключений он добрался до города, убедившись в том, что при желании дутовцы могли бы ворваться в Оренбург, но ими владела нерешительность.
— Зачем тебе Яковлев? — подозрительно спросил в Ревкоме тщедушный человек, одетый в железнодорожную робу.
— Если спрашиваю, стало быть, у меня к нему дело.
Железнодорожник подумал и ответил:
— Иди, казак, откуда пришел.
— А ты, сморчок, что тут делаешь? — спросил презрительно Балодис.
Железнодорожник вспылил:
— Иди отсюда, казачья кукла.
— Кто ты такой, чтобы меня гнать?
— Член Ревкома, — ответил кипятясь железнодорожник.
— Тогда мне оставаться в таком Ревкоме нет резону, — с обидной снисходительностью сказал Балодис. — Вернусь к Блюхеру и доложу: так, мол, и так, из Ревкома меня прогнали, а сами сидят и ждут, пока Дутов их передушит, как кот мышей.
Повернувшись к железнодорожнику спиной, он медленно направился к выходу и тотчас услышал позади себя голос:
— Погоди, казак, ведь как нескладно говоришь. Ты бы сказал, откуда пришел, зачем, а то сразу выражаешься.
Балодис вернулся ленивой походкой, говоря на ходу:
— Я бога и мать не вспоминал, а сказал то, что есть. Не вышел ты, брат, ростом, ну прямо как грибок-сморчок.
— Да ладно, — махнул примирительно рукой железнодорожник, — погорячились. Садись, рассказывай!
Балодис сел, снял с головы фуражку, с которой не мог свыкнуться, положил на стол. Оглядев пытливым взглядом железнодорожника, он подумал, что это не тот человек, который способен к работе в Ревкоме. «Стрелку на путях перевести или гаечку подвинтить — это он может, а в таком деле — простак».
— Ты бы мандат у меня спросил, — с издевкой посоветовал Балодис, — может, я кум Дутову или сват, а то шарахаешься из стороны в сторону; сперва погнал, а теперь подлизываешься.
Железнодорожник весь внутренне подобрался, и на лице у него выступили белые пятна.
— Сплоховал я, — искренне признался он, — поздно спрашивать.
— Теперь ты все понял, — с удовлетворением сказал Балодис. — Мандата у меня, голубчик, нет. И никакой я не казак. Сказал мне Блюхер переодеться и наказал: «Разведай, почему Яковлев не выступает против Дутова. Ведь мы с двух сторон можем из него блин сделать».
— Блюхер понимает, что говорит, но где ему знать, что Яковлев, сукин сын, утек к белякам.
Слова железнодорожника привели Балодиса в замешательство.
— Утек, — повторил железнодорожник, — а до того все бубнил: «Сил у нас мало, будем дожидаться, пока Блюхер нас не вызволит». Теперь у нас Страхов. Тоже сумнительная личность. Каждый сам по себе печалится, а помочь ничем не можем.
— Как это не можем? — Кулак Балодиса опустился на стол. — Ты коммунист?
— Так я ведь член Ревкома, — развел руками железнодорожник.
— Ну и что? Ты себя коммунистом считаешь, а на поверку получается, что хуже беспартийного.
— Это почему же?
— Потому что миришься, если кто на белое говорит черное, а на черное — белое.
— Толмачили мы Страхову, а он как вертихвостка.
— Как тебя звать?
— Букин.
— Сколько вас в Ревкоме человек?
— Восемь, со Страховым девять.
— Кто его поддерживает?
— Военком города, Лядов ему фамилия, из усть-уйских казаков.
Букин доверчиво отвечал Балодису на вопросы, решив, что посланец Блюхера поможет им отстранить Страхова и повернуть колесо событий. Незаметно для себя он размотал сложный и запутанный клубок взаимоотношений Яковлева, а теперь Страхова со всеми членами Ревкома и даже не утаил истории прихода «одной ехидной гражданочки», которая-де сумела охмурить Страхова.
— Он теперь у нее пропадает все дни и ночи, она его, как собачку, на цепочке водит, а на Ревком что Страхов, что Лядов смотрят, как на…
— Не выражайся, — заметил ему серьезно Балодис. — Ты, Букин, пройдись-ка лучше со мной по городу, покажи, где Лядов, где та гражданочка, у которой Страхов собачкой служит, но только без шуму. Понятно?
Букин кивнул головой.
Перед выходом на улицу Балодис положил свою тяжелую руку железнодорожнику на плечо и спросил:
— Ты почему мне веришь?
Букин бесхитростно ответил:
— Я так понимаю: если ты заодно со Страховым, тогда зачем выпытывал у меня, а если ты против Страхова, значит, подсобишь Ревкому. Расчет немудреный.
— Правильно рассудил.
Расхаживая по знакомым улицам города, Балодис вспомнил, как он ворвался первым в Оренбург, как формировал санитарный отряд, и уж понятно красавицу Надежду Илларионовну, у которой он обнаружил подозрительного племянничка, но говорить об этом Букину не стал. Ему очень хотелось очутиться возле особняка Надежды Илларионовны и даже заглянуть к ней. Она вряд ли узнала бы в казаке, обросшем щетиной, матроса, внушавшего ей страх своим огромным маузером. В голове у него давно созрел план действий, но он не собирался посвящать в него Букина. В то же время он не думал над тем, как Блюхер оценит его действия, ибо считал, что если ему удастся убрать Страхова и Лядова и выступить с боем против дутовцев, то его, как победителя, главком не осудит.
Балодис принадлежал к тем людям, которые искренне были убеждены в том, что в дни революционных событий нельзя думать о музеях, искусстве и даже о любви. Увидя как-то афишу, на которой большими буквами было написано: «Коварство и любовь». Драма Фридриха Шиллера», он сказал Кошкину: «На хрена это показывать? Коварства у пролетариата нет, а до любви теперь не время».
Букин безмолвно вел Балодиса по городу. Матрос послушно шел, внимательно присматриваясь к тому, что происходит на улицах, и не заметил, как они очутились на Безаковской улице. На углу Чистяковского переулка Балодис невольно вспомнил, что он вблизи особняка Надежды Илларионовны.
— Ты куда привел меня? — посмотрел он хмуро на Букина.
— К гражданочке, у которой прохлаждается Страхов.
Балодису стоило немалых усилий, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Вот и знакомая цепочка, знакомый звон колокольчика… Открылась дверь, на пороге показался человек лет сорока с давно зажившим шрамом на лбу.
— Он самый, — шепнул Букин, прячась за спину Балодиса, и ткнул его локтем в бок.
— Товарищ Страхов, я к вам по очень важному делу, — твердо произнес матрос и тут же занес ногу за порог.
— Я принимаю только в Ревкоме, — огрызнулся Страхов. — Кто вам позволил сюда прийти? Убирайтесь отсюда!
— Зачем же так горячиться? Разве простому казаку не дозволено погуторить с начальством? — с притворной наивностью улыбнулся Балодис, растягивая слова, как учил его тому Николай Каширин.
— Я вам говорю по-русски: уходите, черт побери!
С лица Балодиса быстро сбежала улыбка, и он, скривив рот, резко сказал:
— Никуда я не уйду.
Страхов попытался закрыть дверь, но мешала нога матроса. Тогда предревкома двинулся вперед, намереваясь грудью оттолкнуть матроса, но не рассчитал своих сил. Матрос отбросил его и вошел в коридор.
— Давай сюда, Букин! — кликнул он железнодорожника и тут же заметил, как рука Страхова потянулась к кобуре. Поздно! Раздался выстрел, и Страхов повалился на коврик. Из столовой донесся истерический крик. Бледный Букин, боясь выдать свое волнение, сжал кулаки, по-видимому жалея, что привел незнакомого казака, а Балодис, переступив через безжизненного Страхова, твердым шагом вошел в столовую, а оттуда в спальню. На тахте с неподвижно раскрытыми, как у куклы, глазами лежала Надежда Илларионовна. На лице ее горел гневный румянец.
— Вставай, сука! — грубо крикнул Балодис. — Не узнаешь?
Гневный румянец сменился тусклой бледностью. Смелость мгновенно уступила место пугливости. Она медленно поднялась и, не спуская ног с тахты, посмотрела на незнакомого казака потусторонним взглядом.
— Получай по заслугам! — бесстрастно произнес матрос и выстрелил в нее два раза. Потом он спрятал маузер и как ни в чем не бывало сказал Букину: — Я эту гадюку давно знаю. Идем в Ревком! Через полчаса позови всех. Про Страхова молчок.
За день Балодис успел очень много. Днем он с помощью членов Ревкома арестовал военкома Лядова. По скромным подсчетам, в городе оказалось полторы тысячи бойцов, вооруженных винтовками. На заседании Ревкома Балодис заявил, что через двадцать четыре часа начнется наступление, и направил к Блюхеру двух ходоков разными путями, но с одинаковым донесением.
Блюхер, получив донесения почти одновременно, стал торопить Павлищева, Каширина, Калмыкова. Ему понравилась расторопность Балодиса, его напористость и смелая расправа с изменником Страховым.
Ночью Павлищев повел свой полк в наступление на дутовцев. Сблизившись с ними, он преднамеренно стал отступать, заманивая их вглубь, меж тем как Каширин с одного фланга, а Калмыков с другого врезались в ряды противника. Над полем боя взошла луна, в ее молочном свете казаки казались сказочными рыцарями, перенесенными с театральной сцены, на которой разыгралась баталия. Калмыков с горсткой храбрецов появлялся то в одном, то в другом месте. Один из казачьих офицеров сумел подкрасться к нему, но Калмыков вовремя заметил его и с перекошенным от злости и свирепости лицом вытянул правую руку с зажатой в ней шашкой. Описав чуть ли не с земли дугу, он с силой опустил шашку на плечо офицера. Со стороны казалось, что он ударил колуном по вбитому в бревно клину. Офицер развалился до пояса. Белоказачья лава дрогнула и подалась назад. Из города в это время повел наступление Балодис. Сломив сопротивление врага, он бросился вперед, увлекая за собой бойцов. В горячей схватке никто не заметил, как переодетый матрос в лихо надвинутой на правую бровь фуражке медленно сполз с коня и безжизненно свалился наземь.
Дутовцы отчаянно сопротивлялись, но, очутившись меж двух огней, вынуждены были бежать в степь.
Утром, когда первые лучи поднялись над седыми водами Яика, отряд Блюхера беспрепятственно вошел в город.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Коробейников загрустил. Избегая оставаться с Томиным наедине, чтоб избежать разговора о Груне, который неминуемо привел бы к спору и укорам, Савва проводил время на стороне: то побродит по породу, то посидит возле казаков, то к Русяеву заглянет. Но к Русяеву зачастил и Томин, и теперь Савве сюда отрезана дорога.
Чем мог Русяев приворожить Томина? Ростом он был велик, и кто-то дал ему кличку Голиафа. Все его девятнадцать лет были начинены неистребимым оптимизмом и неуемной любовью к жизни. Мечтательный от природы, он, сидя с Томиным в штабе и попивая чаек из солдатской кружки, увлекательно рассказывал, как сложится жизнь людей в будущем, и Томин, который изучал марксизм по количеству выпущенных им пулеметных лент, уверил себя в том, что Русяеву нет цены.
— Да, — согласился он, выслушав рассказ, в котором были морские дали, капитанские рубки, бинокли и кителя, смешанные в одну кучу, — видать, ты здорово учился и понимаешь, что и как и прочее такое. Ты, брат, агитатор — первый сорт. Люблю тебя, Витька, за правильный подход. Придет время — Блюхеру тебя представлю. Он тебя признает.
Не с пьяных глаз говорил Томин лестные слова Русяеву. Тот нравился ему тем, что внес в работу штаба деловую обстановку, был аккуратен, и уж главным образом своим богатырским ростом и силой.
— Не Виктором надо было тебя окрестить, а Алешей Поповичем.
От Саввы Коробейникова Томин все больше отдалялся, но, встречая его, невольно вспоминал сестру, сожалея, что не увез ее.
— Посельщик один оказывал, будто видел Груню на воле, — соврал он, столкнувшись с ним на улице, — так что не убивайся.
Савву подмывало расспросить про неведомого казака-посельщика и броситься на розыски, но он только жалко улыбнулся и пошел своей дорогой.
На другой день после этой встречи Русяев доложил Томину:
— Коробейников сбежал.
— Как это сбежал? — недоверчиво переспросил Томин.
— Никто не знает, куда девался.
— Человек не иголка, отыщется, — отвел Томин неприятный ему разговор и подумал про себя: «Жалко мне Савву, от одного берега отстал и к другому не пристал». Он считал, что Савва отправился снова в Кочердык искать Груню и со дня на день заявится, а сейчас все его мысли были поглощены событиями, неожиданно развернувшимися вблизи Троицка.
…Недалеко от станции, в песчаной выемке, обожженной горячим солнцем, показался черный круг, из которого, пыхтя, вылетали завитки дыма. Пристально следивший за далью Баранов выполз из укрытия и замер — на Троицк шел паровичок с двумя платформами. В ту же минуту раздались ружейные залпы. Баранов понял, что если паровичок прорвется сквозь цепи бойцов, укрывшихся в высокой траве, то белые захватят Троицк и в городе начнется резня. Он готов был открыть ответную стрельбу, но не рисковал выдать себя и бойцов. И хотя помощнику Томина нельзя было отказать в сообразительности, но именно сейчас, когда надо было безотлагательно принять решение, он растерялся и не знал, что делать. Между тем выстрелы с платформ учащались: то ли противник знал, что его подстерегают, то ли для устрашения красных он заранее открыл огонь, намереваясь внести в их ряды панику. До паники и впрямь было недалеко — неожиданная стрельба, да еще с железнодорожных платформ, всполошила всех: казалось — мчится бронепоезд и перед ним, понятно, не устоять. Издалека выстрелы напоминали трескотню несметной стаи кузнечиков в ковыле.
Пока Баранов непростительно долго думал, боец, — как позже оказалось, в страхе выполз из цепи, пятясь назад, а потом, пригибаясь вровень с ковылем, опрометью побежал, — примчался в Троицк прямо в штаб и ввалился в комнату к Русяеву.
— Ты что, ошалел? — пригрозил начальник штаба.
— Беляки прорвались на бронепоезде, — выпалил одним духом боец.
Русяев не стал расспрашивать, а выбежал из штаба на розыски Томина.
— Как же это Баранов так сплоховал, едрена палка? — рассердился Томин и хлестнул плеткой по голенищу сапога.
— Сейчас не до расспросов, — несколько успокоившись, сказал Русяев. — Хорошо бы шараповской сотне ударить с тыла.
— Молод учить, — бросил без объяснений Томин и все же добавил: — Прикажи Шарапову за пять минут оседлать коней.
Русяев обиделся, — дескать, ты согласился со мной, зачем же было укорять в молодости, — но послушно пошел искать командира эскадрона.
Через полчаса шараповская сотня притаилась за станционным пакгаузом, между тем как Томин с другой сотней ускакал в тыл, а оттуда повернул обратно к городу, но уже вдоль железнодорожного полотна. Он зло хлестал коня, вымещая на нем неудачу Баранова, и конь, словно понимая недовольство хозяина, стелился по ковыльному полю.
Баранов, прозевав паровичок с платформами, совсем растерялся, когда увидел скачущих казаков. Теперь он твердо решил открыть огонь по неприятелю, но оторопел, узнав в передовом казаке самого Томина. Поднявшись во весь рост, он устремился к железнодорожному полотну и успел подбежать в тот момент, когда Томин поравнялся с первой цепью бойцов, но Томин лишь бросил осуждающий взгляд на Баранова и проскакал мимо.
План белых был авантюрным. На двух платформах сидели сто солдат. Они понадеялись на то, что красные струсят. Но едва паровичок остановился у платформы и солдаты соскочили наземь, как налетевшая томинская сотня искромсала всех начисто. Шарапову даже не пришлось обнажить шашки.
Кошкину трудно было примириться с мыслью, что Балодиса уже нет в живых. Сокрушался по нем и Букин.
— Допек он меня до крайности. Была бы у меня силенка — турнул, а я, видишь, больной легкими. Потом пригляделся к нему, понял, что он настоящий человек. Толково сделал, что Страхова убрал. Вот насчет гражданочки перехватил малость, надо было только пригрозить Чекой.
Кошкин в свою очередь подробно рассказал Блюхеру о находчивости Балодиса.
— На поверку-то он оказался молодцом, — с удовлетворенной гордостью произнес Блюхер. — Из порученца и адъютанта стал командиром. Никого не побоялся, потому сердце подсказало, что идет верным путем.
Все это было сказано в поучительном тоне, а на деле хотелось поплакать так, как плачут дети, когда они начинают понимать невозвратимость какой-либо утраты. Блюхер открывал в самом себе новые стороны: он возмужал и стал сильней духовно. Мир, в котором он жил, расширился. И люди разные — лицом и характерами, не сразу их разгадаешь. «Дай человеку волю — он покажет, на что способен: горы своротит, все переделает, себя сожжет, как свечу, с двух концов, но оставит след, по которому другие пройдут с чувством благодарности». Оценив так мысленно Балодиса, Блюхер невольно подумал о себе: жил, дескать, в Барщинке крестьянский мальчуган, а с годами вырос в главкома, которому доверили тысячи жизней, и теперь он в ответе за них. Большая честь и большая ответственность. Закрыв глаза, он еще долго, может быть, размышлял бы, если бы не голос Кошкина, бесстрастный, но деловой, который вывел его из задумчивости:
— Донесение из Бузулука.
Блюхер внимательно прочитал. Лицо его не выразило ни радости, ни озабоченности: то ли он скрыл свое настроение, то ли не считал нужным делать поспешных выводов. Из Бузулука сообщали, что белочехи приостановили свое наступление. Зато по степям и станицам рассыпались дутовцы, а под Челябинском им удалось даже сомкнуться с белочехами, образовав единый фронт. Блюхеровскому отряду грозила опасность, и надо было безотлагательно принять решение. Оставаться в Оренбурге не имело смысла, но куда двинуться — Блюхер пока не знал.
— Единственный путь открыт на юг, — убеждал на совещании Зиновьев. — Дойдем до Илецка, а оттуда вдоль железной дороги направимся на Ташкент.
Николай Каширин и Калмыков тактично выжидали, намереваясь узнать план Блюхера, а тот молчал.
— Не терять времени, — торопил, волнуясь, Зиновьев. — Если дутовцы начнут наступать, а в этом нет сомнения, то придется принять бой, и мы неминуемо потеряем сотни, а может быть, и тысячи бойцов. Уходя же на Ташкент, мы сохраним боеспособную армию.
Калмыков не выдержал:
— Чего ты молчишь, главком?
— Думаю, — ответил спокойно Блюхер.
— Долго будешь думать — людей погубишь, — бросил Зиновьев.
Блюхера взорвало, словно ему дали пощечину.
— Был у меня дружок в Казани на заводе, он всегда повторял: «Спеши блоху ловить, а вообще-то думай, иначе деталь запорешь». Люди не детали, тем более надо подумать. Я тебя очень уважаю, Георгий Васильевич, но в военном деле позволь уже нам, — и, обведя рукой, остановился на Каширине и Калмыкове, — решать это дело.
— Это не военный вопрос, а политический, — возразил Зиновьев.
— Мы не беспартийные, сами разбираемся.
Так Блюхер еще никогда не разговаривал. Он всегда был готов уступить первенство, желая подчеркнуть, что не кичится своим положением и не хочет подавлять людей авторитетом командира. Всем было памятно, как он, собираясь повести отряд на Бузулук, оставил главкомом Зиновьева, но сейчас в его резком ответе сквозила неуступчивость.
— Придется решать в партийном порядке, — сказал Зиновьев, считая, что склонит этим Блюхера на свою сторону.
— Ну вот что, — решительно заявил Блюхер. — Мой план иной. Я предлагаю пробиться к Белорецку, а оттуда через Самаро-Златоустовскую дорогу к частям Красной Армии.
Зиновьев возразил. Поединок шел между ними, остальные заинтересованно слушали.
— На юге такие же части Красной Армии, как и на севере. В Ташкент мы пройдем беспрепятственно, а в Челябинск придем с раскровавленной рожей.
На минуту у Блюхера закралось сомнение: может быть, Зиновьев прав, зачем лезть на рожон с десятитысячным отрядом против бесчисленных дутовских банд и белочехов? Но тут же трезвый голос подсказал: на пути в Ташкент банды басмачей, рабочих днем с огнем не сыскать, да и казаки не захотят идти в чужие края. То ли дело Белорецкий завод, Тирлянский и другие. Повсюду рабочие, они вольются в отряды и пополнят их.
— Наш спор решат сами казаки и бойцы, — заключил Блюхер. — Созовем народ и спросим у него, куда идти.
Зиновьеву пришлось согласиться.
Выведенные за город к реке Урал отряды томительно дожидались главкома. Верхом на жеребце Блюхер подъехал к бойцам и, медленно пробираясь сквозь толпу, зычным голосам бросил слова:
— Нас ждут жестокие бои, трудности… Куда идти? Мы с Кашириным и Калмыковым решили пробиваться на север, а Зиновьев — на юг, в Ташкент. Кто с нами — становись к реке, кто с Зиновьевым — к городу.
Толпа покачнулась, как гигантская волна. Блюхеру показалось, что она двинулась к Уралу, потом будто к городу. В возникшем шуме пронесся залихватский свист — это Каширин с Калмыковым, подняв на дыбы коней, поскакали к реке, а за ними все полки. Зиновьев с позеленевшим от злости лицом увел батальон матросов в город. Потом уехал Каширин с полками. Плац опустел, и на нем остались двое: Блюхер с Кошкиным.
Трудный вопрос был решен.
Иван Каширин жалел в душе, что не поехал с братом к Блюхеру, но не хотел открыто признаться. В доме Ульяны он чувствовал себя чужаком: сын ее, Евсей, уехал с Николаем, а он, Иван, с отцом остались, словно прихлебатели, у старой казачки.
— Может, домой вернемся, Ванюша? — осторожно предложил старик, опасаясь разгневать сына.
— Туда нам, батя, дорога отрезана. Я вот думаю, не выступить ли нам на Белорецкий завод.
От Верхне-Уральска до Белорецкого завода каких-нибудь пятьдесят верст, а добраться к нему не так просто. Дорога, правда, гужевая, но она петляет среди Уральских гор то вверх, то вниз, утомляя пешего и конного. Самая ближняя к поселку гора Мраткина, и когда с ее вершины сползает снег, пробиваясь в долины стремительными потоками, — приходит ранняя весна. В низинах и балках появляется молодая травянистая прядь, прилетают стрижи и не сегодня-завтра начнется первое цветенье. Сейчас в Белорецком заводе стояло уже лето.
— Ить куда тянет, — ухмыльнулся старик Каширин.
— Сказывали мои разведчики, будто Николай с Блюхером туда идут. С ними казак Калмыков с Богоявленского завода. Может, взаправду сгрудиться, сподручней воевать будет.
— Богу молись, а к берегу гребись, — заметил старик.
Эти слова дошли до сердца Ивана.
— Едем, батя! — решительно сказал он.
Иван скрыл от отца, что накануне состоялся сход казаков и бойцов, на котором ему пришлось искренне признаться в том, что из-за отсутствия боеприпасов полкам грозит гибель.
— Гуторить буду мало, — сказал он жестким и невеселым голосом, — белые заняли Челябинск, Курган, Троицк, Златоуст. К ним стекается вся буржуазная сволочь. И конный и пехотный полки дрались на славу, за что объявляю благодарность, но без патронов врага не усмиришь. Посылал я людей в Уфу — не дошли, кругом белые. Посылал к брату, к Блюхеру. У них большая сила, опять же вооружение. Николай Дмитриевич наказал передать, чтобы мы шли в Белорецкий завод и дожидались его.
— Далече завод? — спросил один из казаков.
— В горах, — ответил Каширин. — Верст пятьдесят.
— Идти будем с боями?
— Надо передвигаться тайком.
Начались споры: «Дадим бой, а там увидим», «Пошто людей губить?»
Какая-то сила извне подтолкнула Каширина. Он сразу преобразился, потребовал прекратить споры.
— Довольно горячиться! Кто за то, чтобы оставить Верхне-Уральск без боя и отойти в Белорецкий завод, — поднимите руки!
— Все! — заголосили казаки.
Иван Дмитриевич всю ночь напролет ворочался на худой кровати. Он несколько раз вставал, шел босиком к скамье, на которой стояла бадейка с водой, черпал кружкой и, прильнув к ней запекшимися губами, жадно выпивал залпом. Уж очень не хотелось ему уходить из Верхне-Уральска, но обстановка заставляла.
Спозаранок он поднялся, обулся и стал торопить отца:
— Поедем верхами, батя.
Старик обрадовался. Кошевка порядком ему надоела, да и хотелось показать себя перед казаками, — дескать, не стар я и сгожусь в бою. Слегка покачиваясь в седле, он крепился, и по всему было видно, что в нем еще осталась старая казацкая закалка.
Путь от Урала до Белой петлял среди синих гор, окрашенных черной каймой, а на горах — стройные стрелы вонзившихся в небо сосен. Каширин, как и другие станичники, не раз слышал про белорецких железодельцев и их тоскливую жизнь:
Не себе ли цепи мы куем, Не в Сибирь ли во цепях пойдем?Приходилось старику Каширину в молодости встречать верблюжьи караваны, увозившие железо в Туркестан и Бухару. Да и в Троицке на Меновом дворе можно было видеть круглое, сортовое, угловое и обручное железо. Как его делали — не знал и потому не ценил рабочего труда.
Впереди Дмитрия Ивановича ехала сотня Енборисова. Бывший хорунжий, на жеребце чистых донских кровей, поравнявшись с Иваном Кашириным, сказал, как бы советуя:
— На рожон лезем. Этак к самому атаману в пасть попадем. Не повернуть ли на Владимирку?
Енборисов намекал на старинный каторжный тракт, который шел через таежную Сибирь на туманный Сахалин.
Каширин удивленно взглянул на Енборисова и с наигранной наивностью спросил:
— Куда заманиваешь?
Хорунжий подумал и тоскливо ответил:
— Степь мне по душе, а горы…
Не так просто было заглянуть Енборисову в душу. Он никогда и ни с кем не делился, а если журил начальство, то при этом говорил: «Научимся — все по-иному пойдет». И только самому себе твердил: «Советская власть, а со мной не посоветовались». В Белорецком заводе он никогда не бывал, но не сомневался в том, что между его сотней и рабочими обязательно возникнут споры и надо будет убедить казаков не ходить с ними по одной стежке.
Близок уже завод. Может быть, близко и счастье, за которым гонится Енборисов. Но что такое счастье? Птица, которую надо поймать ночью чистыми руками. «Поймаю, — отвечал самому себе хорунжий, уверенный в своей игре, — и буду наслаждаться». Но сейчас, перед Иваном Кашириным, он дисциплинированный командир сотни, который готов в любую минуту ринуться в атаку и схватиться с дутовскими бандами.
Над Белорецким заводом опустился вечер. За вершиной горы Мраткиной догорал малиновый закат. На фоне пылающего неба горы казались разрисованными китайской тушью на пурпурном бархате. Закат тускнел, тускнела и вода в зеркальном пруду, лишь у сливного моста она, завихряясь, бурлила и шумела. В воздухе плыла заводская гарь — шла плавка металла. Завод старый, прокопченный. Другой — сталепроволочный «Шишка». В самом Белорецке два поселка: один — на горе, с усадьбой хозяев завода, с церквами и базаром, другой — малый, около «Шишки» внизу. К югу — дорога в горы на Магнитную станицу, на восток — пыльный Верхне-Уральский тракт, а с севера и запада вплотную надвинулись горные массивы.
В этот час Енборисов незаметно вышел из чайной и, крадучись между подводами с сутункой, из которой прокатывались железные кровельные листы, стал пробираться на Тирлянскую улицу к косогору, на котором стоял домик, окруженный палисадом. Хорунжий не мог забыть того вечера, когда в чайной выступил питерский посланец большевиков Урицкий и уверенно заявил: «Пока власть будет находиться в руках буржуазного Временного правительства, на русской земле не будет мира». С тех пор утекло много воды, и он, Енборисов, успел побывать и в дутовских бандах и втереться в доверие к красным. Урицкого убил в Питере студент Кенигиссер, а на его, Енборисова, жребий выпал маленький человек — коммунист Точисский, которого любили рабочие. Только сделать это надо шито-крыто, иначе не жди пощады. Ведь на днях он повстречал здесь нескольких оренбургских большевиков, они могут узнать его и выдать Блюхеру — тот расстреляет или повесит при всем народе.
Енборисов радовался, что белорецкие большевики, не поняв национальной политики своей партии, выступили против башкир, стремившихся к автономии. Это была их единственная ошибка, но обошлась она им дорого. Ловко и тонко плел Енборисов паутину клеветы, разжигал национальную рознь. Именно он подговаривал националиста Валидова, уча его, что «Башкирия для башкир», и тот, провозгласив буржуазную автономию, посылал своих единомышленников совершать налеты на русские хутора, убивать возвратившихся с фронта солдат-большевиков.
«Рыба гниет с головы, — рассуждал с самим собой Енборисов, — убрать одного Точисского, а тогда все его дружки притихнут, но сделать это надо до прихода Блюхера». И тем не менее Енборисов медлил, боясь, что его поймают и растерзают.
Темной ночью в Белорецкий завод пробрался под видом нищего Дутов. Он обстоятельно беседовал с Енборисовым и, хотя хорунжий был ему нестерпимо противен, рассуждал так: «Придет время, рассчитаюсь с ним». Александр Ильич допытывался:
— В коммунию записался?
— Никак нет, ваше…
И запнулся, увидя свирепые глаза атамана.
— Врешь, собака.
— Истинный господь, глаголю правду, — и перекрестился.
— Брось эту… — выругался Дутов, но тут же отступил: — Если для дела записался — нет в том греха.
— На кресте готов поклясться, — оправдывался Енборисов.
— Ладно! Сделаешь то, что приказываю, — получишь повышение. Пашку убери, только не медли.
Енборисов понял, что атаман намекает на Точисского.
— Не за чин борюсь, а за престол и отечество, — тихо произнес хорунжий. Ему хотелось сказать, что и за власть наказного атамана, но он благоразумно смолчал — Дутов безошибочно отличал искренность от подхалимства.
Той же ночью Дутов возвратился через горы в свой штаб, а Енборисов, оставшись один в избе, обрадованно потирал руки. «Счастье само привалило, незачем теперь искать птицу».
У домика Точисского ветер шарил в листьях раскидистой ивы. В доме Павла Варфоломеевича недавно закончились скромные именины и все улеглись спать.
Енборисов трижды обошел дом, прикидывая в уме, с чего начать. Засунул руку в карман и ощутил холодную сталь револьвера. По телу прошла дрожь: в Сашку Почивалова стрелял спокойно, а сейчас охватил страх. «Там была степь да мы вдвоем, а здесь, может быть, за мной следят». И вдруг перед ним возникли свирепые глаза наказного атамана. Вспомнил Енборисов и рубище на мнимом нищем — и стало не по себе. От такого не жди пощады. Несколько минут Енборисов еще колебался, прикидывая в уме, как игрок, на какую карту поставить. И наконец решил. Взойдя на крылечко, он сильно постучал в дверь. На стук никто не ответил. Забарабанил кулаком. В доме проснулись. До Енборисова донесся женский голос, но разобрать слов он не смог.
— Кто там? — раздался за дверью настойчивый голос Точисского.
— Из Белорецкого штаба, — сдавленным голосом ответил Енборисов и, проворно спрыгнув, как кошка, с крылечка, очутился у окна. Его привлек свет лампы, с которой вошли в столовую дочки Точисского в ночных сорочках. Они приблизились к отцу, чтобы успокоить его. При свете лампы Енборисов ясно различил Точисского. Прицелившись, он выстрелил в окно два раза и убежал. Ему показалось, что за ним гонятся и кричат.
Это кричали девочки, увидев отца на полу.
В ту же ночь Енборисов бежал в горы к Дутову.
Коробейников шел на Кочердык с твердым намерением разузнать про Груню и во что бы то ни стало найти ее. В молодости он женился не по любви, а потому, что нельзя деревенскому парню оставаться холостяком. Большой утехи в семейной жизни он не нашел. Впрочем, если бы у него спросили, любит ли он жену, то удивился бы. Как в каждом задавленном нуждой человеке, его чувства дремали, да и велик ли досуг у мужика на любовь? Ему о хлебе думать надо, не то ноги протянешь.
На фронте взвод, в котором служил Коробейников, остановился на польском фольварке. Молодая, с упругими бедрами доильщица Кристя, пройдя мимо Саввы, улыбнулась. На ее бескровном лице лежала печать замкнутости и одиночества, которая свойственна людям, всю жизнь прожившим на хуторах и фольварках. Савва принял улыбку незнакомой женщины, покорно пошел за ней в коровник и молча наблюдал за ее работой. Выходя из коровника, Кристя снова улыбнулась и что-то показала на пальцах. Савва догадался. Когда в небе зажглись первые звезды, он пришел в коровник и там застал уже Кристю. Она лежала в углу на соломе.
Савва ни слова не понимал по-польски, да и Кристя не затрудняла его речью. Она безмолвно обняла и прижалась к нему всем телом. В эту ночь Савва сблизился с чужой женщиной, он даже шептал ей ласковые слова, но она упрямо молчала.
Три ночи подряд они встречались в коровнике, а наутро солдат Клоков, бойкий сквернослов, спросил у Саввы:
— Выдавил ты из нее хотя бы словечко?
Коробейников стыдливо, совсем не по-мужски, опустил глаза.
— Безъязыкая она, — продолжал Клоков, — немая. Понятно?
У Саввы замерло сердце. Ему больно было за несчастную Кристю, и в то же время возникшее к ней чувство мгновенно погасло, как задутое ветром пламя свечи.
С тех пор Савва больше не знал женщин на фронте. И вот неожиданно ему повстречалась Груня. Никогда он не думал, что любовь захлестнет его так сильно. Все, чему учил его Томин, он позабыл. «Революцию без меня доделают, — решил он, — а другой Груни мне не сыскать».
До Кочердыка Савва не дошел. На ловца, как говорится, и зверь бежит. На околице какой-то станицы он неожиданно столкнулся с Груней и буквально остолбенел. Бледная и исхудавшая, она сидела на камне и смотрела на степь безжизненным взглядом.
— Груня! — вырвалось у него. — Слава богу, нашел тебя.
Груня продолжала смотреть не моргая, казалось, все ей безразлично в этом мире.
— Грунечка, — просил Савва, — вымолви словечко. Ведь я убег из полка и решил не возвращаться, пока тебя не найду. Николай уже в Верхне-Уральске, пойдем к нему.
Савва опустился на колени.
— Пойдем, родная, все будет хорошо. Заплаканными глазами Груня посмотрела на Савву и прошептала:
— Испоганили меня казаки. Николай узнает — убьет.
Чувство мести охватило Савву, он заскрежетал зубами, но, вспомнив Кристю, успокоился.
— Не твоя вина, голубушка. Война порушила все на свете, — успокаивал он ее. — Богом клянусь, что словом не обмолвлюсь, никогда не напомню…
Груня поднялась с камня и медленно поплелась. Рядом шел Савва. Высоко над ними парил коршун, распластав широкие крылья. Груня следила за полетом птицы и в душе все твердила: «Не к добру, видно, — иду я навстречу смерти».
Испокон веку в Белорецке не было так шумно. Отовсюду стеклись сюда красные отряды: из Верхне-Уральска пришел Иван Каширин, из Богоявленска — Калмыков, посланный сюда заранее Блюхером, из Троицка — Томин. Всем казалось, что они надежно укроются в неприступных горах и ни дутовцам, ни белочехам не проникнуть в крепость. Бойцы жили прямо на улицах: кто спал на возах, кто под возами. Одни в выцветших гимнастерках, другие в облупившихся и потрескавшихся кожанках, третьи в запыленных и засаленных пиджаках. Кто в картузе, кто в матросской бескозырке, а кто и вовсе с непокрытой головой — одна лишь копна нечесаных кудрей. Повсюду горели костры, над ними треноги с казанками, а в казанках каша. Богоявленские стеклодувы, белорецкие горновые, баймакские рудокопы жили одним желанием — дать отпор тем, кто занес меч над их новой жизнью. Всех спаял Павел Точисский. Но Точисского убили.
Возвратились ходоки, принесли невеселые вести: в Стерлитамаке — городе купцов, прасолов, чиновников — правят эсеры. Умер председатель местного Совнаркома, питерский рабочий Шепелюк; сменивший его большевик Казин уехал в Москву и не смог вернуться — помешал фронт белочехов. Избрали левого эсера Прозоровского, а тот в одну дуду: «Чехи — революционеры, демократы, их надо пропустить с миром». Послали других ходоков, но уже в Самару. Не вернулись — расстреляли их. Собрались кожевники, мукомолы, деревообделочники, решили сформировать роту. На другой день началось обучение военному делу, отряды поочередно несли гарнизонную службу.
Не лучше и в Уфе. В город прибыли начальник и военрук рабочего отряда — отец и сын Калугины. Калугин-младший — анархист-коммунист, офицер военного времени, Калугин-старший — кадровый офицер царской армии, полковник, беспартийный. Народ подозрительно косился на них, не доверял. Не успели развернуться, а на Уфу надвинулись белочехи. Пришлось отступать по башкирским деревням: одни на Белорецк, другие на Стерлитамак вдоль Белой. На переправе через реку возник бой. Тяжело пришлось уфимским рабочим. Калугина-старшего настигли белочехи. Не желая сдаваться, старый полковник взорвал себя гранатой. К полуночи уфимцы ушли за Белую в горную глушь.
Шумел Белорецк. Каждый день подходили измученные многодневными переходами разрозненные отряды с Тирлянского завода, Симского, Катав-Ивановского, из Троицка, Верхне-Уральска и оседали здесь в бездействии. При жизни Точисский вызывал к себе главкомов, отечески поучал их, как заполнить досуг бойцов, а сейчас некому было.
«Будь ты хоть семи пядей во лбу, но от безделья, глядишь, человек напьется и морду кому расквасит, — внушал Точисский. — Значит, ты бойцу, как рабочему на заводе, всучи в руки работенку иль что другое. Учи его стрельбе, как воевать с буржуазией, учи его революционной дисциплине».
После убийства Точисского главкомы забыли его советы, а енборисовские дружки стали сеять смуту. Вот лежат в цепи бойцы впереди Белорецка. В дозор их послали и наказали: «Смотрите в оба, не подбираются ли где к нам по откосам гор дутовцы». Солнце печет, ребята курят, судачат, словно бабы у колодца. Бежит казак и кричит: «Который здеся Кеша шестипалый?» — «Ну, к примеру, я», — отзывается один из бойцов. «Беги домой, баба твоя родит, как бы не окочурилась». И Кешка бросает винтовку, спешит в поселок. А казак присядет к оставшимся и несет околесицу: дескать, начальство на нас рукой махнуло, жрать нечего и вообще надо кончать эту петрушку. Да и в самом Белорецке под облупившимися заводскими стенами, на широкой и пыльной площади, рядом с неумолчно говорливой плотиной, с утра до вечера толчея. Рабочие в засаленных робах копошатся, как в муравейнике, и друг у друга спрашивают: «Сдюжим аль нет?»
Как-то утром среди спящих вразвалку на земле пронесся зловещий слух: «Белые идут». Издалека доносилась ружейная стрельба. Бойцы спросонок долго собирались, протирали глаза, искали свои винтовки, подсумки и не спеша шли на сборные пункты. Кто-то кричал: «Вторая рота отступает, патронов нет». — «Пошто отступать?» — раздался пискливый голосок молодой бабы, и она тут же выбросила из подола три десятка патронов.
Плохо пришлось бы белореченцам, если бы не конница Томина. Быстро вознеслись на коней казаки и ринулись в горы, исчезнув в извилистых лощинах. В тот же миг ухнули пушчонки, и эхо отозвалось, как громовой раскат. В полдень эскадрон вернулся на взмыленных лошадях.
Через неделю над Белорецком нависла серьезная угроза. Окружив со всех сторон завод, белые готовились к штурму горной крепости. Замер завод. Из его высоких труб уже не вылетали клубы едкого дыма, не грохотали паровые молоты. Нашелся смельчак, взобрался на трубу аршин на сорок и прильнул к биноклю, который ему дал Томин. С земли смотрели на смельчака с опаской: сорвется — останется мешок костей.
— Идут! — крикнул он с верхотуры.
— Кто? — спросил Томин, сложив ладони рук лодочкой.
Смельчак сполз на землю. На него устремились сотни глаз, все ждали радостной вести, а он не спешил: знал, что никто, кроме него, не видел идущих к ним на выручку полков.
— Наши! — произнес он наконец.
— Пошто так думаешь?
— На папахах красные стрички, опять же на пиках и бунчуках.
Вздох облегчения вырвался из груди Томина.
Только к вечеру в Белорецк вошла пехота. За ней — казачьи эскадроны, потом снова пехота и, наконец, артиллерия. Усталые, выбившиеся из сил кони тащили орудия. В зарядных ящиках звенело, грохотало. Колонну замыкали три всадника: посередине ехал Блюхер, а по сторонам Николай Каширин и Кошкин. От палящих лучей степного солнца и ветров лица почернели и посуровели.
Встречать их вышли толпой, запрудив дорогу. Повсюду сновали ребятишки, путались в ногах, но никому не унять их радости при виде нового войска.
В стороне дожидались несколько всадников. Это Иван Каширин, Томин, Калмыков, Шарапов и командир сформированного на днях Белорецкого полка Пирожников.
— Сила идет! — сказал Калмыков, взволнованный тем, что скоро увидит Блюхера и Николая Каширина.
Шарапов смотрел на войско с особой радостью. Он хотя и не ссорился с Томиным, но хотелось вернуться к Блюхеру. Старому казаку льстило, как главком обычно обращался к нему по имени-отчеству, а от Томина он ни одного ласкового слова не слышал. Вот уже прошла артиллерия, а за ней снова пехота, бренча котелками на поясных ремнях. И вдруг кто-то хриплым голосом крикнул:
— Семену Абрамычу революционный привет!
Шарапов ожил, словно в него влили свежие силы. Пришпорив коня, он вырвался на дорогу. Конь стремительно вынес его к всадникам и осел на задние ноги. Потянувшись из седла, старый казак навалился на Блюхера и смачно поцеловал его в щеку.
За Шараповым подъехали и другие. Иван Каширин, знакомясь с Блюхером, подумал: «Ничего особенного, обыкновенный». Василий же, крепко пожимая ему руку, как бы предупреждал: «Своеволия не допущу».
До поздней ночи слышалась людская перебранка, ржание лошадей, скрип колес. Измученные последними переходами, бойцы бросались на телеги, повозки, просто на землю и тотчас засыпали.
Не спали лишь в штабе. При свете керосиновых ламп два юных бойца лежали на полу и чертили карту, а связисты устанавливали телефон. В другой комнате заседал совет командиров. Блюхер предоставил первое слово Ивану Каширину, хотел послушать, что скажет новый человек. Тот откашлялся и заговорил металлическим голосом:
— Из Верхне-Уральска белые готовят наступление на Белорецк. Нечего воду здесь в ступе толочь, надо отходить на Самару.
Томин порывисто встал. Проведя по пуговичкам своей кумачовой рубахи правой рукой, он протянул ее по направлению к главкому и сказал:
— Дозволь, Василий Константинович! — и, не дожидаясь разрешения, продолжал: — Нельзя на Самару. Ведь придется идти вдоль железной дороги, а на всех станциях, как я понимаю, белочехи. Уж лучше отсиживаться здесь, вроде как в крепости.
— У меня другой план, — перебил Николай Каширин. — На Самару пойдем — кровь дарма прольем, здесь оставаться нет резону, уж лучше дать бой и занять Верхне-Уральск.
— Правильно! — поддержали его Калмыков и Пирожников.
— Проголосуем! — предложил Блюхер. — Кто за то, чтобы…
Неожиданно поднялся со скамьи Шарапов и так громко кашлянул, что Блюхер запнулся и строго посмотрел на старого казака.
— Ты скажи, Василий Константинович, свое слово. Главком, а отмалчиваешься.
Ивану Каширину понравилось это предложение. Он готов был сцепиться с Блюхером, чтобы показать свое превосходство.
— Главком должен свое мнение иметь, — произнес он с петушиным задором.
— Могу, — согласился Блюхер, лукаво щуря глаза. — С моей точки зрения, нужен другой план.
— Говори ясней, — торопил Иван Каширин.
— В военном деле, Иван Дмитриевич, надо решать по мудрой пословице: «Семь раз примерь, один раз отрежь». Раньше чем созвать вас, я побеседовал с начальником штаба троицкого отряда. Парень молодой, необстрелянный, а толковый. Обстановку знает и понимает, что к чему. Зовут его Русяевым. А ну-ка, покажись!
Русяев, сидевший незаметно в углу, поднялся, и все невольно задрали головы.
— На Самару идти безрассудно, — продолжал Блюхер, — мы просто не дойдем до нее. Удивительно, как мог Иван Каширин предложить такой план. Здесь оставаться бесполезно — народ с голоду начнет пухнуть. На Верхне-Уральск идти нельзя. Ведь до нашего прихода изменник Енборисов перебежал к Дутову. Уж он наверняка ему все рассказал. Да и чего стоит одна гора Извоз! Мне о ней рассказывали. Не взять нам ее.
— Вот и разъяснил, — ворчливо бросил Иван Каширин. — Ни назад, ни вперед.
— Именно вперед, — подхватил Блюхер его слова, — но только другим путем. Нам нужно пересечь Самаро-Златоустовекую железную дорогу, чтобы выйти в район, где действуют части Красной Армии.
— И я предлагаю идти вперед на Екатеринбург, — недоуменно развел руками Николай Каширин.
— Федот, да не тот, — возразил Блюхер. — Заняв Верхне-Уральск, мы удалимся от Красной Армии, а нам надо либо на Сарапул, либо на Пермь. Точно никто сказать не может, но в тех местах идут бои.
Иван Каширин склонялся к плану Блюхера, но решил поддержать брата.
— Голосуй! — крикнул он чуть ли не повелительно.
Все, за исключением Шарапова и Пирожникова, подняли руку за предложение Николая Каширина. Блюхер не собирался ни уговаривать, ни доказывать свою правоту. «Раз решили, — подумал он, — подчинюсь большинству».
— Ну вот и все, — сказал он, словно добивался этого решения и тяжелый камень свалился с плеч. — А теперь решим, кому быть главкомом.
Такого великодушия Иван Каширин не ожидал и поймал себя на том, что он несправедлив к главкому, но упрямство толкало его на спор.
— Это правильно, — с удовлетворенной решительностью подчеркнул он. — По-моему, надо избрать Николая Каширина.
Николай Дмитриевич смущенно опустил глаза: как бы не ущемить самолюбия Блюхера, не обидеть его. И он, вспомнив спор главкома с Зиновьевым под Оренбургом, пробасил:
— Я согласен при условии, что моим первым помощником будет Василий Константинович.
Все поддержали Каширина.
На другой день Блюхер подписал приказ о переименовании всех отрядов в полки, объединив их в один Южноуральский отряд. При главном штабе были сформированы тыловая часть, санитарная, отдел снабжения и комиссариат финансов. По табелю числилось десять тысяч бойцов, двенадцать орудий, шестьдесят пулеметов.
Тяжело было на сердце у Блюхера. По-честному надо бы сказать Николаю Каширину: «Нельзя идти на Верхне-Уральск — людей погубим. Не поднять тебе казаков против белочехов. У Ивана крестьянская душа, не хочет он уходить из оренбургских степей. Но ты-то не Иван. Ты бы втемяшил брату, что у него местнические настроения». Да, надо бы сказать, а не может. «Не пойду я к Каширину, как бы не подумал, что я хочу быть главкомом».
Блюхер вышел из штаба на крылечко и задумался. Очнулся он оттого, что перед ним вырос всадник с красивой седой бородой. Он браво сидел на неоседланном коне.
— Сынок, тута штаб командующего? — раздался хриплый голос всадника.
— Тебе кого надо, дедушка? — ухмыльнулся Блюхер, любуясь им. На вид ему было за семьдесят.
— Не твоего ума дело, молокосос, — вскипел старик. — Раз спрашиваю, значитца, надо. Знаешь, где командующий, — сказывай, не знаешь — проваливай.
Блюхеру хотелось подзадорить старика, но сейчас было не до шуток.
— Я и есть командующий!
Всадник не смутился, он лишь измерил недоверчивым взглядом Блюхера и твердо, словно приказывая, сказал:
— Коли так — запиши меня в добровольцы. Я — рабочий Тирлянского завода Симеон Епищев.
— Ладно, дедушка, прикажу записать тебя в челябинскую батарею.
Епищева зачислили. Старику оказывали почет, и ему это нравилось. Повстречавшись с Блюхером, он подмигнул ему:
— Не серчаешь за обидную речь?
— И не думаю. А ты доволен?
— Пушка — предмет сурьезный, понимать надо в ней, что к чему. Помаленечку учусь. А за назначение — спасибо!
Над Белорецким заводом голубел купол, исчерченный зубцами гор в зеленых шапках. С земли поднималась пыль, словно пелена густого тумана застлала завод и поселок, оседая на зубах терпким истолоченным песком.
Горячий, знойный день.
Южноуральский отряд, растянувшись на много верст, шел на Верхне-Уральск, а оттуда через Златоуст на Екатеринбург. Больные, старики, беженцы из Богоявленска, Уфы и Стерлитамака оставались еще в Белорецке — им предстояло покинуть его через два дня.
Дорога то расстилалась по лугу, то петляла в гору между утесами и обвалами.
Замыкала отряд шараповская сотня с одним орудием.
И вдруг до конников донесся пушечный выстрел из Белорецка.
Ехавший далеко впереди Томин прискакал к своему арьергарду и взволнованно приказал Шарапову:
— Скачи с эскадроном обратно. Чует сердце что-то неладное.
Шарапов, привстав на стременах, скривил недовольную гримасу, но не ослушался и прохрипел:
— Эскадрон! Пррравое плечо вперед, марш-марш! Рысью!
В тот час в Белорецке шла резня. Воспользовавшись уходом отряда на Верхне-Уральск, дутовская сотня с красными бантиками на груди обманным образом вошла в поселок. По сигналу с гиком и улюлюканием они бросились на беззащитных раненых и обозников, кололи пиками, били нагайками. Отовсюду неслись стоны детей и матерей.
Шарапов несся впереди эскадрона. Конь под ним покрылся пузырчатой пеной. Пригнувшись к гриве, он налетел на хорунжего в новеньких погонах, как коршун на ягненка, и пикой выбил его из седла.
— Руби их! — кричал Шарапов своим конникам.
Выпавший из седла хорунжий с трудом поднялся и встретился со взглядом старого казака.
— Енборисов! — изумленно воскликнул Шарапов. — Попался, сучий сын? — и ловко проткнул его пикой.
Среди заколотых на возах Шарапов узнал Коробейникова. Рядом с ним лежала обезображенная женщина. Старый казак не знал, что сестра Томина с Саввой ночью пришли в Белорецк.
Днем главком Каширин и его адъютант Суворов подписали приказ:
«Сотня казаков противника, надев красные ленты, замаскировалась под кавалеристов Южноуральского отряда и проникла в Белорецк, нанеся нам некоторый урон. Застава, приняв казаков за своих, не спросила у них пропуска. Во избежание принятия частей противника за своих приказываю: ежедневно прикалывать красные ленты на различных местах костюма и головного убора. Ежедневно в приказе по отряду будет указываться, как должна складываться лента и где она должна прикалываться».
Несколько удачных стычек с белоказаками в пути окрылили бойцов и командиров.
— Правильно решил Николай Дмитриевич, — говорили между собой конники, — так и махнем через Верхне-Уральск на Екатеринбург.
С каждой верстой белые сопротивлялись упорней, а продвигаться в густом лесу было особенно трудно. Десять дней шел отряд, но у Вятского хутора пришлось остановиться. До города рукой подать, мешает только бритая гора Извоз. В старину здесь пролегал путь от горы Магнитной на Белорецкий и другие железоделательные заводы. Крестьяне, возившие руду извозом, обычно останавливались на этой горе на отдых. Отсюда и пошло название. С горы как на ладони виден Верхне-Уральск.
Разведчики принесли тревожные вести: на двадцать верст по Извозу протянулись окопы, перед ними проволочные заграждения, а еще дальше — волчьи ямы.
Николай Каширин бросил в бой второй батальон 1-го уральского полка. Блюхеру не понравилась тактика главкома, но он решил молчать, опасался, что Каширин не стерпит замечаний. Зато командир батальона, бывший штабс-капитан Бусяцкий, возмутился и сказал командиру полка:
— Пока на гору взберемся, никого в живых не останется.
Павлищев вскипел:
— Штабс-капитан, вы трус! Вы нарушили договор. Я отстраняю вас от командования и сам поведу батальон. Марш в обоз!
Атака захлебнулась. Оставив много раненых на поле боя, батальон отошел. Павлищев с раздробленным пальцем на правой руке остался в строю. Насупившись, он подошел к Блюхеру и опросил с досадой:
— Разве так можно, Василий Константинович?
Блюхер не ответил.
— Молчите? Боитесь сказать ему?
Блюхер понимал, что командир полка намекает на Николая Каширина.
— Знал бы — в Екатеринбурге отказался бы от договора.
— Чем вы недовольны, Иван Степанович?
— Неоправданными потерями. Будь вы главком — что бы вы сделали?
Павлищев настойчиво требовал ясного ответа, и Блюхер понял, что молчанием не отделаться. Надо ответить, но правдиво, чтобы у спорщика не осталось и тени сомнений.
— Я бы открыл огонь из всех пушек, а потом пустил бы полк.
— Вот именно! — воскликнул Павлищев. — О чем толковать? Курица и та поймет. — При этом он стучал себя по лбу указательным пальцем здоровой руки.
На другой день Каширин приказал Калмыкову спешить один эскадрон и пустить его ползком в гору. Белые открыли огонь из пулеметов, Калмыков потерял половину эскадрона. Первый же пленный рассказал, что дутовцы заставили музыкантскую команду вертеть деревянные трещотки, а стрелял всего один пулемет.
На третий день атака снова не принесла успеха. Между тем запас патронов иссякал. Командиры донесли об этом Каширину. «Была не была», — решил Николай Дмитриевич и, перегруппировав силы, приказал Павлищеву начать очередную атаку.
С тяжелым чувством Павлищев выслушал приказ и пожалел, что незаслуженно обидел Бусяцкого. Полк рванулся. Белые дрогнули и побежали в гору. Каширин радостно кинулся на Извоз, но в эту минуту пуля угодила ему в ногу выше колена. Штанина быстро намокла от крови, и главком, теряя сознание, упал. Его подхватили и унесли в укрытие.
— Суворов! — с трудом произнес он. — Пиши мое приказание — Блюхеру принять на себя командование.
Василий Константинович не обрадовался этому известию, зато Павлищев впился в него глазами, с нетерпением ожидая, что предпримет главком. А тот взглянул на гору и, как бы рассуждая сам с собою, сказал:
— Хорошо бы разведать, есть ли противник на самой верхотуре.
— Прикажете послать? — раздраженно спросил Павлищев.
— Только добровольцев.
Павлищев посмотрел на бойцов, а те мнутся.
И вдруг перед Блюхером вырос на коне Симеон Епищев, точно такой же, как перед крылечком, когда искал штаб командующего.
— Дозволь, главком, поехать одному в разведку.
— Тут нужен молодой удалец.
— Не спорь, раз сказал — поеду.
Никто не успел оглянуться, как Епищев погнал галопом коня в гору. Все напряженно смотрели ему вслед. Епищев достиг уже высоты, но в эту минуту затрещала пулеметная очередь. Из груди бойцов вырвался тяжелый вздох: все увидели, как конь и всадник покатились кубарем вниз.
…Через полчаса Блюхер отдал приказ: всем полкам отойти обратно на Белорецк, оставив в арьергарде полк Томина.
Так неудачно закончился поход отряда на Верхне-Уральск.
К ночи жара спала, над Белорецком засияли жемчужные плошки; поднявшись поздно, луна источала молочный свет на горы и сосны, обволакивая их бледной дымкой.
Блюхер в солдатской рубахе с незавязанными тесемками укрылся в тени под деревом. Здесь его штаб.
— Разрешите, товарищ главком!
Блюхер по голосу узнал полковника Бартовского.
— Пожалуйста! — пригласил он. — Не спится?
— Прошу прощения! Павлищев и все офицеры полка просят вас к себе.
Блюхер не догадывался, зачем его приглашают. Он мог приказать всем офицерам явиться к нему, но подумал и решил пойти к ним.
В небольшой комнате, пропитанной духотой и махорочным дымом, сидели офицеры павлищевского полка. При виде главкома все встали.
— Звали меня? — спросил он.
— Приглашали, — пробасил Бартовский.
— Один черт. Говорите, Павлищев!
Иван Степанович, отвернувшись, молчал.
— Не будете говорить — уйду.
Бартовский, — для смелости он успел выпить, его всклокоченные волосы на голове и немного развязный тон выдавали его, — нарушил молчание:
— Сегодня в полночь истекает срок нашего договора. Мы честно прослужили шесть месяцев. Через полчаса мы вольны идти куда угодно.
Блюхер не ожидал такого заявления и в первую минуту смутился. Он давно забыл про договор офицеров с Голощекиным и считал, что никому из офицеров не придет в голову вспоминать о нем. Сейчас они застали его врасплох, и надо было либо вступить в спор, либо признать силу договора.
— Павлищев, — обратился он к командиру полка, — вы уходите или остаетесь?
— Остаюсь, — без раздумья ответил Павлищев, и Блюхер с облегчением передохнул.
— А вы, Бусяцкий?
Все ожидали, что из-за обиды на Павлищева он решительно откажется. По тому, как он поднялся со скамьи и посмотрел на командира полка, никто уже не сомневался в этом, но Бусяцкий тихо произнес:
— Я как все.
— Вы, Бартовский?
— Ухожу.
— Ваше право, — согласился главком. — Вы честно служили, отважно воевали. Бойцы вашего полка — уральские рабочие. Они полюбили вас, Павлищева, Бусяцкого и других. За вами они готовы пойти в огонь и воду. Что будет, когда они узнают о вашем решении? Куда вы пойдете, Бартовский? К Дутову? До Красной Армии уж не так далеко, а вы — в кусты. Стыдно! Завтра я прикажу выдать вам жалованье и двухнедельный паек. Хлеба в обрез — сами знаете. Спасибо за службу! Прощайте!
Блюхер резко повернулся и вышел на улицу. Кошкин, сопровождавший главкома, молчал всю дорогу. Когда они подошли к дереву, под которым порученец расстелил одеяло, Блюхер схватил себя за грудь и тут же лег. Тело его вздрагивало, он тяжело дышал, и Кошкину казалось, что главком плачет.
Неожиданно подошел Павлищев и тихо спросил:
— Спите, Василий Константинович?
Блюхер с трудом поднялся.
— Павлищев? — удивленно спросил он. — Чего вы еще хотите? Тоже уходите?
— Василий Константинович, — виновато ответил Павлищев, — офицеры полка просили передать, что отдают вам договор и остаются в полку.
— А Бартовский?
— Он тоже остается.
Блюхер молча протянул руку Павлищеву и крепко пожал ее.
На рассвете к главкому привели ходока из Богоявленска. Ходок был в разбитых сапогах и запыленном пиджаке, без картуза. Соломенная шевелюра напоминала гнездо аиста. Блюхер внимательно следил за жестами ходока, мысленно взвешивая каждое его слово.
— Тебя, говоришь, Скворцовым зовут? — спросил главком, уводя свой взгляд в сторону.
— Зачем Скворцовым? Я — Гнездиков, командир роты на Богоявленском заводе.
— Приехал-то зачем?
— Для связи.
— Чего же ты хочешь?
Гнездиков с радостью поел бы, но ему не предложили, а забрасывали вопросами, да еще не верили. И решил побаловаться по-рабочему, забыв, что перед ним главком.
— Манной каши, — ответил он полусерьезно.
— А березовой не хочешь? — пригрозил Блюхер и обратился к порученцу: — Кошкин, подай-ка плетку!
Гнездиков не смутился:
— Меня столько били, что еще разок устою. В своем заводе дал бы сдачи, а здесь вроде неудобно.
Блюхер остыл.
— Ты Калмыкова знаешь?
— Кто же не знает Михаила Васильевича? — простодушно ответил Гнездиков. — Сложил он свою голову под станцией Кассельской. И Петьку, его племяша, там же убило. Его мы похоронили у себя, а тела Михаила Васильевича не нашли.
— Пете сколько лет было?
— Пятнадцать. Дутовцы ему глаза выкололи, тело ножом изрезали, но парень не выдал нас.
— Кликни Калмыкова! — приказал Блюхер Кошкину.
Гнездиков испуганно стал озираться. Со стороны казалось, что, уличенный во лжи, он начнет юлить и сознается в том, что его подослали.
Калмыков пришел и, как всегда, шумно спросил:
— Чего, Василий Константинович?
— У тебя племяш Петька есть? — Главком стал между Калмыковым и Гнездиковым.
— Есть! — весело ответил Калмыков. — Сын моего брата Ивана.
— А этого парня знаешь?
Калмыков прищурился:
— Не припомню.
Гнездиков, вылупив глаза, со страхом смотрел на Калмыкова: он и не он, лицо почернело от загара, усы такие же, лысый ли — под картузом не видать.
— Расскажи нам по-человечески, зачем пришел? — спросил Блюхер, как будто впервые задал этот вопрос.
— Чего рассказывать, когда не верите.
— Кто это не верит? — с наигранным удивлением возмутился Блюхер. — Давай говори!
Гнездиков бросил испытующий взгляд на главкома и Калмыкова.
— Я тебя, Михайло Васильевич, сам плохо припоминаю, но только ты у нас главкомом был, а как ушел под Оренбург — след и простыл. Потом сказывали, что тебя под Кассельской казак полоснул пополам. Если ты тот самый Калмыков, Петькин дядя, — значит, воскрес. Ну и живи на здоровье! — Он повременил, посмотрел, как его слушают, и продолжал: — Решили мы новый отряд сформировать. Теперь нас полторы тысячи человек, конная сотня да две пушки. В Архангельском заводе еще больше, главкомом у них Дамберг. Говорят, латыш, а по-моему, татарин. Мы с ним заодно действуем, бьем дутовцев, отбираем у них оружие и хлеб. Сами кормимся и детишек не забываем. Фронт держим по реке Белой, дутовцев на свою сторону не пущаем. Посылали ходоков по селам, нет ли где партизан, проезжающих спрашивали и дознались, что в Белорецком заводе агромадный отряд Блюхера и Каширина.
— Мандат у тебя есть? — перебил Калмыков.
Гнездиков отрицательно покачал головой.
— Может, брешешь? Может, у вас никаких отрядов и в помине нет?
Напуганному Гнездикову пришла в голову мысль.
— У нас телеграфную линию ладили перед моим уходом. Запроси завод, кто есть Гнездиков.
Днем из Богоявленска подтвердили, что Гнездиков послан для связи. Блюхер мучительно долго размышлял над тем, куда двинуться отряду. До позднего вечера расспрашивал Калмыкова, Гнездикова и других про дорогу вдоль Белой и чертил на большом листе самодельную карту.
На другой день на совещании командиров полков главком изложил план похода Южноуральского отряда.
— Не пойдем! — неожиданно заявил Иван Каширин.
— Как так не пойдем? — удивился Блюхер.
— Очень просто, мой полк отказывается…
Удар кулака по столу оборвал речь Каширина. Никогда раньше Блюхер не позволил бы себе такую резкость, но сейчас, когда решалась судьба тысяч людей, его возмутило поведение Каширина.
— Мы тебя спрашивать не станем, — пригрозил главком. — Ты анархизм выбрось на свалку. Революционная дисциплина — закон. Не подчинишься — будем судить.
Николай Дмитриевич, — ему трудно было стоять на костылях, — продолжая сидеть, поднял руку, призывая к порядку. Он понимал, что прав Блюхер, а не брат.
— Главком знает, что говорит. Со мной к Блюхеру не хотел идти? Не хотел! На Верхне-Уральск подбивал меня вести отряд? Подбивал! Что из этого вышло? Один конфуз! Людей потеряли, а не пробились.
— Не надо было с Извоза уходить, — бросил Иван.
В спор вступил Шарапов:
— Я тоже слово скажу. Мы, казаки, пошли к Блюхеру драться за идеал, — он вспомнил слова Цвиллинга на одном из митингов, — а ты, Иван Дмитриевич, за амбицию. Решать будешь не ты, а мы вместе. Куда ты пойдешь? Здесь останешься? Думаешь, удержишься в горах? Сдавят тебя дутовцы да еще на суку повесят. Василий Константинович, голосни, пожалуйста!
Слова Шарапова показались Блюхеру такими убедительными, что он ухватился за них и тут же предложил:
— Кто за то, чтобы идти на север и соединиться с Красной Армией?
Все, кроме Ивана Каширина, подняли руки.
— Иди отсюда, Иван Дмитриевич, — не скрывай своего раздражения, приказал Блюхер. — Если до утра не переменишь свое решение — уводи полк, иначе прикажу тебя арестовать и судить.
Каширин зло сплюнул и вышел на улицу.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Если взобраться на макушку Мраткиной горы, то в глаза сразу бросится серебряная нить реки Белой, а над ней лабиринт долин и сопок, густо поросших лесом. С запада на восток, от стыка Волги с Камой до города Троицка, змеею петляет Верхне-Уральский тракт. То он прячется у отвесных мшистых окал, то тяжело взбирается на перевалы, то пугливо опускается к берегам рек и речушек, нежась в тихих лугах.
Кряжист хребет Ала-тау, на макушке его седловины две зеленые шапки. На пути — Белорецкий и Узянский заводы, упрямый Авзян, тихая Кага. Суров и коварен двуглавый великан Южного Урала. Путника сторожат пропасти, кручи, обвалы.
В знойный августовский день девятьсот восемнадцатого года Южноуральский отряд покинул Белорецк и пошел на юг вдоль Ак-Исыль, красавицы Белой. Потянулись горы, как бесконечный строй великанов с упиравшимися в самое небо шапками.
Ехали конники в казачьих шароварах с синими лампасами, шли кавалеристы в пиджаках, косоворотках, в домотканых рубахах, ведя лошадей за повод. Племенные резвые кони рядом с крестьянскими пегашками и низкорослыми башкирскими рысачками.
Громыхала артиллерия — старые шумные пушчонки, трехдюймовые горные орудия.
Шли в матросских бушлатах, тельняшках, бескозырках. Кто в картузах с козырьками, кто в кепках и шляпах. Шли с «луизками», неуклюжими «гра», винчестерами, берданами, карабинами, а то и просто охотничьими ружьями.
Тянулись санитарные фургоны, походный лазарет, транспорт раненых. Тарахтел нескончаемой цепью обоз — башкирские двуколки, возы и подводы, пролетки, тачанки, беговые дрожки, тарантасы, груженные хлебом, зерном и мукой, сахаром и солью, солониной и картошкой. А дальше — людской поток беженцев: отцы, матери, жены и дети бойцов и командиров. Никто не захотел остаться в Белорецке на произвол судьбы. На их телегах дырявые матрацы, изжеванные перины, ящики с неприхотливым скарбом, самовары, казанки, чугунки.
— Какого черта он их тащит? — зло спросил Иван Каширин у Томина, намекая на Блюхера.
— Для тебя скотина дороже человека, а для Василия Константиновича наоборот. Не за себя воюем, а за все казачество, за всех иногородних. Чудной ты!
— Тоже сказал… Мы — военные люди, — не унимался Каширин, — а беженцы для нас — грузило на шее.
— Тебя убьют, баба бердан возьмет и дите свое защищать будет. Я тебя уважаю за то, что ты понял и пошел с нами, за храбрость уважаю, а как человека — нет. Прямо говорю — не заслужил.
Иван Каширин смущенно опустил глаза.
Вблизи раздался детский плач, заглушаемый скрипом колес и ржанием лошадей.
Неприветливо встретил Ала-тау героев Южноуральского отряда. В полдень седловина скрылась в черных тучах, налетел ураганный ветер, вырывая из земли столетние сосны. Деревья со стоном падали с круч.
Одна из телег перевернулась, и под ней задыхались дети. Растрепанная мать голосила, призывая на помощь, но ее никто не услышал. Люди цеплялись за камни, чтобы не упасть в пропасть, впивались ногтями в землю.
В этот час Блюхер с Кошкиным, рискуя собственной жизнью, ехали вдоль обоза, заставляя одних помогать другим. Неожиданно перед ними выросла женщина. Спрятав в заплечный мешок ребенка, она держалась левой рукой за колесо телеги, а правой тянула какого-то казака за рубаху, вылезшую поверх штанов. Ноги у нее скользили, и ей самой угрожала опасность скатиться в пропасть.
Кошкин узнал казака.
— Да ведь это Иван Каширин! — крикнул он Блюхеру и, спешившись, бросился на помощь женщине, а за ним и сам главком.
Как оказалось, Каширин, пропустив вперед свой полк, вспоминал Блюхера недобрыми словами за поход через Ала-тау. Он уж собрался догнать свой полк, как конь его споткнулся и упал, сбросив с себя седока. Каширин успел ухватиться за камень, но конь скатился с высоты и разбился. Женщина, укрывшаяся подле телеги, случайно увидела выбившегося из сил казака и без раздумья бросилась на помощь.
Когда ураган стих, то на смену ему пришел ливень, промочивший людей до нитки. Только на другой день отряду удалось с большими трудностями спуститься в долину Зигана. В борьбе со стихией погибли десять бойцов и двадцать два беженца.
Иван Каширин, раздевшись до исподников, сушил свою казачью одежонку.
— Ну как, Иван Дмитриевич, отошел? — спросил Томин.
Каширин стыдливо отвел глаза в сторону:
— Много лет прожил, а только этой ночью переворошил в думках всю свою жизнь. Совестно сознаться: баба с дитем меня спасла. Я эту бабу беспременно найду и низко поклонюсь ей в пояс.
— Она без твоих поклонов проживет. Плохо ты знаешь рабочий люд. Возьми муравья — не велик, а горы копает. Научи такую бабу уму-разуму — она весь мир переделает.
Слова Томина крепко запали в душу Каширина. Когда в Белорецке Русяев по поручению главкома объявил на сходе, что отряд уходит на соединение с Красной Армией, жители порешили тоже уйти. Но не все. Иван Каширин вспомнил женщину, которая безумолчно голосила: «Никуда не пойду. Моего мужика на Извозе убили. Задушу ребят, а потом себя». Она плакала, размазывая по грязному лицу слезы, била себя кулаками по голове. Каширин скрежетал тогда зубами, злился на Блюхера, а сейчас жалел, что она не пошла со всем отрядом.
Целый день простояли в долине. Под вечер седловина Ала-тау наполнилась червонным золотом, напоминая огромный ковш, в котором варилась медь, а когда закат погас, горы в ожидании прихода луны замерли для парада.
Блюхер взглянул на посветлевший бархат Алатау — как будто и не было урагана — и подумал об отряде: «Если бы сейчас снова потребовалось перейти через хребет — все поднялись бы и пошли».
Наутро возчики смазывали оси телег колесной мазью, конники чистили коней скребками, в котлах варили обед, матери кормили грудью младенцев.
Кошкин невесть где разыскал смуглого башкира с вдавленными скулами, раскосыми карими глазами и нечесаной бороденкой. По глазам и по тому, как он нетерпеливо вел на поводу низкорослого и невзрачного на вид коня, чувствовалась чрезмерная торопливость, укоренившаяся годами, словно башкир все время спешил и боялся опоздать. Уже остановившись перед Блюхером, он продолжал вертеться как юла на одном месте.
— Звать его Ягудин, — доложил порученец. — Добрый воин, будет вашим ординарцем. За конем хорошо умеет ходить.
Блюхер покачал головой. Он знал, что если Кошкин хвалит, то неспроста, по-видимому, все разузнал про этого человека.
По сигналу лагерь тронулся в путь. Навстречу выходили башкиры из Зигановки, Ибраева и других деревень с лепешками и горячей бараниной. Молодые парни не верили, что тысячи людей смогли пройти сквозь ураган и ливень через грозный Ала-тау.
Левый фланг бойцов охраняла Белая, правый — горный хребет и дремучие леса. Блюхер вел отряд вдоль стиснутой горами Белой на юг мимо Узяна, Каги, Авзяна — старых, уснувших заводов — к золотоносным долинам Таналык-Баймака, а когда река повернула на запад и снова на север, чтобы принять в себя воды Сима и Уфимки и раствориться в Каме, отряд описал такую же луку. В старину по Белой плыли в водополье грузные баржи с чугуном, зыбкие плоты. Капризная, но красивая река.
Сотни верст остались позади. Жарко. Пыль носилась в воздухе туманом, от которого серели лица. Солнце палило, оно никуда не спешило, вокруг все пылало неугасимым огнем. Земля дымилась от зноя, — казалось, все горит бесцветным пламенем, который сожжет деревья, камни и людей. А впереди еще далекий путь. Все ли дойдут?
Медленно двигались скрипучие возы и телеги. За поворотом блеснула зеркальная гладь Серганки. Какое непреодолимое желание искупаться в речонке, но нельзя останавливаться — Блюхер не позволил… И вдруг из-за черной, опаленной скалы вихрем вырвалась конная разведка белых. На одной из телег сидела Авдотья, жена белореченского рабочего Зимятина, с двумя детьми. Муж в каком-то полку, далеко от них. Авдотья не растерялась, соскочила с телеги с винтовкой в руках, опустилась на колено и выстрелила. Казак схватился за грудь и упал на гриву коня.
— Маманя! — закричал старший мальчонка. — У Петьки нога в крови.
Мать не отозвалась на крик сына. Она перезарядила винтовку и снова выстрелила.
— Руби стерву! — донесся до нее истошный крик казака.
Выстрелы услышали в арьергарде. Примчался Томин, с ним двадцать конников. Разведку всю изловили. Когда вернулись к обозу, то нашли безжизненную Авдотью, телом закрывшую своих детей.
Из села Петровское к Блюхеру прискакал гонец. Он мчался без оглядки, чуть коня не запалил. Командир полка Павлищев написал на пакете — аллюр три креста. «Началось, — подумал Блюхер, прочитав донесение, — первая ласточка». Иван Степанович сообщал, что ночью к Петровскому подошла конная разведка белых. Застава заметила их, притаилась, а потом открыла пулеметный огонь. Под юным прапорщиком убили лошадь. Офицера захватили. Его допрашивал Павлищев.
— Не буду говорить, — заупрямился пленный.
— Заставлю, — словно внушая, спокойно объяснил Павлищев. — Я полковник царской армии, а вы только прапорщик.
— Зато враги.
— Какой вы мне враг? Вы просто хороший русский парень, которого обманул Дутов. Думаете, я здесь один офицер? Со мной еще тридцать.
Терпеливо говорил Павлищев с прапорщиком, и тот сдался, рассказал, что главные силы их отряда — две сотни кавалерии, четыреста белочехов и несколько офицерских рот — в шести верстах от Петровского.
Главком ответил Павлищеву:
«Держитесь крепко. Утром двину полки на Богоявленск. Со стороны Стерлитамака мне нужен надежный заслон. За сдачу Петровского — расстреляю».
Павлищев сомневался, устоит ли он, но понимал, что должен устоять. Договор с Голощекиным уничтожен, ему даже было стыдно вспоминать о нем, и в душе он благодарил Блюхера за то, что тот не выдал ни его, ни товарищей командирам полков. Иван Степанович уже твердо определил свой жизненный путь, связав свою судьбу с большевиками. Размышляя сейчас над приказанием главкома, он возмущался тем, что ему угрожали, но поймал себя на том, что, будь он на месте главкома, сделал бы то же самое. И вот он вывел два батальона в поле, расположил их в густой ржи, а сам с резервом остался на окраине Петровского.
В полдень подошли белые. Развернувшись двумя цепями с кавалерией на флангах, они стали наступать перебежками. Павлищев следил в бинокль: опытные, дисциплинированные части. Вот подошел чешский взвод к окопавшимся уральцам. Ружейный залп остановил их. Чехи залегли. В наступившей тишине раздался голос, кто-то кричал на ломаном русском языке:
— Братья, мы с вами!
Командир роты поверил и крикнул:
— Ползите сюда!
Через несколько минут чехи подползли и тут же повернулись лицом к своим.
Павлищев за околицей выжидал. Наконец он нашел подходящий момент для удара во фланг наступавшим, выхватил изложен шашку и скомандовал:
— За мной!
Батальон стеной пошел в атаку. В рядах противника возникла растерянность. Солдаты в панике бросились к Белой. До прихода Блюхера уральцы отогнали противника к Стерлитамаку.
После боя у Павлищева отлегло на душе, но угрозу главкома он не мог забыть.
Чешский взвод был передан Томину в интернациональный отряд.
Разведка донесла, что по пятам отряда неотступно движется 3-я казачья оренбургская дивизия генерала Ханжина. Со стороны Стерлитамака в любой час могли показаться белочехи, оправившиеся от удара Павлищева. Южноуральскому отряду грозило окружение и разгром по частям.
Блюхер рассудил и приказал одним полкам занимать позицию в тот час, пока другие в походе.
У Богоявленского его дожидался командир местного отряда Хатмулла Газизов. Первым к нему подскакал Гнездиков. От радости они обнялись.
— Бик якши![4] — проговорил быстро Газизов, выслушав Гнездикова, и поспешил к Блюхеру. — Твоя — приказывай, моя — исполняй!
Главком понял Газизова и пожал ему руку.
Полк Ивана Каширина первым вошел в Усольское. Богоявленский завод стоял на соленом и холодном потоке Усолке. Хозяином завода был уральский мильонщик Пашков. Много лет назад в горной долине на берегу Усолки предприимчивые священники воздвигли монастырь, задумав выгодное дело. На ключах якобы нашли икону табынской божьей матери. В монастырь повалил народ в чаянии исцеления души и тела. По настоянию священников Пашков назвал завод Богоявленским.
Отец Газизова, старик Мурза, был правоверным поклонником аллаха, а сын, рабочий-стеклодув, растерял веру на заводе у горячих ванн. Его вовлекли в подпольную организацию. С германского фронта вернулся в серой шинели и большевиком. «Хочешь жить, — говорил он каждому башкиру, — садись на коня и воюй!»
В апреле восемнадцатого года Газизов уехал в деревню Ново-Альдашлы, где жил его брат, учитель Адиат. Три дня и три ночи он уговаривал его и доказывал, что у башкиров только одна дорога — с большевиками.
— Тебя послушают, ты учитель, — внушал он Адиату.
Брат понял брата. Через два месяца Хатмулла вернулся в Богоявленский завод с отрядом конников.
— Спроси у Газизова, сколько у него людей? — обратился Блюхер к Ягудину.
— Моя сам говорит, — поспешил ответить Хатмулла. — Тыща! Дамберг — два тыща.
— Бик якши! — одобрительно отозвался Блюхер словами Газизова, и Газизов, польщенный тем, что сам главком похвалил его по-башкирски, сказал:
— Всем надо служить советской власти.
До революции в Богоявленске время определяли по звону, разносившемуся по заводскому поселку. Старый сторож бил палкой по чугунной доске — так сзывал он рабочих в дымные цехи, так отпускал их домой. Осталась чугунная доска, остался и седой сторож, но стоило теперь пронестись знакомому звону по горам и долинам, как на тревожный набат бежал весь народ.
День уходил на покой. В червонном золоте заката клубилась пыль. Изнуренные зноем люди медленно тащились к заводской конторе. Никто не знал, что принесет им каждый новый час. Сколько раз они бросались по набатному звону в бой с белыми, нападавшими на завод. В такие дни из домишек несся допоздна плач по убитым. Люди хотели тихой и мирной жизни, а Калмыков голосисто кричал с трибуны:
— Врага бьют не слезами, а вот этим, — и потрясал в воздухе черным костлявым кулаком.
Теперь он командовал богоявленским полком.
— Уймись, Михайло, — пыталась урезонить его мать. — Людей погубишь, меня одинокой оставишь.
После этих слов Калмыкову ничего не оставалось, как приласкать мать и бережно поднять ее на своих сильных руках.
— Пусти, окаянный, — со слезливой угрозой просила она.
— Не срамите меня перед народом, маманя. Понять надо, что старая жизнь не вернется, никто теперь под ярмом ходить не хочет.
На сход пришло все население. У всех тревожные лица, все чего-то боятся. Белых не хотят, но и красным потакать неохота. Кто-то жалобно заплакал. И тут же утешительный голос:
— Не мучь себя и детей. Я ведь еще не пошел, а ты — в слезы.
— Пойдешь, а твоя с голоду и помрет, — внушала бойцу соседка.
Где-то раздался выстрел. Закричал грудной ребенок.
Блюхер поднялся по ступенькам на помост и окинул взором людское море. За спиной — Калмыков, Иван Каширин, Томин и Павлищев. С трудом протиснулся сквозь толпу Газизов и крикнул:
— Башкира все идет, русска не все идут.
Главком улыбнулся, покачал головой и обернулся к Калмыкову:
— Поговори со своими.
Калмыков расправил привычным жестом раскидистые усы.
— Земляки! Об чем толкуете?! Идти надо всем, как пошли белореченцы.
— Шагай сам! — раздался голос в толпе.
Калмыков что-то шепнул Блюхеру и тут же обратился к толпе:
— Кто не идет, тот должен сдать оружие.
— Не лозу рубишь, а людей, — снова откликнулся тот же голос из толпы, — нам надо все растолковать.
Неожиданно толпа зашевелилась, точно ее толкнули. Это Кошкин верхом пробивался к помосту.
— Расступись! — кричал он. — Дай дорогу!
Блюхер, насупив брови, сердито смотрел на Кошкина, бесцеремонно врезавшегося в толпу.
— Товарищ главком, — донесся голос порученца, — разведка обнаружила четыре сотни казаков. Они сбили нашу заставу.
— По коням! — скомандовал Блюхер. — Томин, покажи белякам своих разинцев!
Бой, возникший неожиданно, длился дотемна. Иван Каширин, приняв на себя удар, стал, по уговору с главкомом, заманивать белых к заводу. В это время Томин пробрался с двумя сотнями в тыл и ударил по неприятелю. В белоказачьих эскадронах возникла паника, и они ринулись на красных конников, чтобы вырваться из кольца. Утром подсчитали трофеи: четыре пулемета, сто винтовок.
На другой день Южноуральский отряд выступил через Зилим и Ирныкши на Архангельский завод.
Уральское лето коротко, как сон старика. После успеньева дня с севера на юг — сперва робко, в одиночку, а потом целыми стадами — бегут облака, скрывая от солнца горы и зеленые шапки лесов. В полночь над Белой всплывает холодный, липкий туман, расползаясь по балочкам, поднимаясь к рассвету до самых гор.
Вот когда пригодились тюфяки и мешки. Тяжелым сном спят под ними на возах дети, вцепившись ручонками в материнскую грудь. Бойцы и конники, развалившись на земле, жмутся под шинелями друг к другу и даже не поворачиваются, боясь растратить тепло.
Утром — дальше в поход. И снова скрип старых возов, и снова жалобное мычание отощавших коров, медленно бредущих за телегами, и снова ржание жеребят, отставших от кобылиц, и причитание матерей, и плач полуголодных детей.
Все идут на север. Кругом белоказачьи части. Каждый день схватки, стычки, перестрелки, бои. Каждый день жертвы. Патронов все меньше, они почти на исходе, голыми руками не отбиться от врага и не пробиться к частям Красной Армии.
Всякий раз, когда Блюхер, сидя на своем рыжаке или, спешившись, стоял один на пригорке и смотрел на бесконечно длинный поток бойцов в разбитых сапогах и лаптях, а то и вовсе босых, в рваных рубаках, голых до пояса, с рубцами на теле, он думал о том, что именно теперь, после многодневных испытаний, после тяжелых боев и потерь близких друзей по оружию, этими людьми управляет не инстинкт, а сознание долга. Полки двигались не как стадо, перегоняемое пастухами с далеких пастбищ; они шли, правда, не строем, а вразброс, как попало, но каждый знал, что ему надо вырваться из вражеского кольца. «Я должен дойти», — думал каждый про себя, и эта мысль подстегивала так, что каждый готов был по первому приказанию ринуться в бой на врага с несколькими оставшимися патронами, а потом вцепиться в него зубами.
«Проклинают ли они меня за то, что я тронул их с семьями с насиженных мест, — думал Блюхер, — заставил бросить на произвол судьбы свои домишки, брести по каменистым горам, засыпать каждую ночь тяжелым сном на земле?» Он чувствовал, что несет ответственность за всех и каждого, и хотя нет такого судьи, перед которым он должен держать ответ, но этот судья — его совесть. Ему далеко не безразлично, как о нем судит каждый в отдельности, ибо из каждого частного суждения слагалось общее мнение всей его армии, и это общее становилось в свою очередь как бы законом, которому все подчинялись. Только это единодушное согласие, переходившее в неограниченное доверие, давало ему решимость командовать людьми так, как он понимал и считал нужным.
«Если я дрогну, то не смогу вывести их на советскую сторону», — рассуждал он. Иногда возникало сомнение в своих силах, но об этом никто не знал. «Не передать ли мне командование Томину или Калмыкову?» И он снова погружался в раздумье, беспокоясь больше всего о людях, доверивших ему свою жизнь. Он знал, судя по боям и стычкам, что его армия будет ежедневно редеть, что убитых будут хоронить в наспех вырытых ямах, но назад пути нет. Когда-нибудь к этим могильным буграм придут поклониться благодарные потомки. Сейчас некогда воздавать почести героям, надо упорно идти вперед, но обязательно хоронить всех убитых в бою и умерших от истощения.
«В царской армии тысячи солдат пропали без вести, — сказал он в надгробной речи после боя у Петровского. — Это великая ложь! Их попросту сваливали в большую яму, называя ее братской могилой, а в донесениях писали, что они пропали без вести. Если кто-либо из нас погибнет, то святой долг оставшихся — похоронить героя, а списки погибших передать командованию Красной Армии, ибо народ никогда не забудет этих людей».
Простые слова возвышали каждого, вызывая гордость за ратный труд, за военный подвиг. Каждому хотелось остаться в живых, дойти до своих, веселиться, страдать, любить, и в каждом жила вера в свой подвиг, который ему предстоит совершить.
На привалах Блюхер присаживался к бойцам, доставал из-за голенища ложку, с которой никогда не расставался, и хлебал со всеми из чугунка. По ночам он бродил по лагерю, проверяя караулы, а возвратившись в штаб — это был возок, на котором лежал железный ящик с деньгами, пишущая машинка с дребезжащим колокольчиком, печать, бумаги и книга приказов, — думал о сложности взаимоотношений командира и бойцов. Он считал, что главком не должен растворяться в людской массе, а управлять ею, но не возвеличивать себя. «Я буду приказывать, принимать единолично решения, не боясь ответственности, судить людей по поступкам, — думал он, — но не оскорблять их достоинства, любить их и, любя, твердо ими командовать».
Главком выслал три разведки: одну к хутору Белорусско-Александровка, другую к селу Табынск, третью в сторону Белорецка. Противник был обнаружен повсюду. Больше всего беляков шло от Белорецка — части 3-й оренбургской дивизии, готовые каждую минуту сцепиться с красными.
Блюхер отчетливо сознавал, какая опасность грозит отряду. И чем меньше шансов было на успех, тем сильнее проявлялась жажда сопротивления. Сил у противника втрое, вчетверо больше. Если по примеру средневековых войн поставить оба войска лицом к лицу, то Южноуральский отряд проиграет битву, но в современной войне выигрывают не количеством войск, а маневром, умением и моральным превосходством.
В часы опасности Блюхер преображался. Отбросив всякие сомнения, он, с недоступной для других интуицией и талантом полководца, реально представлял себе предстоящий бой, расстановку сил, иногда даже успех противника.
Во второе воскресенье августа, едва только забрезжил холодный рассвет, Русяев, которого перевели из томинского штаба в общеотрядный, быстрым шагом подошел к телеге, на которой спал, разбросав ноги, главком и разбудил его.
— Вернулся бородач? — спросил Блюхер, мгновенно проснувшись.
В этот предрассветный час, по приказанию главкома, Томину предстояло начать демонстративную переправу через Белую, захватить Шареево и вести разведку в сторону Уфы.
— Противник упредил нас, — ответил Русяев. — Час назад отряд белых силой в триста сабель занял деревню Кулканово, сбил нашу сотню с позиций и захватил один пулемет.
— Ясно, — спокойно сказал главком, словно этот эпизод ему только что приснился. — Куда отошли конники?
— В деревню Сеит-Бабино.
— Ясно, — снова повторил главком и тут же спросил: — Эта сотня верхне-уральского полка?
— Так точно!
— Кто там командиром? Не Шишов ли? Хороший казак, а в штаны наклал.
Русяев удивился памяти главкома, знавшего по фамилии всех командиров казачьих сотен.
— Лошади готовы! — неожиданно раздался голос Кошкина из-за широкой спины Русяева.
Ягудин с нерасчесанной бородой, теребя уздечки, поспешно подвел к телеге трех коней. Через несколько минут главком, порученец и ординарец мчались к деревне Ирныкши, в которой находился Томин. Уже позже Блюхер узнал подробности утреннего боя. Одновременно с внезапным налетом казаков на Кулканово белые сбили заставу богоявленского полка у деревни Андреевка и, при поддержке орудий и бомбометов, повели наступление на деревню Зилим. После первых же выстрелов деревня загорелась. Над угрюмыми лесами поднялись черные столбы дыма. Калмыков приказал полку отступить и окопаться на опушке соснового бора. Пока у Зилима шел бой, Томин во главе кавалерийской разведки решил переправиться через Белую у хутора Березовский. В этот час ему и повстречался главком с Кошкиным и Ягудиным. Томин, холодно поздоровавшись, ожидал, что Блюхер начнет его распекать за Шишова, но главком молчал, и Томин расценил это молчание как тактичность: не упрекать командиров в присутствии порученца и ординарца.
— Покажи, где будешь переправляться? — предложил Блюхер.
Томин выехал вперед, а главком за ним. Все скакали к поскотине. Ягудин, вырвавшись, поспешил открыть ворота. Неожиданно раздалась ружейная стрельба. Конь Ягудина поднялся на дыбы и тяжело рухнул наземь. Башкир, уцелевший чудом, поднялся и, прихрамывая, подбежал к главкому, но в это мгновенье пулеметная очередь хлестнула свинцовым градом. Под главкомом упал конь. Блюхер сумел быстро освободить ноги из стремян. Кошкин тотчас подвел ему своего коня. Блюхер ловко прыгнул в седло и помчался с Томиным обратно в деревню, чтобы укрыться от огня.
На поле остались Кошкин и Ягудин.
— Ложись! — крикнул ординарец и пополз вперед. Правая нога у него сильно болела — конь, падая, придавил ее, но ординарец ни стоном, ни гримасой не выдавал себя. Только через полчаса они благополучно доползли до деревни.
Белые перенесли огонь на Ирныкши. Запылали крестьянские дома. В деревне стояли в беспорядке обозы Южноуральского отряда. После первых же выстрелов все бросились к телегам, сбивая друг друга. Лошади, обезумев, понеслись по Архангельской дороге.
На окраине Ирныкшей нес боевое охранение интернациональный батальон. Теперь им командовал тот самый чех, который перешел у села Петровского на сторону красных. Его звали Зденек Нашек. Увидя обозников, он поторопил их и, когда скрылась последняя телега, приказал бойцам залечь. К Нашеку приполз боец.
— Томин приказал не отступать, — сказал он. — На подмогу идет кавалерийский полк Стеньки.
Про такого командира Нашек услышал впервые. Он знал, что один из полков носит имя Разина, который много лет назад пошел с оружием в руках против русского царя Алексея, но был схвачен и казнен. Впрочем, ему было все равно: Стенька так Стенька. Вот Томина он видел в бою, и ему казалось, что таким был некогда и Разин. Павлищев ему тоже нравился: всегда спокойный и умно командует.
И только боец уполз, как Нашек увидел белых, приближавшихся к деревне под прикрытием перелеска.
— Připravite se![5] — подал он команду на своем родном языке, и все поняли, чего хочет Зденек.
Белые подошли на триста шагов. Меткий огонь интернационального батальона сразил первые ряды противника. Несколько раз он пытался прорваться к деревне, но бесполезно. А потом рванулся кавалерийский полк имени Разина и довершил разгром белых.
Вечером Русяев доложил о трофеях. Главком радовался, прикидывая в уме, какому полку дать патроны.
— Вот так, сынок, и будем воевать, — сказал он. — Теперь у нас боеприпасов еще дня на два, а то и на три.
После революции пятого года Дамберга выслали в Оренбургскую губернию на вечное поселение. Родился он в Виндаве на Балтийском море, где осенью дули свирепые ветры, а летом носились запахи соленой воды и разогретой солнцем хвои. Ранним утром, в жару и ливень, латышские рыбаки сталкивали с песка в море старенькие весельные лайбы и уходили на промысел. Свой скудный улов они коптили в баньках. Жил Дамберг с отцом и матерью в маленькой хибарке, насквозь продуваемой ветрами. Мальчишкой он помогал отцу чинить сети и, сидя на закате у моря, верил, что если доплыть на лайбе до горизонта, за которым скрывалось солнце, то можно увидеть необычайную страну с попугаями и жирафами. Попугаев и жирафа он действительно увидел, но уже взрослым в Рижском зоологическом саду, когда бежал от жандармов, спасаясь от ареста. Его поймали, судили и выслали из Прибалтики.
На Южном Урале он не смирился с положением ссыльного и развернул подпольную работу среди забитых нуждой рабочих. Революции он радовался, как радуются светлому празднику, надеясь, что и на его родине придет конец остзейским баронам. Он писал письма оставшейся в Виндаве жене и друзьям, но ответа не получал. Однажды ему принесли письмо от незнакомого. Оно было короткое и доброжелательное:
«Не ищите Марту, она поступила гадко, уехав в Латгалию с другим человеком. Будьте мужественным».
Дамберг тяжело переживал измену женщины, которой он безгранично верил. Когда же потребовалось организовать отряд для защиты Архангельского завода от белоказаков, то он отдался всей душой этому делу, и это помогло ему позабыть Марту.
Однажды ночью на Дамберга напали. Он не растерялся, выхватил из-за пояса кинжал и нанес смертельный удар одному из противников. Другой бежал.
— Neredzēt tev vairs Daugavu![6] — донеслась до Дамберга угроза.
Дамберг узнал по голосу латышского кулака Залите и решил арестовать его на другой день, но тот бежал в Уфу.
А в Уфе паника. В город должны приехать на совещание члены Учредительного собрания, которое разогнали большевики. Говорят о петроградских гостях Брешко-Брешковской и Чернове: не случится ли с ними что-либо в пути?
Дамберг не знал ни Чернова, ни Брешко-Брешковскую, а если бы и знал, то не погнался бы за ними. Подумаешь, велика ли корысть от полоумной старухи! Куда важнее донесение разведчиков о том, что к Зилиму идет армия Блюхера. К главкому он отнесся с излишней предосторожностью, приняв его за остзейского немца — врага латышей.
— Вы намерены перейти с отрядом в армию, которой я командую? — спросил у него Блюхер.
Дамберг не ответил. Главком говорил на хорошем русском языке, без акцента, и это поразило латыша.
— Чего ты с ним церемонишься? — удивился Томин, скосив глаза на Дамберга. — Пусть сам с беляками воюет.
В это время к главкому подъехал Газизов. Увидев Дамберга, он обрадованно крикнул:
— Якши, что пришел!
— От ворот поворот, — усмехнулся иронически Томин. — Нам такой вояка не нужен.
— Якши человек, — взволнованно удивился Газизов, — золотой человек. Зачем гнать?
Дамберг молча переводил взгляд с Блюхера на Томина, с Томина на Газизова и снова на Блюхера, пытаясь прочесть в их глазах ответ на свой безмолвный вопрос. Наконец он не выдержал и спросил, обращаясь к Блюхеру:
— Скажи правду, ты немец?
— А хучь бы так, — ответил за него Томин. — Тебе какое дело?
— Дамберг, мне верь, — вмешался Газизов. — Блюхер русска!
На лице Дамберга появилась легкая улыбка. Он еще колебался с минуту, потом решительно приблизился к Блюхеру. Главком, чтобы рассеять его сомнения, мгновенно спешился и пожал протянутую ему руку.
— Давно бы так. Рассказывай!
Дамберг не заставил себя упрашивать.
— В Уфе паника, — сказал он. — Сиятельное общество: епископ Андрей, князь Ухтомский, чешский генерал Войцеховский, дутовские холуи. Мой отряд в трехречье. Здесь сливаются Белая, Зилим и Сим.
— Вот через Сим нам нужно переправиться, — перебил Блюхер.
— Очень трудно, мостов нет.
— А в мешке оставаться нельзя. — Повременив, Блюхер спросил: — У тебя латышей много?
— Много, — ответил Дамберг.
— Вот и хорошо! Говорили мне, что латыши смелые и отчаянные. Твой отряд будет именоваться с сегодняшнего дня Архангельским полком и поступит в распоряжение Ивана Каширина. Форсируйте вдвоем Инзер и выйдите к Симу против Бердиной Поляны. Там ищите переправу.
Река Сим так же глубока и стремительна, как и коварна. Бежит она с гор на запад, и чем ближе к Белой, тем капризнее. Редкий смельчак бросится вплавь.
Оставив полки в укрытии, Иван Каширин с Дамбергом незаметно подъехали в сумерках к реке и в отчаянии взглянули друг на друга — на правом берегу дымились костры.
— Ну! — неопределенно произнес Каширин, но Дамберг по тону понял: дескать, что делать?
— Надо перебираться на тот берег.
— Сам ведь говорил главкому, что трудно.
— Легко в подкидные играть, — серьезно сказал Дамберг, — а воевать всегда трудно.
— Как тебя зовут? — неожиданно спросил Каширин.
— Айвар.
— Ну так как, Айвар, будем форсировать?
— Будем, но не все.
Каширин измерил Дамберга строгим взглядом и подумал про себя: «Со мной шутки плохи». А спокойный Айвар, не придавая значения каширинскому взгляду, добавил:
— Одна моя полусотня переплывет выше Бердиной Поляны, а другая ниже. Я буду с ними, а ты по сигналу — три моих выстрела — бросайся отсюда со всеми конниками вплавь и завяжи бой.
Ивана Каширина нельзя было упрекнуть в недостатке лихости, но план Дамберга показался ему чересчур дерзким.
— Ладно! — махнул он рукой, и в этом жесте Дамберг увидел какое-то безразличие.
— Если вовремя не успеешь — большой разговор будет, — предупредил Дамберг.
Другого Каширин просто обругал бы, но перед латышом он оробел.
На рассвете другого дня обе полусотни в разных местах скрытно переплыли Сим. Очутившись на правом берегу, они тотчас приняли боевой порядок. Три выстрела возвестили Каширину, что пора и ему с конниками плыть через Сим. Чей-то конь, споткнувшись, ушел под воду, увлекая за собой всадника. Конник, испугавшись, вскрикнул, но вспомнил наказ Каширина: «Кто слово молвит — убью» — и, ухватившись за хвост другого коня, поплыл, держа свободной рукой карабин над водой. С правого берега раздались выстрелы. То в одном месте, то в другом скрывались под водой кони и люди. Каширин плыл позади, подбадривая конников. И вдруг пронзительный свист и незнакомое слово «Uz priekšu!»[7] прорезали тишину пробуждающегося утра. То полусотни Дамберга вихрем ворвались в стан белых. Тем временем каширинские конники достигли берега и бросились им на помощь. Ошеломленные беляки, оставив на поле боя немало трупов, отступили в лес.
Каширину хотелось сказать добрые слова Дамбергу, но гордость не позволяла. С тех пор как брат его Николай сдал командование Блюхеру, он сильно изменился, но порой в нем оживала анархистская душа, и он готов был полезть на рожон. Сейчас он восторгался смелостью Айвара и думал: «Я этих латышей сроду не знал, а ведь они смелее моих казаков».
— Прикажи своим занять круговою оборону, — предложил Дамберг, подъехав к Каширину. — Надо строить мост для всей армии.
Слова эти сразили Ивана. Еще два дня назад Дамберг подозрительно и молча смотрел на Блюхера, пытаясь узнать, не из остзейских ли он баронов, зато, убедившись, что главком руссак, загорелся, как сухая лучина. Только Сим удачно переплыли, только отогнали врага, а Айвар уже думает о переправе всей блюхеровской армии, хотя главком ему не поручал.
К Симу спешил Павлищев со своим полком, к Симу спешил сам Блюхер.
— Навести мост! — приказал главком.
— Голыми руками не сотворишь.
Блюхеру не понравился ответ Павлищева. Он готов был сказать резкость, но помешал Ягудин.
— Прикажи моя, — ткнул он себя кулаком в грудь, — достану топоры и пилы.
Блюхер поднес к глазам бинокль и улыбнулся: на правом берегу конники несли к воде спиленные деревья. Значит, Каширин с Дамбергом сами догадались.
— Делай! — бросил он Ягудину и ускакал, а через минуту ускакал и ординарец.
Ягудин скакал к обозу с приказанием главкома сносить пилы и топоры.
— Ксюша, ты куда пилу понесла? — кричала женщина в цветном платке на голове.
— Топор отдашь, а телегу починить нечем будет, — жаловался один старик другому.
На помощь Ягудину примчался Томин.
— Кто не даст топора и пилы — поворачивай домой, с нами тому не по пути! — грозно выкрикивал он.
К полудню четыре тысячи человек были заняты постройкой моста. Из спиленных сосен сколачивали козлы, расставляя их поперек реки. Козлы были высокие и корявые, к ним крепили веревками и ремнями неотесанные балки — гвоздей нигде не сыскали. Казалось: подуй сильный ветер — все опрокинется и уплывет по течению.
К вечеру мост был готов. Павлищев первым перешел его и вернулся. Построив свой полк цепочкой, он двинул его на правый берег Сима.
— Идите с полком! — приказал Блюхер. — Я сам займусь переправой орудий.
— Слушаюсь! — покорно ответил Павлищев и пошел.
Сперва были переправлены лошади, потом орудия. Их тащили люди. Потянулся нескончаемой лентой обоз. Уже стемнело, когда на правый берег последним прошел сам главком.
— Сжечь мост! — приказал он и с болью в душе подумал о затраченном труде.
В эту ночь лагерь, охраняемый полком Дамберга, спал тяжелым сном.
До станции Иглино, лежащей на Самаро-Златоустовской железной дороге, оставалось тридцать верст. Небольшое расстояние, но дорога круто идет в гору, а на горе — белые. В авангарде был поставлен полк Дамберга, оберегаемый с флангов конниками Томина.
— Много ли патронов осталось у каждого бойца? — спросил главком у Дамберга.
— По сорок на человека.
— Стрелять только в крайнем случае, вперед выставить тех, у кого штыки.
Дамберг быстро перегруппировал полк. Ему предстояло занять деревню Родники, а Павлищеву — Слутку.
— Нам бы на Уфу сейчас, Василий Константинович, — предложил Иван Каширин. — Рукой подать до города, а там боеприпасы и хлеб. Народ-то изголодался, — гляди, ноги все протянут.
— Повторить ошибку с Извозом? Благодарствую, но этому не бывать, — прямо и внушительно ответил Блюхер. — Я ем не больше, чем ты и все наши конники. Довел весь народ до чугунки, доведу и до наших. Посланные вперед разведчики доложили, что из Уфы вдоль железной дороги двигаются войска противника, а по самой железной дороге курсируют поезда.
Газизов по поручению Блюхера подготовил отряд со специальным заданием: после захвата Иглина разобрать полотно железной дороги, спилить телеграфные столбы, унести провода.
В полдень Дамберг с батальоном латышей начал наступление. У всех винтовки со штыками. Первые выстрелы со стороны белых никого не смутили. Пройдя триста шагов, батальон залег.
— Вперед! — скомандовал Дамберг после передышки.
Психическая атака привела белых в замешательство. Они выскочили из окопов, чтобы сподручнее было стрелять, но пулеметный огонь с флангов, а потом налетевшие казаки Томина заставили их побежать к Родникам.
Оставалась последняя горка, чтобы ворваться в деревню, но неожиданно белые, получив подмогу, перешли в контратаку. Теперь дрогнул третий батальон Архангельского полка, сменивший латышей, и панически побежал обратно. Только у деревни Слутки Павлищев со своим полком продолжал удерживать занятые позиции.
Блюхер мгновенно оценил опасность. Полку Павлищева грозило остаться в тылу белых, да белые могли добежать и до обоза и опрокинуть его в Сим.
— Бросить в бой весь конный резерв! — приказал он.
Рассыпавшись, понеслась конная лава на противника. Мимо Блюхера проскакал Шарапов со своим эскадроном. Главком заметил незнакомого бородатого казака, который с трудом поспевал за Шараповым.
— Это отец Кашириных, — оказал Кошкин, — весь поход проделал с нами.
— Молодец! — одобрительно отозвался Блюхер.
Сверкали казацкие клинки в воздухе, фыркали кони, то в одном, то в другом месте раздавались свист, улюлюканье и ружейная трескотня. Шрапнели лопались, как гигантские хлопушки, разбрасывая вокруг звенящие осколки.
Ягудин, оставив главкома с Кошкиным, умчался вперед. Он видел на поле боя убитых и раненых, его доброе сердце хотело помочь каждому, но конь неудержимо несся вперед. И вдруг он осел на задние ноги, словно перед ним выросла стена. Ягудин едва удержался в седле, вцепившись руками в гриву коня. На земле лежал тот самый казак, который еще не так давно промчался вместе с Шараповым мимо главкома. Ягудин быстро спешился, с трудом поднял казака, посадил в седло и, поддерживая его, довез до главкома. Он передал его Кошкину, а сам снова умчался. Кошкин дотронулся до руки — пульса уже не было — и промолвил:
— Горевать будут Каширины.
Блюхер покачал головой, соглашаясь с порученцем, и сказал:
— Скачи на левый фланг к Ивану Каширину, скажи, что белые убили его отца. Пусть мстит за него — надо скорее брать Иглино.
«Хитрый мужик», — подумал про главкома Кошкин. Скрестив руки казака на груди, он поднялся, сел на коня и ускакал.
Прошло около получаса. Не дождавшись своих порученцев, Блюхер поехал один. Из горящей деревни взмыленный конь вымчал незнакомого всадника на волю. В правой руке всадника — клинок. Блюхер принял его за Ягудина и только в пятнадцати шагах увидел перекошенное от злости лицо. Мгновенье — и клинок опустится на голову главкома. И вдруг поднятая рука казака безжизненно повисла, а сам казак, упав на круп коня с задранными вверх ногами, свалился наземь. Перед глазами вырос Ягудин — он гнался за белым казаком и пустил ему пулю в затылок.
— Каширин захватил Иглино, перерезал железную дорогу, — выпалил Ягудин одним духом. — А Дамберг уже пилит столбы.
— Молодцы! — спокойно произнес Блюхер, делая вид, что он не догадывается об опасности, которая ему угрожала. — А теперь скачи к Николаю Каширину — пусть трогает весь обоз к Иглино. Да поскорей!
Когда первые возы достигли станции, солнце погасло в пыли и на землю сразу опустилась чугунная тьма.
Осунувшийся за последнюю неделю Блюхер объезжал ранним утром лагерь. Измученные многодневными переходами и боями, изголодавшиеся, спали бойцы, казаки, рабочие, женщины, дети. Сегодня им предстояло идти дальше, вдоль Уфимки, к железной дороге. В плетеной кошевке в неудобной позе лежал Николай Каширин. Пуля, засевшая в ноге, мешала ходить и сидеть в седле. Живое лицо казалось сейчас хмурым. Блюхер решил не тревожить его и проехать мимо, но конь неожиданно заржал, и Каширин, проснувшись, увидел главкома.
— Здравствуй, Василий Константинович! — поспешил он поздороваться.
— Здравствуй, Николай Дмитриевич! Как нога?
— Без доктора не обойдусь.
Каширина трудно было узнать. За время похода он оброс густой щетиной, обмяк, да и смерть отца сильно повлияла на него. Хотя он добровольно передал командование Блюхеру, отказавшись от своего намерения прорваться через Верхне-Уральск к Екатеринбургу, но ему казалось, что путь, избранный Блюхером, поглотил тоже немало жертв.
— Потерпи, скоро доберемся, — утешил его главком, словно речь шла о двух-трех днях.
— Мне-то что! Я все стерплю, а вот они, — он обвел рукой, показав на тысячи телег, на которых лежали беженцы, — мрут как мухи.
— Что ж, лучше было оставить их с белыми?
— И так плохо и этак худо.
— Ваня-то твой больше стал разбираться, а тебе, коммунисту, не к лицу такое говорить, — в сердцах бросил Блюхер и пришпорил коня.
На одной из телег сидел, свесив ноги, пожилой мужчина. В левой руке он держал жестяную банку, а правой старательно черпал из нее оловянной ложкой. Блюхер подъехал. С телеги на него глянула деваха, укрытая рваным одеялом. Из-под платочка, завязанного узелком под подбородком, были видны озорные глазенки и веселый носик. Мужчина подносил ложку к ее рту, кормил, а потом сам облизывал. На вид мужчине было лет сорок, но борода его старила.
— Чего ешь? — спросил Блюхер.
— Медок.
— Где взял?
— Где плохо лежало.
— Какого ты полка?
— Чего тебе надо? — осклабился мужчина, продолжая облизывать ложку.
— Какого ты полка? — повторил Блюхер уже сердито.
— Не замай!
— Сволочь! — вскипел главком. — Грабишь людей на дороге?
Мужчина поставил банку возле девахи, пошарил рукой в соломе и извлек винтовку.
— Ты нашу присказку знаешь? — щелкнул он языком. — Лиса волку говорила: «Встретимся, кум, у скорняка на колочке».
Кто-то, проснувшись на другой телеге, крикнул:
— Чего расшумелись? Дали бы поспать перед смертью.
Блюхер вспомнил слова Каширина «мрут как мухи» и подумал: «Неужели все заботы на одни мои плечи? А сам Каширин-то кто? Беженец или командир-коммунист? Не можешь ходить, так ведь у тебя конь в запряжке. Нет, меня теперь жалостью не взять». И тут же пожалел, что у него нет плетки, которой можно было бы огреть охальника и дезертира.
— Встань, язви твою душу, когда с тобой говорит командир, — и сильно ударил по рукам бородача выхваченной из стремени ногой.
Винтовка упала на землю, и в ту же минуту оторопевший бородач увидел направленный на него револьвер. Деваха, вытаращив от испуга глаза, протянула руку к банке и утащила ее под одеяло, укрыв и себя с головой.
— Иди вперед!
— Будет тебе пугать, я вот Блюхеру пожалуюсь.
До Каширина донеслась перебранка, и он, сойдя с кошевки, поспешил к сгрудившимся телегам. Хотя он опирался на суковатую палку, но ему больно было ступать на раненую ногу, и со стороны казалось, что он неуклюже подпрыгивает. Увидев издали, как Блюхер пнул кого-то ногой, он быстро заковылял.
— Ты почему контру разводишь? — набросился он на бородача. Свирепый вид Блюхера подсказал ему, что главком сердит не на шутку.
— И другой, видишь, белены объелся, — с невозмутимой наглостью огрызнулся бородач.
Теперь возмутился Каширин.
— Я с тебя шкуру сдеру, — закричал он, — перед тобой главком Блюхер, а ты шуткуешь.
Бородач обомлел. Меньше всего он ожидал, что конник, который пнул его ногой, сам Блюхер.
— Я тебя своими руками расстреляю, — продолжал Каширин, — будешь знать, как нарушать революционную дисциплину. Нечего было к нам приставать, коль у тебя волчья натура. Тебя как звать?
— Наймушин, — виновато ответил бородач.
— Какого полка?
— Обозный.
Каширин отвел глаза от Блюхера. Он чувствовал за собой вину. Кому, как не ему, было следить за порядком в обозе. Ведь этому бородачу самое место в полку, а он пристроился к обозу, по дороге обижает жителей да еще амуры завел с девахой.
— Ты поговори с ним, Николай Дмитриевич, объясни, — бросил Блюхер и пришпорил коня.
Прорвавшись через железную дорогу, Южноуральский отряд направился к реке Уфимке. Оставалось перейти на ее правый берег и решить, какое избрать направление: на Бирск или Красноуфимск. Подсказать могли белогвардейские газеты, в которых публиковались сводки военных действий. Но форсировать Уфимку сложнее, чем Сим: ни бродов, ни перекатов. Перебросить истощенную в боях и переходах армию с имуществом и продовольствием, раненых и беженцев казалось рискованным и почти невыполнимым делом. Но и медлить нельзя — белые могли настигнуть отряд каждый час и навязать ему бой. Впрочем, и на другом берегу его, бесспорно, ожидали в засаде неприятельские части.
Иван Каширин застал Блюхера озабоченным.
— Будем переправляться? — спросил он и прочитал в глазах главкома внутреннее сомнение, которое тот тщательно скрывал от окружающих.
— Ты меня, Иван, не искушай, — ответил с напускным безразличием Блюхер, и на глазах у изумленного Каширина лицо его озарилось таким светом, словно он только что получил радостную весть.
— Зачем? — удивился Каширин. — Полторы тысячи верст как-никак отмахали. Здесь нам оставаться нет резону, а там, — он показал на другой берег Уфимки, — должно быть, наши.
— Значит, нам туда дорога, — согласился главком и поднялся с бревна, на котором сидел. — Небось и переправу высмотрел?
— Признаться, мы с Дамбергом нашли местечко у Красного Яра. Там и два парома, но без моста не обойтись.
— Вот и сооруди его.
— Лесу-то нет.
— Ваня! — наигранно произнес Блюхер, назвав Каширина впервые по имени, и развел руками. — Лесу сколько твоей душе угодно. Скачи к башкирам в ближайшую деревню и закупи у них старые дома или сараи. Народ мигом разберет их и снесет к реке.
Весь день моросил дождь. Дорога, по которой бойцы несли бревна к Уфимке, размякла и превратилась в болото — ноги вязли по самую щиколотку. На берегу звенели пилы и топоры, из досок выколачивали ржавые гвозди, расправляя их тут же на камнях. Свозили балки, сколоченные козлами, и устанавливали на дно реки. До сумерек работали изнуренные люди.
Иван Каширин и Дамберг не смыкали глаз всю ночь. Переправившись с разинским полком и двумя батальонами латышей на другую сторону, они тотчас выслали несколько разведочных групп. По скупым рассказам жителей стало известно, что до железной дороги, идущей из Казани в Екатеринбург, повсюду белогвардейцы, а по другую сторону железной дороги белочехи. «Сказывали, что наши где-то у Кунгура и Перми», — сообщили разочарованно разведчики.
— Давай обратно на тот берег и доложи главкому, — предложил Каширин Дамбергу.
Блюхер стоял на пригорке у зарядного ящика и отдавал распоряжения. Дамберга он выслушал, как тому показалось, без особого внимания. Айвар понял, что главком чем-то озабочен и раздражен.
— Если вы не поспешите, — сказал Блюхер, обращаясь к Павлищеву, — то нам грозит полное уничтожение. Вы слышали Дамберга? Мы должны принять бой либо на этом берегу, либо на том. Я прошу вас. Иван Степанович, быстрей закончить строительство.
Павлищев не возражал и не спорил. Он знал, что закончить строительство моста в назначенный срок неимоверно трудно, что люди устали, но разве докажешь главкому? Чем ближе отряд подходил к линии фронта, тем сильнее Блюхер раздражался, хотя грубостей себе не позволял. Павлищев молча повернулся и пошел с пригорка.
На другой день через горбатый и шаткий мост потянулась армия в пестром одеянии. Это особенно бросалось в глаза, ибо день выдался солнечный, но по-осеннему холодный. Не будь людей, подвод и лошадей, не будь шума, можно было бы услышать стеклянный звон в воздухе, который несся по реке к лесам, охваченным янтарной позолотой. Даже вода в Уфимке, казавшаяся вчера вод дождем мутной, посветлела, стала прозрачной. И люди повеселели.
Прихрамывая, но уверенно сошел на мост Николай Каширин, идя позади своей кошевки. Но тут произошло неожиданное. То ли у него закружилась голова на шатком мосту, то ли он зацепился за неровный настил, но только палка выпала у него из рук, и сам он, потеряв равновесие, полетел в Уфимку.
Блюхер с пригорка наблюдал, как тягуче медленно переходила армия реку. Снова мимо него шли казаки, солдаты, шахтеры, плотники, металлисты, батраки, рабочая беднота. Перед глазами мельтешили грязные, рваные шинели, синие лампасы, лапти, штыки, женские телогрейки. И вдруг он увидел, как человек упал в воду. За ним ринулся другой. Через несколько минут оба показались над водой. Им бросили вожжи, за которые они ухватились, и их вытащили на мост.
— Это Николай Дмитриевич Каширин искупался, — доложил Кошкин, сбегавший разузнать, в чем дело. — А спас его Наймушин, тот самый бородач, который кормил медом деваху в обозе.
Блюхер задумался. Ему даже стало совестно, что не так давно он обругал Наймушина и грозил ему расстрелом.
— Вот видишь, Кошкин, — сказал он, — раньше чем осудить человека, поставь себя на его место. У каждого свой характер, каждый по-своему понимает жизнь. Коробейников не бросился бы в воду спасать Каширина.
Сквозь толпу съезжавших на мост пробился боец, крича на ходу:
— Кто видел главкома?
Навстречу ему бросился Кошкин.
Боец доложил:
— Коня своего оставил на том берегу. Прислал Иван Каширин, наказал передать, что вокруг беляки. Полк ведет бой, но без подмоги не сдюжит.
Блюхер вырвал из тетради листок и написал:
«Сейчас подсобить не могу. Маневрируй, но не допускай противника до берега».
Подав листок, сказал на словах:
— По дороге всем кричи, что Иван Каширин беляков разбил.
И только гонец бросился обратно на мост, как из арьергарда подъехал на взмыленной лошаденке другой гонец и доложил:
— Томин приказал передать, что он ведет бой с белочехами. У нас осталась одна пушка и десять снарядов. Не устоим.
До Блюхера донеслось глухое эхо артиллерийской стрельбы. В горах Ала-Тау ему пришлось бороться с ураганным ветром, с опасной дорогой, а здесь положение было опасней. На правом берегу Каширин с одним полком и двумя батальонами латышских стрелков вел бой с вражеской дивизией, а на левом — Томин, повернувшись фронтом на восток, удерживал сильно вооруженную пехоту белочехов. Посередине — Уфимка, шаткий мост и тысячи подвод, которые нужно переправить на другой берег. «Дрогнем — погибнем», — пронеслось в сознании.
— Белочехов испугались? — с притворным недоумением спросил Блюхер у гонца и стал строчить ответ:
«Если бы ты не был Томиным — не поставил бы тебя в арьергарде. Не устоишь — погубишь армию. Жму руку. Блюхер».
К рассвету весь Южноуральский отряд перешел через мост. На левом берегу остались лишь Блюхер, Кошкин и Ягудин. В предутренней дымке тумана показался полк Томина. Впереди ехал сам Николай Дмитриевич с расстегнутым воротом венгерки. Кумачовая рубаха настолько загрязнилась, что выглядела уже коричневой. Подъехав к Блюхеру, он спешился. В исстрадавшихся глазах застыла смертельная усталость, посиневшие губы запеклись. Казалось, что он не устоит на ногах и упадет.
— Спасибо, друг! — Блюхер обнял его за плечи. — Не медли, веди людей на другой берег.
Когда на мост шагнул последний конник, Ягудин с Кошкиным, подняв на руки заранее приготовленный бочонок с керосином, опрокинули его и стали поливать настил. Через несколько минут огонь змейками пополз по старым балкам и доскам.
До утра продержался Иван Каширин. Полк поредел, раненым никто не мог оказать помощи. Сам Каширин с трудом сидел в седле — в обеих ногах застряли пули. Но вот подоспела помощь — Павлищев и Калмыков привели свои полки. Чуть ли не целый час они решали, какой им предпринять маневр, чтобы отогнать противника.
— Держитесь здесь, — решил за них Каширин, — а я со своим полком проберусь через Дребневский хутор в тыл.
Павлищев недоуменно посмотрел вслед конникам и сказал Калмыкову:
— Вот вы, Михайло Васильевич, унтер царской армии, объясните мне, пожалуйста, психологию Каширина и его конников. Они совершенно обессилены, сам Каширин серьезно ранен, — я узнал об этом от его порученца, — а поехали на хутор, как на свадьбу.
Калмыков усмехнулся в большие усы:
— Когда человек знает, за что воюет, — он непобедим. Эх, Иван Степанович, если вы останетесь в живых, то увидите, что эти самые конники сделают через двадцать лет.
Павлищев не дослушал, его не удовлетворил ответ Калмыкова. «Меня агитировать не надо, — подумал он, — мне надо понять конника. Черт их знает, этих большевиков! Кого угодно уговорят. Один Блюхер чего стоит: в бою неумолим, а после боя — добрейшая душа. Рано или поздно мы с ним расстанемся, но забыть этого человека никогда не смогу».
Между тем Каширин скрылся с полком за холмами. Никому он потом не рассказывал, как скакал, стиснув зубы от боли в ногах, как измученный полк нашел в себе силы выскочить на равнину у хутора и с гиком броситься на белых. Только к вечеру прискакал со свежим шрамом на лбу казак и подал донесение, написанное корявым почерком:
«Белые разбиты. Двести человек взято в плен. Остальные изрублены. Наши трофеи — три орудия и шесть пулеметов».
…Южноуральский отряд отдыхал вблизи села Аскино. Один Блюхер не знал покоя. Ночью он вызвал Русяева и доверительно сказал:
— Части Красной Армии где-то близко. Чую, что до них рукой подать. Так вот тебе, голубчик, задание. Отбери у Дамберга сотню конников — у него одни рабочие, нацепи всем красные банты и айда искать наших. Командиром сотни назначаю Евсея Черноуса. Я уже дважды видел его отвагу в бою, толковый человек. Впереди сотни пусти разъезд. Ты — представитель штаба нашего отряда. Ясно?
— Сумею ли справиться?
— А больше посылать некого. Каширины ранены, Калмыков контужен. Томин и Дамберг обессилены. А ты парень крепкий, шибко грамотный…
Русяев, соглашаясь с главкомом, покачал головой, повернулся и пошел.
На рассвете, когда в кустах еще гнездился мрак, сотня выехала, взяв направление на север. Над широкой равниной нависли серые тучи, предвещая дождь. Дул резкий и влажный ветер, забираясь под худые ватники. В воздухе уже чувствовался сладковатый запах прелой листвы. Шла глубокая осень, а за ней вот-вот подкрадутся заморозки и скуют все лужи тонким ледком.
Кони шли мелкой рысью. Евсей Черноус всматривался сквозь туманную пелену в даль, ожидая возвращения разъезда. Под ложечкой сосало от голода, мысли убегали к станице, в которой осталась старушка мать, и в то же время по каким-то неуловимым признакам он чувствовал, что сейчас возвратится разъезд и сообщит радостную весть. Вдали действительно замаячила тень. Черноус придержал сотню. Тень быстро увеличивалась и вскоре превратилась во всадника. Это спешил дозорный из разъезда.
— Впереди село, — доложил он Русяеву и Черноусу, — ходят по улице взад и вперед какие-то люди, а кто — не знаем.
— Что скажешь, Черноус? — обратился Русяев к командиру сотни.
— Одному из нас беспременно надо ехать с белым знаменем, вроде как на мирные переговоры. И конника прихватить.
— Поеду я! — твердо сказал Русяев.
— С богом! — махнул рукой Черноус и тут же крикнул своему порученцу: — Тиша, нацепи на пику простынку, поедешь с представителем отряда.
Русяев медленно удалялся и вскоре исчез в туманной пелене. Хотя стремена были спущены до отказа, но длинные ноги мешали ему сидеть в седле так браво, как сидел Тиша. «Сумеет ли меня выручить Черноус, если что случится?» — думал он. А Черноус раздумывал над тем, как ему поступить, если парламентеров встретят огнем или оставят заложниками. Он пожалел, что отпустил их, ибо неожиданно у него созрел план: рассыпать сотню дугой и окружить село. Но было уже поздно.
Русяев с Тишей тревожно приближались к селу, пытаясь разглядеть где-либо красное знамя. И вдруг из села выпорхнула светящаяся струя пулеметной очереди. Тиша покачнулся — пуля обожгла плечо.
— Назад! — крикнул он Русяеву и повернул коня.
Русяев послушно последовал его примеру.
Черноус сердито встретил их и подал команду:
— Сотня! Развернуться лавой! Клинков не вынимать, без команды не стрелять. Поймать живого человека!
Конники быстро рассыпались и понеслись на село, охватывая его с двух сторон. Пулемет захлебнулся, и Черноус заметил, как несколько тачанок понеслись по тракту.
На околице стоял трясущийся от страха старик с лукошком.
— Батя! — спросил Черноус. — В деревне белые аль красные?
Старик поднял на Черноуса выцветшие глаза и пролепетал:
— Красные, ваше благородие.
— Давно?
— Третью неделю.
Черноус готов был закричать от радости так громко, чтобы эхо отозвалось в ушах главкома. Он оглянулся, ища Русяева посоветоваться с ним, но, не найдя его, под свою ответственность отрядил десять конников и приказал им догнать тачанки.
— Окружить и доставить сюда.
Конники рванулись, забыв об усталости. Не верилось им, что красноармейцы так поспешно ретировались, оставив без боя село, и в то же время в душе у них теплилась надежда, что именно на их долю выпало счастье первыми встретиться с частями Красной Армии.
Погоня длилась свыше получаса. Расстояние между конниками и тачанками сокращалось с каждой минутой. И вдруг засвистели пули — это беглецы открыли беспорядочный ружейный огонь. Пять конников, обогнав тачанки со стороны, выскочили на дорогу с криком:
— Стой! Не стреляй!
Испуганные кони беглецов ринулись на обочину, и первая тачанка, накренившись набок, перевернулась, вывалив трех человек. Остальные тачанки остановились.
— Дуры! Мы же свои, красные! — заголосили конники, перебивая друг друга.
— Врете, — придирчиво сказал один из красноармейцев, стряхивая с себя землю. — Окромя нас, других красных здесь нет.
— На вон, выкуси! — с беззлобной насмешкой показал конник большой кукиш. — Чего с тобой канителиться, веди меня к своему командиру.
— Никуда мы тебя не поведем, хоть всех нас перестреляй.
На дороге показался Русяев. Подъехав, он обрадовался тому, что конникам удалось настигнуть красноармейцев.
— За белых нас принимают, — пожаловались ребята.
— Это правда? — спросил Русяев.
— Правда! — ответил один из красноармейцев.
Русяев потер лоб тыльной стороной ладони, размышляя над тем, что бы придумать для доказательства, но ни одна толковая мысль, как назло, не приходила в голову. Он сплюнул и сердито приказал:
— Увезти их к Блюхеру, и баста!
— Постой, милый человек, — сказал тот же красноармеец, — про такого мы слышали. Поезжай ты с нами один в штаб, а конников отошли обратно.
Русяев подумал и ответил:
— Согласен.
Черноус повернул сотню на деревню, а Русяев, пересев на тачанку, поехал по тракту. Страха он не испытывал, но был недоволен сложившимся ходом событий. «Главком ждет, нервничает, — думал он, — а я затеял глупую поездку. Достанется мне на орехи».
Впереди показалась деревенька. Из труб курчавились дымки. Возле невзрачной избы кони остановились. Пока Русяев вылезал с затекшими ногами из узкой тачанки, красноармейцы успели вызвать из хаты какого-то командира, и тот сам направился к Русяеву.
— Кто вы, товарищ? — спросил Русяев.
— Командир второго батальона Первой бирской бригады.
Они ушли в избу, а через полчаса вышли обратно на улицу. Русяеву подали новую тачанку. Резвые кони понесли его к деревне, в которой осталась сотня Черноуса.
Уже смеркалось, когда начштаба вошел к Блюхеру и с мальчишеским задором доложил:
— Ваше приказание выполнил. Связь с Красной Армией установлена.
Блюхер слушал с полуоткрытым ртом. Лицо у него от бессонницы выглядело измятым, и все же он готов был заплясать от радости.
— На рассвете всей армии двинуться по Красноуфимскому тракту, а сейчас спать, спать, спать… Ты, Русяев, оставайся у меня.
Не спал Блюхер и в эту ночь. Он трижды ложился на походную койку, но сознание, что ему удалось вывести сквозь огненные кольца десятитысячную армию, что через несколько часов люди увидят своими глазами тех, к кому они шли дни и ночи, в жару и ливень, голодные и измученные, наполняло его неуемной радостью, и он вскакивал и босиком шагал из угла в угол.
— Русяев! — не выдержал он и растолкал спавшего начальника штаба. — Расскажи по порядку все сначала.
Русяев приподнялся, посмотрел при тусклом свете керосиновой лампы на главкома и, не разобравшись даже в том, кто его разбудил, снова повалился на топчан, который ему уступил Кошкин.
На рассвете Блюхер взглянул в мутное зеркало, висевшее на стене. На него смотрело серое, истощенное лицо, в каждой морщинке притаилось страдание. И, как бывает в таких случаях, перед глазами пронеслись события, начиная со встречи с Кривочубом и кончая вчерашним днем.
«Милые, дорогие сердцу люди! Во имя жизни на земле стоит бороться, страдать, любить, радоваться», — говорил он самому себе.
Потом он разбудил Русяева и уехал с ним к командиру батальона. Их провожал Иван Каширин, опираясь на костыли.
— Возвращайся скорей, Василий Константинович, — произнес он как мольбу, пожимая руку главкому. Так обычно говорят очень близкому человеку, который уезжает в далекие края. Кто знает, сведет ли их снова судьба?!
Лошади рванулись с места, и тачанка покатилась по дороге. Иван Каширин уставился в спину главкома и еще долго смотрел ему вслед, как смотрят на последний вагон поезда, пронесшегося мимо забытого полустанка.
Вскоре тачанка скрылась из виду, пошел мелкий дождь, зашуршавший по пожелтевшим листьям кустарника, а из-за холмов донесся глухой артиллерийский выстрел.
30 сентября 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет учредил орден Красного Знамени. После утверждения Положения Яков Михайлович Свердлов поднялся и торжественно сказал:
— Вы уже знаете из газет о беспримерном рейде Блюхера с десятитысячной армией. Он может быть приравнен разве только к переходу Суворова через Швейцарские Альпы. Революционный Военный совет Третьей армии считает, что русская революция должна выразить Блюхеру, вписавшему славную страницу в историю нашей молодой армии, благодарность и восхищение. Итак, позвольте предложить вам первый случай преподнесения ордена Красного Знамени, наградив им товарища Блюхера.
Конец первой книги.
1957—1960
Примечания
1
«Ибо так нам благоугодно» — формула королевских указов, введенная Людовиком XI в пятнадцатом веке.
(обратно)2
Н. Н. Духонин (1876—1917) — генерал царской армии, монархист. 1 ноября 1917 года объявил себя главнокомандующим. Готовил контрреволюционный переворот. 3 декабря н. ст. убит солдатами в ставке.
(обратно)3
Прости, приятель, не думал обидеть (чешск.).
(обратно)4
Очень хорошо! (башкирск.)
(обратно)5
Подготовиться! (чешск.)
(обратно)6
Не видать тебе больше Даугавы! (латышск.)
(обратно)7
Вперед! (латышск.)
(обратно)
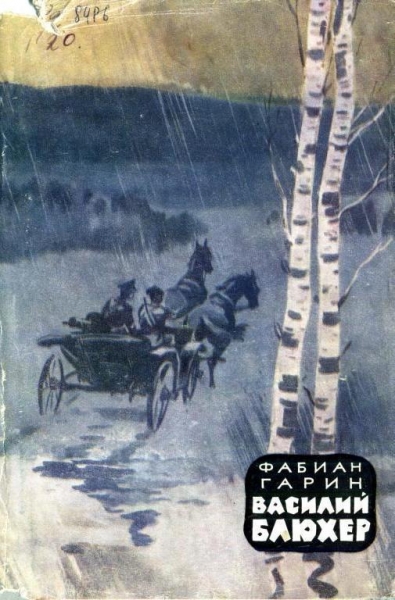







Комментарии к книге «Василий Блюхер. Книга 1», Фабиан Абрамович Гарин
Всего 0 комментариев